О Вермане, краткая биография.
Карл Вёрман родился в семье немецкого предпринимателя-судовладельца и был старшим сыном. По семейной традиции он должен был взять на себя управление отцовской компанией, но судьбы распорядилась по-другому. Так как мальчик с самого детства не проявлял никакого интереса к коммерческой деятельности, а был полностью увлечён искусством, то семейный бизнес перешёл к его младшему брату Адольфу Вёрману.
В 16 лет Карл Вёрман поступил на юридический факультет Гейдельбергского университета и окончил его в 1868 году, поучив звание доктора юридических наук. Когда во время учёбы Карл совершил путешествие по Франции, Англии и Северной Америке, он окончательно решил посвятить свою профессиональную карьеру искусству. Во время своей адвокатской практики, в том же Гейдельбергском университете, он получает второе высшее образование по специальности история искусства и археология. 1871 и 1872 Вёрман совершает долгое путешествие по городам Италии, Греции и Малой Азии, всё это время он занимается изучением искусств и культур, тех местностей. В 1873 году ему присуждают престижную степень профессора Дюссельдорфской академии художеств.
С 1878 по 1879 годы Карл Вёрман снова путешествует совместно с Альфредом Вольтманом (известным искусствоведом) по европейским странам, результатом этой двухленей поездки стала совместная книга Вёрмана и Вольтмана об искусстве Европы.
В 1882 году Вёрман становится директором всемирно известного дрезденского музея, его дальнейшая работа во многом связана с искусством старых и новых мастеров, представленных в этой галерее. За время руководства музеем, Вёрман пополнил его коллекции живописью современных (на тот момент) художников, таких как Карл Шпицвег и Клод Моне. В 1887 году Вёрман составляет и публикует первый научной каталог Дрезденской галереи, а также начинает писать свою знаменитую „Историю искусства всех времён и народов“ (конкретно, главы о культуре первобытных народов), которую он полностью закончил только в 1911 году.
Умер Карл Вёрман в 1933 году.
Библиография Карла Вёрмана.
1871 – Предварительные исследования по археологии пейзажной живописи – Греция и Рим. Акерман: Мюнхен.
1876 – Пейзаж в искусстве древних народов, Мюнхене.
1878 – История живописи. 3 тома, Лейпциг. В соавторстве с Альфредом Вольтманом.
1880 – Искусство и природа: рисунки из северной и южной Европы.
1880 – История Академии искусств Дюссельдорфа. Дюссельдорф.
1887 – Каталог Королевской картинной галереи Дрездена, генерального директората королевской коллекции искусства и науки: Дрезден.
1894 – Какому искусству учит нас история. Дрезден.
1896-1898 – Рисунки и гравюры старых мастеров в Королевском музее Дрездена. Мюнхен.
1904-1911 – История искусства всех времен и народов. Многотомное издание, Вена, Лейпциг.
1924 – Воспоминания восьмидесятилетнего старика. 2 тома, Лейпциг.
Предисловие
Предлагаемая читателям "История искусства всех времен и народов" Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, бывшего директора Дрезденской галереи, существенно отличается от книг подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.
Труд К. Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.
В "Истории искусства всех времен и народов" К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.
Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. "С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира – в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого тома, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться".
Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в первом томе, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.
Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.
В "Истории искусств всех времен и народов" К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана – прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность книги К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в ней иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.
Введение
В умении пчела тебя наставит
И прилежанию научит червь долин;
Но знание твой ум с духами рядом ставит:
Искусство, человек, имеешь ты один.
Шиллер. ХудожникиПод названием "История искусства" на языке науки понимается история развития тех художеств, произведения которых создаются рукой мастера и воспринимаются глазом. Обыкновенно эти художества, к которым относятся зодчество, производство изящных ремесленных изделий, ваяние и живопись с их побочными отраслями называются "образными искусствами". Ввиду того, что произведения этих искусств исполняются большей частью по предварительно начерченным наброскам и могут быть изображаемы рисунками, их называют также "начертательные искусства".
История искусства удостоверяет, что оно есть достояние всего человечества; это – духовная связь, объединяющая даже самые отдаленные времена и народы. Не говоря о тех ступенях развития, о которых мы можем только строить догадки, нет столь далекой от нас по времени или по месту культурной стадии, которая не озарялась бы светлым лучом искусства, отличающего человека от животного. В древнейшие, первобытные времена, а также у самых дальних и низкостоящих народов, еще в настоящее время обитающих на земле, мы видим, что человек, движимый любовью, не только стремится украшать себя, не только старается придавать своей незатейливой утвари форму, наиболее удобную и целесообразную, и снабжать эту утварь украшениями, но и силится создавать пластические или начертанные изображения существующего в окружающем его мире, прежде всего в мире животных и людей, и это искусство первобытных и диких народов часто неожиданным образом освещает перед нами внутреннюю, коренную сущность искусства. Современная история искусства не может пренебрегать исследованием его состояния у простых, примитивных народов и у доисторических, первобытных племен. С тех пор как Эрнст Гроссе указал в особой книге на необходимость такого исследования, история искусства все более и более серьезно занимается первобытной жизнью и доисторическими временами человечества, и к концу XIX века можно сказать, что эта наука охватывала собой искусство всего человечества.
Рис. 1. "Искусство" у животных: а – жилища бобра и мыши-карлика; б – колония гнезд ткача; в – гнездо портнихи; г – гнездо славки; д – постройка термитов в разрезе; е – увеселительная хижина австралийского шалашника. Рисунки Генриха Морена с натуры
Убедившись в необходимости изучения первобытного искусства, мы невольно задаем себе вопрос: не следует ли, для уяснения настоящих его начал, сделать еще один, дальнейший шаг и поискать, не найдется ли этих начал уже и в мире животных, в естественной истории, к которой приходится прибегать для уяснения первых шагов истории вообще и вопросов народоведения? Возникает вопрос: не обладают ли действительным стремлением к искусству и другие существа, помимо человека, не обнаруживают ли они этого стремления, – а главное, имеем ли мы право считать, что для животных, наделенных гораздо более тонкими внешними чувствами, чем мы, и подобно нам испытывающих и в состоянии бодрствования, и во сне приятные и неприятные ощущения, – раз навсегда закрыть земной рай художественного творчества и наслаждения искусством? Ответить на этот вопрос не так легко, как может показаться с первого взгляда. Если мы вспомним, что уже старые исследователи, каковы, например, Ренни и Гартинг, и что еще недавно такие ученые, как Вуд, Бюхнер и Романес, обстоятельно рассматривали вопрос о стремлении животных к искусству, то поймем, что прежде, чем двинуться дальше, нам необходимо ознакомиться со взглядами упомянутых ученых и выяснить, насколько в действительном или предполагаемом стремлении животных к искусству позволительно видеть предварительную ступень к художественной деятельности человека.
Известно, что животные, подобно людям, имеют склонность к играм, которую иные считают первоначальным стремлением ко всякому художественному упражнению; но склонность к играм и стремление к искусству сходны лишь тем, что как та, так и другое предполагают известный избыток сил после удовлетворения потребностей, необходимых для поддержания жизни отдельного индивидуума или целого вида. И та, и другое выражают собой потребность в отдыхе, в свободной деятельности после труда. Если мы признаем, что искусство в нашем смысле начинается лишь с такой творческой деятельности, которая дает осязательные и видимые результаты, то увидим очень большую разницу между указанным стремлением к играм и истинным стремлением к искусству.
Правильно поставленный вопрос будет заключаться в следующем: есть ли такие животные, которые, ради собственного удовольствия или ради удовольствия других, проявляют сознательную или бессознательную способность к творчеству? Нельзя отрицать, что сюда до некоторой степени можно отнести пение многих из птиц. Ритм и благозвучие в пении соловья представляются основами всякой музыки, а что эти основы одинаковы как для птичьего, так и для человеческого уха, доказывают, например, снегири, которые, при надлежащем обучении, привыкают насвистывать арии, сочиненные человеком, причем сохраняют их ритм и тон.
Но в области образных искусств дело обстоит несколько иначе. У животных мы нигде не находим ни малейших попыток ваяния или живописи, – другими словами, не находим такого упражнения, которое было бы направлено к воспроизведению видимых предметов. Следовательно, эти области искусства, во многих отношениях самые важные и существенные, для животных совсем недоступны. Зато производимое некоторыми животными зодчество часто столь поразительно, что может поколебать установившиеся понятия о различии способностей людей и животных.
Как известно, многие насекомые достигают изумительных результатов при постройке своих жилищ. Прежде всего укажем на ос и пчел, особенно же на пчел, живущих в ульях. Устраиваемые этими насекомыми из самодельного воска соты и ячейки для выращивания потомства и для собирания запасов меда представляют собой удивительно искусные сооружения. Какой порядок, какое предусмотрительное распределение места в каждом куске сот! Какая правильность в каждой ячейке, составленной из шести почти равных граней с пирамидальным дном! Затем обратим внимание на муравьев, жилище которых представляется снаружи, правда, только неправильной кучей, но внутри простирается иногда на несколько метров под поверхностью почвы и представляет собой чрезвычайно искусную постройку, состоящую из 30-40 этажей, расположенных один над другим. С каким трудом эти крошечные животные переносят свои строительные материалы, состоящие из кусочков дерева, сучков, стебельков травы, камешков и игл хвойных деревьев! Как тщательно подперты отдельные этажи столбами и перекладинами, длиной иногда до 10 и более сантиметров! Как искусно укреплен, при помощи скрещивающихся балок, потолок большой залы, находящейся в середине лабиринта! Особенного внимания заслуживают африканские термиты, созидающие себе общими силами жилища вышиной до 6 метров, с конусообразными кровлями (рис. 1, а). Многие путешественники, видя эти постройки издали, смешивали их с круглыми хижинами соседних негритянских племен, потому что постройки термитов величиной своей нередко превосходят эти человеческие жилища и всегда бывают лучше устроены и отделаны внутри. Стены их, слепленные из земли, глины, камешков и частей растений при помощи клейкой слюны, выделяемой термитами, образуют твердую, прочную массу, способную защищать от всяких внешних повреждений все внутренние ходы, комнаты, покои и залы, служащие для всевозможных, заранее предусмотренных целей общественной жизни названных насекомых.
Едва ли не еще более поразительны постройки некоторых грызунов, например мыши-карлика, которая привешивает к камышу свои круглые гнезда, сплетенные из стебельков (рис. 1, а); но особенно замечателен в этом отношении бобр, по крайней мере североамериканский, строящий для себя жилище из палок, хвороста и ила у воды, на краю берега (см. рис. 1, а). Почти круглая или овальная хижина бобра возвышается в виде плоского купола; из двух входов в нее, имеющих вид неправильных арок, один так глубоко входит в воду, что не замерзает даже в самые суровые зимы. Еще изумительнее хижин бобра на земле его постройки в воде. Чтобы поддерживать около своих жилищ постоянный уровень воды, бобры устраивают искусственные пруды, отгораживая их настоящими плотинами от вод более высокого уровня, и наполняют их водой при помощи сооружений, напоминающих шлюзы, и длинных каналов. В Северной Америке наблюдались плотины приблизительно в 200 метров длиной, устроенные совокупным трудом несчетных поколений бобров. Никакие другие сооружения животных не походят до такой степени на сооружения человека, как эти постройки.
Но самые замечательные зодчие в животном мире – это некоторые породы птиц. Можно проследить целый ряд ступеней искусства пернатых, от незатейливых и неправильных гнезд одних (рис. 1, г) до отлично исполненных, так сказать сверхживотных построек других. Индейский ткач, гнезда которого, по словам Дарвина, "почти превосходят ткацкие изделия людей", сооружает свое висячее жилище из настоящей ткани, сделанной из твердых стеблей, причем устраивает иногда верхнее и нижнее помещения; общежительные птицы из породы ткачей в Южной Африке свои огромные дворцы-гнезда, служащие приютами для целых обществ, привешивают к ветвям деревьев (рис. 1, б), а портнихи различных видов сшивают свои гнезда из больших листьев по всем правилам искусства (рис. 1, в), причем пользуются растительными волокнами или случайно найденными нитками, изготовленными человеком; говорят даже, что они, при начале работы, прикрепляют эти нити посредством узелков. Портниха длиннохвостая, водящаяся в Индии, сама прядет себе нити из хлопка, работая клювом и когтями; итальянская портниха употребляет для той же цели паутину, обработав ее известным образом. Наибольшее сходство с человеком представляют, однако, различного рода австралийские шалашники, сооружающие "увеселительные хижины", или "дома для игр", которые, по-видимому, даже не служат им жилищем. Эти хижины абсолютно различны по форме. Взгляните внимательнее на танцевальный зал Ptilonorhynchus holoseriscus (рис. 1, е)! К полу, состоящему из плотно переплетенных веток, прикрепляются легкие, слегка сводчатые ходы, вроде беседки, причем длинные стороны этих беседок совершенно закрыты, а короткие открыты. Сплетаются эти своды из тонких прутьев, разветвления которых всегда бывают направлены наружу для того, чтобы внутри не было неровностей. Беседки всегда орнаментируются; особенно входы выкладываются самыми яркими и пестрыми украшениями, какие только могут найти птицы. Пестрые перья других птиц, лоскутки цветных материй, изделий человеческих рук, блестящие камешки и раковины улиток частью раскладываются между сучками, частью рассыпаются на земле перед входом. Если эти увеселительные домики, обыкновенно сооружаемые самцами, по мнению большинства естествоиспытателей, наблюдавших жизнь шалашников, строятся единственно для привлечения самок, то можно все-таки сказать, что хижины эти не достигали бы цели, если бы птицам не доставляли удовольствия такие пестрые создания их фантазии. Поэтому сторонники дарвиновской теории развития ссылаются на увеселительные домики австралийских шалашников более, чем на что-либо другое, для доказательства того, что стремление к искусству, подобно всем другим свойствам человека, наблюдается также и у существ, стоящих гораздо ниже его.
Мы отнюдь не намерены предупреждать выводы исследователей в этой области и готовы признать, что в некоторых из указанных явлений в жизни животных замечается стремление, близкое человеческому стремлению к искусству. Но это не мешает нам смотреть на это так называемое искусство животных с нашей собственной точки зрения. Прежде всего мы не должны забывать, что все примеры, приводимые в доказательство существования у животных склонности к искусству, составляют только исключения и что в области искусств, воспринимаемых зрением, стремление к играм и к сохранению вида, наверное, только у шалашников переходит в настоящее стремление к искусству. Это исключение тем более должно быть относимо к исключениям, подтверждающим общее правило, что обезьяны, животные, самые похожие на человека, не выказывают ни малейшей способности к искусству, несмотря на свою склонность к подражанию.
Но даже и "зодчество" у животных в огромном большинстве случаев служит только к удовлетворению их потребности в защите, питании и размножении. Постройки их – чисто утилитарные сооружения, обыкновенно не представляющие даже и основных начал художественной пропорциональности, без которой постройки самого человека не могут быть признаваемы искусством. Законы правильности, симметрии, соразмерности, если вообще и соблюдаются, то только приблизительно и случайно. Настоящим исключением могут считаться совершенно круглые места для игр и гнезда у некоторых птиц, хотя круглая форма получается здесь совершенно естественным образом и непреднамеренно от движения животных вокруг самих себя. В этом именно отношении единственное кажущееся исключение – шестигранные ячейки пчел. Самые основательные натуралисты, восхваляя правильность пчелиных ячеек, признают однако, что по вопросу об их сооружении не может быть речи о сознательном или бессознательном намерении пчел ради их собственного удовольствия соблюдать математически правильную форму. Пчелы, по словам Бюхнера, стремятся, по-видимому, только к тому, чтобы налепить "как можно больше ячеек при возможно меньшей трате воска, места и труда", что лучше всего достигается при шестигранной форме и пирамидальном дне ячеек. Вит Грабер предполагает даже, что первоначальная форма ячеек скорее цилиндрическая и что они лишь вследствие надавливания одних на другие сами принимают упомянутую правильно призматическую форму.
Наконец, следует указать и на то, что художественные произведения различных животных одного и того же вида – если вообще можно говорить о подобных произведениях у животных – никогда не носят на себе самостоятельного отпечатка, отличного от созданий подобных им существ, но всегда только повторяют, по слепому, внушенному природой побуждению, то, что точно таким же образом делали миллионы подобных же животных в течение тысячелетий; поэтому о развитии искусства у животных, хотя бы это развитие и должно было происходить в незапамятные времена, нельзя говорить, так как свобода творчества есть существенное условие искусства.
Способность животных создавать, при случае, правильные формы есть не более как частное проявление той художественной силы природы, которая в мире минералов и растений еще гораздо более удивительным образом порождает перенятую у нее человеком правильную игру линий геометрической орнаментики. Орнаментика – это азбука истории искусства, и на ней мы должны прежде всего остановить свое внимание. Подумаем только о форме кристаллов, снежинок, окаменелых аммонитов, эхинитов и белемнитов, подумаем о правильном образовании многих листьев, цветочных чашечек и разрезов стеблей, вспомним, какими изумительными, иногда математически правильными рисунками творчество природы украсило некоторые виды низших животных.
Не будем отрицать, что природа – величайший художник. Но поскольку мы противопоставляем искусство, как особое понятие, природе, оно предполагает свободную деятельность человека, историю развития которой возможно проследить. Об искусстве, допускающем свою историю, мы можем сказать вместе с поэтом: "Искусство, человек, имеешь ты один".
Основу для проявления форм этого человеческого искусства составляет понятие о пространстве, которое, как известно, Кант считал естественным для человека. Условием всякой художественной красоты надо считать требование, чтобы пространство, заполненное произведением, своей общей формой и составными частями производило на наши чувства приятное впечатление. Произведение искусства возбуждает впечатление тем более художественное, чем живее, свободнее и точнее оно соответствует действительно существующему или мысленно начертанному пространству, чем более оно отвечает расчленяющим пространство законам соразмерности, симметрии, правильности, равновесия, простой или ритмической последовательности. Но наш глаз воспринимает формы пространства только при помощи света, а расчленение света, по учению Ньютона, дает цвета. Только свет и цвета, в соединении с формой, придают произведению искусства ту полную, теплую жизненность, которая через посредство глаз действует на наше сердце.
Содержание всего человеческого искусства составляет сам человек, который для себя есть мерило всех вещей. В средоточии своих художественных сооружений он ищет самого себя или своих богов, созданных им по его собственным образу и подобию. Его личные потребности, будничные или праздничные, его многоразличные действия и поступки находят себе художественное выражение в изящных ремеслах. Изображение подобных себе в ваянии и живописи является для него целью. Ваяние наиболее непосредственным образом изображает его ради него самого, в живописи же в наибольшей полноте выражаются человеческие отношения. И в ней человек видит все лишь в освещении своего помысла и собственных деяний. В мире животных он усматривает свою духовную жизнь, он влагает ее в пейзаж, если изображает его художественно. Мечтания его фантазии отражаются в сочиняемых им сказках. Вера в искупляющие божества доставляет содержание его религиозному искусству. То, что для него наиболее свято в жизни, воодушевляет его для создания величайших художественных произведений. Так или иначе, он по собственной мерке создает в своем искусстве новый мир, дабы укрываться в него от сутолоки и ничтожества обыденной жизни.
Книга первая Искусство доисторических, первобытных и полукультурных народов
I. Искусство доисторической эпохи
1. Искусство эпохи палеолита
Уже в течение несчетного числа тысячелетий обитали на земле всевозможные живые существа; целые миры разнородных растений и животных, частью находимых в окаменелом виде под земной поверхностью, успели возникнуть и исчезнуть, когда появился человек, завладел землей, как своим наследием, и начал побеждать всех прочих сожителей или заставлять их служить себе, насколько это было ему нужно. Когда наступит конец этого явления – нельзя сказать. Начало его окутано тьмой, которая стала освещаться первыми, слабыми и тусклыми лучами, благодаря относящимся к доисторическим временам открытиям и находкам, сделанным последними поколениями людей. Древнейшая эпоха, в которой открыты несомненные следы человеческой деятельности, – это еще до сих пор "четвертичная эпоха".
Французские исследователи (де Мортилье) усматривают древнейшие следы четвертичного человека во Франции, в теплой, сырой "доледниковой эпохе", средние – в собственно "ледниковой эпохе", а более поздние в "новой ледниковой эпохе". Эти вопросы мы должны, однако, предоставить естествознанию. Во всяком случае несомненно, что глетчеры дилувиальной ледниковой эпохи уже убывали в ту пору, когда обитатели Европы, к северу от Пиренеев и Альп, охотились на волосатого носорога, мамонта, лошадь, северного оленя и пещерного медведя. Главным образом бельгийские ученые, а именно Дюпон и ван Оверлоп, доказывают, что эпоха мамонта предшествовала эпохе северного оленя. Великие английские исследователи доисторических времен, каковы Лёббок и Бойд-Даукинс, не придают значения этому разделению; на самом деле, судя по слоям, в которых встречаются ископаемые, северный олень с самого начала попадается вместе с мамонтом, но мамонт исчезает гораздо раньше оленя. Поэтому эпохой северного оленя можно назвать весь рассматриваемый период, эпохой же мамонта – только первую его половину.
Европеец этой седой старины стоял на ступени так называемых низших первобытных народов. Он был охотник и рыболов, не знал иных жилищ, кроме пещер, иных кровель, кроме естественных навесов скал или древесных ветвей, к которым, быть может, присоединял палатки, устроенные из кольев и звериных шкур, не знал иной одежды, кроме шкур, иных ниток и веревок, кроме ремней из кожи животных, жил и кишок, иных орудий, кроме деревянных, костяных, роговых и каменных. С самого начала мы видим его обладателем огня. "Угли и осколки кремня, – говорит Иоганн Ранке, – суть древнейшие следы, оставленные на земле человеком". Быть может, тогдашний европеец уже умел плести корзины и циновки, но он не умел ни прясть, ни ткать, ни сеять, ни собирать жатву. Этому собственно дилувиальному человеку мы не можем приписать даже умения лепить из глины горшки и обжигать их. Собака еще не сделалась его спутником, и он еще не завел других домашних животных; по-видимому, даже лошадь и рогатый скот были ему известны лишь как объекты охоты.
Главными признаками этой ступени человеческого развития считаются, с одной стороны, незнакомство людей с металлами, а с другой – предпочтение, которое они оказывали камню, особенно кремню, для выделки оружия и орудий. Поэтому ступень эту называют также каменной эпохой. Однако эта эпоха охватывает собой не только период мамонта и северного оленя, но и следующую ближайшую крупную ступень человеческого развития, обыкновенно противопоставляемую древнейшей каменной, или палеолитической, эпохе, и об искусстве которой мы прежде всего будем говорить, называя ее новейшей каменной, или неолитической, эпохой.
Следы древнейшей, собственно дилувиальной каменной эпохи, которая, по словам Вирхова, удалена от нас, "быть может, на десятки тысяч лет и более", мы находим как в Средней и Южной Европе, так и в Африке, Азии и Америке, но только на западе Средней Европы обнаружены следы деятельности человека этой древней эпохи, имеющие художественное значение. Древнейшие изделия человеческих рук в Средней Европе – орудия и оружие, но цель каждого относящегося к ним отдельного предмета не всегда легко определить. Между ними встречаются топоры, молоты, скребки, каменные ножи, сделанные главным образом из кремня, кинжалы, буравы, каменные или костяные наконечники копий и стрел, шила, иглы, удочки, гарпуны с крючьями из кости или рога, преимущественно оленьего.
Различие между древнейшей и более поздней каменной эпохами всего яснее обнаруживается в разности форм каменной утвари. Каменные орудия древнейшей каменной эпохи еще не шлифованы и не полированы; их только колотили для гладкости плоским камнем, а впоследствии выравнивали посредством давления (pfiriode de la pierre taillfie), покрывали полосками с помощью выскабливания и заостряли симметрически.
Рис. 2. Кремневые острия древнейшей каменной эпохи
Острия копий или стрел дилувиальной эпохи в Солютре уже известны своей формой, напоминающей лавровый или ивовый лист, причем поверхность их покрыта правильными полосками. Французская наука создала целую историю развития дилувиальной кремневой утвари, благодаря чрезвычайно богатым находкам во Франции; четыре ступени этой истории наука обыкновенно называет по типам, преобладающим в Шелле (Сена и Марна), Ле-Мустье (Дордонь), Солютре (Сона и Луара) и Ла-Маделене (Дордонь); в последнее время Сальмон, исключив третью ступень, установил три палеолитические и три неолитические ступени и таким образом всю каменную эпоху разделил на шесть отделов. Во всех этих делениях, конечно, есть много произвольного. Но достаточно взглянуть на изображенные на рис. 2 и сохраняемые в музее в Сен-Жермен-ан-Ле (Saint-Germain-en-Laye) кремневые острия, чтобы увидеть, что от типа а из Шелля до типа б из Ле-Мустье, а от последнего до типа в из Солютре, в этих предметах заметно усовершенствование формы, указывающее на внутреннее развитие, на первое развитие в области человеческой ловкости и сноровки, заслуживающее нашего внимания.
Далее, проблески стремления к искусству у европейцев палеолитической эпохи мы находим в многочисленных составных частях цепей, служивших для украшения и сделанных из пробуравленных и нанизанных на нитку зубов животных, раковин, аммонитов, грубо обработанных кусочков кости или камня, – предметов, добытых из дилувиальных слоев в различных местностях. Встречаются также необработанные куски янтаря и остатки красной краски, которой тогдашние первобытные люди размалевывали себя. Самоукрашение везде было врожденной потребностью человека.
Однако история искусства не имела бы повода забираться в негостеприимные пещеры ледниковой эпохи, если бы из их мрачной глубины не сияли волшебным светом первые лучи настоящего, свободного искусства, имеющего целью исключительно себя. Со времени возрождения этого первоначального искусства из недр земли прожило всего лишь одно поколение, но благодаря все новым и новым находкам и открытиям с каждым десятилетием характер произведений этого искусства становится все более и более явственным.
Рис. 3. Рисунки на костяных и каменных орудиях древнейшей поры каменного века. По Ларте и Кристи (1, 2, 6, 13), де Мортилье (4, 8, 9), Мерку (5, 7, 10, 11) и Картальяку (12)
Хотя во главе этого искусства, как мы увидим, стоит изображение человека и в нем линейная орнаментика играет даже самостоятельную роль, однако искусство это привлекает нас преимущественно своими незатейливыми, жизненно правдивыми изображениями животных, частью вырезанными кремневым резцом или ножом, как пластические фигуры из оленьих рогов, костей или мамонтовых клыков, частью же нацарапанными в виде контуров кремневым острием на каменных плитах или на вещах из оленьего рога или кости, причем контуры иногда настолько глубоки, что фигура животного наполовину врезана в данный предмет. Травоядные животные, которых можно наблюдать в более спокойном состоянии, изображены гораздо чаще, чем хищные; более всего попадаются изображения оленей и диких лошадей мелкой породы с толстой головой. Они представлены спокойно стоящими или пасущимися, иногда бегущими или лежащими, а стадные животные, каковы лошади и северные олени, нередко изображаются по три или по четыре, бегущими или стоящими друг за другом.
Нам придется еще не раз встретиться с тем фактом, что первобытному человеку, находящемуся на ступени охотничьих и рыболовных народов, скорее бросается в глаза мир животных, с которым приходится вести постоянную борьбу, чем мир растений, и что поэтому художественные изображения животных являются на более начальной культурной ступени. Только по отношению к миру животных охотник упражняет свой глаз и руку, только мир животных он может настолько тонко понимать и настолько отчетливо передавать, что их изображения производят правдивое, жизненное и, следовательно, художественное впечатление. Изображения растений, даже украшения из растений, в этом первобытном искусстве почти совершенно отсутствуют.
Лучшие изображения животных, относящиеся к древнейшей каменной эпохе, находятся на странных предметах, сделанных из кости или кусков оленьего рога, на широком конце которых пробуравлено одно или несколько круглых отверстий (рис. 3, 10-13). Вначале куски эти служили боевым оружием, а потом жезлами военачальников или вообще знаками отличия вождей. Бойд-Даукинс, сравнивая их со сходными, но еще более грубыми и угловатыми предметами эскимосов, признает их за орудия для натягивания стрел. Всего же ближе, по-видимому, подходит к истине Рейнах, говоря, что эти палки вообще не служили какими-либо орудиями, а были предметами роскоши, главным образом охотничьими трофеями. Мы назовем их просто декоративными палками, не придавая этому названию особенного значения.
Огромное большинство художественно разукрашенных предметов дилувиальной эпохи найдено в пещерах Юго-Восточной Франции. С того времени, когда Ларте и Кристи в 1863 г. исследовали пещеры Везерской долины в департаменте Дордони и там, в пещере Les Eyzies и под навесами скал La Madeleine и Laugerie Basse, мало-помалу открыли предметы искусства, описанные ими в течение следующего десятилетия в объемном сочинении "Reliquiae Aquitannicae", с тех пор количество находок в этих местностях увеличилось до такой степени, что перечислить их почти невозможно. Наибольшее число самых любопытных произведений такого рода найдено в пещерах у подножия Пиренеев. Здесь особенно удачны были раскопки Пиетта, который также предпринял издание большого сочинения о своих исследованиях. Собрание его находок из Ма-д’Азиля обращало на себя внимание посетителей Всемирной Парижской выставки 1889 г.; позднейшие его раскопки в Брассампуи заслуживают еще большего изумления.
В Англии, а именно в одной пещере Дербишира, как говорят, был найден только один кусок кости с нацарапанной на нем лошадиной головой. Пещеры дилувиальной эпохи в Бельгии оказались также небогаты произведениями подобного рода. В Австрии, в Лёссе, близ Брунна, выкопана разбитая фигура нагого мужчины, вырезанная из клыка мамонта, которую мы, вместе с Маковским, относим к дилувиальной эпохе, так как она, по своему стилю, близка к находкам в Дордони. В Германии близ Андернаха найден лишь один кусок оленьего рога, вырезанный в виде птицы; он хранится в провинциальном Боннском музее. Находкам во Франции не уступают в значении художественные памятники дилувиальной каменной эпохи, открытые в 18731874 гг. в немецкой Швейцарии, в Шафгаузенском кантоне, в Кесслерлохе, близ Таингена, Мерком, и в 1892 г. близ Шафгаузена Нюшем. Эти два пункта раскопок принадлежат к важнейшим из всех, доныне известных. Большое удивление возбудили таингенские древности, бывшие предметом подробного изучения на антропологическом съезде в Констанце в 1877 г. Некоторые немецкие ученые сомневаются в подлинности всей находки, награвированные же на костях изображения лисицы и медведя считают грубыми подделками, приложенными к указанной находке лишь впоследствии. В особенности сомневающиеся ученые затруднялись признать подлинным знаменитого "пасущегося северного оленя" (см. рис. 3, 11), на которого указал Гейм, а именно вследствие искусства, с каким он начерчен. Но для опытного глаза, развитого в художественно-историческом отношении, вывод получается совершенно противоположный: изображения лисицы и медведя, хранящиеся теперь в Британском музее, своей формой, совершенно несходной со всеми другими изделиями подобного рода, именно и доказывают подлинность прочих рисунков.
Рис. 4. Венера Брассампуи. По Пиетту
Первый, кто попытался построить историю развития рассматриваемого нами первоначального искусства на основании французских находок, был Пиетт. С тех пор как Гёрнес (Hoernes) в своем обширном сочинении о первоначальной истории образных искусств примкнул к взглядам Пиетта, воззрения эти получили всеобщую важность. К сожалению, мы не можем проверить их правильности изучением последовательности слоев, в которых сделаны эти находки, но известная естественно-правильная последовательность несомненно свидетельствует в пользу упомянутых воззрений. Они провозглашают, что круглая пластика древнее рельефа и нацарапывания изображений, что изображение человека древнее изображения животных, а изображение животных древнее геометрического орнамента.
Старейшие из сохранившихся круглых пластических изваяний, а потому и древнейшие из дошедших до нас произведений искусства во всем мире, – это, судя по указанным данным, обломки маленьких женских фигур мамонтовой эпохи, вырезанных из клыков (найдены в 1892 и 1894 гг. в Брассампуи, на юге Франции, и хранятся в коллекции Пиетта в Рюминьи), прежде всего женский торс, получивший название "Венера Брассампуи" (рис. 4) и отличающийся несколько неуклюжей полнотой своих форм. Похожий торс в той же коллекции найден в Ма-д’Азиле. К этим находкам подходит женская фигура, найденная близ Ментоны и описанная Рейнахом; подозрение в ее подлинности, вероятно, несправедливо. Как видно, женщина является на пороге искусства. Эти женские фигуры древнее самых давних мужских фигур, найденных в Лёссе, близ Брунна, и хранящихся в музее этого города.
Среди давно уже найденных человеческих фигур дилувиальной эпохи особенно достойны внимания две. В коллекции Парижской антропологической школы находится открытый в пещере Рошбертье (в Шаронте) кусок оленьего рога, в верхней части своей представляющий неумело вырезанную человеческую фигуру (рис. 5, а); из коллекции де Вибре происходит замечательный маленький женский торс, найденный в Ложери-Басса (рис. 5, б) и хранящийся ныне в Парижском естественно-историческом музее. Хотя у торса нет ни головы, ни рук, ни нижней части ног, однако эта маленькая фигура, вырезанная из клыка, свидетельствует о том, что изготовивший ее уже понимал взаимное отношение частей тела. Если фигура из Рошбертье почти не отличается от самых бесформенных идолов-чурбанов, какие мы видим у диких народов, то фигура из Ложери-Басса представляет собой шаг вперед в смысле воспроизведения человеческого тела, а до этой ступени не всегда достигает древнее искусство даже исторической эпохи. Означенные фигурки были, вероятно, не идолы и не игрушки, но свободные создания прирожденного стремления к искусству. Прежде всего мы видим в них попытки изобразить человека и, судя по их обломкам, находим, что в своем теле и голове они представляли ту строгую симметрию, которую Юлий Ланге считал признаком всех изваяний до эпохи расцвета греческой пластики и которую назвал "фронтальностью". Но при этом – какая, однако, разница в понимании и в передаче форм!
Рис. 5. Человеческие фигуры, резанные из рога северного оленя и клыка мамонта. По Г. Г. Мюллеру и Картальяку
После женщины, как прекрасно заметил Гёрнес, внимание художника привлекают к себе дикие звери, за которыми охотятся он и его близкие. Большинство пластических изображений животных служило, по-видимому, рукоятками ножей, как мы можем судить о том по рукоятке кинжала из Ложери-Басса в музее Сен-Жерменен-ан-Ле (рис. 6, д). Но это признается не всеми. Вырезанный из оленьего рога и хранящийся в Розгартенском музее, в Констанце, обломок мускусного быка из Таингена, узнать которого можно по загнутым вниз, плотно прилегающим к черепу рогам (рис. 6, в), а также мамонт из Бруникеля (рис. 6, г), вырезанный из рога, с боков сплюснутый, с соединенными вместе ногами, хранящийся в Британском музее, свидетельствуют еще о некоторой архаической несвободе понимания и передачи форм тела. Зато формы двух выточенных из клыков лежащих северных оленей из Бруникеля (рис. 6, а и б), находящихся также в Британском музее с 1887 г., отличаются значительно большей ясностью и жизненностью; северный же олень, вырезанный из рога и составлявший рукоятку упомянутого кинжала из Ложери-Басса, свидетельствует о таком значительном понимании форм и о таком ловком приспособлении движения животного к форме рукоятки, до каких историческое искусство дошло лишь после долгой борьбы. Взгляните, как естественно и вместе с тем "стильно" животное откинуло свою голову назад, плотно прижало рога к спине и вытянуло задние ноги, переходящие в рукоятку! Другие подобные изображения обнародованы Пиеттом (кстати, изумительно натурально воспроизведенные лошадиные головы).
Среди нацарапанных контурных рисунков и изображений, вырезанных плоским рельефом, столько переходов, что, хотя последние и можно считать вообще более древними, чем первые, однако нельзя отделить от них. Замечательны геометрические орнаменты, которые иногда встречаются на телах животных. По-видимому, это намеки на шерсть. Нечто подобное мы найдем в искусстве позднейших времен уже в виде явственно выработанного орнамента. Человеческие фигуры в произведениях этого рода встречаются только в связи с изображениями животных. Из таких фигур знаменит "охотник на зубра" из Ложери-Басса, хранящийся в коллекции Массена. Это изображение нацарапано на оленьем роге. Зубр представлен жизненнее и лучше, чем его нагой преследователь, который точно падает вперед, тогда как царапавший хотел представить его в прямом положении. Упомянем еще о куске оленьего рога из Ла-Маделена (в Сен-Жермене), на одной стороне которого изображен обращенный вправо человек с палкой на плече, слегка присевший перед двумя лошадиными головами, начерченными в гораздо более крупном масштабе; другая сторона куска украшена двумя весьма живо представленными козлиными головами (см. рис. 3, 3а и 3б). Замечательны также некоторые изображения одних только рук, кисти которых постоянно даются только с четырьмя пальцами, как это видно, например, на предметах из Ла-Маделена, хранящихся в Британском музее (см. рис. 3, 8 и 9).
Рис. 6. Пластические изображения животных, относящиеся к древнейшей каменной эпохе. По слепкам Дрезденского музея (а, б, г, е), по Мерку (в)
Все животные такого рода приводятся только в профиль. Чрезвычайно любопытно, что при этом наиболее искусные художники уже умели, по крайней мере в изображении простого движения – шага, отделять ноги, обращенные к зрителю, от ног, стоящих позади. Далее, мастерски сделаны происходящие из Ла-Маделена и хранящиеся в Британском музее два бруска с изображением диких лошадей и северных оленей (см. рис. 3, 1а, б, в и 13), а также найденный там же обломок с весьма жизненным изображением рыбы на каждой стороне (см. рис. 3, 2); замечательно также хранящееся в Парижском естественноисторическом музее знаменитое, наделавшее много шума и победоносно одолевшее все придирки изображение мамонта на клыке этого животного, найденное в Ла-Маделене (см. рис. 3, 6), и брусок из Монгодье (Шарант), на одной стороне которого глубоко выцарапаны рыбы и тюлени, а на другой – змеи (см. рис. 3, 12, а и б); затем, в коллекции Пиетта, – кость из грота Гурдана (в деп. Верхней Гаронны) с явственно изображенной головой антилопы-сайги (см. рис. 3, 4), и в Цюрихском музее – находки из пещеры Швейцерсбильд: декоративный брусок с двумя превосходными изображениями диких лошадей, подобный же брусок с выгравированным на нем северным оленем и кусок оленьего рога с изображением рыбы. Но наиболее совершенные изображения животных в таком роде украшают некоторые предметы, найденные в Кесслерлохе, близ Таингена. Вышеупомянутый "пасущийся олень", чрезвычайно естественно и живо изображенный на декоративном бруске (см. рис. 3, 11), хранящемся в Розгартенском музее, в Констанце, в большинстве французских и английских сочинений по этому предмету выставляется даже как наилучшее произведение подобного рода. Однако и дикий осел на декоративном бруске Шафгаузенского музея (см. рис. 3, 10) вряд ли уступает "пасущемуся оленю"; особенно же хороши две головы животных (см. рис. 3, 5 и 7) на обеих сторонах агатовой пластинки, составляющей также одно из украшений Розгартенского музея.
Особую категорию представляют каменные плиты, на которых в беспорядке, без различия верха и низа, нацарапаны изображения животных, отделить их друг от друга можно лишь с трудом. Сюда относятся аспидная плита из Ложери-Басса, с начертанными на ней тремя северными оленями, хранящаяся в Естественно-историческом музее в Париже, и замечательная известняковая плита из Швейцерсбильда, находящаяся в Цюрихском музее; хотя на этой плите линии контуров пересекаются произвольно, однако на одной стороне явственно выступают изображения северного оленя и двух диких ослов, а на другой – двух диких лошадей, степного осла и животного, похожего на слона (вероятно, мамонта). Эти камни, по-видимому, служили для упражнения и на них испытывали свои силы художники прежде, чем начинали настоящим образом отделывать декоративные бруски и другие произведения.
Рис. 7. Орудия древнейшей каменной эпохи с линейными украшениями. По Мерку, Ларте и Кристи
Здесь сам собой возникает вопрос: не встречались ли подобные рисунки на стенах пещер дилувиальной эпохи? Вероятно, древнейшие стенные изображения, какие до сей поры вообще известны, находятся в гроте Ла-Мут, который нашел Э. Ривьер. Здесь награвированы на камне бизон и животное, напоминающее собой коня, причем контуры заполнены охрой. Правда, нельзя решить, принадлежат ли эти изображения позднейшему каменному периоду или более раннему. Как бы то ни было, это во всяком случае наидревнейшие из доступных современному исследователю гравированных работ подобного рода.
Некоторые предметы дилувиальной пещерной эпохи снабжены, однако, и линейными украшениями. Переход от изображений животных к другим предметам мы видим на рис. 7, а: это наконечник копья из Ла-Маделена, хранящийся в Сен-Жермене. Он украшен изображением свешивающегося вниз животного или шкуры животного, а ниже – розетками, которые можно было бы считать древнейшими в мире, если бы только было возможно доказать, что это действительно изображение растительных розеток, а не морских звезд, морских ежей или чего-либо подобного; надо заметить, что последнее предположение более вероятно. Предметы (рис. 7, б и в) происходят из Таингена и хранятся в Розгартенском музее в Констанце, а прочие – из Ложери-Басса и находятся в музее Сен-Жермен-ан-Ле. Гарпун (рис. 7, б) окаймлен украшением в виде ленты, какое мы встречаем и на подобном предмете из Дордони; возможно, оно исполнено в подражание ремням из шкур животных, которыми обвивали острия, когда прикрепляли их к деревянным стержням. Красивое украшение на острие (рис. 7, в), состоящее из продольных, чередующихся между собой полосок и возвышений, выступающих в виде пуговок, осложнившись зигзагообразными линиями, повторяется на предмете на рис. 7, г, и волнообразными – на предмете на рис. 7, д; на рис. 7, е, – в чистом виде орнамент из волнообразных или змееобразных линий, а предмет на рис. 7, ж, украшен полосой, снабженной по обоим краям зубчиками и напоминающей собой рыло пилы-рыбы или рисунок на спине некоторых видов змей. Еще замечательнее орнаменты, обнародованные Пиеттом и хранящиеся в его коллекции; это концентрические круги и спирали, не имеющие ничего подобного себе в известной доныне дилувиальной орнаментике и похожие лишь на некоторые орнаменты конца позднейшей каменной эпохи. Замечателен, однако, тот факт, что в Везере (VezHre) и на Верхнем Рейне встречаются чрезвычайно сложные декоративные узоры совершенно такого же рода, это свидетельствует о взаимной внутренней связи всех подобных художественных попыток. Но что мы можем сказать о происхождении и значении данных украшений? Смотрели ли на них художники и любители тех времен только как на игру линий и пуговок, подобно тому, как смотрим мы в настоящее время, или же они понимали эти украшения как исполненные в известном стиле воспроизведения предметов окружающей их действительности, или же, наконец, то были для них знаки, символы духовных представлений, нечто вроде письмен, или изображения, в которых таилось религиозное содержание? Быть может, изучение восстановленных новой наукой начал декоративного искусства несколько более близкого к нам времени бросит некоторый свет и на эту доисторическую орнаментику.
Все это искусство, хотя столь осязательное для нас, но не имеющее, по-видимому, ни начала, ни конца, ни причины, ни следствия, – бесконечно от нас далекое, очевидно, развилось и отжило не в продолжение какого-нибудь десятилетия, и даже не одного человеческого поколения: оно развивалось долго, быть может, в течение многих веков. Мы имели возможность отметить главные черты этого развития, но проследить постепенный его ход не были бы в состоянии даже в том случае, если бы подчинились доводам одаренного столь богатой фантазией Пиетта. Более убедительны некоторые его попытки различить несколько местных школ. При всем сходстве произведений искусства этой эпохи между собой работы, найденные в Дордони, отличаются простым, грубым характером в сравнении с более естественными и вместе с тем выказывающими более богатую фантазию произведениями местностей, лежащих близ Пиренеев; лучшие же рисунки – из Таингена, с их непосредственной, тонко прочувствованной естественностью, опять-таки составляют отдельную группу.
Но резче, чем все эти различия, бросается нам в глаза одинаковость сути всех этих художественных произведений, находимых от Пиренеев до Боденского озера и до Мааса, а может быть даже и дальше, до Англии и Моравии. Мы чувствуем, что создали их люди одного духа, во всей этой обширной области охотившиеся на зверей, ловившие рыбу, жившие в пещерах или в других укромных уголках и скрашивавшие свою незатейливую, по-видимому, мирную жизнь созданием подобных произведений искусства. К какому племени можно отнести этих людей – вопрос, не касающийся прямо истории искусства, которая предоставляет его решение естествознанию, антропологии и этнографии. Дело науки об искусстве – указать только на то, что для нее все эти художественные произведения дилувиальной доисторической эпохи имеют чрезвычайно важное значение, прежде всего как явления, несомненно существовавшие, хотя и без всякой непосредственной связи с искусством последующего времени. Дело в том, что эти попытки художественного творчества яснее всяких позднейших доисторических и даже исторических созданий искусства показывают, какой естественности и правдивости достигали, несмотря на всю свою незатейливость, взятые из окружающего мира изображения первобытного и совершенно еще наивного человечества, и насколько у него выработалось понимание стиля, несмотря на крайнюю скудость технических средств – естественное последствие совершенно еще младенческого миросозерцания.
2. Искусство эпохи неолита (последнего периода каменного века)
Наступила новая эпоха. Европа в ту пору ничем не отличалась по очертаниям от современной, и в ней господствовал нынешний климат. Мамонты вымерли, северные олени переселились ближе к Полярному кругу; верным спутником человека сделалась собака, и он кроме охоты и рыбной ловли занялся скотоводством, а вскоре затем и земледелием; научился также прясть и ткать, лепить руками сосуды из глины и обжигать их на огне, и если кое-где еще жил в пещерах или искусственно вырытых ямах, то все-таки по большей части предпочитал воздвигать для себя хижины из кольев, глины и хвороста и покрывать их ветвями, тростником или соломой. У людей в ту эпоху начинает зарождаться вера в высшие силы, выражающаяся прежде всего в заботах об умерших и в отграничивании священных земельных участков.
Когда именно началась неолитическая эпоха, существование которой можно проследить по формированию Земли, нельзя определить с точностью, как нельзя точно установить и начало палеолитической эпохи. Но конец позднейшей каменной эпохи, везде совпадающий с началом эпохи обработки металлов (хотя появление немногих металлических, особенно медных, предметов еще не дает права заключить о том, что переход из одной эпохи в другую уже совершился окончательно), в различных местностях обитаемой земли наступил в весьма разное время. В Египте и Вавилонии металлы употреблялись еще в IV тысячелетии до н. э. Каменная эпоха у североамериканских индейцев, обрабатывавших свою медь только "холодным" способом, как камень, и у островитян Тихого океана, которые еще и теперь знают лишь привозные металлические изделия, продолжается до их соприкосновения с европейцами. Что касается Европы, то можно, средним числом, принять 2000 г. до н. э. за приблизительный конец каменной эпохи, хотя юго-восток этой части света познакомился с обработкой металлов еще двумя-тремя столетиями раньше, а скандинавский север – лишь несколькими столетиями позже.
Представителями неолитического периода развития Европы считаются народности арийского племени, с течением времени завоевавшего себе преобладающее господство на всем земном шаре. Если сама Европа, как полагают, – родина арийского племени, то искусство новейшей европейской каменной эпохи следует считать первым проявлением художественных стремлений этого племени. Правда, в данном случае мы находимся на очень шаткой почве. В то время как, с одной стороны, выдающиеся ученые, во главе которых стоит Соломон Рейнах, выступают в защиту самостоятельного и независимого возникновения всего доисторического искусства Северной и Средней Европы, другие не менее выдающиеся люди науки, во главе с Максом Гёрнесом, автором объемного сочинения о первобытной истории искусства, держатся того мнения, что все художественные создания Европы ведут свое начало косвенным образом из Месопотамии и Египта, непосредственно же – с островов и берегов восточной части Средиземного моря, так что в неолитических произведениях Средней Европы можно видеть лишь отражение искусства юга и востока.
Признавать безусловно, равно как и безусловно отрицать здесь какое бы то ни было влияние – одинаково легко. Значительную долю незатейливых неолитических форм мы всегда будем считать общим родовым достоянием народов, но вместе с тем должны признавать зависимость редких и сложных, а следовательно, поздних произведений от соседних, более древних и родственных форм. Та ступень культуры и искусства, на какой стояла новейшая каменная эпоха, которую Гёрнес справедливо со своей точки зрения отделил от первой металлической эпохи, именно в Северной и Средней Европе, все-таки сохраняет для нас свой особый культурно-исторический отпечаток.
Древнейший период позднейшей каменной эпохи вряд ли отличается от последней дилувиальной эпохи формой каменных орудий. Классическими местами находок, относящихся к древнейшему периоду позднейшей каменной эпохи, являются во Франции Кампиньи (деп. Нижней Сены), на севере же – знаменитые, существующие, быть может, уже 7 тыс. лет кучи отбросов (Kjukkenmuddinger) на датском побережье Балтийского моря. Подобные же кучи раковин и мусора найдены во многих прибрежных пунктах Европы, Америки и Азии.
Важнейшие места, где найдены орудия, утварь и сосуды среднего периода позднейшей каменной эпохи, есть остатки бывших жилищ и принадлежавших к ним гробниц. В жилищах и гробницах находят оружие, а также гладкие и полированные орудия, считающиеся особенно характерными для того времени. Кремневая утварь тогда еще иногда остается неполированной, но большинство камней, обрабатывавшихся наряду с кремнем, было прямо-таки необходимо гладко отшлифовывать и полировать. Оружие, употреблявшееся в торжественных случаях, изготовлялось из зеленого или зеленоватого камня; самые ценные топоры и секиры делались из нефрита, ядеита или хлоромеланита; употреблялся для этого рода предметов также и змеевик. До тех пор пока думали, что нефрит встречается только в Азии, защитникам происхождения всех этих предметов из той части света было легко отстаивать свое мнение. Но после того, как стало известно, что и в Европе нефрит встречается в необработанном виде, особенно же с того времени, как Адольф Бернгард Мейер доказал, что этот камень, отличающийся твердостью и красивым цветом, попадается даже и в альпийской области, эти вопросы стали решаться проще. На рис. 8 изображено несколько неолитических орудий: а – нефритовый резец из Кастроджованни, в Сицилии, хранящийся в университетской коллекции в Палермо, б – пробуравленный каменный молот из Люнебургской степи, находящийся в провинциальном музее в Ганновере, в – неошлифованный кремневый резец из Шонена, г – аспидный наконечник копья из Норрланда; два последних предмета – из Стокгольмского музея.
Рис. 8. Орудия последней каменной эпохи. По Адриану, Ю. Г. Миллеру и Монтелиусу
Камень, дерево и рог (нередко рог обыкновенного, а не северного оленя) по-прежнему служили главными материалами обработки в позднейшей каменной эпохе, но в то же время роль нового декоративного материала начал играть янтарь, это "золото севера". Янтарные серьги встречаются в виде всевозможных фигур, даже, как увидим, имеют иногда форму человека. На рис. 9: а большая шведская янтарная подвеска, Стокгольмский музей, б – восточнопрусское янтарное кольцо, Кенигсбергский музей Физико-экономического общества. Но более бедное население, обитавшее вдали от морского берега, изготовляло свои украшения из костей, камня и глины, что подтверждается находками Иоганна Ранке в неолитических жилищах в скалах франконской Швейцарии: в и г – подобные украшения, Мюнхенский доисторический музей.
Рис. 9. Предметы украшения последней каменной эпохи. По Монтелиусу, Клебсу и Иоганну Ранке
В художественном отношении нашего внимания прежде всего достойны жилища этих людей позднейшей каменной эпохи, вследствие своей обычно круглой, а иногда и прямоугольной формы, ямы, составляющие переход от пещер к отдельно стоящим хижинам. В Германии подобные "подземные жилища-ямы", как их называет Гёрнес, крыша которых покоилась над землей на низких столбах, открыты главным образом в Мекленбурге и в Южной Баварии, а также близ Вормса. Но и в Австро-Венгрии, во Франции, Англии и Швейцарии их признали также за человеческие жилища каменной эпохи. Мы сказали выше, что они заслуживают внимания из-за своей круглой формы. На самом деле, в постройке только тогда можно усматривать первые слабые признаки художественности, когда чувство пространства строителя выражается в правильности основного очертания. Знаменитый шведский исследователь доисторических времен Монтелиус полагал, что древнейшие воздвигнутые на земле хижины первобытных людей доисторической эпохи имели круглую форму. Монтелиус находит, что круглая форма, через посредствующие формы квадратного контура, с одной стороны, и овального контура – с другой, перешла в прямоугольную; конусообразная же или пирамидальная крыша круглой или квадратной хижины, будучи возводима над прямоугольной хижиной, сначала поднималась вкось со всех четырех сторон, а затем постепенно превратилась в покатую крышу и только впоследствии – в крышу с фронтоном. На суше не сохранилось остатков таких хижин, построенных из свай, глины и хвороста в каменную эпоху, но, сколь это ни странно, их сохранилось много в глубине внутренних озер и болотах, некогда составлявших дно озер. Это остатки доисторических свайных построек, остатки когда-то существовавших водных деревень, которые, соединяясь посредством узеньких мостков с сушей, держались на сваях над поверхностью озера. Постройки подобного рода, открытые первоначально в швейцарских озерах Ф. Келлером, подробно их описавшим, были потом найдены по краям озер различных стран Старого и Нового Света. Наряду с классическими швейцарскими свайными постройками, в Германии особенно замечательны свайные постройки Штарнбергерского и Бармского озер, а также Шуссенридерского болота; в Австрии – постройки Аттенского и Мондского озер и Лайбахского болота.
Свайные постройки наука относит вообще к позднейшей каменной эпохе ввиду того, что наиболее древние из них действительно возникли в ту пору и что в некоторых местах, например на большинстве озер Восточной Швейцарии и в Австрийских Альпах, они исчезают в конце каменной эпохи (медный период), которая в отношении художественности стоит вообще на одной ступени с каменной. Следует, однако, теперь же оговорить, что даже на Цюрихском озере, в Воллисгофене, найдено свайное сооружение, вероятно, уже бронзовой эпохи, что свайные постройки в Западной Швейцарии существовали в течение всего доисторического металлического периода и что у некоторых первобытных народов всех частей света они еще и до сих пор представляют преобладающий тип сооружений.
По устройству основы для хижин различают две системы свайных сооружений: свайные постройки в собственном смысле слова, типичным представителем которых является Робенгаузен, в Швейцарии, и постройки, расположенные на нагроможденных друг на друга бревнах (Packwerkbau), в Нидервиле. В настоящих свайных постройках сваи, поддерживавшие все сооружение, вбивались в дно озера так, что выступали из воды на один или два метра. Сваи сверху соединялись между собой вставленными в них поперечными балками, а эти последние, для образования дека или помоста, соединялись двумя рядами крестообразно наложенных друг на друга деревянных брусьев. Сущность другого рода построек состояла в том, что ряды балок или бревен накладывались один на другой вдоль и поперек, образуя плот, на который клали новые балки, когда дерево, пропитавшееся водой, начинало опускаться; нагромождать балки продолжали до тех пор, пока вся нижняя часть сооружения не опускалась до дна.
На помосте свайных построек альпийских озер каждая отдельная хижина помещалась на твердом полу, сделанном из желтой глины; сам же способ постройки хижины и возведения крыши, вероятно, не отличался от того, какой употреблялся при постройках на суше. По остаткам не раз удавалось определить, что стены сплетались из прутьев, а снаружи обмазывались глиной, на слое которой выдавливались потом геометрические декоративные узоры.
Тектоника, плотничество, а вместе с тем и европейское домостроительство, очевидно, должны считать одним из своих первых крупных успехов эти свайные постройки, из которых наиболее древние возникли, как полагают, тысячелетий семь тому назад. На вопрос, почему сооружались именно такие постройки, – вопрос, неоднократно предлагавшийся и получавший весьма различные решения, мы можем, со своей стороны, ссылаясь на свайные постройки многих современных нам первобытных народов, ответить, что селиться над поверхностью воды заставляли древних озерных жителей, вероятно, многие причины, вместе взятые. Главными из них, по-видимому, были, во-первых, необходимость защищаться от сухопутных животных, не только четвероногих, но и змей, а во-вторых, удобство ловить рыбу и убивать зверей, приходивших на берег утолять жажду. К этим причинам, быть может, присоединялись потребность в чистоте и, наконец, удовольствие жить над прозрачными зелеными водами.
Рис. 10. Южношведский дольмен. По Монтелиусу
Наряду с этими остатками жилищ людей позднейшей каменной эпохи, мы знакомимся с усыпальницами, а именно с могилами витязей (Hbnengrflber), и с другими мегалитическими, то есть сооруженными из огромных камней, гробницами. Не вдаемся в рассмотрение вопроса о том, возникли ли эти могилы и гробницы в подражание пещерным усыпальницам других времен и стран, как полагает Софус Мюллер, и следует ли в таком случае считать их искусственными углублениями, сделанными в скалах. Если свайные постройки являются естественным образом в географической области стоячих вод, то мегалитические гробницы, в некоторых местностях существующие еще в металлическую эпоху, встречаются там, где есть мощные скалы. Если в свайных постройках мы усматриваем начатки деревянного зодчества, то в мегалитических памятниках видим первые попытки искусства строить из камня, и хотя этому искусству еще не удается воздвигнуть из громадных, почти неотесанных глыб что-либо поистине художественное, однако оно уже доходит до понимания закона поддержания и нагромождения в его монументальной простоте, причем прочность рассчитывается на вечные времена, а мощное напряжение сил, выражающееся в нагромождении друг на друга исполинских камней, посвящено благочестивым воспоминаниям и свидетельствует, что эти богатыри седой старины, составлявшие плоть нашей плоти, бывали одушевлены точно такими же чувствами, какие свойственны и нам.
Могильные постройки разделяются на дольмены (dolmen), могилы с ходами и могилы в виде каменных ящиков. Собственно дольмены (рис. 10) представляют собой свободно стоящие могильные сооружения: огромные, внутри иногда несколько сглаженные, а снаружи неотесанные камни образуют стены четырехгранных, многогранных или почти круглых могильных сооружений; их плоскую крышу составляет один огромный камень, иногда далеко выступающий вперед над стенами, вследствие чего подобное сооружение имеет вид гигантского стола. На севере гробницы-дольмены такого рода бывали окружены земляными насыпями, которые в наше время уже исчезли. Могилы с ходами построены в таком же роде, но более вместительны и покрыты насыпным земляным холмом, на поверхности которого потолочные камни внутренней камеры первоначально лежали открыто, а сбоку вел извне вовнутрь крытый каменный ход (рис. 11). Большие могилы такого рода на севере называются "комнатами исполинов". "Каменные ящики" – подобные же могильные камеры, но без ведущих в них ходов (рис. 12). В древнейшее время, в Швеции, они обыкновенно выдавались своей верхней частью из земляного, насыпанного на них холма, в бронзовую же эпоху совершенно скрывались под ним. По мнению скандинавских ученых, дольмены – древнейшая, а каменные ящики – позднейшая формы мегалитических гробниц. Гробницы с ходами, образующие исполинские комнаты, встречаются кроме северо-западной части Европейского материка в Англии, Ирландии и на Иберийском полуострове. Самое громадное сооружение такого рода в Северной Европе находится близ Нью-Гренджа, в Ирландии. Еще значительнее по величине Антекверская каменная могила в Испании. Имея длину 25 метров, а ширину 6 метров, могила эта подпирается внутри столбами, которые придают ей характер постройки уже высшего разряда.
Рис. 11. Усыпальница с ходом в нее, близ Фалькёпинга. По Монтелиусу
Наряду с настоящими дольменами, бывшими иногда лишь памятниками в честь умерших, существовали менее сложные каменные нагромождения (Steinsetzungen) и часто простые столбы, которые могут быть рассматриваемы как исторические монументы или как символы религиозных представлений. Стремление ставить камни для увековечения какого-нибудь события являлось везде раньше, чем способность создавать из камней архитектурные или скульптурные художественные произведения. Отдельные камни этого рода, очень часто встречающиеся во Франции, известны под галльским названием менгир, группы же менгиров называются кромлехами. Менгиры, достигающие иногда громадной высоты, похожи на грубо отесанные обелиски неправильной формы. Они нередко встречаются группами или в виде рядов и кругов. На Карнакском поле, в Морбиганском департаменте Франции, стоят или еще недавно стояли расположенные в одиннадцать рядов 11 тысяч таких менгиров – целая армия немых свидетелей мощного проявления сил, которыми двигало нечто высшее, чем ежедневные потребности человека и которые переносили его в духовный мир неземных представлений. Каменные круги в Скандинавии, во Франции и Англии всегда опоясывали священные пространства, служившие, с одной стороны, для совещательных собраний, с другой – для жертвоприношений и иных религиозных действий. Еще каменному веку, по-видимому, принадлежал, например, самый обширный из так называемых "храмов друидов" в Англии, а именно окруженное валом и рвом круглое строение в Абюри, в Вильтшире, занимавшее собой площадь в 281/2 моргов.
Рис. 12. Могильный склеп в виде ящика. По Монтелиусу
Начиная с Южной Швеции, Дании и главным образом с Юго-Западной Германии, где громадные валуны, оставленные ледниковым периодом, сами собой напрашивались на то, чтобы их собирали и нагромождали друг на друга, дольмены и каменные памятники сотнями тысяч тянутся по Англии и Ирландии в Западную Францию (Нормандию и Бретань), отсюда, по северу Испании вдоль берега Португалии, переходят в Южную Испанию, затем, минуя море, встречаются в Северной Африке и по всему африканскому берегу Средиземного моря, потом появляются в Крыму и Палестине и, наконец, в Индии, особенно на ее западном берегу, между тем как внутри суши если и попадаются, то только в одиночку, на пространстве между Балтийским морем и Крымом, на путях, соединяющих Восток с Западом. Прежде думали, что это пограничные камни, обозначающие путь арийцев из Индии в Северную Европу. Краузе остроумно отстаивал мнение, что рассматриваемые камни, наоборот, указывают путь арийских племен из Северной Европы по всей их теперешней области распространения вплоть до Индии. Но правильность ни того, ни другого взгляда доказать невозможно. В конце концов, мегалитические постройки принадлежат также к проявлениям человеческих сил, повторяющимся при одинаковых условиях у различных народов.
Рис. 13. Неолитические фигуры людей. По Картальяку, Шлиману, Тишлеру, Клебсу и Ранке
Ваяние и рисование не достигли в позднейшую каменную эпоху таких успехов, как зодчество. Приходится даже признать, что умение изображать животных и людей сделало шаг назад. Некоторые из сохранившихся нацарапанных рисунков неолитической эпохи, каковы, например, две лани, изображенные на роге, найденном близ Истада и хранящемся в Стокгольмском музее, и две оленьи головы на костяных пластинках, найденных в франконских пещерах и сохраняемых в Мюнхенском доисторическом музее, являются как бы отпрысками дилувиального пещерного искусства. Но в большинстве случаев речь только и может идти о неумелых новых попытках.
На мегалитических сооружениях во Франции и Португалии встречаются полупластические начертания фигур на камне. Особенно типичны женские фигуры и, вероятно, фигуры богов с ребяческими очертаниями, встречающиеся во французских могильных камерах всегда по левую руку от входа, главным образом в искусственных могильных пещерах меловых утесов Шампани, которые представляют собой нечто среднее между естественными могильными пещерами и мегалитическими могильными камерами. О расчленении тела этих фигур, об обозначении их рук и ног, не может быть и речи. Плоско углубленная ниша образует тело, верхний полукруглый ее верх – округлость головы. Волосы и лоб обозначаются оправой этого верхнего закругления, выступающей в виде выпуклости. От нее опускается вниз в плоское пространство нос, по бокам которого поставлены глаза в виде точек. Лишь в некоторых случаях намечен рот одной или двумя тонкими линиями; шея обычно намечена незатейливой цепью, служащей украшением; ниже бывают иногда обозначены груди в виде выдающихся закруглений (рис. 13, а).
Такой же тип имеют и другие произведения той же или подобной ступени развития искусства. Здесь приходится указать на доисторические мраморные идолы и вазы с лицами, находимые наряду с бронзовыми предметами; подобные идолы и вазы были найдены Шлиманом во втором и третьем слоях Гиссарлыка и подарены этим исследователем Берлинскому музею народоведения (рис. 13, б). Сюда же всецело относится янтарная фигура (рис. 13, в) каменной эпохи в Восточной Пруссии, найденная в Шварцорте и хранящаяся в Кенигсбергском музее. Одинаковая ступень развития порождает везде одинаковые формы.
Мелких пластических изображений человека и животных из позднейшей каменной эпохи мы имеем много. Не говоря о произведениях позднейшего цветущего периода греческого искусства, заметим, что фигуры встречаются почти только в восточной части Средней Европы. В их числе преобладает нагая женская фигура, от которой и на этот раз художественное движение берет, по-видимому, свое начало (см. рис. 5). Замечательны сидячие нагие женские фигуры с сильно развитыми нижними частями тела и с нацарапанными украшениями, происходящие из окрестностей Филиппополя и хранящиеся в Венском придворном музее; не менее любопытны женские глиняные фигуры из Кукутени, в Румынии, с плоскими грудями и с головами, похожими на пуговицы, но с сильно развитыми бедрами, вдоль и поперек покрытые спиральными царапинами, которые напоминают собой татуировку. Бесформеннее, но с более тщательной отделкой голов, – многочисленные мелкие глиняные фигуры из Бутмира, близ Сараева, в Боснии, в музее которого их можно изучать. Еще всецело к каменной эпохе относятся мелкоголовые, облеченные в широкую одежду глиняные фигуры из Лайбахского болота, тогда как изображения животных из свайного сооружения в Мондском озере уже принадлежат медной эпохе. Наряду с попытками реализма, в самом начале замечается стремление изображать людей в виде правильных геометрических фигур и тел. Относящаяся к новейшей каменной эпохе янтарная фигура из Крухлиненна, Кенигсбергский музей (рис. 13, г), показывает, как из прямоугольной формы посредством ее суживания в середине и прибавки шеи постепенно образуется подобие человеческой фигуры; такого же рода образование можно предположить и в глиняном изваянии из Лайбахского болота, хранящемся в Рудольфинуме, в Лайбахе, и замечательном по своей узорчатой одежде (рис. 13, е). К реалистическим же попыткам каменной эпохи принадлежат некоторые из найденных в польских пещерах, между Краковом и Ченстоховом, произведений, резанных из кости, в ряду которых достойны внимания в особенности широкоплечие фигуры, хранящиеся в коллекции Краковской академии наук (рис. 13, д).
Впрочем, нужно заметить, что неолитические человеческие фигурки, которые мы можем признавать идолами или талисманами, несмотря на общую всем им бесформенность, различны в каждом отдельном месте находок, имеют свой особый определенный тип, вследствие чего мы не можем считать их простыми отражениями эгейско-микенского мира искусства, к типу которого они подходят только отчасти, хотя встречаются в Юго-Восточной Европе более часто, чем в Северной и Западной.
Европейцы культурной ступени позднейшей каменной эпохи являются художественными ремесленниками прежде всего в гончарном производстве (керамике). Здесь перед нами – действительно начатки развития, продолжающегося вплоть до настоящего времени. В огромном количестве относящихся к каменному веку глиняных сосудов и разукрашенных горшечных черепков, накопившихся в течение XIX столетия в доисторических коллекциях всех европейских стран, прежде всего нельзя не признать поразительной одинаковости основного характера как техники, так и орнаментации. Но, вместе с тем, не менее явственно выказываются отличия одних из этих изделий от других, зависящие от того, что развитие искусства их изготовления происходило в разных местностях и не в одно и то же время. Обширная научная работа, имеющая целью очистить, сгруппировать, истолковать и сопоставить весь материал, накопившийся по этой части, еще только что начата. Для Средней и Восточной Германии уже многое сделано в этом направлении Вирховом, Тишлером, Фоссом, Бруммером, особенно же Клопфлейшом и Гётце; для Рейнской области важны сочинения Линденшмита, Вагнера и Кёнена. В настоящей книге мы можем указать лишь на некоторые главные выводы на основании исследований Клопфлейша и Гётце.
Всему горшечному производству каменной эпохи были незнакомы обжигание на огне и украшение сосудов геометрическими линейными узорами, которые перед обжиганием вдавливаются в мягкую еще глину, накалываются или нарезаются на ней и обыкновенно заполняются белой гипсовой массой. В Средней Германии, например, строгие и красивые формы амфор и кубков развиваются в более круглые, менее расчлененные формы горшков и жбанов, а маленькие ручки, отверстия для шнура, на котором носят и вешают сосуд, обращаются в такие ручки, за которые можно взяться рукой, вдавленные же декоративные линии переходят в наколотые или врезанные, прямые линии – в извивающиеся и закругляющиеся кривые.
Прежде всего – несколько слов о вдавленных украшениях. Они начинаются с простых вдавливаний пальцем в еще сырую глину. Повторяясь по окружности сосуда на одинаковой высоте, эти вдавленные места образуют кольца, неправильность которых в значительной степени оживляет впечатление отдельных частей общей орнаментации. Более строгие геометрические фигуры получаются через черчение ногтями. Подобные крапчатые украшения, но уже правильные, производятся закругленными палочками. Множество образцов такого рода изделий найдено в свайных постройках. Но любимое вдавленное украшение получалось оттиском веревок, которыми, быть может, еще мягкий вначале сосуд бывал обвязан до обжигания. Такое украшение шнурами, протянутыми в виде трех рядов параллельных линий, с вертикальными промежуточными линиями, мы видим на красивой тюрингской амфоре, находящейся в провинциальном музее в Галле (рис. 14, а).
Рис. 14. Неолитическая керамика. По Гётце, Клопфлейшу, Монтелиусу, Андриану, Ранке и Муху
Линии наколотых украшений состоят из расположенных близко одна к другой точек, форма которых зависела от употребленных для накалывания костяного острия деревянной щепки или тростинки. На большой урне из Бодмана на Боденском озере, хранящейся в Розгартенском музее, в Констанце, правильно повторяются вдавленные треугольные фигуры, наколотые, по-видимому, куском трехгранного тростника. Нарезные прямые линии, в сущности представляющие собой самые естественные основания геометрических узоров, часто встречаются в неолитической керамике как бордюры шнуров или пространств, заштриховка которых состоит из наколов. На рис. 14, б, изображена красивая амфора-кувшин, найденная в герцогстве Веймарском, хранящаяся в Германском музее, в Иене, на ней наколотые зигзаги окружены бордюром нарезных линий. На рис. 14, в, – сосуд "с нарезными украшениями и вдавленными треугольниками", найденный в Саксонии и находящийся в гимназической коллекции в Зангергаузене. На шведском висячем сосуде (рис. 14, г) мы видим нечто вроде узора шахматной доски (Стокгольмский музей). Если к линиям, сходящимся под тупым углом (в виде стропил), присоединяется линия, служащая стержнем или ребром, то образуется орнамент, который называют по-разному: еловой веткой, рыбьей костью, птичьим пером и папоротниковым узором. Возможно, что идею подобных узоров внушило человеку наблюдение этих и сходных с ними предметов природы. Все упомянутые узоры древнейшей прямолинейной неолитической керамики настолько геометрически просты, настолько удобны для исполнения, что нет никакого основания приписывать им какое бы то ни было символическое значение.
Всей этой керамике, украшенной вдавленными шнурами, наколами и нарезами, можно противопоставить керамику, находимую в некоторых местах рядом с ней, но преимущественно более позднюю и отличающуюся от нее другим способом орнаментации, который Клопфлейш назвал "орнаментом неолитической ленточной керамики". Тогда как рассмотренные нами до сей поры сосуды были находимы в гробницах, горшки из тщательно промытой глины, по большей части круглые или яйцеобразные, с ленточными украшениями встречались главным образом в остатках жилищ каменной эпохи. Элементы их орнаментации состоят из разнообразно извивающихся лент, ограниченных углубленными параллельными линиями; эти ленты нередко, как бы развеваясь на свободе, лишь "неохотно подчиняются закону симметрии", а иногда как бы прикреплены выпуклостями или бородавками, которые в более позднюю пору часто появляются в орнаменте. Наряду с этими ломающимися под углом ленточными украшениями, в которых замечаются усложнения схемы меандра (рис. 15), встречаются дугообразные ленточные извивы, в которых иногда являются зачатки волюты (улиткообразной линии) и спиральной формы. Близ Вормса в гробницах найдены горшки с угловатыми ленточными украшениями, а горшки с дугообразными ленточными украшениями – в жилищах. Примеры ленточных украшений, образующих углы или дуги, мы видим на горшках, изображенных на рис. 14, ж и и. Первый из этих горшков найден близ Зондерсгаузена, второй – в Веймарском великом герцогстве. Оба теперь находятся, по-видимому, в частных руках. Центральным пунктом этой ленточной керамики была Богемия, а южнее она встречается главным образом в Боснии. Дальнейшие исследования в области неолитического гончарного дела, вероятно, еще лучше уяснят исторические ступени его развития.
Рис. 15. Схема меандра
Продолжением ленточных украшений обычно считают изломанные или изогнутые в таком же роде декоративные полосы, которые, будучи лишены бордюрных линий, не могут считаться лентами в настоящем смысле слова, а состоят из тесно придвинутых друг к другу наколотых или нацарапанных параллельных линий. Сюда относятся украшения некоторых неолитических сосудов Сицилии, каковы, например, извлеченные из пещеры Виллафрати и хранящиеся в национальном музее в Палермо (рис. 14, д и е); сюда же в особенности должны быть отнесены декоративные узоры сосудов, вырытых Линденшмитом на Гинкельштейне, в прирейнском Гессене, и хранимых в Майнцском музее (рис. 14, з и л). На наш взгляд, эти найденные в могилах вазы находятся посередине между сосудами с наколотым и нацарапанным орнаментом и горшками второго рассмотренного нами рода, с ленточной керамикой.
Коль скоро, оставаясь на среднегерманской почве, мы допустим, вместе с Клопфлейшем и Гётце, что сосуды с ленточными орнаментами принадлежат позднейшей неолитической эпохе, то должны будем признать, что сосуды из Лайбахского болота (рис. 14, м), хранящиеся в Рудольфинуме, Лайбахе, Иоганнеуме, Граце, и Естественно-историческом музее в Вене и на которых среди окаймленных лентами пространств появляются заполненные узорами кресты и круги, знаменуют собой дальнейшие успехи, сделанные в упомянутую эпоху; то же самое можно сказать и о сосудах, извлеченных из свайных построек Мондского озера, изобилующего медной утварью наряду с еще большим количеством каменной утвари, вследствие чего в настоящее время позволительно утверждать, вместе с венским исследователем Мухом, нашедшим эти сосуды, и их владельцем, а также с Гампелем и другими, что существовала особая медная эпоха, предвестница металлической эпохи, но по ступени, на которой стояло ее искусство, относящаяся к концу позднейшей каменной. На сосудах с Мондского озера ленточные украшения появляются в соединении со штрихованными треугольниками и четырехугольниками, с концентрическими кругами, "солнечными колесами", крестами, даже с настоящими спиралями, образуя иногда красивое, иногда несколько странное на вид целое (рис. 14, к). Хотя техника нацарапанных и заполненных белой краской декоративных линий, проведенных по темному фону, здесь не изменилась, а узоры все еще состоят из строго геометрического сочетания линий, однако мы уже чувствуем веяние нового, иного времени. На вопрос о символическом значении многих из отдельных знаков мы не можем дать ответа, но не можем также сказать, что вопрос этот не имеет права быть поднятым. Мы должны даже признать здесь возможность влияния далеких восточных стран, явившегося вместе с медью. Замечательно указанное Мухом точное сходство техники и декоративных мотивов некоторых горшков, найденных в Мондском озере, с техникой и орнаментацией сосудов и черепков из низшего доисторического поселения Трои и раскопок на острове Кипре – сосудов, принадлежащих, подобно свайным постройкам Мондского озера, каменной эпохе, уже знакомой с медью. Своеобразие некоторых узоров на тех и других памятниках не допускает предположения, чтобы орнаментация одних и орнаментация других возникли независимо друг от друга, и все свидетельствует о том, что здесь заимствующей стороной, по всей вероятности, было не Средиземное море, а Мондское озеро.
Настоящая спираль, которую мы уже встречали на палеолитических находках, не была порождением металлической эпохи. Это доказывается тем, что она попадается на многих неолитических сосудах преимущественно совместно с развитой ленточной орнаментикой, например на глиняных сосудах, найденных в Бутмире, в Боснии. Спираль не принадлежит к тем декоративным мотивам, которые не могли бы быть заимствованы из природы независимо друг от друга.
Окрашенные глиняные сосуды позднейшей каменной эпохи составляют большую редкость. На юге они явились раньше, чем на севере. Здесь, в Нижней Австрии и Моравии, найдены первые опыты полихромных плоских изображений на неолитических горшках и чашах. Паллиарди обнародовал раскрашенные сосуды из Цнаима; на них белыми, желтыми, бурыми и красными земляными красками намалеваны лентообразные, решетчатые, спиральные и остроугольные украшения. Сосуды же позднейшей каменной эпохи, окрашенные в красный цвет сапом или железной охрой, найдены лишь недавно также в Вормской области, близ Рейна.
Как полупластические прибавки к глиняным сосудам каменной эпохи имеют значение очерки человеческих лиц на горшках из Фюнена, Зеландии и Шонена, хранящихся в скандинавских коллекциях. Лица эти соединены с выдающимися из сосуда двумя ручками (грифообразными ушками) и, как предполагает Софус Мюллер, возникли благодаря тому, что технически необходимой составной части сосудов было придано, ради забавы, иное значение. На круглом ушке накалывались или намалевывались глаза. Промежуток, служивший ручкой, становился носом. Рта не было и здесь.
Тогда как исследователи доисторических времен склонны думать, что человеческие фигуры или части тела развились из геометрических фигур или неодушевленных частей той или другой утвари, этнологи настаивают на том, что большинство геометрических фигур, с которыми им приходилось иметь дело, произошло от человеческих или животных фигур. Однако вполне возможно также и то, что доисторическое искусство шло то одним, то другим путем, и мы можем согласиться с Карлом фон ден Штейненом, производящим геометрическую орнаментику некоторых первобытных бразильских народов от предметов природы, но не соглашаемся с ним, когда он, например, признает декоративный мотив, известный уже неолитической эпохе, – мотив креста с четырьмя точками, окаймленного кругом, – за мотив птицы, сидящей на гнезде с четырьмя яйцами. Мы еще вернемся к этому. В большинстве вопросов о доисторических временах еще ничего нет прочно установленного. Предположения противоречат предположениям, мнения – мнениям. Научного разъяснения можно ожидать только в будущем.
3. Искусство бронзовой эпохи
Когда человечество познакомилось с металлами и стало их употреблять, наступила опять новая эпоха – эпоха более богатая, более блестящая, более подвижная. Однако металлы подчинились человеку не все сразу. Лучшие знатоки всех стран утверждают, что в большинстве областей земного шара время, когда обрабатывались только медь, бронза и золото, предшествовало той эпохе, когда вошли в употребление железо и другие металлы. Переход везде совершался постепенно. Но как начало, так и конец бронзовой эпохи, совпадающий с началом железной эпохи, в разных, иногда даже в соседних местах, должны быть относимы к весьма различным временам. Мы говорим не о знакомстве вообще с металлами, а об употреблении тех или других из них. В Египте употребление железа сменило собой употребление бронзы в то время, когда в Европе бронза только что начала заменять собой камень. Во всей остальной "черной" части света, изобилующей железом, этот металл стал употребляться раньше бронзы, а в иных местностях из всех металлов обрабатывалось почти одно только железо. Наоборот, американские культурные народы все еще употребляли только медь, бронзу, золото и отчасти серебро, когда европейцы, 400 лет тому назад, познакомились с жителями Нового Света. В большинстве культурных стран Азии можно указать на существование бронзовой эпохи; в Европе все раскопки и находки подтверждают мнение древних греческих и римских поэтов, из которых Лукреций прямо утверждал, что "употребление бронзы было известно раньше, чем употребление железа".
Бронза, или "руда" (Erz), как иногда называют ее поэты и классические археологи, представляет собой смесь приблизительно от 5 до 15 частей олова с 95 или 85 частями меди. Самым обыкновенным отношением считается отношение 10 к 90. Само собой разумеется, что знакомство с медью должно было предшествовать ее сплаву с оловом. Поэтому заранее можно было считать вероятным, что люди пытались обрабатывать медь в чистом виде, пока не убедились в том, что прибавка к ней олова делает ее более твердой и сообщает ей более светлый цвет. И действительно, в последнее десятилетие для обширных пространств земного шара установлен предшествовавший бронзовой эпохе период меди; это доказали относительно Венгрии Пульчки (Pulszky), относительно Швейцарии – Гросс, относительно большинства европейских стран – Мух и Гампель. Но так как чисто медные орудия и оружие, обычно лишенные всяких украшений, своими формами почти не отличаются от орудий каменной эпохи, то на краткий медный период, как мы уже заметили, смотрят не как на отдельную культурную ступень, а как на последнюю часть каменной эпохи. Поэтому Гёрнес говорит о "бессилии меди", которая не могла одна одолеть камня и для победы над ним должна была соединиться с "чудодейственным оловом".
Доисторические бронзовые области, особенно для нас интересные, лежат в Средней и Северной Европе. Бронзовое искусство Египта, великих древних азиатских монархий и Восточной Греции не может быть отделено от исторического искусства этих стран. С медной и бронзовой эпохой Америки мы познакомимся при рассмотрении искусства древних культурных государств этой части света. Только в Европе можно указать такую бронзовую эпоху, которая соответствует особой доисторической ступени искусства, но и это справедливо не в одинаковой степени для всех ее частей. Бронзовая культура южных полуостровов и наиболее доступных ее влиянию областей Средней Европы, особенно Франции и части Австрии, так быстро поглощается надвигающейся с юга железной культурой, имеющей уже в самом начале скорее первобытно-исторический, чем доисторический характер, что бронзовую культуру почти нельзя принимать во внимание в этих местностях. Мы можем рассматривать только среднеевропейскую и северноевропейскую бронзовую эпоху, которая стала нам доступна благодаря отдельным исследованиям, произведенным в Верхней Баварии Ноак, в Богемии – Рихли, в Западной Пруссии – Лиссауером, в Великобритании и Ирландии – Эвансом, в Венгрии – Ундсетом и Гампелем, в Скандинавии – Софусом Мюллером и Монтелиусом.
За европейской металлической культурой мы не можем признать такой же самобытности, как за европейским искусством каменной эпохи. Все указывает, что умение добывать и обрабатывать металлы ведет свое начало из Западной Азии. Отсюда сверкающий золотом бронзовый поток мог излиться, с одной стороны, в Восточную и Северную Азию, с другой – в область Средиземного моря; но он должен был принять еще третье направление. Он проник в Северную и Среднюю Европу, вероятно, не через Северную Азию и не через Грецию, а через берега Черного моря и Дуная. Из придунайских стран он перешел даже в северную часть Балканского полуострова и в Северную Италию. Совершенно беспрепятственно достиг он, следуя по большим германским рекам, впадающим в Немецкое и Балтийское моря, до севера Европы, который, со своей стороны, по тем же путям, какими получал бронзовую утварь, отправлял на юг в обмен на нее свой янтарь. Последствием этого было то, что бронзовая культура в чистом виде развилась всего полнее и богаче в Венгрии, Швейцарии и на Севере, где, с одной стороны, Великобритания и Ирландия, а с другой – Скандинавия и Северная Германия составляли провинции великого бронзового царства, в котором, как доказывают многочисленные открытые литые изделия, бронза сначала только отливалась и лишь потом стала быть обрабатываемой молотом и подвергаться ковке.
Ввоз блестящего и гибкого металла произвел громадный переворот в общем складе тогдашнего европейского быта. Из бронзы стали выделывать большинство орудий и оружия, изготовлявшихся в предшествовавшую эпоху из камня, рога и кости. Кинжалы превратились сперва в короткие тесаки, а потом в длинные мечи. Топоры и резаки приняли особые формы, которые исследователи бронзовой эпохи называют общим собирательным словом "цельт" (Celte). Булавки получили разнообразный декоративный вид и, снабженные особыми приспособлениями для того, чтобы заколотое ими не расстегивалось, уже обратились в пряжки (фибулы), которые принадлежат к числу художественных предметов, характеризующих следующую эпоху – доисторическое железное время. Из бронзы или золота стали изготовляться многие предметы и украшения, для которых в каменную эпоху употреблялись малообработанные или вовсе необработанные естественные материалы. Благодаря гибкости металла явились неведомые дотоле декоративные формы. Закругление вступило в свои права. Начали отливать или ковать головные обручи-диадемы, шейные кольца, ручные и ножные браслеты, кольца для пальцев, цепи и цепочки; одежду или домашние вещи стали украшать круглыми бронзовыми щитками.
Однако основы прочих искусств – мы умалчиваем пока об орнаментике – при этом изменились отнюдь не тотчас. Дома и хижины в Северной и Средней Европе продолжали сооружаться на тех же началах, как и в каменную эпоху. Швейцарские свайные постройки все еще являются самыми показательными остатками человеческих жилищ бронзовой эпохи. Они теперь устраиваются дальше от берега, чем прежде, а мостки, соединяющие эти постройки с берегом, иногда достигают длины в тысячу футов. Селения становятся более обширны и иногда обращаются в цветущие, многолюдные местечки, расположенные над зеленой или голубой поверхностью воды. Свайные помосты и хижины строятся лучше: сваи всегда отесаны, плетение из прутьев иногда заменяется уже вертикально вколоченными бревнами. Мегалитический способ нагромождения друг на друга неотесанных исполинских камней при сооружении гробниц (см. рис. 10) мало-помалу исчезает, хотя некоторое время еще влачит свое существование в виде так называемых циклопических стен; в некоторых местах он пережил даже бронзовую эпоху и в отдельных случаях, даже на севере, достигал до известного идеального величия. Циклопическая стена созидается из громадных четырехугольных или многоугольных глыб, грани которых по возможности плотно прилаживаются друг к другу и не закрепляются цементом. Каменные столбы продолжают существовать на севере вплоть до исторического времени, но и многие из менгиров Франции и Британии доживают до бронзовой эпохи. Замечательно, что иные из них, с самого начала олицетворявшие собой богов, теперь снабжаются намеками на части человеческого тела. Всего любопытнее в этом отношении камни из Коллорга (в Гардском деп.), находящиеся в Родезском музее (рис. 16, а), – истуканы с ребячески вычеканенными, прилипшими к телу руками, изображающие женские божества каменной эпохи Шампани (см. рис. 13); замечательны также расставленные кругами менгиры Сардинии, которые, судя по обозначенным на них женским грудям, надо считать опытами олицетворения божеств в человеческом образе (рис. 16, б).
Рис. 16. Каменные столбы: а – коллоргский камень; б – сардинский менгир. По Картальяку
Но самым замечательным образцом мегалитических построек севера является знаменитый Стоунхендж, сохранившийся в величественных развалинах на обширной открытой пустынной возвышенности в Солсбери, Южная Англия (рис. 17). Столбы из песчаника, составляющие внешнюю окружность этого памятника, обыкновенно принимаемого за храм солнца, снабжены наверху выступами, которым соответствуют отверстия в покоящихся на них каменных поперечных балках. Столбы и трилиты (три камня, из которых один лежит на двух стоящих вертикально) внутренних овальных кругов состоят из ирландского гранита, который мог быть привезен сюда только морским путем. Все столбы отесаны с четырех сторон. Нельзя допустить, чтобы в каменную эпоху обитатели Англии уже достигли технических успехов, без которых немыслимо производство этой постройки, хотя обычно ее относят к каменному периоду: возвышаясь над могилами бронзовой эпохи, Стоунхендж принадлежит и сам этой эпохе.
Рис. 17. Стоунхендж близ Солсбери, в Южной Англии. По Ранке
Попытки монументального рисовального искусства, встречаемые на дольменах, менгирах или на естественных скалах в каменную эпоху (камни в виде чаш или камни для разрисовки с ямочками и другими знаками), в Скандинавии в бронзовую эпоху развиваются до первых ступеней богатой фигурами исторической стенной живописи или исторических рельефных изображений. По этой части заслуживают внимания скандинавские рисунки на скалах, обыкновенно обозначаемые их шведским названием Hflllristningar. Они встречаются кое-где на плитах могильных камер, но чаще всего на открытых, несколько наклонных, отнюдь не вертикальных, а иногда на почти горизонтальных поверхностях гладких гранитных глыб, в которые они, в противоположность контурным рисункам на позднейших рунических камнях, врезаны всей своей плоскостью. Большинство этих изображений, порой занимающих собой несколько метров в ширину и в высоту, находятся в шведских провинциях Богуслён, Эстерготланд и Шонен, а также в примыкающей к ним юго-восточной части Норвегии. Бальцер и Ридберг обнародовали их в большом, составленном ими сочинении. Часто встречающиеся чашеобразные углубления и непонятные символические начертания концентрических кругов, кругов с крестами, спиралей, колес и проч., которые могут быть рассматриваемы как начатки образных письмен, а также обычные изображения разного оружия и различной утвари, например мечей, топоров, щитов, воспроизводящие, очевидно, мир форм, присущих бронзовой эпохе, – все эти рисунки не имеют такого важного значения, как изображения людей, лошадей, быков, кораблей, повозок и плугов, наглядно представляющие нам жизнь героев давно минувших времен. Главную роль среди этих изображений играют корабли – отчасти большие многовесельные суда с многочисленными гребцами, суда, на вид достаточно крупные и крепкие для того, чтобы перевозить через море тяжести даже более значительные, чем упомянутые ирландские гранитные столбы, какие мы видим в Стоунхендже. Здесь мы также находим изображения гребцов, сидящих на скамьях судна, всадников со щитами и копьями в руках, земледельцев, идущих за плугами. Изображены также морские сражения, причаливание к берегу, схватки всадников и сцены на пастбищах. Нет недостатка и в сценах религиозных обрядов, которые, однако, мы не можем разъяснить. Рис. 18, а, представляет сцену на пастбище, рис. 18, б, – сражение всадников, изображены на одной скале в Тегнеби (в Богуслёне).
Рис. 18. Рисунки бронзовой эпохи на скалах Тегнеби, в Богуслёне. По Монтелиусу
Все эти изображения – не более как детский лепет на языке форм. О правильном отношении отдельных фигур и предметов друг к другу, о ясной в пространственном отношении цельности картины, об умелой обработке отдельных форм не может быть здесь и речи, но своего рода живость и наглядность способа изображения придают некоторым из этих картин своего рода художественную прелесть; к тому же в различных изображениях постоянно выказывается и разность воззрений на природу. В этом смысле любопытно сравнить одно с другим четыре судна, изображенные на скалах Богуслёна и воспроизведенные на рис. 19. В первом (а) и во втором (б) мы видим попытку придать едущим на судне мореплавателям человеческий образ; на третьем судне (в) люди представлены без членов, только с головками, наподобие кеглей; на четвертом (г) вместо людей мы находим ряд одинаковых тумбочек. Спрашивается: происходило ли развитие в этом или же в противоположном направлении? Бесформенные менгиры, как мы видели, мало-помалу приобретали отдельные части человеческого тела, и Гёрнес не раз указывал, что на доисторических серьгах человеческие формы произошли от геометрических фигур. Тем не менее в рассматриваемом случае, в котором первоначальной целью было подражание природе, кажется более вероятным, что на последнем изображении судна человеческие образы его экипажа превращены в геометрические фигуры.
Рис. 19. Рисунки бронзовой эпохи на скалах в Богуслёне, изображающие суда с их экипажем. По Монтелиусу
Рис. 20. Развитие цельт бронзовой эпохи
Бронзовые предметы, характеризующие всю рассматриваемую эпоху, приводилось находить отчасти в могилах и урнах для пепла, отчасти в остатках жилищ, особенно в остатках свайных построек, отчасти целыми грудами (кладами) в тех местах, в которых они были в свое время зарыты нарочно по какой-либо причине или случайно (Werkstattfunde, находки на месте изготовления). Все эти бронзовые предметы, извлеченные из земли по прошествии трех тысячелетий, в настоящее время наполняют собой доисторические коллекции разных стран и, несмотря на то, что их покрывает черновато-зеленая или синеватая ржавчина, еще гласят понятным для нас языком о вкусе и искусстве давно прошедших времен. Тысячелетие господства бронзы на севере Монтелиус разделяет на шесть следующих один за другим периодов, начинающихся приблизительно с 1650 г. до н. э. Софус Мюллер признает только четыре периода, приблизительно в 200 лет каждый, начинающиеся около 1150 г. до н. э. Здесь мы должны придерживаться основных черт общего хода развития.
Правда, вопрос, каким образом цельты (рис. 20) развились из плоских цельт (а) в цельты с придатками (Paalsaben, б) и в полые цельты в, вряд ли относится к истории искусства, так как тут все дело лишь в наиболее целесообразном прикреплении рукояток к этим изделиям. Но наш рисунок все-таки дает наглядное представление о подобных видоизменениях. Более художественным характером отличается развитие рукояток мечей. Плоские, языкообразные рукоятки древнейших мечей (рис. 21, а) и прорезные рукоятки мечей несколько более позднего происхождения (рис. 21, б) еще снабжались деревянным или костяным набалдашником; по украшению же целиком рукояток цветущей поры бронзового периода (рис. 21, в) можно проследить технику прежнего прикрепления подобных набалдашников. В антеннских мечах с рогообразными рукоятками (рис. 21, г) спирали как на севере, так и на юге бронзового царства являются совершенно самобытным мотивом рассматриваемой эпохи и притом в самой характерной форме. Изображенные мечи происходят из швейцарских свайных построек: первый из Тилле, второй из Оверни, третий из Мёрингена, четвертый из Корселетта; второй хранится в Невшательском музее, прочие находятся в коллекции Гросса, в Невевилле. Антеннские мечи, находимые на севере, даже скандинавскими учеными признаются за товар, привозимый с юга.
Рис. 21. Мечи бронзовой эпохи. По Гроссу
Еще интереснее в художественном отношении ход развития пряжек, или фибул, наделенных вследствие своей эластичности, так сказать, внутренней жизнью. В бронзовую эпоху эти пряжки совсем не встречаются в большинстве европейских стран, лишь редко попадаясь в самой простой форме в Микенах, швейцарских свайных постройках и Верхней Италии; но они достигают уже некоторой художественности в Венгрии, Северной Германии и Скандинавии. Простые фибулы, хранящиеся в Будапештском музее, представлены на рис. 22, а и б; тут же изображена роскошная венгерская фибула того же музея (рис. 22, в).
Рис. 22. Венгерские фибулы. По Ундсету и Гампелю
Обращая свое внимание прежде всего на художественные особенности искусства бронзовой эпохи, мы должны признать весьма важное значение за видоизменениями чисто декоративных форм – орнаментов. Орнамент в искусстве бронзовой эпохи продолжает быть в сущности геометрическим: с одной стороны, геометрические украшения бронзовых предметов представляются разработанными прямолинейными узорами каменной керамики (см. рис. 14), с другой, вследствие способности металлов гнуться, декоративные геометрические узоры составляются из кривых линий, которые лишь в отдельных случаях появлялись в конце позднейшей каменной эпохи. Орнаментация художественных изделий бронзовой эпохи изобилует кругами, полукругами, спиралями, простыми или пересекающимися по мере своего распространения волнообразными линиями ("бегущий пес" или "полоса водяных волн"). Карл фон ден Штейн говорил: "Проволочная техника монополизировала давно известную дометаллической эпохе спираль, как будто бы она была изобретением металлической эпохи". Однако наиболее выдающиеся из скандинавских исследователей доисторических времен, каковы Оскар Монтелиус и Софус Мюллер, согласны между собой и с учеными других стран в том, что спираль древнейшей скандинавской бронзовой эпохи произошла непосредственно от микенской спирали. При этом, конечно, кажется странным, отчего одновременно со спиралью не были заимствованы и прочие мотивы микенского искусства. Впрочем, относительно этого вопроса еще возможно сомнение; во всяком случае, своеобразные вариации и применения спирали в скандинавском искусстве позднейшей бронзовой эпохи – свободные изобретения этого искусства.
Рис. 23. Южношведский бронзовый щит с украшениями. По Монтелиусу
На рис. 23 изображен южношведский декорированный бронзовый щит, хранящийся в Стокгольмском музее; на рис. 24 – богемский щит со спиральными кружкбми и линейными орнаментами, находящийся в музее Чаславского общества; на рис. 25 – украшения на верхнебаварской нагрудной пластинке из толстого бронзового листа, найденной на Рингском озере (Мюнхенский доисторический музей).
Рис. 24. Богемский ручной щит. По Рихли
Переход орнаментики бронзовой эпохи от строгих форм круга, полукруга и спирали к более разнообразным извивающимся волнистым линиям, к линии в виде буквы S и к произвольно изогнутой спирали можно проследить особенно хорошо в скандинавском бронзовом искусстве. Например, шведский декорированный щит (см. рис. 23) изготовлен еще в строгом стиле бронзовой эпохи. Более свободный характер имеют украшения висячего сосуда из Вестготланда, Стокгольмский музей (рис. 26); особенно же фантастичны формы волнообразных перепутанных извивов линий на клинках многих скандинавских и северогерманских бронзовых ножей. Весьма любопытно, что в этих орнаментах, особенно на клинках ножей, часто повторяются те же самые изображения судов, какие мы видели на скалах (см. рис. 19); изображения эти принимают более или менее схематические формы, однако весьма понятные для посвященного. Например, на датском ноже судно явственно видно (рис. 27), Копенгагенский музей. Сюда примыкают также первые опыты скандинавской животной орнаментики. Криволинейные украшения снабжаются иногда с одной стороны изображениями более или менее легко различимых голов животных и превращаются как бы в драконов, змей, морских коньков и других зверей, как это видно, например, на крышке висячего сосуда (см. рис. 26) а еще лучше – на антеннском ноже из Голланда, хранившемся прежде в коллекции Гамильтона (рис. 28, а). Более определенные изображения животных в виде плоского орнамента, особенно ряда птиц на знаменитых щитах Стокгольмского и Копенгагенского музеев, и близкие к ним украшения в виде птиц на датских, северогерманских и венгерских сосудах, самими скандинавскими исследователями признаются украшениями южного происхождения, так как предметы, на которых они встречаются, уже не отлиты, а чеканены, и ставятся в связь с одновременной древнейшей железной культурой, а именно с гальштатской, с которой мы познакомимся впоследствии. На рукоятках же ножей пластические головы животных встречаются еще в древнейшем скандинавском бронзовом периоде, причем особенно часты лошадиные головы, как, например, на бронзовом ноже из Эланда (рис. 28, в), Стокгольмский музей, и на ноже из Гольштейна (рис. 28, б), Кильский музей.
Рис. 25. Украшения на верхнебаварской нагрудной пластинке из листовой бронзы. По Ноаку
Рис. 26. Вестготландский висячий сосуд. По Монтелиусу
Рис. 27. Датский нож, украшенный изображением корабля. По Монтелиусу
На рукоятках скандинавских ножей мы находим также лучшие изображения человеческих фигур из всех, какие только встречаются в бронзовой эпохе. Следует прежде всего упомянуть об известной рукоятке ножа, найденного близ Итцегое, в Гольштейне, и хранящегося в копенгагенской коллекции (рис. 28, г). Она представляет полуобнаженную, но богато украшенную женщину, стоящую прямо, совершенно en face и держащую обеими руками перед собой сосуд. В ушах у нее – огромные серьги в виде колец. Лицо – плоское, тело – худое, но пропорции его довольно верны. Почти та же самая голова, но только одна голова, украшает собой рукоятку бронзового ножа из Скандерборга, из той же коллекции; в таком же роде нож из Дитмаршена (рис. 28, д), частная собственность. Что эти рукоятки, к которым можно причислить еще несколько бронз, имеющих человеческую форму, суть изделия севера, доказывают, как заметил еще Форрер, украшающие их клинки, чисто северные изображения кораблей или драконов, свойственные бронзовой эпохе. Ундсет также видит лишь "некоторую связь между этими начертаниями и человеческими фигурами, встречающимися в более южной и более ранней группе железной культуры"; и мы, со своей стороны, не отрицаем, что в них отразилось до известной степени южное влияние. Но из современного с ними мало найдется в Европе такого, что выказывало бы подобное понимание форм и внимательность исполнения, какие замечаем в них.
Художественное гончарное производство в бронзовую эпоху в Северной и Средней Европе едва ли сделало шаг вперед. Тонкие, прямолинейные, по-видимому, пунктированные узоры новейшей каменной эпохи мало-помалу исчезают, уступая свое место более грубым, более пластическим, хотя, быть может, порой более эффективным декоративным мотивам.
Рис. 28. Ножи бронзовой эпохи. По Монтелиусу и Месторфу
Чаще являются, с одной стороны, выпуклости и бородавки, с другой – более глубоко врезанные желобки и выемки.
Здесь мы можем указать только на два самобытных рода художественных гончарных произведений: на урны в виде жилищ и лицевидные урны. Правда, оба рода сосудов переживают бронзовую эпоху, и развитие собственно лицевидных урн, по крайней мере на севере, происходит в железную эпоху; однако предшественники этих сосудов, как мы видели, принадлежат скандинавской каменной эпохе. То, что появление урн в виде жилищ относится к бронзовому веку, доказано Лишем и подтверждено Лиссауером.
Идея, лежащая в основании урн для пепла, имеющих форму жилищ, без сомнения, могла развиваться только в позднейшую бронзовую эпоху, когда вошло в обычай сжигать тела умерших. Останкам любимого человека желательно было устроить привлекательный приют, представляющий собой копию его земного жилища; для истории искусства эти урны в виде жилищ имеют важное значение, именно как подобия домов и хижин весьма отдаленной эпохи, тем более что такие урны отнюдь не были достоянием вообще всех доисторических народов, а употреблялись лишь в определенных областях, главным образом в Северной Германии и Средней Италии. Поэтому нельзя считать убедительным мнение некоторых, что урны в виде домов заимствованы из Средней Азии. Историю развития жилого дома, с которой мы уже познакомились при помощи Монтелиуса в предыдущей главе, можно проследить по немецким урнам, имеющим форму жилищ. Самые простые урны представляют собой подобие хижины с высокой конусообразной кровлей и с высоко расположенной входной дверью, до которой, как снаружи, так и изнутри, можно добраться только по лестнице, причем дверь запирается бревном в виде засова; например, урна Поллебена, провинциальный музей в Галле (рис. 29, а), и урны Унсебурга и Седдина, Берлинский музей народоведения; круглая хижина с куполообразной крышей, нечто вроде палатки, с входной дверью, помещенной уже внизу; подражанием такому дому представляется урна Кикиндемарка, Шверинский музей (рис. 29, б); четырехугольная хижина с высокой, покатой, но еще не имеющей гребня соломенной крышей, возвышающейся над выступом карниза, как это мы видим в знаменитой урне Ашерслебена, Берлинский музей (рис. 29, в), и продолговатый крестьянский дом с покатой крышей, кровельными стропилами, гребнем и карнизом, воспроизведенный в дессауской урне профессора Бюттнера (рис. 30, а). Итальянские урны в виде домов, найденные сначала в Альбанских горах, потом в Этрурии, особенно в Корнето и Ветулонии, принадлежат более высокой ступени культуры, так как воспроизводят постройки уже с фронтоном; сравните с предыдущими албанскую урну, хранящуюся в Берлинском музее (рис. 30, б).
Рис. 29. Урны в виде домов первой бронзовой эпохи. По Лиссауеру и Лишу
Рис. 30. Урны в виде домов второй бронзовой эпохи. По Бекеру и Лишу
Рис. 31. Лицевидные урны бронзовой эпохи. По Шлиману (а, б) и Берендту (в, г)
Лицевидные урны изготовлялись с целью придать глиняным сосудам человеческий облик: делались попытки разрисовывать весь сосуд в подражание членам человеческого тела; изображалось лицо на верхней части сосуда, особенно на горлышке; иногда наиболее выпуклая часть сосуда получала вид целой головы. Так как подобные урны часто встречаются вместе с сосудами для хранения пепла умерших, что можно сказать, например, относительно северогерманских лицевидных урн, то при их изготовлении старались до известной степени придать им нечто человеческое, то есть создать усопшему памятник, напоминающий человеческую форму. Но лицевидные урны отнюдь не всегда нужно считать погребальными урнами; так, урны, вырытые Шлиманом из низших доисторических слоев Трои, – ничуть не погребальные, и их происхождение не нуждается в ином объяснении, кроме выводимого из того факта, что обыкновенные конфигурации глиняных сосудов сами собой наводили на мысль о формах человеческого тела. Ведь даже не думая о лицевидных урнах, мы говорим о горлышке, ножке, ручках сосудов. Поэтому нет надобности предполагать, чтобы в ходе развития производства лицевидных урн существовала какая-либо связь между различными местностями и разными временами; области, где они встречаются в доисторическую эпоху, – Передняя Азия, главным образом Троя, Италия (особенно Средняя) и Северо-Восточная Германия (преимущественно область Поммереллен, лежащая к западу от Вислы). О троянских лицевидных урнах писал Шлиман, об итальянских – Ундсет, о поммерелленских – Берендт. Как на характерный образец троянских лицевидных урн бронзовой эпохи можно указать на сосуд, найденный Шлиманом, хранящийся в Берлинском музее народоведения (рис. 31, а). Крышка его представляет собой головной убор. Лицо расположено на горлышке и также лишено рта и бедно чертами, как изображения женских лиц, относящиеся к каменной эпохе и найденные в пещерах Шампани. На более поздней троянской урне (рис. 31, б) уши, нос и брови обозначены более определенно; она также находится в Берлине.
Рис. 32. Дарслубская урна. По Конвентцу
К той же ступени, несмотря на некоторые местные отклонения, принадлежит большинство поммерелленских лицевидных урн, как, например, "императорская урна" (Kaiserurne) в областном провинциальном музее, в Берлине (рис. 31, г). Своеобразны настоящие бронзовые или железные кольца или подражания им, повешенные в ушах, носу, иногда на шее поммерелленских лицевидных урн; своеобразны также тонко, едва заметно нацарапанные изображения зверей, людей, повозок, всадников, встречающиеся на многих из этих урн. Характерные рисунки такого рода мы видим, например, на дарслубской урне (рис. 32), музей в Торне, Польша, которую, впрочем, нельзя назвать лицевидной. На поммерелленских лицевидных урнах, особенно многочисленных в Данцигском провинциальном музее, а также на близких к ним познанских, шлезвигских, седмиградских сосудах обыкновенно все части лица бывают обозначены. На сосудах, отделанных получше, как, например, на гнезенской урне (рис. 31, в), хранящейся в Познанском музее, ясно обозначен даже рот.
Считаем неуместным говорить здесь о египетских, сирийско-финикийских, этрусских, римско-рейнских и американских лицевидных урнах; с некоторыми из них, быть может, мы познакомимся впоследствии. Но заметим теперь же, что некоторые явления, привлекающие к себе наше внимание на начальных ступенях культуры, на высших ее ступенях отступают на задний план перед явлениями более важными.
Представляя себе, в заключение этого отдела, общую картину искусства каменных и бронзовой эпох, мы должны будем признать, что народы, и прежде всего народы европейские, в течение бесконечно долгого доисторического периода действительно добрались до начальных ступеней во всех художествах, священный огонь которых должен был согреть их впоследствии; но нам приходится утверждать, что первоначальная история искусства – главным образом история первобытной орнаментики.
Рис. 33. Аммонит. По Неймайру
Если мы снова зададим себе вопрос о происхождении всей орнаментики, с которой уже познакомились, то должны будем ответить, что выводить все украшения из одного источника было бы неправильно; мы видели, что они произошли отчасти от подражания природе, отчасти явились благодаря усовершенствованию техники, отчасти возникли вследствие символических представлений. Украсив самого себя, человек чувствует потребность украшать также свое оружие и утварь. Он не думает, откуда ведут свое начало украшения. Он смотрит и подражает тому, что ему нравится и кажется подходящим.
Рис. 34. Эхинит. По Неймайру
Первым источником всякого рода украшений мы считаем подражание природе. Нечего доказывать, что вся орнаментика, почерпнутая из животного мира, в особенности грандиозная орнаментика дилувиальной эпохи, имеет в основе подражание природе. Сама постановка вопроса о происхождении орнаментики касается преимущественно геометрических украшений, которые часто и, по нашему мнению, неправильно производятся исключительно от известных технических мотивов. Нельзя сказать, чтобы природа не давала никаких правильных геометрических образцов для подражания. Мы уже указывали на кристаллические образования в неорганической природе, между прочим на изумительные по своей правильности снежинки. Следует еще раз упомянуть об окаменелых низших породах животных, и тем настойчивее, что, если судить по многочисленным находкам, люди в рассматриваемые отдаленные времена вполне понимали декоративную ценность этих аммонитов (рис. 33), эхинитов (рис. 34) и даже белемнитов (рис. 35). Аммониты, просверленные для нанизывания, часто встречаются не только у обитателей дилувиальных пещер, но и в швейцарских свайных постройках; Клопфлейш утверждал, что он находил эхиниты в могилах каменного века как ценные приношения умершим. Одного взгляда на эти продукты природы достаточно, чтобы убедиться в том, что они могли служить образцами для орнаментики. На эхинитах мы видим красивые узоры, состоящие из кругов с круглыми пуговками в середине и из разнообразно расположенных линий; столь часто встречающиеся аммониты являются прототипами всяких спиралей; белемниты служат образцами заостренных круглых палочек.
Рис. 36. Узор на спине гадюки. С натуры
Рис. 35. Белемнит. По Неймайру
Но и мир неисчезнувших животных, которые столь близко наблюдали древние первобытные народы, изобилует всевозможными геометрическими образцами подобного рода. Не выходя за пределы североевропейского и среднеевропейского мира животных, укажем на узор, украшающий спину гадюки (рис. 36), и узор из зигзагообразной полосы, изображенный на орнаментированном бруске из Монгодье (см. рис. 7, е). Взгляните на круги, полукруги, параллельные линии на крыльях северной бабочки-махаона (рис. 37) или на концентрические круги и зигзагообразные линии на крыльях бабочки-мегеры (рис. 38); приглядитесь также к движениям змеи в траве и сравните их с извивами ручья, текущего среди полей, – и вам излишне будет спрашивать, откуда человек почерпнул такие формы, как зигзагообразные и волнообразные линии, как круги и спирали, с которыми нам пришлось встретиться еще в дилувиальном искусстве. Это указание, сделанное еще раньше появления большого сочинения Геккеля "Красота форм в природе", мы не намерены распространять перечислением более богатых и сложных, но более отдаленных форм, так как доказательным в настоящем случае может быть для нас только близкое к нам и общедоступное.
Мир растений также в изобилии представляет симметрические и правильно геометрические расположения линий. Примером такого расположения может служить чашечка любого цветка, каждый сложный лист, каждый хвощ. Вспомним уже упомянутый нами орнамент в виде еловой ветки или папоротника, который сравнивали также с рыбьими костями и птичьими перьями. Вспомним также те тростниковые стебли, треугольным разрезом которых выдавливались треугольники на мягкой глине сосудов, вспомним круглые и расщепленные ветки, отпечатки которых давали правильные фигуры. В Розгартенском музее, в Констанце, есть горшок, целиком покрытый отпечатками или подражаниями правильно перистого моха. Мы стоим здесь уже на рубеже орнаментов, развившихся благодаря технике.
Если при плетении и тканье из пересекающихся между собой волокон, прутьев или нитей образуются естественные образцы узоров, если отпечатки человеческих пальцев и ногтей на глине уже производят украшения, если спиральные линии, представляемые аммонитами и схожие с закрученной металлической проволокой, играют роль украшения, то во всех этих примерах мы видим настоящие технические основы орнаментики. Перенесение некоторых естественных форм в технику как форм декоративных происходило в раннюю пору. Это можно сказать, между прочим, о подражании ремню, вырезанному на одном гарпуне дилувиальной эпохи, конец которого как бы обвит узкой полосой (см. рис. 7, о); сюда же относятся отпечатки шнуров и подражания обвивающим сосуд лентам на гончарных изделиях позднейшей каменной эпохи (см. рис. 14); из украшений бронзовых рукояток мечей несколько более позднего времени сюда же относится подражание металлическим полосам и головкам гвоздей, посредством которых в более раннюю пору прикреплялись деревянная, роговая или костяная отделка плоских языкообразных рукояток мечей (см. рис. 21). Можно также допустить, что узоры, составленные из пересекающихся линий, впрочем лишь редко встречающиеся в рассматриваемую эпоху, во многих случаях происходят от плетения и ткания. Но несомненно, как справедливо указывает на то А. Ригль, ученые зашли слишком далеко, усматривая ткацкие мотивы в орнаментах самой разнообразной техники. Трудно допустить, чтобы мысль опутывать глиняные сосуды для красоты линейными узорами была внушена единственно корзинами, которые старше горшков, или же сплетенными из ситника или травы висячими сетками, в которых горшки помещались при своем обжигании над открытым огнем, потому что именно глиняные сосуды блестящей поры каменного периода, как указал Клопфлейш, не имеют такого рода украшений на своих наиболее выпуклых частях.
Рис. 38. Мегера. По Брему
Рис. 37. Махаон. С натуры
Символические украшения постольку не занимают особого положения, поскольку их внешние формы, как и формы всякой орнаментики, зависят от внешних впечатлений.
Если вообще допустить, что элементы геометрических украшений – треугольники, четырехугольники, круги, волнообразные, зигзагообразные и спиральные линии – не существовали с самого начала в представлении доисторического человека как отвлеченные математические формы, а были внесены в его воображение извне, то все-таки допущение это не исключает того, что геометрические украшения, однажды развившись, очень скоро стали повторяться и разрабатываться именно как геометрические формы и на той ступени искусства, которая ими пользовалась, превратились на самом деле в чисто геометрическую игру линий.
II. Искусство первобытных и полукультурных народов
1. Искусство первобытных народов, находящихся на ступени охоты и рыболовства
При исследовании начальной поры искусства тысячелетие может быть рассматриваемо как один день. Современные дикие народы – прямые наследники некогда существовавших доисторических народов. Народоведение высветило некоторые темные стороны доисторической эпохи. Народоведение и изучение доисторического периода разъясняют и дополняют друг друга. Для истории развития искусства изучение доисторического искусства культурных народов, впоследствии достигших совершенства, бывает нередко поучительнее, чем наблюдение художественного творчества диких племен, положение которых – спустились ли они с более высокой ступени или остановились на известной точке – всегда отличается или отсутствием, или, по крайней мере, скудостью развития. Но творчество диких народов дает нам возможность понять многие стороны первоначальной художественной деятельности, которые в доисторическом искусстве навсегда погружены во мрак. Если, например, относительно доисторических народов мы можем только предполагать, что у них наряду с каменными и бронзовыми произведениями искусства существовала богатая резьба по дереву, то увидим наглядное подтверждение этого в деревянных изделиях дикарей; если остатки красных красящих веществ, найденные при раскопке дилувиальных древностей Бретани, позволяют нам догадываться, что доисторические народы употребляли краску для украшения самих себя, то обычай дикарей иллюминировать собственное тело представляется очевидным подтверждением того, что эта традиция – одно из главных проявлений искусства в начальную его пору.
Искусство всех дикарей начинается с украшения собственного тела. Подобно Юсту (Joest), мы отличаем раскрашивание тела и его разрисовку при помощи рубцов от татуировки. При раскрашивании тела на его поверхность наводится краска, которую можно смыть и заменить другой, причем тело покрывается то одним каким-либо цветом, то пестрым узором. Разрисовка при помощи рубцов производится царапаньем на коже каменным ножом или обломком раковины. Повторенные на различных местах тела и притом в виде определенных узоров пластически выступающие бледные рубцы сами по себе образуют украшение. Татуировка состоит из нацарапанных и наколотых рисунков, которые по введении в них просвечивающего сквозь кожу красящего вещества остаются на теле навсегда, не исчезая после того, как воспаленное место заживает. Этим веществом обыкновенно служит порошок древесного угля: просвечивая сквозь кожу, он придает рисунку синий цвет.
Между доисторическим и этнографическим искусством можно до известной степени провести параллель. Искусству дилувиальной каменной эпохи соответствует искусство на той ступени жизни диких племен, когда они являются охотниками, рыболовами, собирателями растений, особенно искусство австралийцев, бушменов и северных полярных народов. Искусство новейшей каменной эпохи продолжает существовать у племен, занимающихся немного земледелием и скотоводством и еще теперь, собственно говоря, принадлежащих каменной эпохе; в данном случае, параллель тем очевиднее, что, как доказывает Ратцель, существует этнологическая и антропологическая связь между этими племенами, а именно между жителями островов Тихого океана, с одной стороны, и американскими индейцами – с другой. С искусством доисторической бронзовой эпохи можно сопоставить искусство дикарей, знакомых с металлами, но употребляющих преимущественно железо, а не бронзу; здесь следует иметь в виду главным образом негров и малайцев, поскольку чуждые им более высокие цивилизации не берут перевеса над их культурой, подобно культуре доисторического гальштатского периода, вторгавшегося не раз в культуру бронзовой эпохи. Разумеется, мы ведем речь не о нынешнем быте первобытных народов, а о том их состоянии, в каком они находились при первом соприкосновении с ними европейцев.
Не перешедшие за ступень охотничества и рыболовства дикари, жившие на крайних северных и южных пределах обитаемых стран земного шара, своим искусством напоминают дилувиальных охотников на мамонта и северного оленя потому, что незнакомы с добыванием и обработкой металлов, с ткацким и гончарным делом, с земледелием и скотоводством; затем, сходство между этими народами, как впервые указал на то Андрее, состоит в том, что, несмотря на всю свою некультурность, они проявляют поразительную способность к рисованию. Одни и те же причины имеют как тут, так и там одни и те же последствия. Глаз, изощрившийся в наблюдении животного мира, и рука охотника, привыкшая попадать в зверя, порождают на ступени начатков всякой культуры верное природе искусство рисования животных. Вообще, несмотря на все сходство проявлений искусства на этой ступени, мы уже здесь видим различия, определяемые климатическими, географическими и этнографическими условиями и упускаемые из виду новейшими воззрениями, но значения которых нельзя не признавать.
Рис. 39. Австралийское, сделанное из раковины, украшение с орнаментом в виде лабиринта. С фотографии
Темнокожие австралийцы украшают себя не татуировкой, а рисунками из рубцов, выступающими на темном фоне в виде светлых полосок. Как тело, так и свою утварь они окрашивают белой глиной, черным древесным углем и желтой охрой. Белые полосы считаются везде праздничной одеждой, белая же окраска, иногда лишенная всяких рисунков, служит выражением печали; красной окраской большинство австралийцев украшает себя, идя на войну, но также наделяет ею своих покойников, отправляющихся в загробный мир.
О зодчестве австралийцев мы говорить не можем. Многим из них жилищами служат еще пещеры и ямы в земле. Другие для защиты себя от ветра и непогоды втыкают в землю несколько древесных ветвей или довольствуются плоскими, напоминающими собой ниши хижинами, смастеренными из хвороста, или же навесами без стен, разводя перед ними огонь.
Большего внимания заслуживает австралийское декоративное искусство: те намалеванные или вырезанные линейные украшения, которыми австралийцы снабжают свое деревянное оружие и утварь. Желобки, образуемые врезанными линиями, заполняются иногда красной или белой, реже черной краской. Часто, но не всегда, следует отличать от этих декоративных узоров знаки, указывающие на принадлежность вещи известному лицу или роду. Переход от языка знаков на жезлах гонцов к орнаменту также не всегда бывает понятен. Круги и части кругов, соединенные на австралийских волшебных брусках продольными и поперечными полосами, как мы имеем полное право подозревать, заключают в себе более глубокий смысл, чем кажется с первого взгляда; то же самое можно сказать и о нацарапанных угловатых лабиринтах линий на австралийских раковинах, употребляемых для прикрытия наготы, какие можно видеть, например, в Дрезденском этнографическом музее (рис. 39). Не подлежит также сомнению, что геометрические узоры, встречающиеся на многих австралийских щитах, метательных досках (воммерах), дубинах для нанесения ударов и для метания (бумерангах), а также на корзинах и циновках, это только украшения. Простые или ритмически размещенные и врезанные параллельные линии, зигзагообразные линии, волнообразные или дугообразные линии, а также узоры, состоящие из наколотых точек и образующие поверхности, похожие на поле шахматной доски, вполне могут быть такого же происхождения, как подобного рода формы доисторической орнаментики, которые мы пытались объяснить выше. Особенность австралийской орнаментики составляет заполнение многих полей параллельной штриховкой, а четырехугольных полей – параллельными четырехугольниками, уменьшающимися в величине по мере приближения к середине поля.
Рис. 40. Австралийский щит. По Гроссе
Некоторые, на первый взгляд, странные, декоративные мотивы австралийской орнаментики, по-видимому отличающиеся свободной, фантастической игрой неправильно извивающихся полос, пятен и геометрических фигур, должны быть рассматриваемы как порожденные наблюдением природы, которое, как мы видели, лежит в основании многих простых линейных узоров. Упомянутые австралийские узоры встречаются чаще всего в раскрашенном виде на внешней стороне щитов Квинсленда: на белом фоне различной формы частью красные, частью желтые пространства, окаймленные черными полосками. На щите, находящемся в Берлинском музее народоведения (рис. 40), мы видим белый фон, на нем красным цветом даны средний рисунок и кресты, прочие же поля – желтые с черной каймой. Подобные щиты, общая окраска которых представляет собой характерно австралийскую гамму цветов и производит великолепное гармоничное впечатление, имеются также в этнографических музеях Мюнхена и Дрездена. Эрнст Гроссе объясняет, что они представляют собой подражание узорчатой коже змей, и если принять во внимание только общее впечатление, то это объяснение покажется тем более вероятным, что австралийская змея Morelia argus fasciolata (рис. 41) покрыта желтыми и бурыми пятнами одинаково строго повторяющейся неправильной формы, обведенными черной каймой на более светлом фоне.
Рис. 41. Кусок шкуры австралийской змеи Morelia argus fasciolata. С натуры
Наряду с линейной и пространственной орнаментикой австралийское искусство прибегает для украшений оружия и утвари к изображению животных и людей. Этот род орнаментики, лишенный стиля, произошел, по-видимому, от употребления символического языка; некоторые племена считают многих животных священными. Это их кобонги (тотемы), их геральдические животные, как назвали бы мы их теперь; поэтому они очень часто бывают нацарапаны на щитах или на наступательном оружии племени, причем окружаются линейными контурами. Человеческие фигуры встречаются в подобном же значении. Но кто в состоянии объяснить, какой смысл имеют, например, грубые фигуры на религиозных метательных брусках, хранящихся в Берлинском музее народоведения, или на метательных досках Дрезденского этнографического музея?
Рис. 42. Австралийский рисунок на стене пещеры. По Грею
Своеобразнее всех этих украшений – сохранившиеся в Австралии начальные опыты монументальной стенной живописи. На стенах пещер и на прибрежных скалах северо-западной, северной и восточной частей этой страны встречаются окрашенные и нацарапанные рисунки, изображающие сцены из жизни людей и животных, отчасти древние, отчасти новейшие. Прежде всего укажем на открытые Греем в конце 1830-х гг. изображения на стенах и потолке трех пещер на Верхнем Гленельге, в Северо-Западной Австралии; это – изображение главным образом людей и кенгуру, намалеванные красной, желтой, черной и отчасти синей красками на белом фоне (рис. 42, 43). Венец лучей вокруг головы человеческой фигуры – очевидно, не более чем головной убор из перьев. Лицо, лишенное рта, напоминает изображения доисторической эпохи (см. рис. 13, 16 и 31). Затем можно указать на многочисленные изображения животных и людей, найденные Стокс в 1840-х гг. на прибрежных скалах острова Депуша, в Северо-Западной Австралии. Эти рисунки внутри своих контуров углублены в красноватый верхний слой камня, причем зеленоватое ядро последнего обнажилось. Некоторые животные, например кенгуру, рыбы с их потомством, водяные птицы, крабы, жуки, изображены сравнительно верно (см. рис. 43), тогда как люди и сцены в лицах менее понятны и ясны. Сюда же относятся описанные в 1879 г. Никольсоном углубленные в утесы на целые дюймы контурные рисунки подобного содержания.
Рис. 43. Кенгуру. Австралийский рисунок на камне. По Стокс
Они найдены в окрестностях Сиднея, на юго-восточном берегу Австралии, некоторые из них существуют, очевидно, не одно столетие. Наконец, к ним принадлежат обнародованные Спенсером и Джилленом рисунки центральных австралийцев, обладавших только каменными ножами и каменными топорами; это написанные на скалах, слегка стилизованные животные, обнаруживающие наклонность превратиться в геометрические фигуры, священные знаки тотемов, которые могут быть приняты за изображения естественных предметов, а также геометрические фигуры, среди которых часто встречаются концентрические круги; все это нарисовано с детской неумелостью и иллюминовано белой, красной, желтой и черной красками.
Первыми ступенями австралийской станковой живописи можно считать рисунки сажей на древесной коре, которые туземцы доводят до замечательного совершенства. Смит (Brough Smyth) издал несколько превосходных изображений такого рода. Разумеется, в этих изображениях, нередко богатых содержанием, заимствованным из жизни дикарей и их сношений с белыми, перспектива совершенно отсутствует точно так же, как и распределение света и теней. Но детали обычно подмечены точно и переданы живо, хотя пальцы на руках или на ногах иногда просчитаны неверно. Где начинается европейское влияние на многие из этих изображений, сказать трудно, но вообще они доказывают, что австралийские туземцы обладают большой прирожденной способностью правдоподобно и смело изображать на плоскости наблюдаемые предметы, особенно местных животных. Животные бывают представлены обычно в профиль, люди – en face. Но это младенческое искусство еще не подчинено никаким правилам, которые были бы созданы самими дикарями: каждый рисовальщик руководствуется собственным вдохновением.
Рис. 44. Бушменский рисунок в пещере близ Гермона. По Андрее
Южноафриканские бушмены, "несчастные дети настоящего времени", как назвал их Фритш, несмотря на более светлый цвет кожи, ни в каком отношении не стоят на более высокой ступени, чем австралийцы, но отличаются от них как цветом тела, так и некоторыми другими особенностями. Национальное оружие этого "самого решительного, одностороннего и ловкого охотничьего племени из всех, нам известных" (Ратцель), – лук и стрелы, отсутствующие у австралийцев. Украшения, среди которых свою роль играют уже цветные стеклянные бусы, а также железные наконечники стрел, бушмены получают от темнокожих соседей, достигших более высокой ступени развития. Вместо рисунков-рубцов, которые не выделялись бы на их светлой коже, они употребляют настоящую татуировку, но проводят при этом лишь ничтожные штрихи и полосы, никогда не образующие настоящих узоров. Постройка хижин дается бушменам еще труднее, чем австралийцам; живут они обычно в пещерах и под навесами скал, в горах, об их геометрических изображениях не приходится говорить, так как декоративное искусство вообще едва ли существует у них. Но при всем том именно у бушменов мы видим самые поразительные примеры изображения животных, какие вообще находим у доисторических и первобытных народов. Их рисунки и живопись на скалах превосходят австралийские размерами, разнообразием и мастерством. "Ни одно племя Южной Африки, вплоть до внутренних частей Центральной Африки, – говорил Голуб, – не дошло до такого искусства обрабатывать камень, какое выказали бушмены. Бушмен разгонял свою скуку резьбой на камне, производя ее при помощи каменных орудий; пользуясь этими же орудиями, он украшал свои крайне незатейливые жилища, доказал свои художественные способности и создал себе памятники, которые просуществуют дольше всего того, что сделали прочие здешние племена". В некоторых местах, где теперь живут или где прежде жили бушмены, на каждом шагу встречаются сделанные ими изображения на глыбах придорожных скал, при входах в пещеры, на крутых стенах утесов, и такие украшенные изображениями пункты простираются приблизительно от мыса Доброй Надежды через всю Капскую колонию далеко за Оранжевую реку. Как и в Австралии, эти изображения иллюминованы красной и желтоватой охровой красками, к которым присоединяются черный и белый цвета; рисунки исполнены на светлом фоне скалы или же выдолблены в контурах на темном утесе более твердым, чем они, камнем. Чаще всего встречаются одиночные фигуры африканских животных, например страусов, слонов, жирафов, носорогов и разных видов антилоп, а также домашних быков и в новейшее время – лошадей и собак. Изображаются также люди, причем фигуры бушменов, кафров и белокожих сохраняют свои характерные черты. Изображения животных встречаются целыми тысячами одно возле другого. Одно и то же животное художник, как бы ради упражнения, воспроизводит несчетное множество раз, причем изображения располагаются рядами; порой, когда дело идет о сценах охоты, борьбы, военных походов и экспедиций за добычей, люди и животные смешиваются на одном и том же рисунке. Наиболее известно обнародованное Андрее изображение, которое скопировал французский миссионер Дитерлен в одной пещере, находящейся в двух километрах от миссионерской станции Гермона (рис. 44): бушмены похитили у кафров их стада быков; стадо угоняют налево, кафры, вооруженные копьями и щитами, бросаются вслед за разбойниками, которые оборачиваются и осыпают свои длинноногих врагов тучей стрел. Как ясно выражена здесь разница между высокорослыми темнокожими кафрами и приземистыми светлокожими бушменами! Как хорошо и верно нарисован бегущий скот! Как прекрасно и живо представлено все происшествие! Но перспективного удаления и распределения света и теней тут столь же мало, как и в рисунках австралийцев. Относительно всех прочих изображений подобного рода, скопированных или привезенных в Европу, мы должны сказать, что сообщения Гутчинсона и Бюттнера о существовании у бушменов перспективных изображений основываются на недоразумении. Отдельные животные, начертанные в виде силуэтов, представляются совсем в профиль (рис. 45). Чтобы убедиться в этом, достаточно тех рисунков, которые, благодаря Голубу, поступили в Венский придворный музей и коллекцию Карлсруе.
Рис. 45. Бушменский рисунок. По Фритшу
Если мы перенесемся из южной части обитаемой земли в более холодные страны, то и в них встретим подобные художественные попытки, хотя и отличающиеся местными и этнографическими особенностями, но выражающие столь же низкую ступень культуры. В Северной Америке область обычаев и искусства эскимосов простирается от Гренландии до Берингова пролива. К этой области с северо-востока примыкает область чукчей, которые, хотя и содержат стада полудиких северных оленей, однако не могут быть отделены от эскимосов, как народ, имеющий свое оригинальное искусство. Норденшильд, лучше других познакомившийся с чукчами, ставит их даже ступенью ниже, чем эскимосов.
Ко всем этим арктическим народам в новейшее время было привезено железо и медь; сами же они, как и раньше, обрабатывают только шкуры, камни, кости, рога северных оленей и моржовые клыки. Ганс Гильдебранд вполне справедливо говорит о них: "Народ, не знающий искусства обработки металлов, все еще находится в положении человека каменной эпохи, хотя и обладает тем или другим металлическим предметом".
Суровый климат, в котором живут эти народы, заставил их превзойти австралийцев и бушменов в умении изготовлять одежду и устраивать жилища. Правда, одежда северных народов состоит исключительно из звериных шкур, но из этих последних они все-таки искусно делают юбки, куртки и штаны. Правда, летние жилища этих народов обыкновенно представляют собой палатки, сделанные из шкур, держащихся на подпорках из плавучего леса и китовых ребер; но на продолжительную зиму большинство эскимосов строит себе куполообразные хижины из снега, состоящие из круглого или овального главного помещения и нескольких окружающих его комнат. Центральные эскимосы на северо-востоке Америки, как сообщает Боас, строят из снега даже обширные хижины, расчлененные на несколько помещений и покрытые куполами, и получают таким образом общественные дома, в которых собираются для совместного пения и игр.
Рис. 46. Коромысло эскимосского сверла с изображением звериных шкур. По Бастиану
Полярные народы, вынужденные закутываться, не особенно заботятся о своем телесном украшении; тем не менее женщины Северной Америки иногда татуируют отдельные части своего тела простыми узорами, состоящими из ритмически и симметрически расположенных точек и штрихов. Но жители севера отнюдь не чужды стремления подходящим и оригинальным образом украшать свои меховые одежды и особенно усердно украшают всякую утварь, изготовляемую из кости допотопных мамонтовых клыков, рогов северного оленя и моржовых клыков. Луки, коромысла буравов, ручки ящиков и ведер, курительные табачные трубки и т. п. предметы у эскимосов, живущих в Северо-Западной Америке (у гренландских эскимосов этого не наблюдается), бывают густо усеяны нацарапанными орнаментами, заполненными черной, реже красной краской и на конце снабжены резными головками животных или подобного рода украшениями. Геометрические линейные узоры встречаются сравнительно редко и не идут, как уже заметил Гроссе, далее простейших мотивов ленты, шва, рубца; между тем как часто изображаемые отдельные и концентрические кружки являются подражанием отчасти бусам, нанизанным на шнурок, отчасти изображениям луны и солнца. Попадаются также концентрические круги, соединенные касательными и производящие впечатление спиралей. Но преобладающие мотивы орнаментики полярных народов опять-таки заимствованы из природы и жизни, особенно из мира северных животных. От простых орнаментальных рядов натянутых кож животных, пасущихся оленей, показывающихся из воды моржей, плывущих одна за другой рыб и ритмических рядов разных подобных животных, к которым иногда присоединяется декоративный ряд, попеременно состоящий из летних палаток и людей, – эта орнаментика переходит к рисункам, похожим на фигурное письмо, прежде всего к картинным повествованиям о жизни северо-западных эскимосов и чукчей. На такого рода картинах представляются шествия на охоту и рыбную ловлю, странствования и домашние работы, торжества и споры. Замечательны ясность и живость, с какими умеют вести свой рассказ эти дети природы, изображающие человеческую голову только в виде черного кружка. Эти наглядные рассказы из жизни, на которые должно смотреть как на передачу истории, нередко бывают очень сложны и, как указано Вальтером Джемсом Гофманом, повторяясь одно возле другого и внешне видоизменяясь, постепенно превращаются в декоративные полосы; вероятно, первоначальное их развитие вообще происходило именно этим путем. Язык человеческих жестов, изображенных графически, тотчас же становится изобразительным письмом, а события, представленные схематически, тотчас же превращаются в украшение. К числу предметов, украшенных простым рядом декоративных мотивов, принадлежат коромысло сверла с повторяющимся рисунком шкуры животного, хранящееся в Берлинском музее народоведения, и эскимосская головная повязка, украшенная рядом пластических тюленьих голов и находящаяся в коллекции Веги, в Стокгольме (рис. 46, 47).
Рис. 47. Эскимосская головная повязка. По Гильдебранду
Рис. 48. Мать и дитя. Резная фигура. По Гильдебранду
Кроме пластических украшений на концах приборов, у эскимосов и чукчей мы находим настоящее изящное искусство в хорошо развитой мелкой скульптуре. В резьбе по кости, клыкам мамонта, оленьим рогам и моржовым зубам полярные народы являются прямыми наследниками палеолитических художников, занимавшихся резьбой на рогах северного оленя, и обитателей пещер Франции. Их человеческие фигуры, как, например, фигура чукчи (рис. 48) из стокгольмской коллекции, очевидно нисколько не художественнее доисторических человеческих статуэток, найденных в горной Франции, но сохранились лучше, а потому на них удобнее видеть ту строгую, по выражению Юлия Ланге, фронтальность, из которой в искусстве диких народов встречается так же мало исключений, как и в искусстве народов доисторических. Пластические фигуры животных бывают схвачены и переданы верно в общих чертах, но в отношении жизненности и художественной обработки уступают лучшим доисторическим произведениям подобного рода. Мы находим у полярных народов пластические изображения почти всех северных животных, главным образом крупных морских млекопитающих, китов, моржей, тюленей всевозможных видов, затем белых медведей, лисиц, водяных птиц; но именно северные олени, столь часто встречающиеся между пластическими изображениями у древнеевропейских охотников на северного оленя и в нацарапанных рисунках полярных народов, почти не попадаются у последних в виде пластических фигур. Вероятно, формы тела этих животных слишком сложны и неуловимы для арктических резчиков. На рис. 49 – лежащий на спине тюлень, найденный у алеутов, коллекция Веги, в Стокгольме. Арктическими резными и нарезными работами богаты Национальный музей в Вашингтоне и Торговый музей в Сан-Франциско, а в Германии – Берлинский музей народоведения и Мюнхенский этнографический музей.
Рис. 49. Тюлень. Произведение алеутской мелкой пластики. По Гильдебранду
Что касается назначения пластических произведений подобного рода, то их считают отчасти приманкой для рыб, отчасти игрушками для детей и взрослых, отчасти украшениями одежды и посуды, отчасти амулетами и предохранительными привесками мистическо-религиозного характера. Нет ничего невозможного и в том, что некоторые маленькие предметы этого рода – не более как продукты свободного стремления к искусству. Вопросом о развитии всего этого эскимосского искусства занимался Гофман. Делаются попытки доказать, что на некоторые орнаменты имели влияние индейцы гайда, на другие – чукчи, на третьи – даже папуасы Торресова пролива; доказано, что и здесь прямолинейные орнаменты выражают более древнюю, а концентрические круги – более позднюю стадию развития. Но, к счастью, и Гофман также признает, что эти концентрические круги не заимствованы у папуасов, имеющих подобные круговидные украшения, а как здесь, так и там и в других странах, возникли самостоятельно.
Вообще мы видим, что искусство всех этих охотничествующих и рыболовствующих народов не чуждо сверхчувственных и символических представлений. Но еще ярче выступает везде его реалистический характер. Оно убеждает нас, что искусство вообще начинается не с символики, а с наблюдения над природой.
2. Искусство первобытных народов в последний период каменного века
Обитатели островов Тихого океана и жители лесов и степей Америки по племенной близости, по сходству верований и одинаковости семейного быта, основанного на материнском праве, представляются, при свете современного нам народоведения, образующими один круг народов, который Ратцель называл тихоокеанско-американским. Если мы исключим из этого круга американские, знакомые с бронзой, культурные народы и малайцев, знакомых с употреблением железа и часто соприкасавшихся с более высокой азиатской культурой, то будем иметь дело с группой таких народов, не вышедших из природного состояния, которые, вследствие одинаковости или сходства образа жизни и художественных ремесел, могут быть соединены в одно целое.
Основатели этого этнографического воззрения считают Америку не далеким Западом, а отдаленнейшим Востоком, так что в их глазах западный берег этой части света не представляется западным краем обитаемой земли, а восточный берег является восточным ее краем. Западная граница тихоокеанско-американской области народов совпадает с восточной границей обширной области малайских островов. Раздельная линия совпадает приблизительно со 130° долготы к востоку от Гринвича. С востока от этой линии и южнее экватора простирается от Новой Гвинеи до островов Фиджи область Меланезии (или область черных островов); севернее экватора, от Палауских островов до островов Джильберта, лежит в Тихом океане Микронезия (область мелких островов), тогда как третья область – Полинезия (область многочисленных островов) занимает собою в середине Великого океана огромный треугольник, углы которого составляют на юго-западе Новую Зеландию, на севере – Сандвичевы острова, на юго-востоке – остров Пасхи. Океанский мир островов, равно как и американский материк, насколько уместно говорить о них в настоящем отделе, мы можем разделить для наших целей на три главные области: в первой, западнее Скалистых гор, обитают северо-западные индейские племена; во второй – прочие североамериканские лесные и степные индейцы, а в третьей – южноамериканские индейцы, главным образом бразильские.
Все эти народы в отношении быта стоят на одной и той же ступени позднейшей каменной эпохи. Их оружие и утварь изготовляются из камня, кости, дерева или раковин. Земледелием и скотоводством они занимаются лишь умеренно, в пределах, обусловливаемых местными обстоятельствами. Плести циновки и корзины умеют все племена этого круга народов; ткацкое искусство, во многих местах заменяемое изготовлением тапа, то есть тканей из лыка, размягченного через растирание, известно лишь некоторым микронезийским и большинству американских племен; гончарное производство знают меланезийцы, американцы, за исключением северо-западных индейцев, и некоторые, хотя и немногие, из полинезийцев.
Зодчество этого круга народов, значительная часть которых живет в мечтательной полудремоте под перпендикулярными лучами солнца, среди тропической растительности, отличается во многих местах уцелевшими от доисторических времен массивными низкими платформами, террасами, уступчатыми пирамидами, состоящими из земляных насыпей, циклопически нагроможденными стенами и даже правильно сложенными постройками из плит; но в историческое время, то есть со времен прибытия европейцев, строительное искусство этих народов в сущности находится на ступени свайных построек, хотя в собственном смысле слова свайные сооружения существуют только в одной части Меланезии, на Новой Гвинее, и в одной части Южной Америки, в Гвиане.
Изображения животных и людей здесь редко достигают той простой натуральности, какую умели придавать им охотящиеся народы. Но недостаток верного понимания природы и умения передавать ее обычно скрывается под фантастической условностью стиля, последовательное проведение которого свидетельствует о присутствии у этих народов целесообразного художественного смысла. Неумение связно изобразить известное происшествие наблюдается отнюдь не везде, но желание высказаться по большей части берет перевес над стремлением выразиться художественно, и это доходит до такой степени, что изображения приближаются к фигурным письменам, а в некоторых местах даже превращаются в настоящее фигурное письмо, хотя достигают только низшей его ступени, пиктографии, передающей единственно смысл и связь целой фразы, выбор же слов предоставляющей ее читателю.
Но необузданная художественная фантазия этих народов вполне выказывается в их декоративном искусстве. Они проявляют ее прежде всего в украшении своего тела, окрашивая его, испещряя рубцами и татуируя. Кроме украшений из зубов животных, раковин, перьев, нанизанных на шнурок кусков перламутра или привозных стеклянных бус, мы видим у них употребление масок при погребении. Наиболее самобытными проявлениями художественности можно считать военные и праздничные маски, а также маски, употребляемые при колдовстве и плясках. В украшении утвари, лодок, орудий изображения растений не совсем отсутствуют, но главную роль играют фигуры животных и людей в самых разнообразных и причудливых сочетаниях или в виде крайне изумительных геометрических линейных комбинаций; относительно украшений такого рода ученые не раз приходили даже к заключению, что, по-видимому, чисто геометрические узоры – не более как приведенные в известный стиль примитивные изображения животных или людей, имеющие иногда религиозное значение.
В искусстве обитателей островов Тихого океана часто отражаются их общие религиозные представления. Политеистический круг сказаний, развившийся на пантеистическом основании, имеет своим предметом преимущественно историю творения, а затем населяет весь мир и его историю с незапамятных времен до настоящего момента бесчисленным множеством богов и духов. Духи камней, растений и животных могут быть удостаиваемы такого же божеского поклонения, как и духи умерших людей. Духи-покровители племен и отдельных лиц нередко принимают образ змей, ящериц, крокодилов и акул. Почитание предков и культ животных переплетаются между собой самым странным образом.
Распространенные во всей рассматриваемой области человеческие фигуры, вырезанные из дерева или камня, можно принимать за идолов или изображения предков. Хотя эти фигуры считаются сосудами, в которые вселились богоподобные духи, души умерших или части этих душ, однако океаниец таких фигур не обоготворяет. Он далек от служения фетишам, которым поклоняется негр, как указано на то еще Вайц-Герландом.
Меланезия, царство "черных островов", получило это название от своих темнокожих, курчавых, сходных с неграми обитателей (папуасов, негритосов), занимающих в антропологическом отношении исключительное положение между другими желтовато-бурыми или красновато-бурыми племенами тихоокеанского круга народов, имеющих прямые или вьющиеся волосы. Самый обширный остров этой области – Новая Гвинея, искусство которой дало повод к весьма важным заключениям касательно развития орнаментики. К наиболее важным с этнографической точки зрения группам островов этой области принадлежат острова Фиджи; но, быть может, самые оригинальные проявления искусства мы находим на немецком архипелаге Бисмарка.
Так как храмы меланезийцев не отличаются от их общественных домов ничем, кроме большей величины, то в этих жилищах выражается все их строительное искусство. Высокие, свободно проходящие вдоль дома средние столбы поддерживают явственно выделяющийся гребень крыши, а более низкие угловые столбы несут на себе спускающиеся низко бока иногда челнообразной крыши и составляют деревянный или бамбуковый остов обыкновенно четырехугольной постройки. Легкие стены в промежутках между столбами большей частью делаются из плетения или циновок. Крыша покрывается пальмовыми листьями или циновками. Замечательнее всего, что деревянные сваи или балки, отесанные каменными секирами, соединяются и прикрепляются друг к другу при помощи только перевязей из веревок и ротанга, лыка или лиан. На севере, на побережье заливов Гильвинка и Гумбольдта, существуют целые деревни, стоящие над водой. Свайным деревням, находящимся на юго-востоке острова, Финш посвятил особое исследование. На рис. 50 – свайная постройка в Аннапате с покатой со всех четырех сторон кровлей. Впрочем, в новогвинейском зодчестве можно кое-где заметить малайское влияние.
Рис. 50. Свайная постройка в Аннапате. По Финшу
Меланезийцам нельзя отказать в некоторой способности к скульптуре. Среди их изваяний из камня особенного внимания заслуживают новомекленбургские (новоирландские) резные из мела фигуры, которые можно видеть в этнографических музеях Берлина, Мюнхена, Гамбурга и Дрездена. Они в основном белые, лишь кое-где чуть покрыты желтой, красной, иногда также синей красками и на первый взгляд кажутся гипсовыми. В них взаимное отношение частей тела неверно, ноги слишком коротки, шарообразны, порой кубические головы слишком велики. Иной раз лоб и нос, как в доисторических произведениях, находятся на выпуклой поверхности, сравнительно с которой прочие части лица углублены назад. Глаза совершенно круглы, курчавые волосы изображены сетью выступающих вперед квадратиков. Руки или симметрично подняты, или сложены на груди. Строгая одинаковость обеих сторон еще не уступила места даже фронтальности, по Ланге, которая, по крайней мере, дает возможность членам тела иметь более свободное положение.
Лучше и равномернее исполнены меланезийские деревянные статуэтки, обыкновенно оставляемые нераскрашенными, за исключением некоторых выступающих частей, покрываемых черной краской. К наиболее замечательным произведениям этого рода принадлежат изображения предков с берегов залива Гильвинка, в северо-западной части Новой Гвинеи, образцы которых обнародовал Уле, Дрезденский музей. Замечательно, что эти статуэтки, подобно такому же "предку" из Британского музея, или сидят позади странным образом вырезанных балюстрад, или, как "предок" из Дрезденского музея (рис. 51), держат перед собой обеими руками и как бы подносят ко рту одинаковым образом вырезанный предмет, в котором Генрих Шурц видит остаток передника. Замечательно также, что "художник", как будто зная, но ложно понимая взгляд Гильдебранда на задачу формы в искусстве, иногда пытается, как показывает приводимый профильный рисунок, вместить всю фигуру в данный кусок дерева таким образом, что задняя и лицевая части головы для того, чтобы касаться внешних стенок куска, непомерно удалены друг от друга и соединены между собой ничего не выражающим членом, удлиняющим голову. Другие резные из дерева предметы с побережья залива Гильвинка знакомят нас со своеобразной меланезийской орнаментикой, в которой совсем так же, как в мифологических представлениях океанийцев, образы людей и животных соединяются в украшения, трудно распутываемые, но вообще округленные не без чутья к изяществу формы. Примерами таких украшений могут служить обнародованные Уле корабельные носы, ручки ложек и амулеты, в которых среди животных мотивов всегда можно различить разинутую пасть крокодила, между тем как члены человеческого тела растянуты в виде лент на концах этих предметов.
Рис. 51. Фигура предка с залива Гильвинка: а – вид спереди, б – сбоку. По Уле
Уле один из первых указал на то, что геометрические узоры резных и нацарапанных работ Новой Гвинеи, преимущественно берегов залива Гильвинка, происходят от фигур людей и животных и что они имеют мифологическое значение. Резьба этих полос, похожих по форме на вопросительный знак или букву S, этих касающихся друг друга кругов и как бы огненных языков, на первый взгляд нисколько не напоминает животных и людей; если же удается открыть внутри общего узора несколько таких фигур с лентообразно извивающимися конечными членами тела и заметить несколько явственных пастей крокодила, то приходишь к убеждению, что основанием всей этой орнаментики действительно служат искаженные фигуры животных. К востоку от залива Гильвинка эта орнаментика скоро сменяется другой, которая состоит из более тонких линий и которую мы можем наблюдать, например, на стержнях стрел (рис. 52), Дрезденский музей. Происхождение этих орнаментов от изображений крокодилов или ящериц – несомненно. Поэтому оба рассмотренных рисунка Уле соединяет в один под названием "Животная орнаментика северо-западной части Новой Гвинеи".
Рис. 52. Животная орнаментика северозападной части Новой Гвинеи. По Уле
Исследования Уле были продолжены другими учеными. Альфред Гаддон, основываясь на предметах лондонских коллекций, разделил британскую часть Новой Гвинеи на пять резко отличающихся друг от друга художественных округов, и из постепенного развития человеческих и животных фигур в тамошнем искусстве в формы геометрического характера вывел чрезвычайно далеко заходящие заключения относительно истории декоративного искусства вообще. Изучая немецкую часть Новой Гвинеи (Земли императора Вильгельма), тем же путем шел К. Прейс, который опирался на богатый материал, собранный в Берлинском музее народоведения. Интересно, что и здесь всякий округ имеет свое искусство, верное собственным законам развития. В округе Финшгафене пластические человеческие фигуры изображены в присевшем положении. Высокая шапка покрывает голову с низко свешивающимися ушными мочками, голова же до такой степени вдавлена в плечи, что четырехугольный подбородок касается пупка. По-видимому, геометрические фигуры и ленты, врезанные в тыквы, дерево, черепаховые пластинки или бамбук и заполненные черной, белой и красной красками, состоят из рядов пляшущих человеческих фигур, туловища которых превращены в овалы или ромбы, а члены – в угловатые узоры. Из глаз и носа образуются кресты. Птичьи головы обращаются в трапеции, полукруги, треугольники и спиральные придатки. В округе залива Астролябии пластические фигуры присевших людей имеют другой тип. На голове у них, быть может для обозначения волос, находится покрышка в виде тарелки; лицо – длинное, подбородок – не угловатый, а острый; из-под выпуклого лба выглядывают, вместо глаз, прямоугольные выпуклости. Линейная орнаментика отличается большей угловатостью, чем в Финшгафене. На различных переходных ступенях превращения человеческих фигур в орнамент можно проследить, как мало-помалу голова исчезает, туловище обращается в ромб, руки и ноги – в прямые линии, касающиеся друг друга под углами. В округе северного берега пластические человеческие фигуры обычно представлены в стоячем положении, с поднятыми вверх руками. Уши – нормальны, а нос иногда бывает вытянут наподобие клюва. Особенно богата линейная орнаментика этой области, и в ней можно ясно различить такие образцы, которые, оскудевая в своих формах, видоизменяясь и располагаясь рядами, превращаются в геометрические узоры. Образцы эти ограничиваются фигурами присевших и пляшущих людей, человеческими лицами и их частями, летающими собаками, рыбами, змеями и ящерицами. "Все эти предметы изображения, – говорил Прейс, – испытывали такое превращение в простые линии, что изучение развития этих линий для исследования орнаментики вообще чрезвычайно плодотворно, тем более что результаты, доставляемые совершенно различными образцами, бывают очень близки друг к другу". Например, закругленные полосы меандра, видимо, происходят иногда от пляшущих людей, иногда от летающих собак. Подобное превращение не подлежит отрицанию, так как имеются налицо все промежуточные его стадии. Большинство этих узоров к тому же расчленено так странно и разнообразно, что их нельзя себе представить, не предположив для них особого рода исходных пунктов. Но туземный художник, имеющий дело с простыми схематическими узорами, зигзагообразными линиями и хотя бы даже с меандрическими рисунками, отнюдь не всегда дает себе отчет в их происхождении. Установившееся выведение одинаковых простых геометрических узоров из форм различных живых существ само по себе показывает, что узоры, уже независимо от этих форм, присущи фантазии рисовальщика, так что, строго говоря, все упомянутые образы органического мира постепенно вплетаются в геометрические узоры.
На архипелаге Бисмарка, особенно на острове Новый Мекленбург, резьба по дереву, представляя соединение человеческих и животных мотивов, принимает такие странные, фантастические формы, что по своеобразности не имеет ничего подобного себе в целом мире, среди всех отраслей художественно-ремесленных производств. Однажды увидев образцы этой резьбы, не можешь отделаться от них, как от кошмара. В них чувствуется давление жгучего тропического зноя на фантазию создавшего их человека. Уже одна окраска придает им особенный характер: они иллюминированы черным, белым и красным цветами, к которым изредка прибавляется немного желтого и (привозного) синего. Но оригинальность этих фигур заключается главным образом в их мотивах, которые представляют хватающих друг друга с открытой пастью и снова отпускающих друг друга людей и животных, и в искусной сквозной, напоминающей плетение из прутьев работе этих свойственных каменному веку резных украшений, которые мы встречаем на щипцовых балках и дверных косяках, танцевальных масках, амулетах – словом, везде, где только есть возможность что-нибудь изобразить и вырезать. Ядром, которое окружено всем этим решетчатым нагромождением, служит обычно человеческая фигура, но иногда его составляют разные фигуры, касающиеся друг друга во всех возможных и невозможных положениях. Нередко главной фигурой являются рыба, ящерица и петух, а чаще всего – птица-носорог, которую океанийцы считают священной птицей мертвых. Глаза обычно состоят из вставленных раковин и иногда играют в композиции самостоятельную роль, независимую от человеческих лиц и голов животных. Каждое произведение задает нам новую загадку. Генрих Шурц предложил весьма убедительное мифологическое толкование этих произведений. Уже по самому своему существу культ предков связан с представлением генеалогического дерева, со стремлением изображать их рядами и приводить в связь между собой; культ же животных, тесно связанный с почитанием предков, побуждает в таких изображениях чередовать предков-животных с предками-людьми. Но весь этот двойной культ умерших обусловливается представлениями о загробной жизни. Корабль, увозящий души умерших в загробный мир, заменяется птицей мертвых, как только люди начинают предполагать существование этого мира за облаками, а не на далеких островах; птицей же мертвых во всей малайско-меланезийско-полинезийской области считается преимущественно птица-носорог. Открытая пасть животного, из которой выставляется человеческая фигура, обозначает символически не поглощение, а тесную связь, произрастание одного создания из другого.
В Германии этнографические музеи Берлина, Дрездена, Мюнхена и Гамбурга богаты только что рассмотренными произведениями.
На рис. 53 – резное изделие, представляющее собой человеческую фигуру, комбинированную из раковин и раков-отшельников, Берлинский музей.
Нацарапанные рисунки и их толкования следует искать в меланезийской области и вне Новой Гвинеи. Нацарапанные и зачерненные рисунки, род иероглифических письмен, мы находим преимущественно на бамбуковых тростях и палочках, как, например, у негритосов в "меланезийской Диасиоре" (по Ратцелю), на полуострове Малакке, так и у жителей Новой Каледонии (рис. 54) и Новых Гебридов. Стеверсом и Грюнведелем открыты у малаканских негритосов (Оранг-Гутан, Оранг-Семанг) нацарапанные и зачерненные древесным углем рисунки на женских бамбуковых гребнях, на бамбуковых колчанах, трубах и волшебных палочках мужчин, какие мы видим в Берлинском музее народоведения. Узоры состоят из очевидно геометрических фигур – из углов, треугольников, четырехугольников, кругов, зигзагообразных линий; но при ближайшем рассмотрении эти рисунки оказываются стилизованными и сокращенными изображениями чудодейственных животных и предметов, например зигзагообразные линии означают лягушечьи ноги, эти же последние – целых лягушек, указывающих на болото, где они живут. В своей совокупности эти знаки составляют волшебные формулы, имеющие силу охранять носителей предметов, на которых они начертаны, от болезней и всяких опасностей. Каждая опасность имеет свою особую формулу, каждая формула – свой особый узор. Нечто подобное существует и у негритосов Филиппинских островов, как о том свидетельствуют гребни Дрезденского музея.
Рис. 54. Рисунок на новокаледонской бамбуковой трости. С оригинала Дрезденского этнографического музея
По сравнению с дикими меланезийцами, у которых еще встречается людоедство, микронезийцы и полинезийцы, вместе взятые, составляют однообразное племя, если не во всех отношениях более культурное и богатое, то во всяком случае более кроткое и разумное.
Микронезийцы производят вообще впечатление небольшого народа, спустившегося с некогда более высокой ступени культуры. "Легкое дуновение исторической жизни, – говорил Ратцель, – меланхолически обвевает их деревни и одинокие валы на холмах, сделавшиеся теперь излишними".
Финш, наоборот, неоднократно говорил о доисторических постройках этой группы островов. Неизвестная история этих народов, с некоторого времени находящихся под защитой Германской империи, представляется нам доисторичностью. Главным образом на Каролинских островах, например на острове Лэлла (Лейлей), бывшем некогда резиденцией народного вождя, близ Кушаи (Кузайе), и на маленьком базальтовом острове близ Понапе, уцелели громадные стены, частью сложенные из базальтовых столбов, помещенных продольно, подобно деревянным бревнам; эти стены обязаны своим происхождением совокупному труду давно исчезнувших поколений. Каменные нижние части построек, в ограниченной степени подходящие к этим историческим или доисторическим остаткам, составляют одну из особенностей в жилищах нынешнего поколения микронезийцев – жилищ, которые, впрочем, различны в группе островов. Например, на Каролинских островах подпирающие столбы всегда отесаны, крыши отличаются высокими, узкими, иногда крашеными фронтонами, между которыми гребень крыши, опускаясь в середине, дает ей вид седла. На Палауских островах гребень прямолинеен, но у фронтонов несколько выступает вперед, дабы защищать намалеванные на них изображения. Особенно роскошно украшены большие дома, служащие для собраний, так сказать ратуши. Живописные и пластические украшения на фронтонах и балках главных домов на Палауских островах принадлежат к наиболее выдающимся художественным произведениям Микронезии. В середине фронтона обычно помещается пластическая, окрашенная в желтый цвет женская фигура, отличающаяся более чистыми и округлыми формами, чем те, какие мы видели у меланезийцев. Остальная часть фронтона расписана красной, желтой и черной красками, причем внутри крупных расчленяющих линий помещены предметы и знаки, среди которых главную роль играют розетки вроде подсолнечников и натурально переданные морские рыбы, расположенные около нескольких рядов мелких действующих человеческих фигур. Балки внутри домов сплошь покрыты длинными изображениями вроде фризов или поясов. Рисунки отчасти врезаны в сырое дерево и затерты белой массой, отчасти намалеваны на плоскости черной, красной и желтой красками. В Дрезденском музее находятся две такие балки, привезенные Земпером с Палауских островов и обнародованные Адольфом Бернгардом Мейером, а также цветные снимки целого ряда других балок. На рис. 55 – ряд отдельных балок (придвинутых литографом одна к другой). Как все повествовательные ряды изображений, рисунки, по-видимому, имеют отчасти характер фигурного письма, смысл которого, разумеется, можно понять только при знакомстве со всем циклом сказаний и преданий Палауских островов. Но на самом деле это в небольшом масштабе монументальные изображения происшествий, и для посвященных этот картинный способ повествования ничего не оставляет желать в отношении живости и удобопонятности. Мы распознаем здесь плавание на челноках, пляски, сражения, сцены ловли китов. Везде можно различить дома с их каменными нижними частями и выступающими фронтонами, везде выделяются пальмовые рощи, а море можно узнать по челнокам и рыбам. Человеческие фигуры представлены неумело, в виде силуэтов, большей частью в профиль, но отличаются довольно живой подвижностью. Известная ритмичность и равномерность придают всем рядам, вместе взятым, надлежащий декоративный фризообразный характер.
Как на микронезийскую особенность следует, кроме того, указать на древнепалауские деревянные сосуды и утварь с перламутровой инкрустацией. Белые вырезанные куски раковин красиво выделяются на окрашенном в темный красный цвет деревянном фоне. Инкрустации имеют отчасти вид треугольников, которые иногда расположены рядами, как листья, сидящие на черешках, а иногда образуют ряды геометрических фигур, птичьих фигур или даже воинов, как это видно, например, на палауском сосуде с крышкой, хранящемся в Британском музее. Из подобных изделий особенно замечателен висячий сосуд (рис. 56); его вертикально пробуравленные ручки кажутся носами, два перламутровых кружка, помещенные с обеих сторон, – глазами, а посаженные под кружками раковины каури с отверстием – ртом. Очевидно, такой результат получен преднамеренно, и подобные сосуды примыкают к первоначальным, принадлежащим каменной эпохе урнам с лицами, найденным на датских островах.
Если не в самом полном, то в наиболее чистом виде океанийскую культуру мы можем наблюдать в Полинезии. Богатая мифами полинезийская религия, почитающая Тангароа творцом миров и высшим небесным богом, – источник и хранительница всех мифологических представлений океанийцев; полинезийская история, в центре которой предания о странствованиях в незапамятные времена, сохранившиеся у населения центральных групп островов, особенно Тонга, Самоа и Таити, Новой Зеландии на крайнем юге и Сандвичевых островов на крайнем севере, дошло до нас в виде остатков древних сооружений, преимущественно в виде массивных, циклопически сложенных уступчатых возвышений, какие и доныне служат фундаментами, на которых воздвигаются полинезийские "храмы" и жилища.
Рис. 55. Раскрашенные брусья домов на Палауских островах. По Карлу Земперу и с оригинала Дрезденского этнографического музея
Но ни эти храмы, состоящие только из огороженных священных пространств со сценами, идолами богов и алтарями, ни вместительные полинезийские жилые и общественные дома, нисколько или почти нисколько не лучше микронезийских построек такого рода и не представляют собой дальнейшего шага в развитии зодчества. Только на Новой Зеландии заметны успехи этого искусства, обусловленные местным климатом. Здесь дома часто состоят из крепких дощатых стен, и местное плотничество еще до прибытия европейцев развилось настолько, что уже дошло до настоящего приколачивания досок друг к другу и всаживания их одной в другую, вместо еще не вышедшего в Центральной Полинезии из употребления связывания столбов и балок веревками.
Но ни эти храмы, состоящие только из огороженных священных пространств со сценами, идолами богов и алтарями, ни вместительные полинезийские жилые и общественные дома, нисколько или почти нисколько не лучше микронезийских построек такого рода и не представляют собой дальнейшего шага в развитии зодчества. Только на Новой Зеландии заметны успехи этого искусства, обусловленные местным климатом. Здесь дома часто состоят из крепких дощатых стен, и местное плотничество еще до прибытия европейцев развилось настолько, что уже дошло до настоящего приколачивания досок друг к другу и всаживания их одной в другую, вместо еще не вышедшего в Центральной Полинезии из употребления связывания столбов и балок веревками.
Рис. 56. Древний палауский висячий сосуд. С оригинала Дрезденского этнографического музея
В полинезийской скульптуре, или, собственно говоря, в резьбе по дереву, мы встречаем чаще, чем в меланезийском искусстве, человеческие фигуры, которые ввиду религиозности полинезийцев следует признавать за изображение богов, и в этих именно изображениях богов нередко находим, рядом с наивными попытками верно передавать человеческую наружность, преднамеренные искажения ради мифологических представлений. Из полинезийских идолов Лондонского миссионерского общества, недавно перешедших в Британский музей, к таким умышленно искаженным мифологическим изображениям принадлежит круглая фигура Тангароа, у которой, при всей ее неуклюжей естественности, пупок, нос, глаза, уши, соски грудей и прочее состоят из приделанных к идолу детских фигур. Пластику же новозеландцев характеризует мужская фигура с правой рукой, приложенной ко рту (в лондонской коллекции Кристи, рис. 57). Ее короткие ноги и большая голова напоминают меланезийские фигуры предков, но строгая симметричность заменяется в ней фронтальностью (по Юлию Ланге), так как руки сложены более свободно. Формы тела и особенно черты лица – мягче и круглее, чем у меланезийских фигур. Само лицо – пропорционально. Глаза, рот и нос – натуральны и соразмерны. Лицо искусно татуировано спиральными чертами, как у новозеландцев. Замечательно, что и здесь, как во всех произведениях новозеландского искусства, мы находим на руке всего лишь три пальца, что свидетельствует о неумении считать. Своеобразное соединение человеческих форм можно видеть у идола с островов Гервея, мюнхенская коллекция. Под большой остроконечной головой, сплющенной с боков, помещено с каждой стороны по искалеченной, зазубренной сзади руке с тремя пальцами, а туловище составлено из шести маленьких, присевших человеческих фигур с растопыренными ногами, причем эти фигуры примыкают друг к другу непрерывным рядом, попеременно представляясь спереди и сбоку. Если в подобных произведениях выражается такая же мифологическая фантазия, как в меланезийской резьбе Нового Мекленбурга, то надо признать, что здесь эта фантазия выражена проще и строже.
Рис. 57. Новозеландская фигура. По Ратцелю
Изображения подобного рода имеют весьма важное значение для объяснения полинезийской орнаментики. Исходя из женских фигур, изображенных плоской резьбой на декоративных священных секирах, священных веслах и барабанах, которые обнаружены на Гервейских островах, Ридом и Стольпе пытались объяснить происхождение целого класса геометрических линейных орнаментов этих островов от стилизования этих фигур и, следовательно, не только признать всю эту орнаментику, состоящую из бесчисленного множества фигур богинь, но и видеть в ней выражение религиозносимволических представлений, очень родственных с теми, какие мы находим у меланезийцев. Эти орнаменты представлены на рис. 58: а – на рукоятке весла (Гамбургский музей); б – на ручке ковша (Базельский музей); в – на широкой части весла; г – на обухе секиры (Стокгольмский антиквариум). Такого рода попытки объяснения, конечно, не следует обобщать, так как они даже относительно соседних местностей могут привести к противоположным выводам. Сам Стольпе, кроме области Раротонга-Тубуай-Таити, откуда взят приведенный пример, признает в Полинезии еще целый ряд других провинций, важных в отношении орнаментального искусства. В провинции Тонга-Самоа, например, господствуют прямые и зигзагообразные линии, иногда набегающие друг на друга, но оставляющие место для всаженных между ними фигур людей и животных. В провинции Маори (Новая Зеландия) орнаментика состоит из кривых линий, по большей части даже из вполне развившихся спиральных линий, которые благодаря часто являющимся среди них раковинам-глазам принимают иногда искаженный вид человеческого лица.
Рис. 58. Орнаменты Гервейских островов. По Стольпе
Наконец, особую культурную область Полинезии составляет остров Пасхи, лежащий на крайнем востоке от этой массы островов. Со времени сообщений Гейзелера и Томпсона мы можем составить себе ясное понятие о своеобразном искусстве этого обособленного мирка, населенного всего лишь 150 душами. Из архитектурных произведений этого острова нам прежде всего бросаются в глаза маленькие каменные дома ваятелей, без окон, крытые каменными поперечными балками, близ кратера горы Рана-Рорака, и дома собирателей яиц чаек на обращенном к морю склоне горы Ранакао. Как в том, так и в другом месте бури сносили бы деревянные хижины. И здесь, значит, можно видеть, до какой степени изобретательна бывает нужда. Выжидая на склоне Ранакао морских птиц, молодежь коротала время и развлекалась разными художественными упражнениями: вырезала в виде полугорельефов пластические фигуры на скалах или на дверных столбах, размалевывала внутри строений известковые плиты красной, черной и белой красками и покрывала их разными изображениями. Главное содержание этих изваяний и картин – полуживотные-получеловеческие боги, преимущественно фигура хранителя яиц морских птиц, великого морского бога Меке-Меке с клювом чайки. Эти художественные произведения можно изучать главным образом в американских музеях.
Рис. 59. Платформа с каменной фигурой на острове Пасха. По Томпсону
На всех берегах острова сохранились развалины прежних жилищ и рядом с ними – собственно не храмы, а находящиеся в связи с каменными гробницами, производящими иногда впечатление дольменов, большие каменные платформы, на которых помещались изваяния боготворимых предков. Нечто подобное мы находим на всех островах Тихого океана, но своеобразность сооружений Пасхи состоит в том, что платформы встречаются очень часто, имеют необыкновенные пропорции, оригинальны из-за крупного размера водруженных на них колоссальных каменных изваяний, секрет производства которых переходил по наследству. Теперь уже ни одна из этих статуй не стоит прямо; в большинстве случаев они лежат в более или менее хорошо сохранившемся виде на своих подставках или около них. Томпсон описал 113 подобных платформ; самая громадная из них – платформа Тонгарики под Раной-Роракой, достигающая вместе со своими крыльями 160 метров длины. Этот же путешественник насчитал на маленьком острове не менее 555 каменных статуй указанного рода. Из них самые мелкие – вышиной меньше 1 метра, самые крупные достигают 21 метра. Замечательно, что эти статуи представляют лишь полуфигуры с огромными головами. Рук или совсем нет, или они только намечены плоским рельефом на туловище. Головы сзади обычно срезаны, а спереди характерно обработаны, причем все отличаются громадными ушами, низким выдающимся лбом, скуластыми щеками, длинным, вогнутым вовнутрь носом, толстыми ноздрями и тонкими, сжатыми, но несколько выдающимися вперед губами. Головы сверху срезаны прямо, и на них надевались огромные цилиндрические чалмообразные красные шапки, которые свалились и теперь валяются поблизости от статуй. Фигуры эти на самой горе Рана-Рорака высекались из серого вулканического камня, а шапки изготавливались из красного туфа, добываемого в холмах Тераай в западной части острова. На рис. 59 изображена платформа с одним истуканом подобного рода.
На других платформах ставилось до полудюжины таких фигур. Все они – порождение художественного творчества, принадлежащего к наиболее загадочным явлениям в истории искусства.
В последнее время на острове Пасхи изображения предков и богов режутся только из дерева. Такие изображения можно изучать в Лондонском, Берлинском, Дрезденском и Мюнхенском музеях. Чисто человеческие фигуры обыкновенно считаются представляющими предков. Они имеют особенный вид, отличающийся от вышеуказанных старинных каменных изваяний строением головы и лица. Глаза, сделанные из вставленных камней или костей, выступают из-под выдающихся вперед лобных костей в виде больших круглых выпуклостей. Нос – не впалый в середине, а горбатый, как у семитов. Рот – большой и открытый. Тело – до того тощее, что в некоторых местах явственно обрисовываются ребра. Но настоящими идолами острова Пасхи считаются деревянные статуи, похожие на ящериц с рыбьими головами и свидетельствующие о непосредственно наивном восприятии художниками природы.
Лучшим доказательством того, что жители этого уединенного острова достигли сравнительно высокой культуры, служит тот факт, что они обладали настоящим, разработанным фигурным письмом, образцы которого сохранились на утвари, скалах и домовых столбах, на особых деревянных табличках, какие можно видеть, например, в Вашингтонском национальном музее и в музее Сантьяго, в Чили. Письмена на этих табличках состоят из правильных рядов часто повторяющихся знаков, в которых можно различить стилизованные изображения из жизни животных и людей. Это фигурное письмо, видимо, представляет переход от пиктографии к идеографии, уже способной передавать определенные понятия. Памятники такого рода ставят нас уже на границу между первобытными и культурными народами.
Если от острова Пасхи мы перенесемся через Великий океан на берег Америки, то для того, чтобы добраться до ближайших родственников полинезийцев, до северо-западных индейцев, нам нет надобности проникать еще дальше на восток, а следует, обратившись к северу, снова принять западное направление, и ничто не помешает нам найти и тут доказательство внутренней связи между обширными краями, которые простираются с той и другой сторон Тихого океана и из которых Новый Свет, по мнению некоторых ученых, пережил подобно Старому Свету и палеолитическую, и неолитическую эпохи. Томас Вильсон в прекрасном, сжатом обзоре сопоставил найденные в Америке произведения человеческой руки, относящиеся к этим обеим ступеням культуры, с произведениями Старого Света. Впрочем, палеолитические находки, сделанные в Америке, не представляют особенного художественного интереса, а так называемый Ленапский камень (Lenape Stone) с нацарапанным на нем изображением мамонта в коллекции Паксома самим Вильсоном признается за поддельный. Истинной древности неолитических произведений Америки невозможно установить; древнейшим из них, быть может, всего лишь несколько столетий, и, с нашей точки зрения, они относятся скорее к этнографическому, чем к доисторическому искусству. Ввиду этого Цирус Томас, автор новейшего сочинения о доисторических временах Америки, вообще полагает, что разделение доисторической эпохи в Европе на палеолитическую, неолитическую и бронзовую неприменимо к Америке.
Индейские племена Северной и Южной Америки, которые мы считаем первобытными народами, стоящими на ступени позднейшей каменной эпохи, имеют много религиозных воззрений, общих с полинезийскими. По словам Ратцеля, "почти ни одна черта полинезийской мифологии не отсутствует в Америке". Религия эта имеет скорее пандемонический, чем политеистический характер. Весь мир представляется населенным духами. В растениях и животных, главным образом в птицах, змеях, черепахах, рыбах, а также в медведях и волках, воплощаются творческие силы смутно сознаваемого начального существа, которое чаще в поэтических произведениях, чем у наших этнологов, называется Великим Духом; существо это во всей своей полноте и чистоте проявляется прежде всего в солнце, поклонение которому в более или менее развитой форме свойственно всем американцам. Божественными отпрысками небес признаются также вожди, пользующиеся почитанием как родоначальники племен; а так как племена ставятся в связь со священными животными, играющими важную роль в сказаниях о творении, то каждое племя имеет свое особое священное животное, постоянно служащее гербом племени: это тотем индейцев, соответствующий кобонгу австралийцев.
Северо-западные американцы – индейцы, живущие на северозападном берегу Америки и на лежащих близ него островах, тлинкиты – преимущественно на материке, гайды – на островах королевы Шарлотты и жители острова Ванкувер. Так как эти племена обитают между 50° и 60° широты, то понятно, что большинство из них сооружает себе крепкие хижины, снабженные крышами с фронтонами; резные работы на этих хижинах, перед ними и внутри их составляют главную и наиболее своеобразную отрасль искусства этих народов, в фантазии которых, как в фантазии меланезийцев и некоторых полинезийцев, странным образом соединяются формы человека с формами животных. Прежде всего мы видим это на домовых, гербовых или тотемных столбах, поднимающихся у входной двери высоко над домом и крышей так, что их видно издалека. Изображения эти составлены из сидящих друг над другом, головой вверх или вниз, схвативших друг друга, иногда с почти открытой пастью нападающих друг на друга или держащих друг друга фигур животных или людей; причем эта фантастическая, ярко раскрашенная резьба обычно увенчивается изображением животного-тотема. Объяснение, данное Шурцем малайским, меланезийским и полинезийским резным работам подобного рода, находит себе подтверждение в этих художественных произведениях северо-западных индейцев. И здесь выказывается тесная связь между культами предков, животных, тотемов и мертвых. Все эти сооружения можно рассматривать как родословные деревья. По сравнению с резьбой Нового Мекленбурга, индейские работы, несмотря на свою более яркую окраску, в которой зеленый и синий цвета присоединяются в изобилии к старым трем цветам (черному, белому и красному, или к черному, желтому и красному), отличаются большей ясностью и трезвостью отдельных мотивов, равно как и большей резкостью и гладкостью исполнения. В истории искусства они принадлежат к наиболее фантастическим созданиям.
Рис. 60. Тотемный столб индейского племени гайда. С оригинала
В зале Берлинского музея народоведения, где среди коллекции Якобсона хранятся замечательные художественные произведения этих народов, внимание прежде всего привлекает к себе великолепный тотемный столб – произведение индейцев племени гайда (рис. 60).
У северо-западных американцев нет недостатка и в больших деревянных изваяниях, которые должно считать изображениями предков или предводителей, а не религиозными фигурами. Головы этих изваяний обычно чересчур велики, туловища слишком коротки, позы, в пределах фронтальности, подвижны и натуральны, а лица окрашены в подражание татуировке. В лучших из этих изображений видно большее понимание строения тела, лица и отдельных членов, особенно рук, чем в превосходнейших полинезийских произведениях подобного рода. В Берлинском музее народоведения хранится множество таких деревянных фигур величиной приблизительно в натуру; из них особенно хороша фигура присевшего человека с открытым ртом и поднятой вверх правой рукой; эту фигуру считают изображением вождя, готовящегося произнести речь (рис. 61).
Рис. 61. Резная деревянная фигура. По Бастиану
Разнообразная домашняя утварь североамериканских индейцев, изготовленная из дерева или камня, бывает также украшена головами животных или людей или же имеет искаженную форму живых существ. К такой утвари относятся праздничные маски, фантастические гримасы которых свидетельствуют о склонности фантазии этого народа к ужасному; сюда же относятся серые глиняные трубки с изображенными на них искаженными фигурами животных, похожими на находимые в Меланезии; но прежде всего к этому роду произведений принадлежат горшки, употребляемые для пищи и жира, а также чаши для питья, имеющие форму зверей или людей. Звери (птицы) часто держат в зубах (клюве) других животных или даже крошечных людей. Животное то стоит на ногах, причем спина его выдолблена в виде челнока, то лежит на спине, и тогда роль самого сосуда играет выдолбленное брюхо. В Берлине хранится чаша для питья, представляющая собой человеческую фигуру с впалыми глазами и со скорченными ногами.
Изображения на плоскости у этих народов вообще более грубы и неумелы, чем их пластические произведения. Рисунки на индейской палатке из буйволовых кож (Берлинский музей народоведения) изображают охоту трех племен, но эта сцена отличается бессвязностью и незаконченностью. Впрочем, некоторые животные нарисованы так живо, что невольно напоминают нам о соседстве эскимосов.
В искусстве североамериканских индейцев важнейшее значение имеет орнаментика: это во всем мире наиболее разработанная орнаментика из глаз, символизм которой, наитеснейшим образом связанный с религиозными представлениями, сразу поражает всякого. Головы животных и людей, как они ни стилизованы и ни превращены в линейные фигуры, отличаются гораздо большей непосредственностью, чем орнаментика группы Раротонги-Тубуая. Глаза этих голов – особенно видная часть всей орнаментации – являются в ней во множестве. По своему мотиву, как подробно объяснил Шурц, они – ничто иное, как сокращенная форма головы, из которой они произошли. Сами же головы – только сократившиеся формы целых фигур животных и людей, изображавшихся первоначально и долженствовавших представлять собой ряды предков. Глаза глядят на нас отовсюду: со стен и оружия, с одежды и трубок, с сидений и покрывал. Как позволительно судить по стулу вождя (Берлинский музей народоведения), ворон, считающийся у северо-западных индейцев воплощением творца мира, солнца и глаз, постоянно повторяясь и странным образом сочетаясь, составляют основу богатой системы красно-сине-черно-желтой орнаментики. Убедительный пример преобладания глаза в орнаментике представляет индейское покрывало, находящееся в том же музее (рис. 62); сходное с ним имеется в Бременском музее.
Не покидая пока Западной Америки, обратимся на юг, в Калифорнию. Здесь мы тотчас наталкиваемся на многочисленные рисунки, нацарапанные на скалах, встречающиеся во многих местностях Америки и бросающие луч света на культуру цивилизованных индейцев, живших во времена нашествия европейцев. Калифорнийские "петроглифы" и североаргентинские "кольчакви" покрывают камни и скалы так же, как и шведские Hullristningar (см. рис. 18) и их предшественники, ямочки и знаки на так называемых "долбленых камнях". Но тогда как в доисторических шведских рисунках на камнях преобладает картинный, пиктографический характер, в американских изображениях такого рода господствует характер письменный, идеографический, замечаемый и в других рисунках индейцев.
Но наряду с этими рисунками на скалах вроде фигурного письма в Калифорнии встречаются также на скалах, под их навесами и при входах в пещеры настоящие картины битв и охоты, написанные черной, белой, красной и желтой земляными красками и в некоторых местах покрывающие большие площади скал. Животные в этих изображениях далеко не столь натуральны и живы, как животные в подобных же картинах бушменов. Люди представлены по большей части спереди, с поднятыми вверх руками, но неумело, в виде силуэтов. Любопытно, что некоторые фигуры выкрашены наполовину в черный цвет, наполовину в красный, причем эта окраска произведена то вдоль, как, например, в пещере Сан-Боргиты и под навесом скалы Сан-Хуана, то поперек, как в Пальмарито, на восточном склоне Сьерра-де-Сан-Франсиско. Связь между неловко помещенными рядом фигурами приходится по большей части угадывать. Леон Дике насчитывает в Нижней Калифорнии не менее тридцати мест, где найдены подобные изображения.
Рис. 62. Индейское покрывало, орнаментированное глазами. По Бастиану
Индейцы, обитающие или обитавшие во всей Северной Америке восточнее Скалистых гор, - настоящие "краснокожие", их рассеянные остатки доныне живут среди "бледнолицых", которые лишили их старинных жилищ, старинной веры, старинного искусства. То, что мы знаем об искусстве этих "настоящих" индейцев, в значительной степени принадлежит истории или доисторическому прошлому, которое, однако, как убедительным образом доказал Эмиль Шмидт, в большинстве случаев не слишком удалено от вторжения европейцев в эту часть Америки. Свидетельством художественной предприимчивости этих индейцев являются прежде всего земляные холмы и валы, заставившие американистов, называющих их mounds, немало поломать себе голову. Эти mounds при совершенно круглом основании имеют конусообразную, а иногда и куполообразную форму, или же при четырехугольном основании пирамидальную форму, нередко с площадкой наверху и со ступенями на всех четырех гранях, или же, наконец, форму неправильных полувозвышений, на которые должно смотреть, как на огромные, сложенные из земли изображения людей, четвероногих, птиц, ящериц, черепах и т. п. Так называемые Effigy-Mounds, или звериные холмы, возвышающиеся не более как на два метра над поверхностью земли, но простирающиеся в длину более чем на сотню метров, представляли бы собой совершенно особенный род художественных произведений, если бы было вообще возможно доказать, как утверждает Цирус Томас, что древние индейцы действительно желали изображать в них животных, формы которых теперь трудно различимы. Иногда приходит на ум, что только фантазия белых завоевателей могла усмотреть в этих земляных холмах и валах фигуры животных. Земляные валы служили большей частью военными укреплениями; широкие платформы и террасы – очевидно, для того, чтобы строить на них жилища, а иногда и целые деревни; усеченные пирамиды со ступенями нередко увенчивались алтарями, а собственно земляные холмы, или mounds в прямом смысле слова, из которых высочайший, пирамида Кагокиа (Cahokia), в Иллинойсе, достигает в высоту до 30 метров, суть не что иное, как могильные курганы. Предметы, открытые в mounds, принадлежат вообще к наиболее ценным произведениям индейского искусства. Здесь найдены в небольшом числе остатки простого плетения и тканья, очень часто встречаются хорошо отшлифованное каменное оружие и орудия, переносящие нас в цветущую пору позднейшей каменной эпохи; менее многочисленны, распространены неравномерно и сосредоточены лишь в известных местах изготовленные холодным путем медные топоры, ножи, резаки, острия стрел и копий, иглы, шила и предметы украшения – изделия, которые завелись у индейцев раньше, чем у полинезийцев; нет также недостатка в украшениях из кости, рога, раковин, перламутровых пластинок и жемчужин, находимых в раковинах; глиняные сосуды, сформованные от руки или при помощи отпечатавшегося на них плетеного каркаса, с простыми вдавленными или врезанными, иногда раскрашенными орнаментами, напоминают сосуды позднейшего и самого позднего каменного периода Европы и часто встречаются в различных местностях индейцев; но весь глиняный сосуд нередко и тут имеет форму присевшего человека или медведя, лягушки, черепахи, сокола, совы.
Впрочем, сосуды были высекаемы также из камня. Большую художественную редкость составляют находимые в индейских mounds искусно вырезанные каменные табачные трубки, головкам которых, чисто по-американски, придан вид человеческих фигур или животных. Эмиль Шмидт дал следующее описание этой индейской трубочной пластики, которую можно изучать главным образом в американских музеях: "То изображаются человеческие головы с выразительными чертами лица – крупным носом и широкими скулами, своими разрисованными или татуированными физиономиями напоминающие тип индейской расы; то воспроизводятся четвероногие – бобры, выдры, дикие кошки, медведи, пантеры, волки, белки, прыгунчики; то птицы – цапли, орлы, тетеревятники, сарычи, вороны, дубоносы и т. д.; то лягушки, змеи, черепахи. Огромное большинство этих отлично сделанных трубок (около 200 штук) найдено в одном из земляных холмов, в так называемом Холме трубок, близ Чилликота".
Каменные трубки самой искусной работы изготавливались на юге штата Огайо, большая же часть медных предметов была найдена в той области Верхнего озера, где добывалась медь, особенно в Висконсине, и если так называемые звериные холмы, за немногими исключениями, составляют особенность южной части Висконсина, северной части Иллинойса и северо-восточного угла Йовы, то могильные холмы с каменными камерами встречаются главным образом в Теннесси и Кентукки – в той индейской провинции, в которой господствовали самое художественное гончарное производство и самая фантастическая орнаментация, состоявшая из геометрических фигур и изображений человека и животных.
Уже не тот характер имеет искусство так называемых индейцев-пуэбло в юго-западной части Северной Америки. Их каменные и глиняные художественные изделия, образцами которых служат обширные постройки для общего жилья, "однодомные деревни", расположенные на степных холмах, и искусные Cliff dwelling (жилища в скалах на склонах утесов) представляют собой, по-видимому, переход к формам старинных культурных стран Америки, пограничных с областями Юго-западной Америки; то же самое можно сказать и о гончарном искусстве этих индейцев, горшечные изделия которых украшены по белому фону черными или красными узорами в виде спиральных и волнообразных линий, крючковатых крестов и завитков, полос меандра или зигзагов.
Из южноамериканских племен, принадлежащих к культурной ступени каменной эпохи, только бразильские лесные индейцы достойны внимания историков искусства. Из них интересны обитатели берегов Верхнего Шингу, южного притока Амазонки, а именно племена бакаири, ауэтё и другие, преимущественно потому, что такие ученые, как Пауль Эренрейх и Карл фон ден Штейнен, подробнейшим образом изучили их искусство и представили его как пример первоначального развития вообще всякого искусства. Названные племена незнакомы с металлами; у них мужчины охотятся и ловят рыбу, а женщины занимаются земледелием, ткачеством и лепят глиняные горшки. Любопытно, что именно у них можно было проследить очевидное происхождение гончарного дела от подражания более древним, употребляемым ныне только на крайнем юге Америки сосудам, сделанным из тыкв, и плетеным корзинкам, нередко служившим для формования горшков.
Рис. 63. Рисунки на столбах у племени ауэтё. По К. фон ден Штейнену
В отношении способности к пластике эти племена не уступают большинству других народов тихоокеанско-американской группы. Глиняная бакаириская кукла, снимок которой сделал фон ден Штейнен, поразительно похожа на человеческие изваяния, принадлежащие доисторической позднейшей каменной эпохе Европы. Резные деревянные скамейки в виде ягуаров, обезьян, грифов и клювачей столь же мало знакомят нас с какими-нибудь новыми сторонами искусства, как и глиняные горшки в виде летучих мышей, броненосцев, ленивцев, уток, сов, голубей, ящериц, лягушек и черепах. Заметим только, что горшки в виде жаб и ящериц изумительны по своей натуральности. Рисовальное искусство этих народов особенно наглядно доказывает связь между изображениями естественных предметов и геометрическими фигурами. Так, рисунки на столбах в "хижине художников" у племени ауэтё (рис. 63), изображающие животных с угловатыми очертаниями: ящерицу и змею с ромбоидальными головами и обезьяну, тело которой состоит из двух треугольников, сливающихся один с другим вершинами, – ясно показывают, каким образом примитивные отображения природы начинают переходить в геометрические формы; образцы орнаментов вдоль по фризу, составленному из окрашенных в белую краску кусков коры, в доме старшины одной из бакаириских деревень еще яснее показывают, что обычные в этих местностях орнаменты – это угловато стилизованные воспроизведения целых животных или их частей. Название некоторых образцов узоров и их объяснение, единогласно даваемое туземцами, не допускают никакого сомнения в правильности их толкования: волнообразные и зигзагообразные линии означают змей, пятна на коже змей превратились в точки, расставленные около линий; рыбы получили преимущественно вид ромбов с разными приставками для отличия одних пород от других; летучие мыши приняли форму треугольников, хотя обычно треугольник служит изображением единственной маленькой одежды женщины тех краев (улури). Любимый мотив орнаментики этих племен – ромб, все четыре угла которого заполнены черными треугольниками. Они называют этот мотив мерешу – названием одной из местных рыб, имеющей приблизительно ромбоидальную форму; треугольники же внутри ромба означают голову, хвост и плавники. Все эти орнаменты можно видеть, например, на деревяшках, вешаемых на спине и составляющих праздничное украшение племени бакаири. На рис. 64: а – узор мерешу; б – узор улури; в – узор летучей мыши; г – узор змеи. Достойно внимания заявление фон ден Штейнена, что воспоминание о первоначальной идее этих узоров сохранилось в племени ауэтё менее живо, чем в племени бакаири. Это подтверждает наше мнение, что геометрические декоративные узоры, каково бы ни было их происхождение, по прошествии нескольких поколений теряют свое первоначальное значение и переходят в сознание народов в виде геометрических фигур. Все толкования фон ден Штейнена согласуются с нашим собственным выводом: наблюдение природы и большее или меньшее стилизование взятых из нее форм составляют основу всякого искусства, всякой орнаментики, даже геометрических линейных узоров. В каждом отдельном случае первообраз узора и способ его изготовления различны, причем иногда бывает, что фигуры живых существ снова переделываются в геометрические формы. Но что развитие орнамента, исходящее из наблюдения различных предметов природы, всегда приводит к тем же самым геометрическим фигурам – это, как мы уже заметили раньше, свидетельствует о том, что человеку свойственна склонность к математике.
Рис. 64. Бакаириские орнаменты. По К. фон ден Штейнену
3. Искусство первобытных и полукультурных народов, знакомых с металлами
Проведение границы между первобытными и культурными народами – задача, способная возбуждать споры. Если бы кто-либо захотел признавать за первобытные народы только дикарей, существующих охотой и рыбной ловлей, а народы на доисторических ступенях позднейшей каменной и ранней металлической эпох стал называть полукультурными, то против этого нашлось бы мало возражений. Для нас дело не в названии, а в ходе развития.
В доисторической Европе введение металлов в употребление, прежде всего бронзы, придало всему быту народов новый, более отрадный, более блестящий характер и выдвинуло на первый план новый способ украшения, хотя в главных отраслях искусства, в архитектуре, скульптуре и живописи, поворот к лучшему пониманию форм и к большей зрелости произошел не вдруг, а постепенно; так, искусство первобытных народов, умеющих обрабатывать металлы, особенно железо, например искусство африканских негров и малайцев Юго-Восточной Азии, еще далеко не во всех, хотя во многих отношениях, возвышается над искусством первобытных народов, незнакомых с металлами.
К малайцам умение добывать и обрабатывать металлы было занесено, вероятно, с северо-запада, к неграм – с северо-востока; но знакомство как тех, так и других с металлами древнее их временного или местного повышения над первобытным состоянием. Андрее даже считает возможным, что негры сами нашли способ добывания железа, тем более что "их страна на всем своем протяжении доставляет им хороший, легко расплавляемый материал в болотной руде". Бронза и латунь во всяком случае были привезены к неграм в качестве дара чужих краев; однако большинство металлических изделий тех негритянских племен, которые в художественном отношении привлекают к себе наше внимание, изготовляют из бронзы или латуни.
Как к неграм, так и к малайцам древние, чуждые им и более высокие культуры были занесены уже давно. Но тогда как малайцы подчинялись последовательно индейскому, арабскому и китайскому влияниям в такой степени, что почти не осталось и следа их собственного первобытного состояния, негры, несмотря на напор на них древних египтян, арабов и индусов, столь упорно держались своих особенностей, что только на севере занимаемой ими области, вместе с примесью чужой крови, произошла и примесь чуждых культурных элементов; большая же часть "черной части света", в отношении внешних и внутренних свойств, мышления и чувства, познаний и способностей своего населения, составляет довольно однообразное целое. "Африканцы, – говорил Фробениус в своей статье об образном искусстве этого населения, – африканизировали всякий материал, а потому все, привнесенное к ним извне, стушевывается".
Религия африканских негров вообще стоит ступенью ниже религии тихоокеанско-американской группы народов, с которой религия негров имеет то сходство, что одухотворяет всевозможные предметы и отчасти состоит в поклонении предкам и животным; но она отнюдь не достигает такого же высокого развития космогонических и мифологических представлений. Вера негров в бессмертие душ сводится к вере в привидения; наделение животных, растений, камней и произведений человеческой руки чудодейственными духовными силами приводит негров к фетишизму, к суеверному почитанию самых разнообразных предметов, становящихся священными благодаря какому-нибудь обстоятельству или колдовству. Служение фетишам достигло наибольшего развития в Северной и Средней Африке. Но настоящие человекообразные идолы более распространены на берегу Атлантического, чем на берегу Индийского океана.
Места, в которых у негров хранятся фетиши, заменяют этому племени храмы. В самых разнообразных видах, на самых отдаленных местах, в самых странных убранствах смотрят фетиши как на посвященных, так и на непосвященных. Поэтому об архитектуре собственно храмов у негров не может быть и речи.
Рис. 65. Хижина Марутсе-Мамбундского царства. По Голубу
Рис. 66. Хижина племени монбутту. По Швейнфурту
У негров при постройке жилищ господствует форма конуса с круглым или овальным основанием. В жилищах простейшего типа стены и крыша не отделяются друг от друга. Хижина, сплетенная из тростника или древесных ветвей, не имеющая окон и снабженная только одним низким входом, похожа на улей или на настоящий конус, как, например, у кафров-зулусов в Юго-Восточной Африке и у стоящих антропологически выше их племен ваганда и ванииро в области истоков Нила – племен, у которых хижины вождей, построенные крайне тщательно, с навесом над дверью, представляют собой высшую ступень развития типа ульев. На более высокой ступени по своему виду стоят хижины с конусообразной крышей и цилиндрической стеной, встречающиеся у большинства племен Средней Африки наряду с жилищами, похожими на улья. Эта крыша опирается то на саму стену, то на окружающие ее снаружи вертикальные подпорки, так что получается галерея вроде веранды, то, наконец, на подпорки внутри хижины, причем между подпорками и стеной образуется также галерея. Как на характерные образцы второго типа, можно указать на хижины открытого Голубом царства Марутсе-Мамбунда (рис. 65), а на образцы третьего типа – на хижины бетшуанов в Юго-Западной Африке. Но в Америке можно встретить и прямоугольное основание хижин. Оно попадается в свайных постройках озер Мориа на Африканском плоскогорье, изобилующем реками и болотами; при более высоком состоянии искусства на таком основании возводится слегка сводчатая крыша из черешков листьев пальмы рафия, как, например, у племени монбутту в центре Африки, которое посетил Швейнфурт (рис. 66); такое же основание является господствующим по всему Конго, в областях Огове, Габун и Камерун, где на нем нередко сооружаются вместительные и удобные дома. Если мы обратимся к северным границам негритянского искусства, к области Нигера-Бенуе в Судане, где негры обладают высокой северной культурой, то убедимся, что превосходство жителей этой полосы по части искусства выказывается именно в архитектуре домов. В жилище царя Уморусса в Вида, по свидетельству Флегеля, резные деревянные колонны поддерживают низко спускающуюся соломенную кровлю, а створки дверей, подобно колоннам, украшены искусной резьбой. К югу от Вида, на Гвинейском берегу, то есть опять-таки в чисто негритянской стране, в ее древнем главном городе, Бенине, завоеванном англичанами в 1897 г., был открыт полуисторический мир искусства, о котором еще в XVI столетии имелись сообщения европейцев. Здесь архитектура, по-видимому, достигла большего развития, чем где бы то ни было в тропической Африке. Подпорки веранды, равно как и балки плоского потолка в царском дворце, над которым возвышались пирамидальные башни, были украшены роскошными рельефными бронзовыми пластинками, и огромная бронзовая змея, извиваясь, спускалась вниз со среднего выступа крыши. Сделанные здесь находки подтвердили верность старинных описаний. В Берлинском и Дрезденском музеях народоведения находятся головы таких змей величиной в натуру.
В Берлинском и Британском музеях можно видеть также бронзовые пластинки, на которых изображен весьма правдиво вход во дворец, занятый стражами из негров и украшенный отрубленными головами европейцев.
Скульптура – главное искусство негров, к которому почти все они обнаруживают некоторую способность. И у них в этом искусстве первостепенную роль играет резьба по дереву и из дерева, обыкновенно оставляемая нераскрашенной; но наряду с ней, особенно в Западной Африке, распространена резьба по слоновой кости; в литых металлических фигурах также нет недостатка, и бронзовые изделия Гвинейского берега могут даже считаться наиболее показательными произведениями во всем этнографическом искусстве. Тем не менее скульптура негров имеет вообще другой характер, чем пластика тихоокеанских и американских племен. Она – трезвее и реалистичнее. Фантазия негров несклонна к причудливому сочетанию фигур людей и животных, а повсюду, где у вышеупомянутых племен эти фигуры являлись бы в значении генеалогического дерева, приводит их в простое, естественное отношение одних к другим.
Рис. 67. Фигура женщины-предка у негров бонго. По Швейнфурту
В африканской скульптуре невозможно провести резкую черту между идолами, изображениями предков, часто называемых "изображениями душ", изваяниями в память умерших и между свободными созданиями искусства. Но поучительно проследить в этой скульптуре переход едва намеченных полугеометрических форм в совершенно естественные формы и в их преувеличения, хотя и тут в отдельных случаях путь мог быть регрессивный. Охранительные серьги колдунов бамангвато (бетшуанов) в Мюнхенском этнографическом музее сильно напоминают человеческие зародыши. Волшебная кукла племени бари, живущего в верхней области Нила (Венский придворный музей), как бы с сознательной глупостью щеголяет своими формами недоразвившегося человека. Обнародованные Швейнфуртом статуи предков, стоящих гуськом перед могилой старшины Янги у племени бонго, близ Муди, представляют собой неуклюжие фигуры, изготовленные с наивной неумелостью (рис. 67). Несколько лет тому назад Фробениус указал, как во всех частях Африки на могилах знатных людей выставлялись на шестах головы благородных, последовавших вместе с ними в загробный мир, как, благодаря поклонению черепам, эти столбы духов превратились в образы предков и как из этих столбов образовались человеческие фигуры. Таким образом, длинная шея, похожая на палку, или тонкое, длинное туловище, напоминающее собой шест (иногда он характеризует негритянскую пластику), являются остатками шестов, от которых произошли означенные фигуры.
В Берлинском музее народоведения есть много деревянных негритянских фигур, относящихся к более высоким ступеням развития; но эти изваяния никогда не отличаются таким однообразием выполнения, какое мы видим, при всей их незрелости, в фигурах с острова Пасхи, с Новой Зеландии или из Северо-Западной Америки. Каждый негр – реалист, фантазер и комик на свой лад. Фигура коленопреклоненной женщины с чашами и ребенком за спиной из Дагоме, хранящаяся в Берлине, может служить хорошим примером сравнительно верного природе изображения человека, в котором, однако, особенности негритянской расы преувеличены. Деревянная статуэтка женщины, кормящей ребенка грудью, с берега Лоанго, изданная Юстом, представляет явный пример добросовестного стремления к живой характеристике, как указывают на то зубы в большом открытом рте этой фигуры, ее горбатый еврейский нос, действительно встречающийся на упомянутом берегу, ее декоративные рубцы. Деревянный рогатый идол с р. Нигер (Британский музей) – образчик фантастических произведений негритянского искусства, в котором от страшного до смешного – всего один шаг.
Самые фантастические работы негров по части резьбы на дереве – камерунские лодочные носы, которые можно видеть, например, в Берлинском и Мюнхенском музеях. По смешению фигур животных и людей, по редко встречающемуся в Африке орнаменту из глаз, по обильной раскраске в черный, белый, красный и зеленый цвета эти произведения немецких владений в Западной Африке более близки к произведениям немецкой Океании, чем все прочие предметы африканского искусства. "Может быть, – говорит Генрих Шурц, – будущее выяснит нам историю этих странных произведений, по-видимому долженствующих пролить свет на многие новые задачи".
Мы уже говорили о резьбе на дверных столбах и дверных створках у гаусских негров в области Нигера-Бенуе. В этой орнаментации кроме концентрических кругов и ромбов встречаются крупные фигуры животных. Особенно интересны две резные створки двери из дома вождя в Эйре (рис. 68), попавшие в Берлинский музей народоведения. Здесь в несколько рядов, помещенных один над другим, изображены барельефом фигуры людей и животных и рассказаны происшествия, содержание которых имеет лишь этнографический интерес. В отношении исполнения они останавливают на себе внимание не столько формами изображенных плотных, приземистых, неуклюжих фигур, сколько строгой выдержкой начал примитивного барельефа. Это заметил еще Юлий Ланге. Люди представлены то спереди, то сзади, то в профиль; животные, удивительно плохие по рисунку, изображены не иначе как с боку. Как бы то ни было, содержание этих изображений, которое Флегель упросил объяснить ему владельца створок, весьма поучительно для суждения о негритянском искусстве. На первой площадке первой створки изображена обезьяна, которая, будучи преследуема леопардом и спасаясь от него, влезла на дерево. На последней площадке второй створки – мужчина, удерживаемый от убийства соблазнителя своей жены. Но между всеми изображенными событиями трудно установить какую бы то ни было внутреннюю связь. Ясно, что ступень искусства, на которой стоят эти рельефы, уже не имеет ничего общего с первоначальной ступенью, к которой относятся произведения охотничьих и рыболовствующих народов.
Тем не менее оно еще соответствует известной доисторической стадии искусства.
Гораздо лучше, чем эти суданские негры, живущие на границе высшей культуры, изображают животных негры, обитающие в ближайшем соседстве с бушменами, особенно вышеупомянутые бетшуаны, которые по части резьбы по дереву превосходят многие другие племена. Ручкам своих ложек они обычно придают форму животных, всего чаще жирафа, и нельзя не удивляться тому, как, при всей неумелости рисунка, эти жирафы верны природе и вместе с тем стилизованы. Понятие об этих предметах можно составить себе по их образцам, хранящимся в Дрезденском этнографическом музее и Берлинском музее народоведения (рис. 69). Целые сосуды, сделанные в виде животных, в Африке встречаются реже и не столь характерны, как в Америке. Однако в городском музее во Франкфурте-на-Майне находится зулусский деревянный сосуд, имеющий форму черепахи.
Рис. 68. Дверные створки из дома вождя в Эйре. С оригинала
Рис. 69. Рукоятка бетшуанской ложки в виде жирафа. С оригинала
Отливка художественных изделий из металлов у негров более всего развита опять-таки в Бенине, бронзовое производство которого, существовавшее еще в XVI и XVII столетиях, обратило на себя сильное внимание европейцев. После 1897 г. в Европу привезены в значительном количестве бронзовые головы, бронзовая утварь, главным же образом бронзовые пластинки с рельефными изображениями. Среди более редких целых фигур животные встречаются чаще, чем люди. Львиную долю этих предметов получили Берлинский и Британский музеи; но не остались без них и этнографические музеи Гамбурга, Дрездена, Вены, Лейпцига. Коллекция Британского музея опубликована Ридом и Дальтоном. Берлинскую коллекцию издал уже писавший о ней Лушан. Мнения расходятся относительно назначения больших голов, снабженных круглым отверстием в верхней части черепа, иногда с высоким головным убором, причем шея и подбородок совершенно закрыты бусами. Английские ученые считают эти головы сосудами для хранения слоновых клыков, украшенных роскошной резьбой, а Лушан предполагает существование связи между ними и поклонением черепам, умершим и предкам. В лучших из таких голов (примечательна голова из Берлинского музея) негритянский тип воспроизведен столь правдиво, индивидуальность лица схвачена столь верно, отливка, произведенная с утратой восковой модели (б cire perdue), столь превосходна, что только зрелое искусство культурных народов может противопоставить этим изделиям нечто подобное. Пластинки с рельефами нередко бывают выгнуты вовнутрь, как бы для того, чтобы быть набитыми на округлость. Кроме уже описанных дворцовых изображений на этих пластинках изображены люди и животные: люди, коротконогие, длиннотелые, но не особенно большеголовые, представляют, как и все изваяния негров, частью европейцев, а именно португальцев, в костюмах XVI и XVII столетий, иногда негров, причем они в большинстве одеты и вооружены (рис. 70, из коллекции Ганса Мейера) и реже, вероятно только тогда, когда это чужие племена, обнажены и татуированы. Большинство фигур обращено лицом прямо к зрителю. Повороты, переходящие за правило фронтальности, редки, но встречаются. Из животных изображаются преимущественно имеющие значение предков или фетишей: леопард, крокодил, змея, черепаха, акула, обезьяна, лягушка, а также слон, бык и антилопа.
Рис. 70. Бронзовая пластинка из Бенина. С фотографии
Фигуры находятся иногда в том или другом отношении друг к другу, что можно сказать как о неграх, так и о белых; но, изображенные на одной и той же пластинке группами или отдельно, они обычно стоят неподвижно и смотрят прямо вперед. Все они выделяются на фоне, покрытом узорами чеканной работы вроде вытканных на ковре. На некоторых особенно старательно исполненных, удачных и старинных произведениях пластики, хранящихся в Лондоне, узор состоит из кругов и крестов, в огромном же большинстве случаев – из четырех лепестковых цветов, видимых как бы сверху и иногда потерявших один, два или три лепестка. По качеству работа бывает очень различна. Особенно интересно "дерево фетишей" или, как называли его Рид и Дальтон, "палка предков", очевидно надмогильный шест упомянутого вида, хранящийся в Гамбургском музее. Человеческие головы и животные и здесь находятся в менее тесной взаимной связи, чем, например, у океанийцев.
Нет ничего невероятного в том, что это бронзовое искусство занесено в Бенин в XVI в. португальцами, как говорили о том англичанам сами бенинские негры. Но при каком бы то ни было взгляде на произведения негров приходишь к убеждению, что они и это искусство усвоили себе и африканизировали. Рид и Дальтон согласны с Лушаном в том, что из сохранившихся произведений нет ни одного, которое не было бы делом негритянских рук.
Из Бенина техника литья из бронзы и латуни, очевидно, распространилась по всей Гвинее, где она еще и теперь процветает в измененном виде. "Современные работы ашанти и дагомейцев, – говорил Лушан, – без сомнения, суть последние отпрыски старинного бенинского искусства; в произведениях, представляющих постепенный переход от него к ним, нет недостатка, так что мы должны предположить непрерывное упражнение в этом искусстве, продолжавшееся несколько столетий". Сравните, например, латунный шест негров огбони из Лагоса в лондонской коллекции Кристи с бенинским деревом фетишей в Гамбургском музее. И этот шест свидетельствует о том, насколько натуральнее, чем меланезийцы, негры соединяют для символически декоративных целей фигуры людей и животных.
Рис. 71. Каменный наконечник зулусской трубки с орнаментом в виде плетения. По Ратцелю
Своеобразный род рельефа у западноафриканских негров мы видим также в их резьбе по слоновой кости. В наши музеи попало множество мелких бенинских художественных изделий из этого материала, отличающихся примитивной оживленностью. Разумеется, в отношении тонкости и свободы исполнения эти арабески, с трудом вырезанные на твердом веществе, не выдерживают сравнения с теми бронзовыми изделиями, формы которых первоначально лепятся из воска, но по материалу и замыслу арабески эти могут быть поставлены на одну доску с бронзовыми произведениями. Целые слоновые клыки весьма искусно были превращены в своеобразные художественные предметы, и нередко вся поверхность клыка покрывалась полурельефной резьбой. Что рассказывается и сопоставляется на этих клыках, о том мы можем пока только догадываться. На слоновых клыках из Бенина, привезенных в большом числе в Европу вместе с упомянутыми бронзовыми изделиями, опять-таки наряду с изображениями негров, являются португальцы XVII столетия. Этого рода искусство существовало на всем Гвинейском берегу. Большие европейские этнографические музеи богаты разнообразными произведениями такого рода, украшенными множеством различных фигур: иногда в старейших кабинетах редкостей их считают средневековыми европейскими произведениями.
Собственно линейная орнаментика негров представляется, на первый взгляд, не требующей подробного объяснения. Темные треугольники или полукруги на светлом фоне, рядами спускающиеся или свешивающиеся с верхнего края предметов или поднимающиеся с нижнего края, правильные четырехугольники, расположенные в шахматном порядке, зигзагообразные, параллельные и перекрещивающиеся линии встречаются на юге и севере, на востоке и западе страны, занимаемой неграми, на самых разнообразных предметах, в самых разнообразных видах и, как кажется, уже давно играют роль лишь геометрических украшений. Из прямолинейных орнаментов внимания заслуживают, например, резные на дереве или камне узоры южных африканцев, подражающие плетению; их происхождение очевиднее, чем происхождение большинства других мотивов, ведущих свое начало, как предполагают, от тканья. На рис. 71 изображен украшенный таким образом наконечник зулусской трубки (Берлинский музей народоведения). Замечателен также крючковатый крест на латунных гирьках ашантиев и в татуировках в области р. Куилу. Крючковатый крест встречается в Индии и Европе, в Америке и Африке, и мы соглашаемся с Лушаном, заметившим: "Я лично верю пока в возможность того, что этот знак появился совершенно самостоятельно и независимо у различных народов и в разную пору".
Рис. 72. Африканский орнамент в виде ящериц. По Вейле
В негритянской орнаментике отнюдь нет также недостатка в кривых и волнообразных линиях. Розетки на ножнах меча из Либерии (Стокгольмский музей) производят впечатление стилизованных цветков. На бронзовых сосудах гаусских негров встречается также фигура, состоящая из трех подобий буквы Г, исходящих из одного общего центра. Рассматривая эти сосуды, мы снова доходим до крайней границы настоящей негритянской орнаментики, которая, подобно всей орнаментике доисторических и первобытных народов, отличается редкостью употребления мотивов растительного царства сравнительно с пользованием человеческими, животными и линейными мотивами.
Но этнология не преминула объяснить негритянскую, слагающуюся из форм человека и животных, равно как и линейную, орнаментику таким же образом, как это было сделано относительно океанийской и бразильской. Карл Вейле указал, что ящерица составляет в Африке основную форму линейного орнамента и что в различных узорах можно распознать разные виды ящериц, начиная с крокодила и кончая гекконом и сцинком; иногда эти орнаменты являются чрезмерно развитой, чаще же слабой формой своего первообраза (рис. 72).
Негры, не затронутые древней цивилизацией берегов Нила и побережья Средиземного моря, несмотря на свое знакомство с железом и обработкой бронзы, в сущности могут считаться первобытным народом, но относительно малайцев это справедливо только в известной степени, хотя этнография и причисляет их к первобытным народам. Собственно малайский мир Юго-Восточной Азии, опять-таки преимущественно мир островов, граничит на севере и западе с древними культурными народами Азии, а на востоке соприкасается с меланезийцами и микронезийцами, о которых мы уже говорили. Современное нам народоведение причисляет к малайцам прежде всего обитателей Зондских островов, Суматры, Борнео, Явы, Целебеса, Молуккских и Филиппинских островов. В этнографическом отношении эти малайцы представляют собой смешанное племя со многими разновидностями, а потому изучение их с точки зрения истории искусства наталкивается на многие противоречия и трудности. Развалины огромных построек, из которых самыми величественными надо признать руины буддийского храма в Боробудуре, на Яве, с 555 нишами для статуй Будды в натуральную величину, принадлежат не полукультурному состоянию первобытного народа, а браманской и буддийской культуре Индии. То же самое можно сказать и о встречающихся здесь многочисленных каменных и бронзовых индусских статуях богов. Великолепные зеленые, коричневые и синие глиняные, нередко украшенные драконами, сосуды, которые, по свидетельству Адольфа Бернгарда Мейера, принадлежали на Борнео и Филиппинах к самым ценным предметам утвари в туземных семействах, переходившим из рода в род, эти сокровища искусства завезены из Китая много столетий тому назад. Индостанское влияние на острова Восточно-Индийского архипелага и торговые сношения с Китаем существовали еще в начале средних веков, может быть, даже ранее. В поздний период средних веков победоносно вступил на Малайские острова ислам. Вместо старинных индусских храмов стали сооружаться мечети, лишенные какого бы то ни было изящества; искусство литья из бронзы было забыто; арабское письмо сделалось хранителем довольно незначительной малайской истории и поэзии. Несколько столетий после того на Малайские острова, особенно на Яву, хлынул поток европейской цивилизации, и китайская промышленность стала соперничать здесь с европейской, вытесняя древние туземные изящные ремесла. Поэтому мы вряд ли имели бы право говорить о малайском искусстве как об искусстве первобытного народа, стоящего на ступени металлической эпохи, если бы древние малайцы не удалились с берегов и из больших городов в горы и в глубь островов и не сохранились там до известной степени в чистом виде. О Яве, пожалуй, можно совсем умолчать. В данном случае всего интереснее для нас Суматра, Борнео и Люцон. Такие племена, как батаки на Суматре и на соседнем острове Ниасе, даяки на Борнео, тагалы, кианганы и игорроты на Люцоне, дают возможность понять первоначальное состояние малайского искусства, и если мы будем говорить главным образом об искусстве даяков острова Борнео, то лишь потому, что лучше всего познакомились с этим предметом благодаря книге Л. Р. Гейнса.
Рис. 73. Батакский волшебный жезл. По Ратцелю
До своих сношений с индусами и китайцами малайцы, как уже доказал Крауфорд на основании их языка, занимались земледелием и скотоводством, тканьем из растительных волокон, добыванием и обработкой железа, может быть, также золота, к которому лишь позднее присоединились медь и олово, гончарным делом, в котором, однако, не достигли особенного мастерства; с любовью предавались они мореплаванию и торговле и, выработав свое собственное буквенное письмо, уже были готовы переступить через границу первобытного состояния; между тем их религиозные воззрения сводились к такому же культу душ, предков и животных, какой мы видели в Америке и Океании, и в некотором отношении даже приближались к такой же боязни привидений и к такому же фетишизму, какие наблюдаются у негров. Культ предков, представление о корабле мертвых, отвозящем души в загробный мир, и о птице-носороге, заменяющей собой корабль мертвых, как только загробный мир переносится за облака, оплодотворили художественную фантазию малайцев. Изображения предков, нагроможденные друг на друга или расположенные в виде ряда фигур людей и животных, подобные виденным нам в Меланезии, особенно на Новом Мекленбурге, и в Америке, у северо-западных индейцев, Шурц недавно нашел у батаков. Как на образцы таких изображений можно указать на волшебные жезлы, хранящиеся в Лейпцигском и Дрезденском этнографических музеях (рис. 73); наиболее же полным воплощением мифов о корабле мертвых можно считать батакскую модель гроба в виде корабля с головой и хвостом птицы-носорога, в Дрезденском музее, и даякскую картину с подобными кораблями, в Берлинском музее народоведения. Если ввиду этого нет ничего невозможного в том, что древнемалайская культура послужила исходным пунктом всего рассмотренного нами малайского, полинезийского и северо-западного американского искусства, то нельзя отрицать и того, что искусство этой зоны шло другой, пожалуй, даже противоположной дорогой. При изучении искусства первобытных народов до сих пор почти постоянно ускользает от нас последовательность, в какой развились одно за другим явления, существовавшие в одно и то же время. Научное исследование в этом случае то и дело попадает в глухие закоулки.
Рис. 74. Батакский дом. С модели из Дрезденского этнографического музея
Архитектура жилищ у малайцев имеет свой весьма определенный отпечаток. Среди первобытных народов они являются самыми ревностными любителями свай, и там, где не действовало на них чужеземное влияние, до сих пор остались верны свайным постройкам. Даже на суше они устраивают себе жилища обыкновенно на сваях, иногда возвышающихся более чем на 12 метров. Город Палембанг, в котором роль главной улицы играет река Муси, – Венеция Суматры, город свайных построек на воде; даякские деревни в девственном лесу на Борнео и описанные Гансом Мейером деревни тагалов и игорротов на горных вершинах Люцона состоят из свайных селений на суше; вместительные семейные дома батаков на Суматре и однодомные жилища даяков на Борнео держатся на сваях точно так же, как и самые маленькие хижины этих островов. У всех малайских племен общее правило – строить жилье с четырехугольным планом, столь удобным при свайных сооружениях; круглая, овальная или восьмиугольная постройка встречаются лишь в виде исключения. Высокая крутая крыша, представляющая достаточное сопротивление тропическим дождям, бывает то покатая, то с фронтоном, то соединяет в себе и покатость и фронтон (рис. 74), как, например, у батаков, у которых косо выдающиеся фронтоны поднимаются над крутыми скатами крыши. Более обширные здания в редком случае не снабжены верандами, которые, впрочем, иногда заменяются открытым дощатым помостом, свободно проложенным между сваями на высоте нижнего этажа. Для соединения отдельных частей сооружения древние малайцы употребляли только веревки из лыка или петли из ротанга. В украшении и убранстве домов нет недостатка. У батаков наружные стены расписаны по белому фону многочисленными черными и красными орнаментами или изображениями животных, а верх фронтонов украшен резными из дерева символическими головами быков. У игорротов встречаются изваянные на дверных столбах человеческие фигуры. У даяков фронтоны обычно покрыты обильной резьбой, нередко представляющей завитки, а к стенам и на балках приделаны "резные фигуры демонов и разные уродливые маски", иногда ясно свидетельствующие о китайском влиянии.
Рис. 75. Кианганские изваяния предков. По А. Б. Мейеру
Древняя скульптура малайцев в сущности представляет собой резьбу по дереву, хотя почти везде у них встречаются также грубые каменные фигуры. И в этой скульптуре главную роль играют изваяния людей, иногда выдаваемые за изображения предков; но наряду с ними встречаются и такие человеческие фигуры, которые хотя и не служат предметами поклонения, однако считаются олицетворениями добрых или злых духов и в некоторых местах ставятся у дверных столбов, близ могильных домиков и на дорогах для отвращения злых духов. Хотя эти фигуры в отношении своих общих пропорций не столь плохи, как меланезийские, и не имеют столь безобразно больших голов, однако в малайских изваяниях человеческие формы переданы нисколько не лучше, чем в меланезийских. Впрочем, между фигурами, принадлежащими разным островам и племенам, можно подметить некоторые типичные различия. Идолы и фигуры предков с острова Ниаса, представленные по большей части присевшими и с покрытыми головами, при тщательной работе и верном числе пальцев на руках и ногах, отличаются резкими чертами лица, толстыми губами и короткими, вздернутыми вверх носами. Гораздо безобразнее подобные фигуры батаков в дрезденской коллекции: головы у них – овальные, лица и носы – плоские, члены тела – непропорциональные и бесформенные; производимое ими общее впечатление крайне незначительно. Напротив того, дрезденские фигуры предков, привезенные от игорротов с острова Люцон, отличаются выразительностью; правда, и в них взаимное отношение частей тела и формы его отдельных членов переданы с удивительной небрежностью, но лица с их монгольскими глазами и загнутыми вниз носами очень типичны, а в движениях и позах выказывается стремление к воспроизведению индивидуальной жизни. На рис. 75 изображены две фигуры предков – произведения кианганов, близко родственных с игорротами: женщина с ребенком на спине и воин с поднятой рукой.
Рис. 76. Даякский кньялан. По Гейну
Рис. 77. Даякский щит. По Гейну
Говоря о малайских резных изделиях, представляющих смесь фигур людей и животных и связанных с религиозными представлениями этого племени, мы уже упоминали о стилистически вырезанных волшебных жезлах батаков. К подобным предметам можно причислить так называемые кньяланы даяков (рис. 76), Венский придворный музей. Эти своеобразно скомпонованные и раскрашенные резные изделия, употреблявшиеся во время церемоний на охотничьих празднествах, представляют странные сочетания фигур животных и людей на спине стилизованной птицы-носорога. Если принять во внимание назначение этих предметов, мифологическое значение сказочной птицы и внешнее сходство этих работ с изделиями меланезийцев и северо-западных американцев, то придется, вместе с Шурцем, признать их важными звеньями в общей цепи подобных изображений.
Своеобразная живопись древних малайцев может быть названа скорее пиктографией, чем писанием картин. Это можно сказать даже относительно изданных Грабовским больших даякских таблиц с изображением кораблей мертвых. Но живопись играет важную роль в декоративном искусстве этих племен. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на дома батаков и на щиты даяков. Здесь нельзя отделить живопись от орнаментики.
Но в этой области первоначальные малайские формы заслонены таким слоем индийских, китайских и арабских мотивов, что почти невозможно распознать того, что первоначально было исключительно достоянием малайцев.
Рис. 78. Рукоятка меча с острова Ява. По Гейну
Рис. 79. Орнамент, состоящий из завитков и волют, с острова Суматра. По Гейну
Малайская орнаментика, заимствованная из мира животных, в изображениях на плоскости обнаруживает несомненную склонность превращаться в геометрические формы, и в малайских кругообразно и криволинейно изгибающихся узорах видно стремление к подражанию формам растений, вызванное знакомством с индийской и китайской орнаментикой. Тигры и драконы китайских щитов обращаются на щитах даяков в морды демонов с вытаращенными глазами, открытым ртом и огромными клыками, иногда с остатками форм человеческого тела. На даякском щите, хранящемся в Берлинском музее (рис. 77), все это еще явственно различимо, но на щите из внутренних частей Целебеса, в Лейденском музее, составные части изображения так разбросаны, что нужен некоторый навык, чтобы видеть в них нечто целое. Существующая уже 400 лет рукоятка меча в Венском этнографическом музее может служить примером превращения физиономии в арабеску, напоминающую собой растение (рис. 78). Но что состоящий из завитков орнамент с Суматры (рис. 79), скопированный Гейном с Форбеса, изображает тигра с поджатыми ногами, со свернутым хвостом и с глазами в виде завитков, об этом можно догадаться лишь тогда, когда познакомишься со всем общим ходом развития орнамента у этих народов. Только тогда, независимо от линий лица, в концентрических кругах и волютах можно усмотреть присутствующие повсюду глаза; лишь тогда перестанешь удивляться, что арабески, похожие на растения, какие мы видим на даякских гробах (рис. 80), знатоки признают за головы птицы-носорога, тесно связанной с религиозными представлениями этих народов.
В линейной орнаментике малайцев, наряду со всеми известными простыми сочетаниями, постоянно выказывается наклонность к свертыванию концов в завитки, какую мы видели также на Новой Гвинее; таким образом, свободно оканчивающиеся линии принимают вид круглых крючков, которые нередко снова переходят в угловатые. К этим мотивам присоединяются круговые линии, розетки, дельтоиды, ромбы и пламенники.
Рисунки богаче и изящнее, чем мы видели их до сих пор.
Тогда как узоры тканей почти исключительно индусские по происхождению, узоры плетений – корзин, циновок, шляп – туземные; их развитие, как кажется, действительно имеет геометрический характер. "Элементы всех этих криволинейных узоров плетения, – говорил Гейн, – представляют собой взаимно соразмерные окружности, расположенные одна подле другой в виде ритмических рядов, приведенные друг с другом в соприкосновение и образовавшие, при помощи соединяющих их касательных, оригинальные, прелестные и разнообразные узоры". Тонкие и талантливые орнаменты обильно рассеяны на малайских изделиях из дерева, бамбука, рога и кости. Именно здесь мы часто видим красивую игру то переплетающихся лент и прямолинейных мотивов, то геометрических фигур, неправильно изгибающихся в виде огненных языков; здесь простые линии нередко переходят в настоящие растительные арабески и волнообразные завитки, как это особенно ясно видно на бордюрах различных предметов, на которых, если последние имеют углы, уже встречаются полосы меандра, а если вообще округлы, разыгрывается схема волны, начиная с ее простейшего вида и кончая крайне затейливыми рисунками; когда же к этому орнаменту присоединяется подражание листьям, то получается, в полном смысле слова, веточка ползучего растения, как это видно на бордюрах различных даякских изделий (рис. 81). Очевидно, такие узоры, как последние в представляемом нами ряде, не могут быть древнемалайским наследием и образовались под западным влиянием.
Рис. 80. Орнамент на даякском гробе. По Шурцу
Рассмотрение искусства первобытных народов заставило нас посетить ледяные пространства дальнего севера и пустыни самых отдаленных краев умеренного пояса, но всего долее оно удержало нас в жарких тропических странах, щедро наделенных всеми дарами природы. Мы видели повсюду, что искусство различных народов является, с одной стороны, отражением их экономического положения, а с другой – результатом географических и климатических условий, в которых они живут; везде оказывалась раса творцов художественных произведений, везде в этих произведениях выводились на сцену знакомые данному народу звери, везде сказывались особенности обитаемой им страны, везде в его творениях выражались созданные ими самими религиозные представления. Всюду мы находили также свойственные начертательным искусствам всех народов законы симметрии, соразмерности, правильности и т. д., находили знание и употребление простых геометрических форм, четырехугольника, треугольника, зигзага, часто круга, спирали, волны и сложных фигур, причем за этими формами как бы бессознательно признавалось известное значение, и сами они черпались из различных источников; мы находили также довольно уравновешенное чувство краски, употребляя которую люди пользовались вначале лишь четырьмя цветами: черным, белым, красным и желтым, и только в более культурных областях или под влиянием европейцев явилось умение присоединять к этим цветам немного синего или зеленого.
История развития орнаментики у народов, находящихся в первобытном состоянии, подтверждает то, что мы могли предполагать на основании знакомства с доисторической эпохой. Мы видели, что орнаментика у этих народов произошла, с одной стороны, от наблюдения над природой, с другой – из самой техники того или другого производства, особенно из техники плетения; мы видели также, что во всем декоративном искусстве этих народов подражание природе играло большую роль, чем подражание техническим приемам, и что на тех ступенях развития, с которыми мы до сих пор знакомились, при подражании природе фигурам людей и животных всегда отдавалось предпочтение перед растениями, изображения которых начинают несмело появляться лишь в исключительных случаях и по особым причинам.
У некоторых первобытных народов мы могли указать на развитие игры геометрических линий из фигур людей и животных; но именно у этих народов мы должны особенно резко разграничить подражание геометрическим формам, встречающимся в природе, которое, по нашему мнению, всегда шло впереди, от изменения человеческих и животных форм в геометрические фигуры; и именно символические орнаменты некоторых первобытных народов показали, что внутренний их смысл не развивается из игры линий, а присущ уже тем образам природы, из которых выработались эти орнаменты.
Рис. 81. Малайские узорчатые полосы. По Гейну
4. Искусство древних культурных народов Америки
История искусства первобытных и полукультурных народов, знакомых с металлами, перенесла нас из Африки на Восток, на Малайские острова, а оттуда привела еще дальше в ту же сторону, через океан, к древнеамериканским народам, которых мы едва ли вправе называть полукультурными. Организованная государственная жизнь, сложившаяся религия, установившийся письменный язык – таковы предварительные условия той высшей цивилизации, зрелыми плодами которой являются науки, а роскошнейшими цветами – искусства. Без сомнения, американские культурные народы до некоторой степени обладали всем этим; тем не менее они лишь умеренно возвысились над полукультурой тех индейцев, которых мы должны были причислить к первобытным народам. Их развитие остановилось на полпути к той культуре, какой им, может быть, но только может быть, удалось бы достичь. Поэтому мы не можем рассматривать их искусство в связи с искусством культурных народов Азии, берегов Нила и Европы, а должны смотреть на него, как на конечную фазу художественного развития доисторических и первобытных народов, некоторым образом как на высшую ступень развития их искусства.
Древние культурные народы Америки жили на пространстве, ограниченном с севера и юга и заключавшем в северной своей части нынешние государства – Мексику, Гватемалу, Гондурас и Никарагуа, то есть на пространстве от одного океана до другого, в Южной Америке, начиная с Колумбии, расселились сравнительно узкой полосой вдоль побережья Тихого океана, на пространстве нынешних областей Эквадора, Перу и Боливии. Хотя таким образом культура древней Америки развивалась исключительно в пределах тропического пояса, однако влияние местного зноя она испытывала собственно лишь в сравнительно немногих болотистых или степных береговых областях вышеозначенного пространства. Но главные очаги культуры лежали в умеренных, иногда даже суровых по климату горных областях, в Мексике на высоте от 1500 до 3000 футов, а в Перу даже до 4000 футов над поверхностью моря – областях, в которых над этими горными плато возвышаются почти вдвое их превосходящие высотой вулканы. Мексиканцы (племена нагуа, толтеки, ацтеки) на севере и перуанцы (аймара, юнки, инки-перуанцы) на юге считаются главнейшими представителями древнеамериканской культуры. Но рядом с мексиканской культурой толтеков и ацтеков в Центральной Америке существовала, главным образом на полуострове Юкатан, превосходившая мексиканскую культура племен майя, от которых мексиканцы, быть может, и заимствовали начала своей культуры. В северной же части Южной Америки, в нынешней Колумбии, также рядом с культурой инков, развивалась самостоятельная культура племен чибча.
Но, отметив тот факт, что между культурными направлениями этих племен замечается некоторое различие, все-таки придется придать большее значение объединяющему их сходству – родству. Именно это сходство в достигнутых главнейшими племенами результатах – при условии их независимого друг от друга развития и вне возможности заимствований извне – служит доказательством основного единства американского народного типа. Взгляд, что вся культура древнеамериканских народов – отторгнутая часть более высокой культуры Старого Света, считается ошибочным, но зато признана очень близкая ее связь с полукультурой многочисленных местных индейских племен – той самой полукультурой, которую еще в настоящее время мы наблюдаем у этих племен; таким образом, древняя культура Центральной Америки представляется лишь позднейшей, более высокой ступенью этого местного, национального развития. Что касается до действительного или только кажущегося сходства в произведениях американской культуры с произведениями Старого Света, то оно, несомненно, может быть в достаточной мере объяснено одинаковостью человеческой природы: сходные культурные условия порождают и сходные произведения. Религия североамериканских индейцев, сущность которой состоит, главным образом, в почитании предков семьи и племени в связи с одухотворением всего, находится в несомненной связи с развившимся до степени вполне разработанного культа многобожием древнеамериканских культурных народов; у них почитались божества неба, особенно солнца, луны, оплодотворяющего небесного дождя и четырех сторон света, но очень видную роль играли также несчетные божества – покровители семей и племен (то есть предки), которым приносились даже человеческие жертвы. Еще индейцы Северной Америки пытались выражать свои мысли с помощью знаков, и вот мы видим, что результаты, достигнутые в этом отношении культурными американскими народами, вытекают прямо из этих попыток. Перуанцы недалеко ушли от индейцев: они собственно лишь заменили пояса "вампум" ирокезов и гуронов разноцветными шнурами с расположенными на них различным образом узелками, но к идеографическому письму ацтеков, как указывает Зелер, уже примешивается, по крайней мере при написании собственных имен, известный фонетический элемент – старание закреплять звуки. Шелльгаз доказал, что племена майя, письмо которых в своей основе также еще идеографическое, идя дальше по тому же пути развития, пользовались еще большим числом фонетических знаков. Менее развитые соплеменники американских культурных народов живут еще всецело в обстановке каменной эпохи, но и сами они не ушли дальше переходного состояния от каменного века к бронзовому. Правда, они уже обрабатывали золото, серебро, медь, олово и свинец, умели плавить, отливать и ковать эти металлы, получали через смешение бронзу приблизительно так же, как и доисторические народы Старого Света; но их орудия и оружие были по большей части каменные, а добывание и обработка железа оставались им совершенно неизвестными. Говоря о зодчестве древнеамериканских культурных народов, следует отметить, что уступчатые пирамиды – вид строений, на первый взгляд останавливающий на себе особое внимание наблюдателя, – в сущности оказываются не более как закономерным развитием различных типов построек, которые мы видели раньше на Полинезийских островах, а под названием "mounds" и у более первобытных индейских племен; даже сравнительно далеко продвинувшаяся орнаментика этих народов непосредственно вытекает из начал, виденных нами у других народов.
Со времени исследований Банделье становится все более и более несомненным, что испанские завоеватели и их историки, частью невольно, частью умышленно, преувеличивали в своих описаниях образованность мексиканцев, племени майя и перуанцев-инков. Но, с другой стороны, следует остерегаться противоположной крайности и признать культурное развитие этих народов все-таки очень высоким. Вспомним, что они обладали времясчислением, научно основанным на точном наблюдении отношений земли к солнцу и луне, что земледелие и в Мексике и в Перу процветало, что даже полная и сложная одежда очень отличала их от первобытных народов какой бы то ни было части света. Дороги, которые они проводили с большим искусством, не затрудняясь самыми высокими и крутыми горами, устройство обширной и сложной системы каналов из-за чрезмерной сухости почвы, все это – существовавшая действительность, не пустые басни, точно так же, как и те сокровища и та масса золота, которые испанцы вывозили из Мексики и Перу и расплавляли; не басни также и громадные каменные постройки, во множестве встречающиеся на всем пространстве, где жили эти народы, и которые, во время испанского нашествия, уже были покинуты и разрушены.
Об истории развития древнеамериканского искусства, в строгом смысле слова, еще не может быть речи. Для этого мы имеем слишком мало несомненных, положительных данных, которые позволяли бы отличать произведения более древние от более новых и точно определять эпоху их возникновения. Что наиболее древние произведения целыми столетиями старше испанского завоевания – весьма вероятно, но о тысячелетиях здесь, во всяком случае, не может быть речи, даже и об одном тысячелетии. Ввиду того что американское искусство не могло влиять на искусство прочих частей света, нам приходится остановиться не столько на перипетиях его внутреннего развития, не имевшего значения для развития искусства человечества вообще, сколько на отличии его, взятого в целом, завершенном виде, от искусства первобытных народов.
В древней Америке мы впервые встречаем развитое каменное зодчество. Главнейшие его памятники – храмы и дворцы. Материалом для этих построек служили частью правильно отесанные, иногда связанные между собой цементом четырехгранные камни, частью – особенно у перуанских инков – неправильной формы каменные глыбы, которые складывались подобно так называемым циклопическим стенам. Иногда стены воздвигались из мелкого неотесанного камня или необожженного кирпича и только облицовывались большими каменными плитами или разноцветной штукатуркой. Крыши этих каменных дворцов, обычно или плоские, или уступчатые, делались из деревянных балок и соломы. Но в некоторых случаях, особенно в областях племен майя и в Перу, встречались и каменные крыши, состоявшие из плит, лежавших на весу; такого рода крыши принято называть острогранным или трехгранным сводом, хотя это не совсем точно. Попытки устраивать настоящие своды встречаются лишь изредка и в небольшом масштабе. Посредине больших зал в некоторых случаях сохранились остатки столбов различного рода, круглых и прямолинейных, служивших для поддержки потолочных балок; иногда эти столбы обильно украшены скульптурными орнаментами; в странах племен майя они покрыты иероглифами, кое-где даже изваяны в виде целых человеческих фигур кариатид или атлантов, но лишь в очень редких случаях базы и капители доводят эти столбы до значения настоящей, органически развитой колонны. Вообще надо заметить, что древние американцы не обладали чутьем пространственных отношений, достаточно тонким для того, чтобы могли развивать архитектурные мотивы органически. Но зато уже одно умение справляться с огромными каменными глыбами без рычагов, без повозок, а в Мексике и без вьючных животных, обработка таких глыб при помощи каменных орудий (бронзовые встречаются очень редко, а железа древние американцы совсем не знали) – уже все это само по себе вызывает удивление в исследовании их построек. Вместе с тем нельзя не признать за ними стремления к монументальной торжественности, к пышному великолепию, которое выражалось в украшении их сооружений, притом несомненно весьма уместном, рельефными или живописными орнаментами и изображениями фигур.
О впечатлении, какое производили древнеамериканские города в эпоху своего процветания, мы можем судить, к сожалению, только по рассказам современных им писателей, и, вследствие весьма обычного их разногласия, наше представление об этих городах, об их величии и пышности, очень неполно. От Теночтитлана, древнемексиканской столицы, выстроенной на сваях озера, от этой американской Венеции, не осталось и следа: исчезли ее гигантские дворцы, изукрашенные разноцветным мрамором, яшмой и порфиром; не сохранилось даже обломков от стоявшего среди других святилищ теокалли, гордо высившегося на вершине усеченной уступчатой пирамиды и увенчанного тремя башнями храма грозного бога войны Гуитцлипочтли; до нас не дошло ни следа столь прославленных плавучих садов, фонтанов и каналов. Одни лишь обломки голых стен, иногда с рельефными изображениями змей, указывают на местность, где некогда красовался роскошный, расположенный на террасах город Куско, столица Перу. Храм солнца в этом городе был внутри весь отделан золотом и окружен стенами с золотым фризом; Храм луны был весь обложен листами серебра; стены дворцов инков, зал для общественных пиршеств, школ и монастырей были сложены с поразительным искусством. Вообще надо признать, что едва ли в какой бы то ни было стране в мире сохранилось столько остатков некогда цветущих городов и селений, как в областях, принадлежавших древнеамериканским культурным народам; но эти города процветали, вероятно, не одновременно, а в разную пору. Особенно характерный тип построек в Мексике и Центральной Америке – уступчатая пирамида с усеченной вершиной. Эти пирамиды резко отличаются от египетских и своей внешней формой, совершенно не кристаллической и не геометрической, и назначением, для которого они воздвигались. По крайней мере, у ацтеков и племени майя они служили непосредственно подножиями зданий. Грандиознее других были храмовые пирамиды, на верхней площадке которых нередко находились лишь незначительные сооружения с божницей и алтарем для кровавых жертвоприношений. Уступчато пирамидальные фундаменты дворцов и общественных зданий значительно ниже храмовых пирамид и сразу обличают свой служебный характер в отношении к целому сооружению. В Мексике на всех больших уступах пирамиды с каждой из ее четырех сторон шли снизу до самой вершины узенькие ступени, а иногда по этим уступам вела на верхнюю площадку только одна лестница в виде зигзага, у племени же майя обычно была одна прямая, непрерывная лестница. Во всяком случае, эстетическое и конструктивное значение этих древнеамериканских пирамид вполне ясно и всегда одно и то же. Устройство их вызывалось потребностью поднять небольшие сами по себе здания на высоту, достаточную для того, чтобы они были видимы издалека; способ их постройки представляется единственно возможным для народов, обладавших весьма несовершенными техническими средствами для поднятия значительных тяжестей иначе чем по наклонной плоскости.
Подобных храмовых пирамид, которые, кстати сказать, не всегда можно отличить от пирамид-крепостей, в Мексике и Центральной Америке сохранилось около сотни, конечно лишь в более или менее разрушенном состоянии. К древнейшим и знаменитейшим в Мексике принадлежат пирамиды в Чолуле и посвященные солнцу и луне пирамиды в Теотиуакане, на берегу реки Сан-Хуан. Особенно величественна так называемая Громовая Стрела в Папантле, поднимающаяся семью уступами до весьма значительной высоты, теокалли в Гватуско, близ Веракруса, и опубликованный Пеньяфиелем памятник в Хочикалько, поставленный на природном базальтовом основании высотой в 120 футов, имевшем первоначально форму усеченного конуса и искусственно превращенном в пирамиду о пяти уступах. Таким образом, этот памятник представляется двойной пирамидой. Основание верхней, собственно храмовой ее части (рис. 82, а) – прямоугольник 24 метров длиной и 20 метров шириной. Интереснее и поучительнее, чем конструкция этой пирамиды, ее облицовка со всех сторон плитами твердого порфира с обильными барельефными украшениями. На нижнем уступе со всех сторон повторяется изображение змея с разинутой пастью и оперенным хвостом. Извивы змея стилизованы так, что тянутся по всему уступу, подобно меандру, разделяя поверхность на четырехугольные пространства, из которых каждое украшено попеременно то иероглифическими надписями, то фигурами богов и вождей, моделированными довольно поверхностно и неопределенно. Эти фигуры изображены сидящими на земле, с положенными крест-накрест ногами; их головы в огромных, украшенных перьями уборах обращены к зрителю профилем, тогда как туловища представлены en face.
Развалины дворцов особенно многочисленны в областях племени майя и южной части Центральной Америки. Митла, гордость сапотеков, Паленке, город племени майя в Чиапасе, Ихмал, Чичен-Ица и Сайиль на полуострове Юкатан, главной стране племени майя, затем Санта-Лусия, Копан и Кирингуа, на границе нынешних Гондураса и Гватемалы, – места Нового Света, самые богатые величественными развалинами.
Что касается плана общественных зданий этой области, из коих некоторые должно признавать несомненно княжескими дворцами, то господствующей их формой был равносторонний или продолговатый четырехугольник, и только в единичных случаях здание получало вид круглой башни. Вокруг квадратного двора располагались длинные и узкие залы, к которым кое-где примыкали галереи вроде сеней.
Рис. 82. Древнеамериканские постройки: а – пирамида в Хочикалько. С фотографии; б – дворец в Митле. С фотографии; в – монолитные ворота в Тиагуанако (восточная сторона). С гипсового слепка из Берлинского музея народоведения
Внешний вид сооружения зависел, главным образом, от большей или меньшей вышины его уступчатого основания. Что не только храмы, но и светские постройки представлялись вообще пирамидальными, свидетельствует так называемый замок в Чичен-Ице. Нередки в этих странах и многоэтажные постройки; их верхние этажи навсегда сохранились, но и сохранившихся, как, например, на полуострове Юкатан, вполне достаточно для того, чтобы распознать расчленение фасадов в горизонтальном направлении на три главные части, разделенные между собой поясами: на фундамент, главную поверхность стены и фриз. Иногда вверху стены встречается еще четвертая часть – сквозная балюстрада, происшедшая, по мнению Малера, от ряда кольев, на которые были натыканы черепа и другие победные трофеи. Иногда эти балюстрады украшены колоннами и полуколоннами, разделяющими их на компартименты. Полуколонны, связанные по три вместе и снабженные внизу, в середине и наверху кольцеобразными утолщениями, расчленяют в вертикальном направлении главную стену в фасаде одного из дворцов в Гунтичмуле на Юкатане, а его фриз состоит из целой колоннады. Лицевая стена гигантского храма-дворца в Сайиле, напротив того, вся заменена рядом толстых, круглых колонн с капителями в виде квадратных плит, так что позади этих колонн образуется открытая галерея. В середине помещено восемь сближенных между собой более тонких колонн с кольцеобразными утолщениями, а над ними, во фризе, – огромное изваяние змеиной головы, превращенное в угловатый орнамент (рис. 83). Разверстая пасть змеи является здесь символом ворот, и вообще надо заметить, что мотив змеиной головы, обыкновенно вычурно орнаментированной и геометрически стилизованной, играет весьма видную роль в украшении дворцовых фасадов на Юкатане. Иногда целые стены сплошь покрыты раскрашенными плоскими штукатурными рельефами, причем поверхность стены в некоторых случаях сначала разделена на несколько полей, а иногда представляет собой только одно поле. Эти поля заняты то квадратными рамками с иероглифическими надписями, то изображениями фигур, то простыми сочетаниями линий, образующих геометрический узор, то геометрически стилизованными символическими фигурами, среди которых преобладает змеиная голова с языком, превращенным в угловатый завиток, напоминающий собой греческий меандр. В Митле стены главного дворца украшены снаружи крупными, орнаментированными наподобие мозаики прямоугольниками (рис. 82, б). В Паленке дверные столбы большого дворца украшены расписанными в красный, синий, желтый, черный и белый цвета фигурными барельефами из твердого стука. В Уксмале средняя дверь так называемого Губернаторского дома (Casa del gubernador) украшена сидящей на престоле фигурой бога в огромном головном уборе с перьями, Дом черепах (Casa de las tortuas) увенчан фризом с изображением этих животных, а Дом карлика особенно богато разукрашен пластическими орнаментами, в которых меандрообразные полосы чередуются с головами людей и животных (например, пумы), изредка встречаются также мотивы листьев и цветов.
Рис. 83. Сайильский храм-дворец на Юкатане. По Малеру
Стены внутри зданий у ацтеков и майя также орнаментировались или целыми лабиринтами перевивающихся линий, или мифологическими изображениями, чаще же всего их покрывали цветной штукатуркой и вначале, особенно на Юкатане, изображали на ней большие картины. Художественное впечатление кое-где усиливали размещенные внутри зала колонны. Своеобразные колонны, частью обвитые орнаментом, составленным из перьев, частью высеченные в виде примитивно окоченелых, но благородных по чертам лица человеческих фигур, едва ли не единственные остатки Тулы, древнейшего города толтеков на севере их области. В большом зале дворца в Митле параллельно продольным стенам здания стоят порфировые колонны, утончающиеся кверху, без баз и капителей, высотой до 5 метров. Замечательны по обилию фигурной орнаментации колонны, происходящие из так называемой Гимназии в Чичен-Ице.
Совершенно особый характер имеют другие сооружения этих стран, представляющие переход от зодчества к пластике, а именно свободно стоящие столбы и колонны, напоминающие собой каменные столбы и менгиры доисторической Европы (см. рис. 12). Сюда относится до 500 столбов, оставшихся от дворца в Чичен-Ице, круглые и четырехгранные обелиски в Киригуе, со всех сторон покрытые фигурами и иероглифами, и колоссальные идолы перед алтарями в Копане, на которых почти нет места, не орнаментированного изображениями и надписями.
В Перу здания вообще проще, чем в Мексике. Столбы и колонны встречаются реже, но зато более часты круглые постройки, камни которых отесаны соответственно требовавшейся кривизне. Внутри зданий однообразие стен оживляется устроенными в них нишами; снаружи, на каменной облицовке стен, украшенной надписями, не встречается окружающих эти надписи раскрашенных четырехугольных рамок, играющих столь видную роль в орнаментации юкатанских сооружений. Часто только ворота получали пластическое украшение.
Уступчатые пирамиды перуанцев, расположенные преимущественно по берегу моря, строились с целью служить основанием для других зданий не столь исключительно, как в Мексике, но играли также и самостоятельную роль. Так, например, сооружение о двух уступах в Куслане и массивная, сложенная из необожженного кирпича пирамида в Непенье – не что иное, как надгробные памятники. С меньшей уверенностью можно сказать то же самое относительно гигантской пирамиды близ Трухильо, в стране древних владетелей Чиму. Напротив того, несомненно, что только подставками для храмов служили огромная пирамида в 10 уступов в Моче и расположенное в виде полумесяца уступчатое сооружение в Пачакамаке. Громадные пирамиды в долине Санта показывают, как поступали инки с сооружениями побежденных ими народов. Они засыпали большие расписанные яркими красками залы, надевали на постройку снаружи, так сказать, чехол из необожженного кирпича, и на ее вершине воздвигали храм солнцу. "В средоточии земли, – говорил Бастиан, – инка господствовал над миром и запирал божества покоренных провинций в божеские темницы".
На негостеприимных высотах, окружающих озеро Титикака, с берегов которого начали распространяться как религия инков, так и их власть над соседними племенами, сохранились развалины целого города, существовавшего еще в предшествовавшее время. Эти развалины, описанные А. Штюбелем и М. Уле, находятся близ Тиагуанако, в нынешней Боливии, на высоте почти 4000 футов над уровнем моря. Исследователи различают здесь остатки собственно двух городов Ак-Капаны и Пума-Пунги. В художественном отношении интересны монолитные, еще довольно хорошо сохранившиеся ворота в Ак-Капане, высеченные из серого вулканического туфа, высотой в 3 метра (см. рис. 82, в). Их западная сторона – двухэтажная; средняя дверь и глухие окна в нижнем этаже обрамлены наличниками с расширением кверху. Дверь доходит почти до верхнего этажа, причем фриз, отделяющий его от нижнего, образует над дверью прямоугольный выступ. Главную привлекательность восточной стороны составляет исполненная плоским рельефом фигурная орнаментация верхнего этажа. Над фризом, представляющим собой полосу настоящего меандра, перемежающуюся с человеческими головами и фигурами, помещен простирающийся вверху за пределы фриза прямоугольник, на котором высечена четырехугольно стилизованная фигура бога, сидящего на троне в строго симметричной позе. По бокам этого прямоугольника тянутся одна над другой 3 полосы фриза, разделенных на 48 равных квадратов; все они украшены рельефными изображениями крылатых скипетроносных существ, в нижнем и верхнем рядах – человеческих фигур, в среднем – кондоров с человеческими телами. Фигуры представлены в профиль, обращены лицами к богу, занимающему центр фриза, и поклоняются ему. Уле, по всей вероятности, прав, предполагая, что эта сцена изображает поклонение крылатых гениев предков, покровителей племен, богу героев Виракоче… Развалины близ Пума-Пунги – не более как рассеянные на большом пространстве обломки построек, архитектурно обработанные куски камня, поражающие, однако, умелым соединением их между собой.
Рис. 84. Перуанские и мексиканские статуи. По Штюбелю, Уле (а, б) и Пеньяфиелю (в)
Дворцы перуанских инков, от столиц которых, Куско и Кахамарки, еще сохранились обширные остатки, нередко сооружались из глины и потом окрашивались белилами, но также строились и из правильно отесанных каменных глыб. Однако на террасах и в дворце Манко-Капака, в Куско, и в группе каменных домов в окрестности Кахамарки мы находим и так называемые циклопические стены, которые не встречаются в Тиагуанако. И в постройках доинковского времени, и у инков любимым средством смягчения однообразия обширных стенных пространств являются ниши. Особенно любопытны ниши в храме Виракочи, в Каче, в расположенных террасами стенах и дворце Атагуальпы, в Кахамарке.
Скульптура у древнеамериканских культурных народов была во всех отношениях столь же разнообразна, как и у самых наиболее художественно зрелых народов: их ваятели работали из каменных пород всякого рода, из благородных металлов, из меди и бронзы, из дерева и обожженной глины, знали, что такое барельеф, горельеф и полная округлость фигуры; они изображали богов, людей, животных, мифологические сказания и события истории, исполняли как колоссальные статуи, так и весьма малые художественно-ремесленные вещи; но им недоставало главного – внутренней свободы, недоставало полного понимания пропорциональности форм в изображаемых телах.
Во всех культурных странах древней Америки, как в северных, так и в южных, мы можем различить четыре направления при изображении человеческого тела. Первое из них предпочитает совершенно условную, угловатую стилизацию, склоняющуюся к форме четырехугольника; второе, правда, стремится к естественной мягкости и округлости, но обычно остается скованным почти бесформенной вялостью; третье, задаваясь целью воспроизводить индивидуальную жизнь, достигает некоторого успеха только в характеристике голов и лиц, да и то лишь в более послушных художнику лепке из глины и литье металла; четвертое вдается в совершенно несообразные ни с чем сочетания, в карикатуры и умышленные уродства. Проследить, как эти направления, развиваясь, следовали одно за другим в отношении времени и места, не всегда возможно. Не безусловно доказано даже и то, что грубая стилизация в четырехугольники есть древнейшее из направлений. Мы уже видели у доисторических и первобытных народов, что изображение непосредственно наблюдаемого в природе довольно часто предшествует геометризации и стилизации. Например, подлежит еще сомнению, что две статуи, выделяющиеся среди многих четырехугольных, которые найдены в развалинах Тиагуанако, более естественны и отличаются округлостью форм, как полагают некоторые, имеют позднее происхождение. Более надежным мерилом древности можно считать фронтальность (по Ланге). В древнеамериканской скульптуре мы впервые встречаемся уже со значительными отклонениями от этой фронтальности, и, конечно, можно с основанием утверждать, что произведения, в которых мы находим подобное отклонение, – моложе других. В этом смысле мы, действительно, склонны признать четырехугольно стилизованные американские статуи не только всегда фронтальными, но и строго симметричными в отношении своих рук и ног, более древними, чем изваяния с живым и свободным движением, формы которых вдобавок значительно округлы. Раньше, чем художники постигли изображения свободных движений тела во все стороны, они, по-видимому, прошли через такую стадию, в которой допускался поворот шеи только под прямым углом к туловищу. Самую древнюю, строго соблюденную даже в положении рук и ног симметричность представляют нам, например, скульптурные произведения из Тиагуанако в Перу (рис. 84, а); фронтальность мирится с совершенно не соответствующим ей положением рук и ног во многих статуях из Паленке (см. рис. 61). Легкое отклонение от фронтальности, выказывающееся в повороте шеи под прямым углом, допущено в статуе так называемого Чак-Мооля, изображающей лежащую фигуру, найденной в Чиапасе и хранящейся в Национальном музее в Мехико. Полное пренебрежение фронтальностью мы видим, например, в находящейся в Берлинском музее народоведения, во всех отношениях свободно и оригинально задуманной, статуе сидящего человека (рис. 85).
Рис. 85. Древнеамериканская статуя. С оригинала
Рис. 86. Рельеф из Паленке. По Пеньяфиелю
Таким образом, четырехугольно стилизованные статуи приходится все-таки признавать вообще более древними, и весьма возможно, что к этой стилизации естественно привела техника ткацкого искусства. Это кажется особенно правдоподобным при сравнении четырехугольных профильных фигур на фризе больших ворот в Тиагуанако с фигурами на изданной Штюбелем ткани из некрополя в Анконе. Едва ли можно считать шагом вперед к большей свободе изображения, в которых среди четырехугольных форм изредка встречается круглый глаз или закругленное очертание подбородка (рис. 84, б). Несколько большую свободу мы замечаем только в тех изображениях, которые, подобно статуе так называемой Богини маиса, музей в Мехико (рис. 84, в), представляются четырехугольно стилизованными вследствие угловатости не столько форм тела, сколько одежды, особенно огромного прямоугольного головного убора.
К направлению более мягкому, стремящемуся к большей округлости, относятся многие статуи наших музеев и многие изваяния и рельефы среднеамериканских, особенно юкатанских построек. Но в пределах этого направления можно различить несколько отдельных течений. Типичны, например, статуи и рельефы из Паленке (рис. 86). Более правильных, чем здесь, пропорций тела мы вообще нигде не встречаем в древнеамериканских изображениях человека. Во всех изваяниях, происходящих из Паленке, ясно выражен индейский тип с характерно выгнутым орлиным носом, – тип, очевидно, особенно распространенный у племени майя. Перспективные трудности в рельефах разрешаются не так схематически неверно, как в египетском искусстве. Но и здесь индивидуальные фигуры следует признавать, по-видимому, более древними, а застывшие в условной неподвижности – более поздними. К числу самых своеобразных и оживленных изображений принадлежит рельеф, представляющий сцену жертвоприношения богу Кукулькану, происходящий из области обитания племени майя и хранящийся в Британском музее. В этом рельефе типичное изображение голов соединено с угловатой стилизацией одежды (рис. 87). Непонятны, но еще свободнее, непринужденнее в движениях человеческие фигуры своеобразных рельефов из Санта-Лусии-Косумагуальпы (в Гватемале), изданных д-ром Габелем и попавших в Берлинский музей народоведения. Мягки и естественны в целом, но в моделировке отдельных частей грубы и плохо понятны фигуры атлантов из Пунта-дель-Сапоте, в Никарагуа, изданные Бовелиусом. Произведения, пытающиеся изобразить чистую красоту, чрезвычайно редки; но к числу их можно отнести удивительную человеческую голову в пасти сильно стилизованного змея Чигуакоатля (очень часто встречающееся мифологическое изображение) из Тулы (рис. 88), отличающуюся почти классической свободой и правильностью черт лица.
Рис. 87. Жертвоприношение богу Кукулькану
Рис. 88. Человеческая голова в пасти змеи. Скульптурное произведение из Тулы. По Пеньяфиелю
К числу наиболее характерных каменных изваяний принадлежат головы из Панталеона, в Гватемале, опубликованные Густавом Эйзеном; но всего характернее вышеупомянутая фигура старика (см. рис. 85), поражающая легкостью наклонения верхней части туловища. В этой фигуре нет ни малейшего признака фронтальности. Старик сидит на земле, расставив колени; формы его тощего тела столь же типично индейские, как и черты морщинистого лица.
В различных музеях встречаются также небольшие металлические литые, весьма оживленные фигуры, какова, например, массивная серебряная, к сожалению довольно сильно пострадавшая статуэтка из Куско, хранящаяся в Брауншвейгском музее. Она изображает карлика в остроконечном колпаке, с улыбающимся лицом и бородавкой на правой щеке. Но человеческие головы, имеющие индивидуальный характер, чаще всего встречаются в древнеамериканских изделиях из глины. В каждом сколько-нибудь значительном этнографическом собрании можно найти глиняные статуэтки с характерными выразительными лицами; это идолы, изображения предков или даже не более как детские игрушки, происходящие из различных частей древней Америки. Уле издал две замечательные глиняные мужские статуэтки из Юкатана, находящиеся в Берлинском музее. Одна изображает вождя племени майя в полном уборе из перьев, а другая, сохранившаяся лишь в своей верхней части, представляет образец благородного и полного жизни лица с татуировкой. В особенности часто встречаются тонко исполненные, нередко даже с осмысленным выражением лица, человеческие головы на глиняных сосудах, найденных в огромном количестве в Мексике и Перу. Гончарное искусство обитателей этих стран проявилось главным образом в лицевидных урнах разного рода. Древняя Америка – классическая страна сосудов, представляющих обыкновенно в своей верхней или средней части человеческую голову, а нередко воспроизводящих собой и всю человеческую фигуру целиком. Национальный музей в Мехико изобилует подобными сосудами, найденными в стране древних ацтеков. Британский музей, Берлинский этнографический музей и Национальный музей в Лиме особенно богаты такими же сосудами, найденными на перуанских берегах. На верхней части рекуайских сосудов в Берлинском музее изображены даже целые сцены, составленные из маленьких фигур. Слабое развитие форм замечается в находящихся в той же коллекции полых глиняных фигурах племени чибча с их сморщенными телами и совершенно однообразными отверстиями ртов и глаз.
Рис. 89. Колоссальная статуя Коатликуе. По Пеньяфиелю
Стремление к чудовищному, уродливому, карикатурному выказывается в столь многих древнеамериканских скульптурных произведениях, что вполне достаточно указать на изображенную Пеньяфиелем колоссальную статую Коатликуе, в Национальном музее в Мехико (рис. 89). Середину этого бесформенного чудовища, полуамфибии-получеловека, занимает череп. Черепа вообще не редкость в пластических изображениях у этих народов, что неудивительно при их культе черепов, возникшем из-за человеческих жертвоприношений.
Изображения животных у американских культурных народов выходили обычно более типичными, чем индивидуальными; однако в остальном они, как и изображения человека, различны по стилю. Золотая черепаха – амулет в одной частной коллекции в Мехико – представляет образчик определенного стиля. Каменная черепаха в коллекции Кристи, в Лондоне, при всей своей естественности, является скорее стилизованным типом, чем изображением живого существа. Наиболее естественные изображения животных встречаются в глиняных изделиях, так как культурные народы Америки, подобно первобытным племенам, охотно придавали своим сосудам форму целых животных.
Мнение одного знатока древнеамериканского искусства, что это последнее не ушло в области скульптуры дальше произведений североамериканских первобытных народов, может вообще считаться слишком строгим. Не следует забывать, что все стоявшие в общественных местах идолы этих народов погибли от религиозной ревности христианского духовенства и что огромное большинство некогда славившихся произведений ювелирного искусства сделалось добычей алчных завоевателей. Тем не менее в том, что уцелело, мы нередко находим более живые и тонкие черты, чем те, какие представляет нам скульптура первобытных народов.
В древнеамериканской живописи мы встречаемся с теми же формами, как и в скульптуре, особенно в рельефной скульптуре этих народов, стилю которой она и подчиняется. Фигуры, обычно изображенные профильно, выделяются на поверхности без малейшего намека на задний план. О знакомстве с перспективой или о каких-либо попытках к ее соблюдению нет и речи. В этом отношении живопись американских культурных народов стоит не выше живописи первобытных племен, с которой мы уже познакомились. Сохранилось три главных вида древнеамериканской живописи: стенная живопись, живопись на вазах и иероглифическая живопись на бумажных свитках.
Стенная живопись отнюдь не выделяется резким пятном в общем колорите здания; напротив, она составляет с ним одно гармоничное декоративное целое. Остатки стенной живописи сохранились в большом количестве на мексиканских, юкатанских и перуанских постройках. Полагают, что на Юкатане, в дворцовых залах Митлы, Хула и Зибильнокака изображены торжественные процессии. В одном доме, рядом с Гимназией в Чичен-Ице, изображены сцены из домашнего быта, дома, деревья и битвы. На штукатурке главного здания в Параманке, на перуанском берегу, намалеваны фигуры людей и животных. От большинства этих картин сохранились, однако, лишь выцветшие остатки. Наиболее полное представление о характере древнеамериканской стенной живописи дают нам находящиеся в Берлинском этнографическом музее старинные, писанные водяными красками копии стенных картин, украшавших собой одно из зданий Теотиуакана, в Мексике. Изобилующие фигурами картины верхней части здания отличаются замечательным сочетанием черной, красной, желтой, зеленой, розовой и белой красок. В высшей степени стильны украшения цоколя. Здесь мы находим везде полное понимание симметрии и ритма линий (рис. 90).
Рис. 90. Фреска в одном из теотиуаканских сооружений в Мексике. Со старинной копии
Мексиканские и перуанские расписные вазы сохранились в большем количестве. Кроме глиняных сосудов со скульптурными украшениями до нас дошло много других, на которых американская орнаментика выказалась исключительно в раскраске, в том числе немало таких, где изображены фигуры, расположенные горизонтальными полосами или рассеянные по всей выпуклости сосуда. Краски были лаковые и собственно не обжигались, а только накладывались на слегка обожженную глину, после чего их иногда подвергали действию легкого огня. По технике и внешнему виду американские вазы, в особенности перуанские, нередко очень напоминают микенские. В музее Мехико хранится несколько мексиканских ваз, украшенных фигурами, писанными весьма роскошными и яркими колерами. Одна из ваз, найденных в Теотиуакане (рис. 91, г) представляет образчик того же гармонического сочетания красок, какое мы видим в стенной живописи развалин этого города. Вообще здесь преобладают, как и на греческих вазах, хотя и в меньшем количестве, красновато-коричневые, желтоватые и беловатые краски, причем черный цвет встречается в Мексике чаще, чем в Перу. Особенно богат расписными перуанскими вазами Берлинский музей. В них господствуют темно-коричневые или красноватые контурные рисунки на светлом фоне.
Рис. 91. Мексиканские и перуанские сосуды. По Рейссу, Штюбелю (а) и Пеньяфиелю (б, в, г)
Лишь немногие части покрыты сплошь одной и той же краской. Головы нарисованы совершенно правильно, через что резко выказывается форма их крупных ястребиных носов; там, где изображен поворот туловища, ноги представлены иногда в совершенно противоположном повороте, чем голова. Что касается положения туловища, то в этом отношении американские художники не были, подобно египетским, связаны известными традициями, требовавшими определенной, неуклюжей позы тела, но каждый из них руководствовался, как мог, собственным наблюдением. Часто изображались сцены из военной жизни. На одной вазе Люрссеновской коллекции (Берлинский этнографический музей) хорошо одетые и вооруженные воины сражаются с полунагими дикарями. На вазе из коллекции Маседо (там же) изображение битвы занимает всю среднюю часть сосуда, тогда как наверху помещена прекрасно выполненная лепная фигура вождя, сидящего с поджатыми под себя ногами.
Мексиканские иероглифы на длинных бумажных полосах, которые свивались или складывались, сохранились в разных кодексах, например в Национальном музее в Мехико, в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде, в Национальной библиотеке в Париже, в библиотеках Эскориала и Ватикана. Отдельные разрозненные части этих полос производят впечатление самостоятельных картин. Вся мифология, вся жизнь мексиканцев отражаются в этой живописи. Однако, в зависимости от самого характера рисунков, многое является здесь искаженным, вычурным или условным; к тому же рисунки перемешаны с условными знаками. "Мертвые, – говорил Брюль, – изображались с закутанными ногами, живые – с открытыми ногами и висящим изо рта языком; мужчины рисовались красной, женщины желтой краской, испанцы – с красными плащами, а кровь обозначалась красными волнистыми линиями".
Меньше всего сохранилось рукописей племени майя: одна в Национальной библиотеке в Париже, одна в Мадриде, одна в Королевской публичной библиотеке в Дрездене. Хотя новейшие исследования и не подтвердили того, что большинство знаков в этих рукописях – уже фонетические иероглифы, тем не менее целый ряд картинных изображений, встречающихся среди них, производит впечатление иллюстрации текста, и они (по крайней мере те из них, которые помещены в изданной Ферстманом дрезденской книге), являясь в виде черных очерков иногда на светлом фоне, отличаются большей правильностью форм и ясностью группировки, чем иероглифы ацтеков.
Рис. 92. Погребальная таблица из Анконского некрополя. По Рейссу и Штюбелю
В Перу, где не имелось письменных свитков, мы взамен их встречаем изображения людей и животных, нарисованные или вытканные на шерстяных и бумажных материях. Особенно красивые материи в этом роде воспроизведены в роскошном издании Рейсса и Штюбеля и хранятся в Берлинском этнографическом музее; это оболочка мумий, найденных в некрополе Анкона; того же происхождения и странные, раскрашенные таблицы, сопровождавшие в могилу почти каждую мумию (рис. 92). Это обтянутые холстом камышовые рамы, на которых с лицевой стороны изображена красными, темно-синими или черными штрихами геометрически стилизованная человеческая фигура, окруженная красивым бордюром. Кого изображают такие фигуры, покойников или богов, – не выяснено. Во всяком случае, эти раскрашенные холщовые таблицы производят впечатление зачатков настоящей станковой живописи.
Обращаясь к художественно-ремесленным изделиям древнеамериканских народов, мы можем, ввиду предшествовавших ссылок на явления в этой области, ограничиться замечанием, что и на этом поприще древние американцы далеко оставили за собой первобытные племена. Наряду с простым тканьем, они, как уже было замечено, занимались орнаментальным тканьем (ковровым производством); им было также известно производство легких прозрачных материй вроде газа, вышивки и нашивания плотных узоров на тонкие ткани; что касается работ из перьев, в чем древние американцы были мастера, то они значительно содействовали развитию привлекательной живости краски, вообще присущей продуктам их художественного труда. В гончарном деле, о скульптурных и живописных работах в области которого мы уже говорили, древние американцы пользовались гончарным кругом, причем, наряду с обычными простейшими формами сосудов, у них появлялась поразительная красота, тесно связанная с целесообразностью (см. рис. 91).
Рис. 93. Перуанские орнаменты. По Рейссу, Штюбелю и Гейну
Особое удивление испанских завоевателей вызывали ювелирные изделия древних американцев. В этой области даже племя чибча не уступало своим северным и южным соседям. Но так как большинство американских изделий из драгоценных металлов было переплавлено, то лучшие из них известны нам лишь из старинных описаний. Движущиеся птицы, пляшущие обезьяны, рыбы, отливавшие то золотом, то серебром, известны лишь по рассказам. Тем не менее в музеях Америки и Европы иногда встречаются удивительные произведения древнеамериканского ювелирного искусства. К таким произведениям можно отнести инкрустацию с мозаикой, состоявшей из цветных кусочков редких раковин и драгоценных каменьев. В коллекции Кристи, в Лондоне, находится одна из лучших сохранившихся работ этого рода – каменный нож племени ацтеков, рукоятка которого представляет собой фантастическую фигуру, составленную из зеленых, красных и синих камешков.
Но внутренняя связь между главными и побочными отраслями искусства всех древнеамериканских культурных народов ни в чем не выказывается так ясно, как в общности и своеобразности их орнаментики. Хотя отдельные ее мотивы имеют иногда чисто местный характер, а другие свойственны лишь некоторым определенным отраслям искусства, однако важнейшие и характернейшие черты ее одинаково встречаются и в строительном искусстве этих народов, и в живописи на вазах, и в узорах тканей, и в рисунках на металлических изделиях всякого рода.
Древнеамериканская орнаментика содержит в себе весь тот богатый запас форм, с которым мы познакомились у доисторических народов в период до бронзового века включительно; здесь мы снова встречаем те же, как и там, параллельные линии, зигзаги (рис. 93, а), треугольники, четырехугольники, шахматные узоры, кружки, волнистые линии, в том числе ряды набегающих друг на друга, простые и тянущиеся полосами спирали; ленты и плетения указывают уже на высшую ступень искусства.
Рис. 94. Перуанские орнаменты, подражающие формам птиц. По Рейссу и Штюбелю
Кроме того, здесь повторяется большая часть орнаментов наиболее развитых первобытных народов, хотя иногда и в иной форме. Глаза, являющиеся упрощением изображений лица в орнаментике первобытных американских племен, встречаются главным образом на мексиканских зданиях и сосудах. Геометризирование целой человеческой фигуры, виденное нами у жителей Полинезии, мы находим во всевозможных видах также на тканях перуанцев; сверх того, у них попадаются не менее разнообразные, по большей части угловато стилизованные геометрические воспроизведения птиц, пум, лам, оленей и других животных (рис. 94, а, б, в).
Рис. 95. Маисовые плоды и листья в орнаментике на мексиканской вазе. По Пеньяфиелю
Растительное царство дает мотивы для орнаментики столь же редко, как и у доисторических и первобытных народов; но все-таки нельзя не упомянуть о больших стилизованных цветах и скульптурных украшениях в виде шишек и листьев маиса на вазах коллекции Пеньяфиеля в Мехико (рис. 95).
К особенностям американской орнаментики принадлежит, во-первых, лестничный, или ступенчатый орнамент, являющийся то в виде ряда целых уступчатых пирамид, то в виде половинных отрезков таких пирамид (рис. 93, в), то в соединении с меандром (рис. 93, б), то отдельно, то в последовательном чередовании. Происхождение этого орнамента нет надобности объяснять, зная существование в Америке многочисленных уступчатых пирамид. Сюда же относятся кресты, крючковатые кресты (свастика) и завитушки, которым А. Р. Гейн посвятил особое исследование, имея в виду именно Америку. Хотя эти мотивы – общие у всего человечества, однако на американской почве они развились самостоятельно. Кресты так часто встречаются в стенных лепных работах Юкатана, что испанцы ошибочно принимали их за остатки христианства, будто бы существовавшего здесь в древнейшие времена. Этот род орнамента объясняется олицетворением астрономических и метеорологических явлений. Пресловутый "крест", которому поклонялись в северном храме Паленке – не что иное, как стилизованное дерево, на котором сидит священная птица. Что так называемые мальтийские кресты, нередко встречающиеся в Америке, изображают кости, положенные крест-накрест одна на другую, доказывается уже тем, что они изображены рядом с черепахами на одной вазе в музее Мехико (рис. 91, в). Крючковатый крест (рис. 96), который, быть может, именно в Америке является символом солнца, и родственный ему витой орнамент встречаются чаще у миссисипских племен и у индейцев пуэбло, чем у американских культурных народов. Напротив того, меандр принадлежит к самым характерным орнаментальным мотивам Мексики и Перу, так же как и Древней Греции. Он встречается как в самых простых, так и в самых сложных узорах на американских зданиях, сосудах и одеждах. Относительно его происхождения известный исследователь Америки А. Штюбель высказал предположение, что он произошел при тканье от случайного передвижения половины двух, вставленных один в другой, прямоугольников; но уже Гейн обратил внимание на то, что меандр самостоятельно возник в столь многих местностях, что его происхождение нельзя приписывать везде одинаковым случайностям тканья. По нашему мнению, как это и доказывается орнаментикой европейского бронзового века, простая волнообразная линия, линия набегавших друг на друга волн и спираль предшествовали и в Америке обыкновенному зубчатому орнаменту и меандру. Зубчатый орнамент представляет собой волнообразную линию, превратившуюся в ломающуюся под прямыми углами (рис. 93, б), а меандр – в четырехугольную спираль или ряд набегающих друг на друга волн (рис. 93, г, д, е, ж). Так как американское искусство вообще было склонно к прямоугольным формам, то появление зубчатой линии и меандра в его орнаментике вполне естественно.
Рис. 96. Крючковатый крест (свастика)
Итак, мы видели в древнеамериканском искусстве господство множества ясных и значительных орнаментальных форм; несмотря на то, нам следует еще раз вспомнить, что эти формы – если не касаться живописи на вазах, достигающей иногда классической красоты, – лишь в редких случаях употреблялись в чистом виде и последовательно. Американские художники любили дробить их, произвольно смешивать с другими элементами и затем соединять без всякой внутренней связи. Конечно, полного понимания форм американского искусства можно ждать лишь от более точного разъяснения смысла его картин и символических изображений. Зелер справедливо замечал: "Произвольного, капризного и фантастического в американской древности незаметно нигде. Каждое изображение имеет определенный смысл и значение". Если иметь в виду главным образом декоративную сторону, то надо признать, что американское искусство часто не идет дальше попыток, не получивших полного развития. Далеко не везде соблюдает оно чувство меры. Вследствие этого во всем искусстве древних американцев наблюдаются незаконченность, варварское нагромождение форм и карикатурность – недостатки, которые мы видим как в постройках, так и в изваяниях и живописи. Но эти недостатки всей американской культуры – той полуварварской, пропитанной кровью и сверкающей золотом культуры, которая так внезапно была уничтожена испанскими завоевателями. Однако мексиканское и перуанское творчество имеет в истории искусства значение именно из-за своей полной национальной замкнутости. Уже одним фактом своего существования оно опровергает учение об общем и однообразном развитии искусства на всем земном шаре – учение, по которому, например, спираль считалась изобретением исключительно Египта, а меандр – одной только Греции.
Книга вторая Древнее искусство востока
I. Египетское искусство
1. Введение. Главные черты египетского искусства
Вместе с историей человечества начинается также история искусства. Надписи на художественных произведениях принадлежат к самым древним письменным памятникам, и для истории искусства большое счастье, что властители тех древнейших стран земного шара, в которых существовала письменность, широко пользуясь этим новым, драгоценным для человечества изобретением, в изобилии покрывали всевозможные памятники различными надписями. Древнейшие из этих памятников истории человечества и его искусства сохранились на берегах Нила, Евфрата и Тигра, то есть в Египте и Месопотамии. Эти памятники, воздвигнутые за несколько тысяч лет до н. э., в продолжение целых веков находились в полном забвении, и хотя об их существовании и было известно, однако о них упорно молчали, пока наконец в XIX столетии они не обратили на себя общего внимания и один за другим не сделались доступны нашему пониманию.
Где сохранились наиболее древние памятники – на халдейской ли почве, в Месопотамии или на берегах Нила, в Египте, – это вопрос, все еще не вполне разрешенный. О том, что халдейское искусство – более древнее, свидетельствует хранящаяся в Берлинском музее надпись, сделанная нововавилонским царем Набонидом, который жил в 550 г. до н. э., и гласящая, что существовал древневавилонский царь Нарамсин за 3200 лет до Набонида, то есть за 3750 лет до н. э. Этому не противоречат этнографические исследования Бругша и других, издавна приписывавших египтянам азиатское происхождение, хотя Эрман и Масперо и указывали на взаимное противоречие этих исследований. Ратцель говорил (1894): "Колыбелью египетской культуры является Азия". Швейнфурт решительно становится на сторону Гоммеля (1897), по стопам которого идут молодые ассириологи и заходят уже так далеко, что считают Египет древневавилонской колонией, основанной в доисторические времена. Но после того, как Б. Ф. Леманн доказал, что Нарамсин (о чем еще раньше говорил Винклер) не мог жить за 3750 лет до н. э., снова представляется вероятным предположение, что древнейшие из найденных, по крайней мере доселе, памятников принадлежат долине Нила. Мы тем более можем остаться при том мнении, что в исторические времена оба народа, египтяне и халдеи, несомненно родственные между собой, стояли на одинаковой ступени культурного развития и были совершенно самостоятельны.
Зависят ли родственные черты древнеегипетских и месопотамских художественных произведений главным образом от происхождения одного искусства от другого или эти черты следствие того, что с самого момента зарождения человеческого искусства вообще эти оба искусства развивались одновременно под влиянием совершенно одинаковых местных условий, – вопрос, который мы еще раз поставим, может быть, впоследствии. В настоящее время ограничимся тем, что сочтем эти общие черты за признак одинаковой стадии развития названных народов – той стадии, которая непосредственно следует за бронзовым веком, той поры, когда, по всей вероятности, не только в Древнехалдейском царстве, но и в стране Древнего Египта появились первые изделия из камня и бронзы и когда употребление железа еще не было там известно.
Противники взгляда, что климатические условия местности влияют на искусство страны, не могут не согласиться, что Египет в этом отношении представляет исключение: надо быть слепым, чтобы не видеть отражения природы этой страны в художественных произведениях. Искусство и природа находятся здесь как раз в самом живом соответствии. Насколько своеобразны растительное и животное царства образованного разлитием реки Нила и растянувшегося в пустыне оазиса, называемого Египтом, настолько же своеобразен был интеллектуальный кругозор его жителей. Самобытная, замкнутая в тесные рамки культура Египта в течение многих веков развивалась под влиянием природных условий так последовательно, как никакая другая, и если в настоящее время мы знаем искусство, нравы и обычаи египтян лучше, чем жизнь и искусство других народов, более близких к нам по времени и месту, то этим мы обязаны прежде всего трудам ученых и раскопкам, произведенным в Египте такими археологами, как Шампольон и Лепсиус, Мариетт и Масперо, де Морган и Флиндерс Петри, затем – изучению иероглифов, благодаря которому мы со времен Шампольона постепенно ознакомились с историей Нильской долины по надписям на памятниках, и, наконец, обширным печатным изданиям этих памятников. Прежние труды Шампольона, Лепсиуса, Росселини, Присс-д’Авена и в особенности издания Фландерса Петри раскрыли для Европы тайны египетского искусства. Сведениями о Египте мы в значительной мере обязаны также свойствам его почвы, постоянству его климата, нравам и обычаям его древних обитателей, основанным на многовековых преданиях. Почва доставляла египтянам твердый камень, солнце сушило и делало прочными их деревянные изделия и ткани, а религиозные верования египтян побуждали их созидать храмы богам и гробницы своим великим людям так, чтобы эти постройки сохранялись на вечные времена. Богоподобные цари Египта думали приобрести себе бессмертие на небе и земле, изображая свои деяния на несокрушимых стенах храмов. Египетские жрецы учили, что загробная жизнь умершего зависит от состояния его тела на земле после смерти, от того, чей образ оно приняло, а также от тех жертвоприношений в виде кушаний и напитков, которые получала его тень (Ка) или которые, по крайней мере, изображались на стенах его гробницы оставшимися в живых родственниками. Отсюда произошли и бальзамирование покойников, мумии которых в числе нескольких тысяч сохранились до наших дней, и укладывание их в крепкие каменные или деревянные саркофаги, часто вставлявшиеся один в другой, и погребение умерших в глубоких, закрытых отовсюду шахтах, над которыми, если не возвышалось природной скалы, воздвигались каменные памятники и накладывались крепкие плиты; отсюда же проистек и обычай ставить изваяние покойника в особое отделение гробницы, а равно и обычай изображать пластически или в раскрашенном рисунке на стенах жертвенного покоя различные кушанья для того, чтобы умерший никогда не нуждался в пище.
Почти исключительно храмам и гробницам древних египтян обязаны мы своим знакомством с культурой и искусством их страны. От построек, в которых протекала жизнь египтян и которые лепились из нильского ила или строились из высушенного на открытом воздухе и лишь редко из обожженного кирпича особого рода и покрывались тонкой деревянной обшивкой, сохранились лишь одни фундаменты без малейших следов художественности; каменные же сооружения, каковы храмы и гробницы, дают нам возможность познакомиться с сущностью древнеегипетского зодчества.
Мелкий известняк для каменных построек египтяне добывали в Ливийской пустыне, крепкий песчаник – близ Гебель-Сильсиля в Верхнем Египте, светло-красный гранит – в древнейших каменоломнях Асуана (Сиены), на крайнем юге царства фараонов. В египетской архитектуре мы находим целый ряд общих черт, связывающих между собой различные стадии ее развития. Свод был известен египетским архитекторам очень давно, если не с наиглубочайшей древности, как фальшивый, то есть состоящий из ряда камней, выступающих друг над другом, так и настоящий с клинообразным замковым камнем, но обычно употреблялся только в подземных сооружениях и постройках второстепенного значения. Монументальные египетские здания покрывались преимущественно плоской крышей, состоявшей из ряда каменных балок, опирающихся на стены, а в случае значительности расстояния между этими последними, на столбы и колонны (рис. 97). Крытые галереи, окружавшие дворы храмов с внутренней стороны, и залы с поразительно узкими промежутками между колоннами явились, очевидно, как необходимое последствие устройства крыши из каменных балок. Несомненно, такая система подпор применялась сначала в деревянных постройках и уже потом перешла к каменным. Не следует, однако, забывать, что уже древние дольмены, сохранившиеся в большом количестве на севере Африки, указывают на существование в первоначальной архитектуре каменных построек крыши, лежащей на каменных подпорах; к этому надо добавить, что египетские постройки с каменной крышей по своей массивности и тяжеловесности, несмотря на украшения, нисколько не напоминают построек из дерева. Характерная черта всех египетских кирпичных сооружений – их стены кверху значительно, хотя и постепенно, утончаются. Этот тип стен, заимствованный, без всякого сомнения, от деревянных построек и не являющийся принадлежностью сооружений из плитняка, встречается в древние времена при постройке дамб и крепостей из плотной массы нильского ила. Эту же отвердевшую глиняную массу мы встречаем впоследствии в виде горизонтальных пластов, проложенных в стенах египетских построек из кирпича и камня.
Рис. 97. Реставрация храма Хона в Фивах (20-я династия). По Перро и Шипье
Только стены полированного гранита оставлялись ничем не покрытыми; их не касалась даже стенная живопись. Всякие же прочие каменные и кирпичные стены облицовывались сверху донизу, снаружи и внутри, тонким слоем штукатурки, и этот слой покрывался разноцветными пластическими изображениями, большая часть которых представляет собой уже фонетические иероглифы, играющие, с точки зрения содержания, роль письмен; в качестве же художественных произведений они составляют основную часть всей орнаментации здания и, гармонически сливаясь с ней, образуют одно стройное декоративное целое.
Колонны в египетских каменных постройках достаточно прочны для того, чтобы надлежащим образом выполнять свое назначение, то есть служить опорами. Но их украшение поразительным образом не соответствует их цели, придавая им часто вид растений с длинными и тонкими стволами, цветы которых, еще не развернувшиеся или уже распустившиеся, подпирают невидимую абаку и образуют капитель колонны. Очевидно, для того чтобы колонна казалась более солидной, несколько стволов, составляющих стержень колонны, обычно связывались у чашечки в пучки крепкими обручами, и в этом же месте между ними пропускались в качестве скреплений небольшие стебли тех же цветов. Вообще орнаментика египетских колонн этого рода производила впечатление чего-то мрачного, хотя очевидно, что она должна была выражать собой контраст между земной жизнью и жизнью небесной, изображенной на потолке здания в виде звезд и птиц. "Египтянин, – говорил Борхардт, – воображал себе свои колонны, подражающие растениям, свободно оканчивающимися и орнаментировал их сообразно с этим".
Рис. 98. Рельеф с цветками лотоса в гробнице (6-я династия). По Присс-д’Авену
На всех ступенях развития египетской орнаментики, состоявшей в архитектуре из картин и надписей, которые сплошь покрывали стены, цоколи, карнизы, потолки, столбы и ворота зданий и сохранившей даже в предметах ремесленного производства строгую чистоту стиля, мы находим одни и те же общие черты. Наряду с имеющими геометрическую форму орнаментами древних и первобытных периодов и с символическими изображениями животных, главным образом змей (уреев), мы встречаем в египетском искусстве еще в глубокой древности растительный орнамент. Поэтому египтян можно безусловно считать творцами орнаментации этого рода. Один и тот же ее мотив переходил от поколения к поколению, из тысячелетия в тысячелетие. Что эта орнаментика заимствована из египетской флоры, явствует само собой (рис. 98). Видимую роль играет в ней цветок лотоса, не индийского Nymphaea nelumbo, как раньше думали, а местного, белого или синего, Nymphaea lotus или Caerulea, как это подтверждают исследования Годфира, Ригля и Борхардта, а также доказывают характеризующие это растение (рис. 99, а) лопатообразные листья, равно как и количество и форма лепестков тех цветков, которые несчетное множество раз встречаются на египетских памятниках (д, е, с). Кроме лотоса в фантазии и в орнаментике египтян играл важную роль папирус. Если растение, которое на данном рисунке изображено плавающим на воде, – всем известный лотос, то не менее очевидно, что растение с длинными прямыми стеблями и пушистыми колосьями, соединенными в пучки, которые на рис. 100 выступают из воды, – кусты папируса. Мнение, высказанное Годфиром, к которому присоединились Ригль и Перро, что "веерообразный папирус" египетской орнаментики есть не что иное, как стилизованные цветки лотоса, изображенные сбоку, было убедительнейшим образом опровергнуто Борхардтом. Еще более невероятно предположение исследователей, полагающих, что все формы египетской орнаментики произошли от одной первоначальной формы, и считающих за известное видоизменение цветка лотоса тот орнамент в виде нераскрывшейся цветочной чашечки (рис. 99, г, ж, з, и), который Борхардт принимает за линию, а Швейнфурт за алоэ и который обычно называется египетской пальметтой в том случае, когда снабжен придатком в виде шишки или веерообразной коронки. Но всего невероятнее, без сомнения, тот взгляд, согласно которому также и египетская розетка представляет собой, если смотреть на нее сверху, не что иное, как цветок лотоса, по мнению Годфира, еще не распустившийся, по мнению же Ригля, уже вполне расцветший. Что эта розетка легко может быть принята за цветок – не подлежит сомнению (рис. 99, к), но во всяком случае она походит скорее на цветок астры, ромашки, маргаритки, чем на цветок лотоса. Иногда совершенно ясно, что она представляет собой только дальнейшее развитие четырехлистного орнамента (рис. 99, л); нередко можно принимать ее за звезду (рис. 99, м), и в этом случае она указывает на древнейшие орнаментальные мотивы, изображающие, по-видимому, солнце, луну и звезды в виде концентрических кругов, окаймленных иногда маленькими кружками. Каким образом из вышеуказанных элементов орнаментики при помощи различных изменений, добавлений и сочетаний, в соединении с волнистой спиралью образовались роскошные и в высшей степени художественные полосы орнамента, показывают фигуры н-с. Египетской орнаментике были не чужды и простейшие венки из листьев, виноградные лозы и гроздья, пальмы и другие растения. Орнамент же в виде пучка стеблей, скрепленных внизу розеткой и иногда похожий на ряд копий с торчащими кверху остриями, по мнению Борхардта, подражает бахроме ковра.
Рис. 99. Древнеегипетские орнаменты. Рисунки Макса Кюнерта
Рис. 100. Рельеф с папирусом в гробнице (4-я династия). По Присс-д’Авену
Цветущие растения, которые, как уже было сказано выше, образуют или в одиночку, или в виде пучков колонны, возвышающиеся на базах, имеющих форму небольших земляных куч, – это Nymphaea lotus и Numphaea caerulea, папирус, пальма, некоторые породы колокольчиков и тростник. История развития этих архитектурных форм чрезвычайно ясно изложена Борхардтом. Чаще всего встречаются колонны лотосовидные и папирусовидные. У первых, имеющих капители в форме нераскрывшегося или распустившегося цветка, нередко недостает основания, чего почти никогда не наблюдается у папирусовидных колонн, капители которых представляют закрытую или раскрытую совокупность колосьев. Отдельные стебли пучка у лотосовидных колонн имеют в поперечном разрезе круглую, а у колонн папирусовидных – треугольную форму. Стержни колонн первого рода не имеют ни листьев у основания, ни утолщения, тогда как стержни папирусовидных колонн суживаются внизу и как бы обернуты листьями. В лотосовидных колоннах лепестки чашечки цветка, играющей роль капители, доходят до самого ее верха, а в папирусовидных колоннах они значительно короче и окаймляют только нижнюю часть капители. На рис. 101 – колонна в виде папируса, а на рис. 102 – в виде лотоса, причем чашечки и в той, и в другой закрыты.
Рис. 101. Папирусовидная колонна из Карнака. По Перро и Шипье
Нет ничего невероятного в том, что многие орнаменты, заимствованные из растительного царства, нашли место в египетском искусстве только благодаря тому, что с давних пор им придавалось символическое значение, как это можно заметить особенно о цветке лотоса, очевидно олицетворявшем собой солнце. Другие орнаментальные мотивы в египетском искусстве также имеют символический характер. Если этого нельзя с полной уверенностью сказать об орнаменте, изображающем темно-синее небо, со звездами, который мы постоянно встречаем на потолках египетских гробниц и храмов, равно как и об изображениях коршунов, летящих с распростертыми крыльями (рис. 99, у), то несомненно символическими надо считать и солнечные круги, и крылатый диск солнца над входами в храмы (х), и священных змей, уреев (х и щ), и крест, с кольцом или петлей вверху, служащий символом вечности (ф, ц), и скарабея – блестящего египетского жука (Ateuchus sacer, ш), который, олицетворяя собой земное бытие и будущую жизнь человека, часто является и как украшение, и как самостоятельное художественное произведение.
Нужно различать два вида египетской пластики: скульптуру и плоские изображения, подчиняющиеся одним и тем же законам стиля, независимо от того, представляют ли они собой живопись или рельефную работу.
Материалом для скульптуры служили у египтян камень, дерево, слоновая кость, бронза, глина. Многочисленные колоссальные статуи исполнялись из гранита, базальта или диорита; статуи в натуральную человеческую величину – из песчаника или известняка; более мелкие – из дерева или бронзы. Фигуры из глины были всегда небольшого размера. Статуи из песчаника и известняка обычно покрывались слоем краски, изваяния же из твердого цветного камня получали раскраску лишь иногда или только в некоторых своих частях. Важнейшие памятники египетской скульптуры – статуи богов и людей; встречаются также фигуры животных. Изваяния людей ставились в гробницах и храмах. В первых кроме нескольких статуй, представлявших умершего в различном виде, помещались также изображения его слуг. Перед храмами и внутри их ставились статуи царей, строителей и основателей этих зданий; нередко подобные статуи также представляли одно и то же лицо в нескольких видах.
Рис. 102. Лотосовидная колонна. По Борхардту
Изображения богов в египетской скульптуре играют второстепенную роль. Скрываясь в мрачных святилищах, куда допускались только фараон и жрецы, фигуры богов, если они имели человеческий облик, изображались в нильской ладье. В других частях храма изваяния божеств являлись не предметами поклонения, а обетными приношениями. Хотя божества, покровители отдельных областей и городов Египта, имевшие чисто земной характер (остаток древнего фетишизма), впоследствии нередко сливались со светлыми богами-небожителями жреческой религии, однако эти божества, несмотря на небесный свет, их озарявший, не могли сбросить с себя земной оболочки. Египетский народ почти всегда представлял себе богов в образах священных животных. Амон, древний бог города Фив, даже во времена римского владычества, превратившись в Юпитера-Амона, сохранил свои бараньи рога. Поклонение его двойнику, древнему богу солнца Ра, возникло из обожествления кобчика. Пта, древний бог художников Мемфиса, чтился в образе священного быка Аписа; Гатор, богиня неба и любви, – в образе коровы; Собк, местное божество Фаюма, – в образе крокодила; Горус, бог солнца, – в виде кобчика; Баст, богиня Бубастиса, – в образе кошки; Тот, бог мудрости, – в виде ибиса или павиана; Анубис, бог смерти – в виде шакала (рис. 103). Животный элемент менее заметен в изображениях Нейфы, всевидящей богини Саиса, но особенно в изображениях Осириса, великого бога умерших, культ которого был продолжением культа древнего божества, покровителя Абидоса и его супруги Исиды, "мудрейшей из всех людей и богов". Египетские скульпторы в большинстве случаев ограничивались приделыванием к божеским статуям голов священных животных. При этом, само собой разумеется, изображениям богов не только не придавалось облагороженных человеческих черт, но и создавались новые существа. Гораздо реже производили египтяне такие статуи полулюдей-полузверей, в которых к туловищу животного приставлена человеческая голова. Главные образчики подобных изваяний – сфинксы с туловищем льва и головой человека, олицетворявшие собой божественное происхождение царской власти; это скульптурное изображение было столь распространено и в древней эпохе, и в последующие времена, что не только бесчисленное множество раз повторяется в египетском искусстве, но и доныне остается достоянием художественного творчества. К числу изображений двойственного характера из чисто животного царства принадлежат гриф – крылатый лев с головой орла, имеющий, без сомнения, азиатское происхождение, и изображение львицы с головой кобчика – порождение чисто египетской фантазии. Наконец, примером человеческих крылатых изображений могут служить статуи Исиды и Нефтиды, игравшие некоторую роль в египетском искусстве позднейшего времени.
Рис. 103. Рельеф Абидосского храма (Гор и Анубис). По Масперо
Разумеется, египетские скульпторы лучше знали строение человеческого тела и правильнее воспроизводили его, чем художники тех народов, о которых было говорено выше. Жаркий климат Египта, заставлявший носить лишь самую легкую одежду, способствовал изучению нагого тела. Лучшие из древнеегипетских изображений человека в стоячем или сидячем положении почти не оставляют желать ничего большего, если вообще требовать от скульптуры передачи нагого тела, застывшего в неподвижности. Такое условное воспроизведение человеческих фигур может быть объяснено первоначальной ступенью развития искусства, выше которой не поднимался ни один народ до греков, лишь в начале V в. до н. э. ушедших дальше по пути художественного творчества. На примере именно египетской скульптуры и основал Ланге свое учение о фронтальности в пластике древних и первобытных народов вообще, равно как и культурных народов, стоявших на одинаковой ступени развития с народами древнего Востока.
В египетской пластике мы встречаемся с исключениями из означенного правила только в тех случаях, когда изображены животные и грубые человеческие фигуры, как, например, в одном изображении низшего карликообразного божества Беса, Берлинский музей. Вопрос, выработали ли египетские скульпторы законы, определяющие сравнительную величину отдельных частей человеческого тела, имели ли они для этого канон, – представляется спорным. Диодор говорил (I, 98): "Длину всего туловища они делили на 211/4 части и сообразно этому определяли взаимное соотношение всего остального". Одни из первых египтологов XIX столетия принимали за единицу этого египетского канона длину ноги, другие – длину одного из пальцев; новейшие же исследователи безусловно отвергают существование канона в египетских скульптурных изображениях людей. В крайнем случае, правила пропорциональности частей в статуях могли существовать только в эпоху Птолемеев и римского владычества. Тем не менее в египетской скульптуре были законы, связывавшие свободу движений и поз человеческих фигур, требовавшие от них неподвижного, фронтального положения. Так, за исключением коленопреклоненных фигур, ноги статуи всегда опираются о землю всей ступней. Только в мужских стоячих фигурах одна нога, левая, немного выдвинута вперед; в женских же и детских статуях обе ноги всегда стоят рядом, на одной линии. Руки со сжатыми кулаками иногда плотно прилегают к туловищу, но чаще положение рук, сохраняя свою угловатость и условность, уже подчиняется известным законам симметрии, и, наконец, изредка, как это наблюдается в древнехалдейских статуях, руки покоятся сложенными на груди. Наряду с фигурами в стоячем положении нередко встречаются фигуры, сидящие на троне; попадаются часто также изображения людей, присевших на корточки, стоящих на коленях, сидящих на земле с поджатыми под себя, по восточному обычаю, ногами. Головы во всех египетских статуях свидетельствуют о существовавшем в Египте, благодаря жаркому климату, обычае брить волосы и бороду; только в редких случаях, преимущественно во время праздничных церемоний, на голову надевался парик или повязка, а к подбородку привязывалась фальшивая борода, завязки которой нередко бывали видимы.
В египетской скульптуре встречаются также целые группы человеческих фигур, и в них-то именно выказывается особенно сильно закон фронтальности. Если изображалась фигура на троне с ребенком на руках, то последний, обращенный прямо лицом к зрителю, составлял прямой угол с главной фигурой. Если группа состояла из двух или трех фигур, то они всегда изображались вытянутыми в одну линию, если смотреть на них спереди (рис. 104). При этом главная фигура своим размером вдвое или втрое превосходила величину остальных, в особенности когда эти последние представляли его жену или детей.
Правило, по которому такое лицо – в большинстве случаев царь – изображалось гигантом в сравнении с окружающими его фигурами, соблюдалось и в египетских изображениях на плоскости. Этот способ обозначения духовного превосходства одного человека над другими посредством увеличения размеров его фигуры должен быть признан вполне естественным на известной стадии развития искусства.
Рис. 104. Группа Пта-Маи. С фотографии
Египетские изображения на плоскости в своем историческом развитии подчинялись также известным общим законам. Несмотря на немногие позднейшие усовершенствования, вызванные стремлением к свободе, эти изображения постоянно сохраняли свой силуэтообразный характер. Почти незаметен также переход от живописи на плоскости, которая, однако, вследствие резкой определенности контуров походила скорее на раскрашенные рельефы, чем на настоящую живопись, к изображениям со слегка углубленными контурами, а от этих последних к койланаглифам, или впалым рельефам (reliefs en creux), очертания которых настолько углублены, что можно было моделировать изображенные фигуры и предметы, не касаясь фона (см. рис. 103), и, наконец, к настоящим барельефам, то есть изображениям, слегка выступающим на выдолбленном фоне. Во всяком случае, сами египтяне, как заметил Эрман, не видели существенной разницы между живописью, впалыми рельефами и барельефами; да и в настоящее время едва ли можно с полной уверенностью сказать относительно многих памятников, каковы были основные мотивы, побуждавшие художников избирать тот или другой из этих родов техники.
Образчиками этих различных приемов искусства являются главным образом монументальные изображения на внутренних стенах гробниц, внутренних и наружных стенах храмов, рисунки на папирусных свитках – древнейшие из миниатюр и иллюстраций, наконец, изображения на саркофагах, сосудах и разной утвари. Содержание рельефной живописи и пластики доносило жизнь изображенных лиц во всей ее полноте: тут были и религиозные церемонии разного рода, и большие исторические картины, прославлявшие деяния египетских царей, и сцены сельского, ремесленного, торгового и домашнего быта, к которым для украшения присоединялся нередко пейзаж, а также картины идиллического характера; но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все эти воспроизведения жизни в ее разнообразных проявлениях имели одну цель, а именно должны были прославлять умершего на земле и оказывать ему услуги в загробной жизни. Жанровые картины на фоне пейзажа, равно как и сцены сельского и охотничьего быта, играют ту же роль, как и изображение съестных припасов, необходимых для тени умершего. В идиллических картинах мы находим опять-таки ту же идею, что и в изображении разных кушаний и напитков.
Законы стиля египетской живописи и пластики обусловливались частью известными требованиями обычая, частью несовершенствами техники. И здесь мы видим, что умение изображать различные явления жизни на плоскости моложе, чем искусство правильно воспроизводить отдельные человеческие фигуры во всем их объеме. Но техническая неумелость в большинстве случаев прикрывается условными правилами приличия, служа, таким образом, добродетели в силу необходимости. Если присмотреться поближе к отдельным фигурам, то окажется, что во все продолжение существования египетского искусства в нем господствовало правило изображать лица в профиль. Вместе с дальнейшей историей развития искусства мы познакомимся с более совершенными его образцами, представляющими исключения из этого правила. Но и профильное изображение фигур удавалось египетским художникам только отчасти, что зависело от их стремления выражать все точно и ясно. Голова, руки и ноги давались в профиль, плечи и глаз видимыми спереди. Между верхней частью груди, представленной en face, и ногами, изображенными в профиль, находилась середина туловища, часть которого была нарисована в прямом положении, а часть сбоку. Руки поражают своей неестественностью: первые четыре пальца имеют всегда одинаковую длину; ладони и верхние части рук нередко оказываются одни на месте других; но еще более поразительно полное пренебрежение правильностью положения ног. В египетском искусстве, на всех стадиях его развития, соблюдалось правило изображать ноги в профиль, стоящими одна подле другой, и притом с внутренней стороны, так, чтобы был виден только один большой палец, закрывающий все остальные. Но во все времена бывали, если верить снимкам, единичные исключения из этого общего правила; так, например, ближайшая к зрителю нога иногда сохраняла естественное положение, при котором видимы все пять пальцев. Это случалось тогда, когда художнику вдруг приходило в голову считаться с действительностью. Однако памятники, известные автору настоящего сочинения в оригиналах или копиях, не свидетельствуют о существовании подобных исключений в древнейшем периоде египетского искусства. В эпоху же Нового царства верная постановка ног является довольно часто и соблюдается заметнее, хотя все еще не составляет общего правила. Руки не имеют органической связи с туловищем, и их движения обычно неестественны и угловаты. Если надо было представить какой-нибудь член тела, руку или ногу, вытянутыми, древние египтяне постоянно изображали вытянутую ту руку или ногу, которая более удалена от зрителя. Если у египетских художников не было каких-либо причин, которые побуждали их изобразить данную фигуру смотрящей влево, то они всегда повертывали лицо вправо. Оба этих правила были открыты Эрманом. Со своей стороны заметим, что ввиду множества исключений эти правила перестают быть таковыми. Но Эрман прав, поскольку дело касается изображения высокопоставленных особ, к которым постоянно применялся этот обычный, освященный преданием, первобытный художественный прием.
Этот силуэтообразный стиль, образцом для которого послужила, быть может, настоящая живопись силуэтов, таков, что его несовершенство выказывается в группах сильнее, чем в изображениях отдельных лиц. Затруднение должно было неизбежно встречаться уже при изображении двух фигур, стоящих рядом. По правилам надо было изобразить одну фигуру над другой так, чтобы ноги той, которая дальше от зрителя, приходились над головой передней фигуры и были одинаковой с ней величины. Часто, а в древние времена постоянно, верхние ряды отделялись от нижних чертами, обозначавшими собой разные планы (передний, средний и задний) в виде полос. Часто также, особенно в позднейшие времена, когда пластически изображались массовые движения, задние фигуры высовывались наполовину из-за голов передних фигур, и нередко изображение фигур, стоящих рядом, благодаря удвоению контуров приближалось к настоящему перспективному изображению, причем, конечно, повторялась прежняя ошибка в перспективе – увеличенность размера задних фигур.
Насколько далеки были египетские художники от понимания законов перспективы в своих изображениях на плоскости, о том свидетельствует прежде всего их способ изображать пейзаж, окружающий предметы. Автор настоящей книги уже имел случай раньше, по другому поводу, подробно выяснить, что пейзаж играл видную роль в значении заднего плана во многих фигурных изображениях Древнего Египта, но никогда не был в нем самостоятельной отраслью искусства; представляя собой задний план, он в лучшем случае передавал лишь отдельные части неодушевленной природы, намечая их как на географической карте: воспроизводил множество хорошо схваченных подробностей, но никогда не представлял законченного и притом перспективного целого. Например, окруженный деревьями четырехугольный бассейн с водой, изображенный в погребальном покое в Адд-эль-Курна, имеет вид чертежа, представляющего правильный квадрат, а его вода, по обычаю, существовавшему с незапамятных времен в Египте, обозначена рядом зигзагообразных линий, проведенных перпендикулярно по синему полю; 24 дерева, окружающие бассейн со всех сторон, хотя изображены по краям рисунка именно на тех местах, где им должно быть, своими верхушками обращены во все четыре стороны. Изображение священного сада в гробнице Элейфии времен 17-й династии представляет смещение чертежа с перспективным видом (рис. 105).
Рис. 105. Священный сад в гробнице Элейфии. По Перро и Шипье
О воспроизведении атмосферных явлений в египетских изображениях на плоскости, конечно, не может быть и речи. В египетском искусстве мы не находим признаков ни правильной передачи света и тени, ни верного распределения и сочетания красочных тонов. Каждая краска накладывалась на предназначенном для нее пространстве ровно, не смешиваясь с другими. Цвета, встречающиеся в природе, передавались только приблизительно. Мужчины-египтяне и лошади изображались красновато-коричневыми; мужчины-азиаты и египетские женщины – желтыми. Пестрые костюмы чужеземцев (сами египтяне предпочитали носить одежду из совершенно белой льняной ткани) воспроизводились со всем разнообразием своих цветов. Многие изображения богов роскошно иллюминировались желтой, красной, зеленой или синей красками, представляя, таким образом, целую символику колеров, недоступную, впрочем, нашему пониманию. Наконец, замечательно, что египетское искусство, на всех ступенях своего развития, с самой эпохи своего зарождения, оказывалось совершенно бессильным, когда требовалось выражать душевные движения в мимике; нравственные волнения оно изображало с помощью движений тела, причем лица имели одно и то же выражение, похожее на вынужденную улыбку.
Постепенное развитие всего египетского искусства следовало медленно за общим ходом человеческой культуры. Великие государственные перевороты вызывали время от времени вспышки художественного творчества, порождали новые идеи и новые образы; но и после испытанных им коренных преобразований это искусство оставалось целые тысячелетия застывшим в прежних тесных рамках; в медленном ходе художественного творчества египтян, закованного в тяжелые цепи древних традиций, отводивших в нем такое важное место лотосу и папирусу, нигде и никогда не находим мы признаков индивидуальности того или другого художника, с именем которого были бы связаны новые шаги в области искусства. Конечно, в истории Египта нет недостатка в именах художников. Мы находим там как главных, так и второстепенных зодчих, скульпторов и живописцев, но только в редких случаях имеем возможность приурочить известное художественное произведение к имени определенного художника, да и тогда это произведение не заключает в себе никаких характерных черт, отличающих его от произведений других мастеров.
В эпоху наибольшего процветания Египта, с древнейших времен и до покорения долины Нила македонянами (в 332 г. до н. э.), насчитывается 30 династий фараонов. Попытка определить время царствования древнейших египетских династий годами привела к совершенно различным результатам. Мы хотим, например, знать, когда царствовал фараон Снофру, основатель 4-й династии, при которой были построены громадные пирамиды Нижнего Египта: по благонадежному, хотя и не совсем точному указанию Эд. Мейера, он жил позже 2830 г. до н. э.; со своей стороны, Лепсиус относит время его царствования к 3124 г., Бругш – к 3766 г., Масперо – к еще более раннему времени, приблизительно к 4100 г. до н. э. Цветущая эпоха царствования 18-й династии может быть отнесена к XVI столетию, царствование 19-й династии – к XIV, 26-й – к VII и VI. Потребность в большей систематизации побудила разделить всю историю Египта на несколько больших периодов.
Наиболее удобным для истории искусства должно признать деление немецких египтологов, различающих в истории Египта 4 периода, или царства: древний, средний, новый, Саисский период – последняя эпоха национальной независимости Египта, назван так по главному городу царства Саису. Древний период охватывает собой вслед за эпохой владычества первых трех династий, относящихся отчасти к доисторическому времени, эпоху 4, 5 и 6-й династий, царствовавших с 2830 по 2500 г. до н. э. Средним периодом считается время господства 11, 12 и 13-й династий, из которых 12-я царствовала, по новейшим вычислениям, приблизительно с 1890 по 1796 г. до н. э. Новый период – время царствования 18, 19 и 20-й династий (с 1600 по 1100 г.). Саисскому периоду принадлежит 26-я династия (с 645 по 525 г. до н. э.). Этот период завершился покорением Египта персами, но 200 лет спустя завоеватели-греки насадили на египетской почве семена другой, более юной культуры, которая, разумеется, не могла сразу вытеснить остатки прошлого. В еще более позднюю эпоху, даже после того, как Египет, в 30-м г. до н. э., превратился в римскую провинцию, обе эти культуры постоянно находились во взаимодействии.
2. Искусство Древнего царства (около 3000-2500 гг. до н. э.)
Историю египетского искусства еще недавно было возможно изучать только с конца 3-й династии, и еще на первой стадии своего развития оно может быть уподоблено, по выражению Лепсиуса, "ребенку, воспитанному в строгости, целомудрии и благонравии", каким оно и оставалось на всех последующих стадиях. Раскопки и изыскания XIX столетия впервые дали нам возможность познакомиться с состоянием этого искусства. С этими открытиями останутся навсегда тесно связаны имена Флиндерса Петри, нашедшего близ Туха, между Балласом и Негаде, гробницы, относящиеся к этому раннему времени, Амелино, отрывшего пять больших древних гробниц фараонов близ Абидоса, и де Моргана, нашедшего в 1897 г. могилу царя Менеса, которого сами египтяне считали основателем 1-й династии фараонов. Благодаря названным ученым египетское искусство эпохи царствования первых трех династий как бы внезапно воскресло перед нами.
Главнейшие находки касаются той поры, когда уже существовала письменность. К отлично отшлифованным кремневым оружию и орудиям труда присоединяются в небольшом количестве изделия из меди, а позже и бронзовые изделия. Мы видим здесь именно, как доисторическая неолитическая эпоха переходит в историческую, не теряя, однако, следов начальной ступени каменного века.
Гробница Менеса представляла собой прямоугольное, отдельно стоявшее сооружение, сложенное из необожженного кирпича; другие же усыпальницы были глубоко высечены в скалах и только обложены необожженным кирпичом. Предметы, найденные в гробницах этой эпохи, сохраняются в музее города Гиза, в Каире, и европейских коллекциях. Между прочим, их очень много в Берлинском музее, в "Подробном указателе" которого они распределены в строго научном порядке. Глиняная статуя "Сидящая женщина", находящаяся в этом музее, своей дородностью напоминает некоторые палеолитические изображения Южной Франции; у бородатых фигур, резанных из кости, глаза сделаны из слонового клыка. Замечательные зеленые шиферные пластинки, имеющие вид зверей или геометрическую форму, служили для растирания румян.
Среди изделий из слоновой кости, частная английская коллекция, есть, между прочим, изданная Шпигельбергом доска, особенно интересная потому, что служит доказательством существования уже в эту раннюю эпоху традиционного мотива – царя, схватившего склоненного перед ним врага за волосы и намеревающегося убить его. Каменные горшки, имеющие форму животных (собаки, слона, бегемота), напоминают произведения древнеамериканского искусства. В другом месте встречаются рельефные изображения на зеленых шиферных досках, которые Штейндорф считает за "новую отрасль египетского искусства". Две такие доски находятся в музее города Гиза, и на одной из них изображен целый ряд коров, ослов, овец и деревьев, расположенных друг над другом в виде четырех полос; другая доска представляет изображение нильской ладьи; еще две подобные доски находятся в Лувре и Британском музее, в Лондоне. Эти каменные рельефы ранних времен египетской истории отличаются более своеобразным, резко выраженным стилем, чем другие произведения той же эпохи. Мощные формы и чрезвычайная мускулистость изображенных здесь людей и животных порой напоминают произведения древнехалдейского искусства. По костюму и осанке люди совершенно не похожи на позднейших египтян. Что эти рельефы относятся к древнейшей поре египетского царства, мы, вместе со Штейндорфом, признаем не подлежащим сомнению.
Глиняные сосуды времени первых трех династий выделывались исключительно руками, но иногда и при помощи гончарного круга. Глиняная корзина свидетельствует о том, что плетение корзин предшествовало гончарному производству. Наряду с черными чашами, на которых, как на неолитических, выведены белой краской геометрические узоры, встречаются горшки, расписанные красновато-коричневой краской по светлому фону и белой краской по красному.
Рис. 106. План храма Сфинкса близ Гизы. По Перро и Шипье
Орнаментальными мотивами в живописи этого рода являются волнообразные и зигзагообразные линии, а также настоящие спирали. Швейнфурт, согласно мнению, высказанному нами выше, полагал, что некоторые сосуды, сплошь покрытые узкими спиралями, заимствовали эти формы от нуммулитового известняка, распространенного в Египте. Среди украшений на вазах встречаются человеческие фигуры, мужские и женские, и фигуры животных, например каменного барана, оленя, крокодила и страуса. Швейнфурт нашел рисунки, изображающие фламинго с головой в виде спирали и танцовщиц с руками также в виде спиралей; встречаются изображения ладьи, плывущей по небесному своду, и нередко глиняные сосуды целиком получают вид подобной ладьи – судна, перевозящего души умерших. Мотивы растительного царства хотя и редки, однако встречаются. Повсюду проявляются зачатки позднейшего египетского искусства.
Об искусстве Древнего царства, начиная с 3-й династии, дают нам понятие почти одни только гробницы великих и знатных египтян. Немногие сохранившиеся развалины храмов – подлинные памятники начального религиозного зодчества Египта – указывают на то, что между обиталищами богов и усыпальницами мертвецов существовала тесная связь. Образцами сооружений этого рода могут служить, во-первых, открытый Петри небольшой храм-усыпальница фараона Снофру, близ пирамиды в Медуме, из двух зал, не имеющих никаких украшений, и из двора, во-вторых, храм Сфинкса в Гизе, относящийся ко времени постройки пирамид. План его (без прилегающего к нему огороженного пространства) в общих чертах представляет два зала, примыкающих один к другому и образующих подобие буквы Т (рис. 106). Плоский каменный потолок поддерживался в поперечном зале шестью гладкими четырехгранными столбами, в продольном зале – десятью такими же столбами, стоявшими в два ряда. У этих колонн нет плинтов ни в основании, ни над вершиной. Каменные балки потолка покоятся непосредственно на столбах. Храм этот – образец каменного сооружения самого древнего типа, происходящего, быть может, прямо от дольменов, но отличающийся тщательностью и правильностью кладки (рис. 107).
Ни живописи или иных украшений, ни надписей нет в этом простом здании; зато его столбы высечены из розовато-красного гранита, а стены и потолок сложены из алебастра, так что от этого небольшого архитектурного памятника древности веет благородной, изящной простотой.
Усыпальницы египетских царей – это пирамиды; усыпальницами же для вельмож служили восьмиугольные могильные сооружения с плоской кровлей и со стенами, имевшими снаружи вид откосов. Эти гробницы называются мастаба. Самые значительные пирамиды и мастаба находятся вблизи древней столицы Египта Мемфиса, в пустынной местности на западном берегу Нила. На западе ежедневно заходят божественные небесные светила, а потому египтяне предполагали там существование царства, где умершие находятся в блаженном единении с богами.
Рис. 107. Храм Сфинкса близ Гизы. По Перро и Шипье
Пирамиды – наиболее грандиозные и типичные памятники искусства рассматриваемого тысячелетия. Погребальные склепы в пирамидах, проникать в которые надо было по длинным коридорам или шахтам, помещались иногда в сплошной, сложенной из камня или кирпича толще самого здания или под ним, в каменистой почве. Покои, служившие для принесения жертв или посвященные культу усопшего, устраивались обычно в виде особого здания, с восточной стороны пирамиды. В художественном отношении заслуживает внимания в пирамидах преимущественно их вид. Представляя собой окаменелый, получивший правильную стереометрическую форму гигантский могильный курган, они поражают зрителя массой нагроможденных в них друг на друга камней и своей стройной четырехгранностью. Впоследствии древний греко-римский мир назвал пирамиды одним из чудес света. С точки зрения законов исторического развития представляется несомненным, как это и признается всеми, что древнейшая из всех пирамид – гробница Джосера, фараона 3-й династии (рис. 108), уступчатая пирамида в Саккаре, состоящая из шести огромных, уменьшающихся с приближением к вершине частей из известняка и достигающая высоты 60 метров. Мы уже видели раньше, что уступчатая форма есть не что иное, как первоначальное, появившееся уже у некоторых первобытных народов стилизование земляного кургана; пирамиды тоже строились сперва в виде уступов, но потом дополнялись каменными плитами так, что под конец представляли гладкие грани. Саккарская уступчатая пирамида скрывала под своей тяжеловесной массой выложенную зеленоватым кафелем камеру, которая была реставрирована во время 20-й династии, отличавшейся любовью к старине; но, судя вообще по ее украшениям, она построена при царе Джосере. Узор стенной облицовки, куски которой попали в Берлинский музей, походит на рогожное плетение. Фараону Джосеру наследовал фараон Снофру, усыпальница которого – пирамида в Медуме – имеет уже не ступенчатую, а гладкую форму. Переход от одного типа пирамид к другому мы находим в Дашуре, там пирамида как бы поставлена на другую, усеченную и имеющую более крутые грани (рис. 109). Во всяком случае, пирамиды с гладкими гранями являются наиболее чистыми и полными выразителями идеи подобных сооружений. Величайшие и известнейшие из таких пирамид находятся близ Гизы. Это гробницы трех царей 4-й династии: Хуфу (Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкере (Микерина). Самая большая и самая древняя из них – пирамида Хеопса (рис. 110), имеющая в основании 233 метра как в длину, так и в ширину, и достигающая в высоту 145 метров. Немногие еще сохранившиеся части ее каменной облицовки состоят из белого известняка, который, будучи выкрашен в различные цвета, должен был некогда производить впечатление сочетания нескольких драгоценных горных пород. Вторая пирамида, усыпальница Хефрена, была несколько меньшей величины. Высота ее равнялась 135 метрам; облицовка нижней ее части состояла из розовато-красноватого гранита. Третья, пирамида Микерина, имела высоту только 66 метров. В нижней своей части она была облицована сиенитом, а в верхней – известняком. В ней был найден наделавший много шума саркофаг синевато-черного базальта с мумией фараона в деревянном гробу, утонувший во время его перевозки морем в Лондон, но известный по рисункам. Он дает нам понятие о виде и стиле древнеегипетских глинобитных и деревянных построек. Но так как немецкая египтология недавно признала его произведением времен 26-й династии, реставрировавшей гробницы древних царей в измененном виде, то вместо этого саркофага типичным образцом древнеегипетской архитектуры может служить великолепный саркофаг Хуфу-Онка (4-я династия) из розового гранита, находящийся в музее Гизы; он также представляет собой подобие глиняно-деревянного сооружения с дверями и окнами, хотя с менее разработанным устройством рам и косяков.
Рис. 108. Саккарская уступчатая пирамида (реставрация). По Перрингу
Рис. 109. Дашурская пирамида (реставрация). По Перрингу
Рис. 110. Пирамида Хеопса (реставрация). По Перрингу
Рис. 111. Дверь появления мастаба в Гизе. По Лепсиусу
Мастаб, гробницы знатных людей, расположенные около пирамид, с художественной точки зрения любопытны не столько по своему внешнему виду, сколько по внутреннему устройству. Мастаба представляет снаружи как бы прямоугольный курган, образовавшийся сам собой от вырытой из могилы и насыпанной на гроб земли. Внутри мастаба особенно интересен жертвенный покой, или святилище, предназначенное для культа усопшего; входная дверь в этот покой находилась всегда в восточной стене, а напротив нее, в западной стене, с внутренней стороны помещалась так называемая дверь появления, обозначавшая собой вход в царство мертвых, впоследствии превратившаяся просто в вертикально стоящую плиту (стелу). Слегка рельефные, иллюминированные изображения, украшавшие собой внутренние стены и дверь появления в этих усыпальницах, придают им большое художественно-историческое значение. Кроме того, благодаря им мы имеем возможность ближе ознакомиться с глиняно-деревянным зодчеством Древнего царства. Двери появления, или стелы многих гробниц этого периода, как, например, стела жертвенного покоя царя Манофера из 5-й династии, находящаяся в Берлинском музее (рис. 111), или подобная ей дверь, обнародованная Лепсиусом и находящаяся в музее Гизы, знакомят нас с двумя главными мотивами орнаментики всей последующей египетской архитектуры храмов: с круглым столбом, обвитым цветными полосами, служащим для вертикального окаймления пространств, и с желобчатым, разрисованным стилизованными листьями тростника (?) фризом, которым обычно заканчиваются вверху стены и двери. Единственный растительный мотив, являющийся в орнаментации этого рода, – двойной цветок папируса (по мнению некоторых, цветок лотоса), увенчивающий кое-где изображения вертикальных столбов. Два цветка на длинных стеблях, крепко связанные у чашечек и слегка изогнутые, наклоняются вправо и влево (рис. 112, а). Между изображениями столбов находятся узкие, длинные пространства, покрытые цветочным, шахматным, ромбоидальным или зигзагообразным узором; при ближайшем рассмотрении оказывается, что этот узор представляет собой циновки, которые вешались тут в действительности. Так, например, циновки на восточной стене Саккарской гробницы Птахотепа (5-я династия) изображены так, как будто бы их можно опускать и поднимать. Тем не менее неискушенный наблюдатель не усмотрит во всей этой стенной орнаментике ничего, кроме сочетания геометрических линий.
Рис. 112. Развитие египетской капители. По Делафуа (а), Присс-д’Авену (б, в) и Лепсиусу (г, д, е)
Рис. 113. Ти и его супруга. Картина из усыпальницы в Мемфисе (5-я династия). По Присс-д’Авену
Наряду со всей этой полосовидной орнаментацией, имеющей иногда характер тканья, в жертвенных покоях встречаются изображения легких шатрообразных построек (aediculae) на широко расставленных деревянных подпорках. Здесь особенно интересны изображения столбов, напоминающих собой орнаментацию капители египетской колонны, которая не соответствует своему назначению – служить опорой. Тонкие деревянные колонны имели вид отдельных стволов растений, но наряду с ними существовали колонны в виде пучка стволов. Среди изображений этого рода чаще всего встречаются колонны в виде еще не расцветших или цветущих стволов лотоса, тогда как папирусовидные колонны встречаются изредка. Деревянные столбы с приставленными к ним бутонами и цветами мы находим в воспроизведении одного деревянного строения, находящегося в Лувре (см. рис. 112, а). Капители из Саккары (4-я династия) имеют вид бутона или цветка (б, в); и образец капители в виде полураскрывшегося лотоса (г) взят из гробницы 5-й династии. Видоизменившаяся впоследствии каменная капитель в форме опрокинутой чаши или колокола (д), происшедшая, по-видимому, просто от шеста палатки, равно как и капитель в форме коровьей головы (е), по мнению Лепсиуса, появляются уже в изображениях легких построек (aediculae) 5-й и 6-й династий.
Фигурные изображения на плоскости в этих гробницах состоят почти исключительно в раскрашенных слегка выпуклых картинах (рис. 113). Подобные изображения, несмотря на все свои схематические неправильности, жизненны, выразительны и вразумительны. Люди – широкоплечи и коренасты. В некоторых изображениях, как, например, в гробнице Ти, плечи и руки как бы случайно представлены почти в профиль. Особенной естественностью отличаются изображения животных в различных позах; лошадь еще отсутствует, но ослы, коровы, овцы и газели воспроизводятся с любовью, в своем естественном виде и характерных движениях. Гамма красок очень проста. Желтый, красный, синий, зеленый, коричневый, белый и черный цвета еще не имеют никаких оттенков. Живопись на стелах или дверях гробниц, изображающую умершего, не следует смешивать с настоящей стенной живописью. Предметом последней служит также умерший. Изображенный в натуральную величину, он сидит у одного конца стены перед своими слугами и наблюдает за их работой или принимает от них дары. Работающие слуги воспроизведены полосами, помещенными одна над другой, причем высота каждой фигуры редко превышает величину фута. До какой степени это расположение композиции полосами впоследствии заменилось попыткой представлять перспективное удаление показывает, например, известный рисунок в усыпальнице Птахотепа в Саккаре. Художник хотел нарисовать картину, воспроизводящую жизнь всей равнины, от Нила до гробниц пустыни, и выполнил это, нарисовав несколько полос, одну над другой. Внизу, в первой полосе, изображена кишащая рыбами река с плавающими по ней ладьями, во второй полосе – ловля птиц, в третьей – постройка судна, а также ловля и соление рыбы; в четвертой – охота на антилопу, в пятой – пустыня с дикими зверями.
Рис. 114. Стела Схири. По Масперо
Самыми древними гробничными изображениями считаются находящиеся на дверных камнях усыпальницы Схири, 3-я династия, музей Гизы (рис. 114). Ко временам фараона Снофру относится жертвенный покой верховного жреца Амтена, Берлинский музей; здесь изображения плоски, но ясно и резко моделированы. К эпохе 4-й династии принадлежит жертвенный покой принца Мерэба, Берлинский музей. В нем особенно заслуживает внимания изображение ладьи умерших, в которой Мерэб едет в страну вечного блаженства.
Гробницы 5-й династии, найденные в Саккаре, дают нам понятие о полном расцвете Египетского древнего царства. Из них можно указать на гроб главного царского парикмахера Манофера, с многочисленными изображениями животных, и на гроб Пегенуки, с прекрасными сценами из быта корабельщиков, оба – в Берлинском музее, главным образом же на знаменитые гробницы Ти и Птахотепа в Саккаре. В гробнице Ти мы находим, сверх обычных изображений различных кушаний, приносимых в дар умершему, рисунки, представляющие пашущих поселян, мелющих хлеб женщин, работающих волов и ослов, мужчин, играющих на музыкальных инструментах, и танцующих девушек (рис. 115). В гробнице Пта-хотепа следует особенно отметить изображения охоты в пустыне, сбора винограда и ловли птиц на болоте. Во всех этих картинах нас поражают кроме различной силы воспроизведения свежесть и непосредственность чувства, с которыми художнику постоянно удается передавать сюжет ясно и жизненно. Но если в изображении того или другого сюжета достигнута ясность и отчетливость, то он уже всегда, в течение столетий, воспроизводился в одном и том же виде.
Рис. 115. Стена в усыпальнице Ти. С фотографии Бругша
В гробничных картинах Древнего царства изображений фараонов и богов не встречается; каменные рельефы в Вади-Магхара на Синае, представляющие Хуфу (Хеопса), схватившего своих пленников-азиатов за волосы и приносящего их в жертву богам, – это памятные таблицы деяний царя и, как не имеющие ничего общего с культом умерших, составляют исключение среди сохранившихся произведений искусства Древнего царства.
Для изучения круглых пластических памятников рассматриваемой эпохи мы должны снова перенестись в мир гробниц. Колоссальный сфинкс в Гизе, который считался исключением, принадлежит, как это удостоверено Борхардтом, Среднему царству. Громадные, изваянные из камня сидячие статуи фараонов Древнего царства, найденные в одном из подземных коридоров храма Сфинкса, немецкие ученые (Швейнфурт, Борхардт и др.) признают архаистическими произведениями уже 25-й и 26-й династий.
Что образцами для них служили подлинные произведения Древнего царства – можно предполагать, но не утверждать с уверенностью.
Особое положение занимают также открытые в древнейших развалинах Гиераконполисского храма фигуры чеканной работы, сделанные из медных пластин и, быть может, вначале золоченые. Статуя во весь рост изображает Пепи I, фараона 6-й династии, а перенесенная в музей Гизы меньшая статуя – по всей вероятности, сына этого государя, Мефусуфиса. По портретности голов и жизненности исполнения эти изваяния имеют характер последних, самых зрелых скульптур Древнего царства.
Рис. 116. Статуя Метена (Амтена). С фотографии
Найденные в частных гробницах этого царства статуэтки и фронтальные группы фигур, исполненные или из дерева, или из известняка, изображают почти исключительно зажиточных частных лиц, их слуг и служанок. Такие статуи и статуэтки помещались в особых глухих камерах, находившихся в мастаба и известных под названием сердабов; их ставили туда для того, чтобы обеспечить умершему вечную жизнь и обставить ее удобствами. Несмотря на свою примитивную фронтальность, эти статуи – самые реалистичные и жизненные пластические изображения людей во всем египетском, мало того, во всем восточном искусстве. Только греки в этом отношении догнали и превзошли египтян. Статуям слуг Древнего царства, хранящимся в музее Гизы, Борхардт посвятил обстоятельное исследование. Известняковые статуи происходят из Саккарских гробниц, деревянные – из Меурских гробниц. Среди тех и других мы находим кроме жрецов, провожавших умершего в загробный мир, фигуры носильщиков, мельников, булочниц, раздувательниц огня, мясников, пивоваров, бондарей и т. д. Все эти фигуры широкоплечи и коренасты; в них (как указывает Штейндорф) уже можно заметить некоторый переход от архаической окоченелости к большей свободе поз и движений.
Архаические произведения, каковы, например, статуи Анхвы в Британском музее и Метена (Амтена) в Берлинском музее (рис. 116), относятся к начальным временам 4-й династии. Эти фигуры, представленные сидящими, едва достигают одного метра высоты. Голова у них несоразмерно велика, одна рука прижата к груди, тогда как другая, вытянутая вперед, лежит на колене. К подобным произведениям относятся две вырубленные из известняка, величиной почти в натуру, статуи Луврского музея, из которых мужская изображает некоего Сепу (рис. 117, слева), а женская – Незу (рис. 117, справа). Гораздо большей непринужденностью поз отличаются известные, изваянные также из известняка (высотой приблизительно в 1,2 метра) статуи Аменхотепа и его супруги или сестры Нефертити в музее Гизы, которые надо признать относящимися к позднейшему времени, 40-й династии (рис. 118).
Рис. 117. Статуи Сепы и Незы. С фотографии Жиродона
Окрашенный в темную краску мужчина с коротко остриженными волосами на голове, вся одежда которого состоит из передника и шнурка на шее, держит правую руку еще прижатой к груди, как в более древних статуях. Женщина, окрашенная в более светлую краску, закутана в плотно облегающую ее тело одежду, из которой выставилась только кисть правой руки, лежащей на груди; густые волосы Нефертити ниспадают с ее головы на плечи и окружены диадемой, украшения которой, по словам Годфира, представляют древнейший орнаментальный мотив – цветок лотоса, а по нашему мнению, не что иное, как звездочки. Лица обеих фигур своеобразно выразительны. Кроме этих статуй до нас дошло еще несколько других, большего и меньшего размеров, составляющих славу эпохи 4-й и 5-й династий, и, прежде всего, знаменитый "Писец" из Луврского музея в Париже (рис. 119), изваянный из известняка и окрашенный в красный цвет. Писец сидит на земле, поджав под себя ноги, держит левой рукой на коленях папирус, а в правой – тростниковую палочку, служащую для письма, и смотрит прямо, улыбаясь. Белок глаз сделан из кварца и окаймлен бронзовыми веками; зрачок составляют кружок горного хрусталя и вставленная в него металлическая точка. Волосы на голове коротко острижены, скулы сильно выдаются вперед; грудь, руки, колени совершенно естественны, и только поджатые ноги изображены менее правильно. Подобные одиночные известняковые статуи имеются в значительном количестве в музее Гизы. В луврских известняковых статуях, образующих семейные группы, фигурам, сохраняющим фронтальное положение, приданы различные позы. Иногда муж сидит, а жена – того же, как и он, роста – стоит возле, положив левую руку ему на плечо. В других случаях супруги сидят рядом, а между ними стоит маленький ребенок, держа указательный палец правой руки у губ. В одной из групп Берлинского музея сидит только один муж; жена, изображенная в меньшем размере, стоит на коленях рядом с ним, а возле нее находится сын. Глаза отца сделаны из камня и меди. Многочисленные небольшие статуэтки музея в Гизе изображают целый штат прислуги умершего. Один из слуг, сидя на корточках, с выражением горести положил левую руку себе на голову. Здесь мы видим нагого юношу, идущего с мешком за плечами и с букетом цветов в опущенной правой руке; там слуги и служанки, стоя или опустившись на колени, растирают зерна или месят тесто на камнях. Несмотря на фронтальность положения фигур, мотивы их движения везде очень естественны.
Рис. 118. Известняковые статуи Аменхотепа и Нефертити. С фотографии Бругша
Точно так же, как из ряда известняковых статуй Древнего царства выделяется "Писец" Луврского музея, среди деревянных статуй того же периода первое место принадлежит "Деревенскому старосте" музея в Гизе (рис. 120). Пьедестал этой стоячей фигуры утерян, равно как и тонко раскрашенная полотняная оболочка ее, но все остальное в ней хорошо сохранилось. Воспроизведенный в ней плотно сложенный, тучный мужчина – реалистичен и типичен не менее, чем фигура худощавого "Писца". Из дерева исполнена также отличная статуя главного садовника Пергернофрета, Берлинский музей; она также чрезвычайно естественна и по своей стройности составляет противоположность дородной фигуре "Старосты". Вообще должно заметить, что такой близости к натуре, какую мы видим в скульптуре Древнего царства, египетское искусство, изображая отдельные фигуры, никогда не достигало и на позднейших ступенях своего развития.
Рис. 120. Деревенский староста. Египетская деревянная статуя. С фотографии
Рис. 119. Писец. Египетская известняковая статуя. С фотографии Жиродона
3. Искусство Среднего царства (около 2100-1700 гг. до н. э.)
Среднее царство – период, в течение которого Египет снова возвысился, выйдя победителем из долгих и тяжких испытаний, и последовало возрождение всех искусств на орошенных священными водами берегах нильской долины. Этот период был классической порой письменности и нового расцвета изящных искусств на основе созданного в Древнем царстве. Высшей точки этот расцвет достиг при 12-й династии.
Наиболее сохранившиеся памятники в этот период – гробницы. Усыпальницами царей по-прежнему служат пирамидами, каковы, например, пирамиды Узертезена II в Иллагуне, Аменэм-чета II в Гаваре и исследованные Морганом пирамиды в Дашуре, сложенные из черного кирпича и облицованные большими глыбами белого известняка. Применение в уменьшенном виде мотива пирамид видно в небольших кирпичных пирамидах Абидоса, священного города мертвых Осириса, где в то время уже всякий состоятельный человек среднего сословия сооружал себе гробницу или, по меньшей мере, ставил для себя надгробный камень. Как правило, воздвигнутые на квадратном фундаменте, с погребальной камерой, крытой фальшивым сводом, оштукатуренные и раскрашенные, эти пирамиды имеют иной вид, чем гладкие большие царские пирамиды. Но владетельные князья и члены высшего сословия предпочитали хорониться в пещерах, высеченных в скалах на родной стороне. Самые известные из таких могильных пещер находятся в Бени-Хасане, в Берше, и в Сиуте, в Среднем Египте. Вся могила выдолблена в скале. Обычно она состоит из портика, архитрав входа в который поддерживают столбы или колонны, из поминального покоя, где иногда помещается ниша со статуей почившего, и из потайного склепа для саркофага, куда ведет шахтообразный ход. Для истории архитектуры имеют особенно важное значение пещерные усыпальницы Бени-Хасана, потому что на подпорах их портиков и поминальных покоев можно проследить дальнейшее развитие стиля египетских каменных построек. Прямые, четырехгранные колонны Древнего царства заменяются сначала 8-гранными (рис. 121, а), а потом – 16-гранными. Когда на 16 гранях вытесаны гладкие желоба (каннелюры), получается так называемая протодорическая колонна (б).
Рис. 121. Развитие египетской колонны в эпоху Среднего царства. По Перро и Шипье
Круглый плинт (база) и квадратная плита покрышки (абака) усиливают впечатление такой колонны, старательно высеченной из камня. Вместе с тем появляются уже составные колонны с капителями в виде нераскрывшихся цветков лотоса (в). Их стержень выполнен из четырех выпуклых стеблей, перехваченных обручами вверху, где из них выступает капитель, которая состоит также из четырех нераспустившихся бутонов лотоса, сначала расходящихся врозь, а затем суживающихся. Круглая база и четырехугольная плита абаки, на которой покоится архитрав, завершают колонну. Лотосовидные колонны с чашеобразными капителями в Среднем царстве – большая редкость. Борхардт нашел образец такой колонны в живописи одной из гробниц в Берше. Лилия, или капитель в виде распустившегося цветка, изображена на троне статуи Узертезена I, Берлинский музей. Колонны, составленные из нескольких стеблей папируса, с капителями в виде нераскрывшихся цветков появляются в среднем периоде довольно часто. Самое полное их развитие представляют каменные колонны храма при пирамиде в Гаваре. Капители в виде распустившихся цветков папируса встречаются в Среднем царстве, кроме небольшой каменной колонны с отчетливым 3-гранным стержнем из Кагуна, главным образом в изображениях на стенах гробниц. Первый классический пример пальмовидной колонны имеется в одной из гробниц в Берше. В развалинах храмов мы видели уже особого рода капитель, в которой с двух или четырех сторон изображена рельефом голова богини Гатор в огромном головном уборе и с острыми коровьими ушами.
Плоские изображения на стенах пещерных усыпальниц этого времени знакомят нас с жизнью и искусством долины Нила. В Бени-Хасане мы встречаем уже не только раскрашенные рельефы, но и настоящие стенные картины, не фрески, но живопись а tempera в самом широком смысле, краски которой, разведенные гуммитраганантовой водой, накладывались при помощи камышового стебелька или волосяной кисти. Содержание этих картин вообще сходно с сюжетами гробничных изображений Древнего царства, но к ним кое-где примешиваются рисунки, прославляющие деяния умершего: изображаются походы, битвы, осады крепостей, вперемежку с идиллическими сценами быта поселян, охотников и рыболовов или с милыми эпизодами жизни и занятий художников. Язык этих изображений остается вообще тот же, что и в Древнем царстве, хотя человеческие фигуры становятся несколько более стройными и рослыми, а повествование нагляднее и живее, чем прежде; позы менее принужденны, и в единичных случаях, сквозь традиционную неподвижность египетского искусства, как бы проглядывает стремление к более правильному и свободному размещению фигур. Наконец, и сельскохозяйственные орудия начинают играть заметную роль. Изображения садов со странным смешением планов и вертикальных проекций часто взяты, по-видимому, независимо от сюжета. Пальмы, плодовые деревья, виноградные лозы, кипарисы изображаются отчетливо и естественно.
Чисто орнаментальные мотивы в Среднем царстве становятся также более разнообразны; четырехлистник, вероятно, бывший геометрическим прототипом цветочной розетты, появляется и в отдельности, и в сплетениях. Но наибольшее развитие в этом отношении достигнуто лишь в Новом царстве.
Наравне с гробницами Среднего царства развалины храмов имеют благодаря новейшим раскопкам право на более значительное место в истории египетского искусства, нежели то, которое отводилось им доныне. В новом здании храма, воздвигнутого Сезуртезеном III в Бубатисе на фундаменте храма Древнего царства, найдены кроме колонн с двумя обращенными в разные стороны головами Гатор также лотосовидные гранитные колонны, состоящие не только из четырех, как в Бени-Хасане, но и из восьми связанных вместе стеблей и стольких же цветочных чашек каждая. В Абидосском храме Осириса, возобновленном при Узертезене I, сохранились еще развалины двора с четырехугольными колоннами и прислоненными к ним колоссальными фигурами красного гранита, из которых одна изображает самого царя (так называемая Осирисова колонна). Храм бога Ра в Гелиополе той же эпохи исчез с лица земли; но непоколебимо стоит еще один из гранитных обелисков, 20 метров высотой, воздвигнутых Узертезеном I перед входом в этот храм (рис. 122). Если не принимать в расчет малых надгробных обелисков Древнего царства (Берлинский музей), то можно сказать, что это самый древний из сохранившихся обелисков, древнейший образец тех отдельно стоящих четырехугольных, кверху немного суживающихся и завершающихся небольшой пирамидой столбов-памятников, которые, имея несомненно символическое значение, принадлежат к самым характерным изобретениям египетского искусства и составляли необходимую принадлежность египетских храмов. Сооружение легендарного здания Лабиринта, прославленного греческими историками, относят также к той же эпохе и приурочивают к царствованию Аменхотепа III. По-видимому, это был храм-гробница с бесчисленными дворами и залами, не имевший себе подобного в отношении великолепия отделки. Геродот говорил: "Я видел это сам, и оно не поддается никакому описанию".
Рис. 122. Гелиопольский обелиск близ Каира. С фотографии
Из сохранившихся скульптурных произведений Среднего царства должны быть поставлены на первый план статуи фараонов, обычно иссекавшиеся из черного или серого гранита или из диорита. Из твердых каменных пород предпочитались в то время уже не светлые и розовые, а темные. В статуях, как и в изображениях на плоскости, не заметно никакого успеха в отношении свободы мотивов движения, но, сообразно вкусу эпохи, является удлиненность пропорций. Плечи становятся еще шире прежнего; сравнительно с перетянутым станом шея делается тоньше и вытягивается, ноги удлиняются, мускулы обрисовываются слабее. Черты лица, сохраняя портретное сходство, к которому художники стремились и раньше, приближаются к одному, общеегипетскому идеалу красоты. Как бы то ни было, 12-я династия фараонов не отличалась красивой наружностью: выдающиеся скулы, покатый лоб, широкий рот придавали плоскому лицу тип вроде славянского, пожалуй, даже африканского, и безобразили даже идеализированные головы царских статуй. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в Берлинском музее на колоссальную статую из черного гранита, изображающую Узертезена I и происходящую из абидосского храма, и на черную гранитную статую Нофрит, супруги Узертезена II музей Гизы (рис. 123).
Рис. 123. Гранитная статуя Нофрит. С фотографии Бругша
Со времени исследований Борхардта изображением фараона Среднего царства оказывается также колоссальный сфинкс в Гизе, считавшийся дотоле важнейшим произведением египетской скульптуры, созданным для того, чтобы служить образцом на вечные времена (рис. 124). На львином теле, долго остававшемся засыпанным по плечи в песке пустыни, потом отрытом и снова занесенном песком, возвышается на расстоянии 20 метров от основания каменная голова царя, высеченная из целой скалы и обращенная лицом к востоку, с широко открытыми глазами и с вечной улыбкой на устах. Художники Аменемхета III вернулись к прежнему реализму; скульптурный тип династии этого фараона так точно воплотился в известных его головах, что долгое время считали статуи этого царя и львиного сфинкса с одной и той же головой делом рук чужестранцев, вероятно гиксов, державших Египет под своим игом между средним и новым периодами. Однако Голенищев доказал, что это головы Аменемхета III и что, как таковые, они должны считаться самыми типичными в ряду голов царей 12-й династии. Черный гранитный сфинкс с головой, особенно низко выступающей из могучей львиной гривы, и обломок такой же царской статуи серого гранита находятся в музее Гизы; подобные фигуры имеются и в других коллекциях. Зато в польщенной юношеской красе чисто египетского типа предстает перед нами обнаженная позолоченная, деревянная статуя царя Гора, привезенная в музей Гизы из Дашурской южной кирпичной пирамиды. В этой статуе выказалась вся лесть, с какой египетские художники сглаживали неприятные черты физиономий в портретах (рис. 125). К тому же роду произведений принадлежит хорошенькая маленькая деревянная фигура Метухотепа, Берлинский музей. Она лежала в гробу изображенного царя, на его мумии. Длинный плащ сделан из белого, а тело – из коричневого дерева. Волосы были окрашены в голубой цвет, а глаза – в натуральный. Далее надо упомянуть о вылощенных, улыбающихся, безжизненных колоссах 13-й династии, какова, например, находящаяся в Луврском музее, в Париже, статуя из розового гранита, изображающая царя Себекхотепа III сидящим на троне. Подобные произведения не имеют значения для изучающего историю развития египетского искусства и представляют лишь такие черты, которые были присущи ему во все времена.
Рис. 124. Сфинкс в Гизе. С фотографии Плюшова
Среди художественно-промышленных произведений Среднего царства заслуживают внимания изделия золотых дел мастеров, каков, например, роскошный убор принцессы Гатор-Сат (12-я династия), найденный Морганом в северной Дашурской пирамиде. В особенности замечательны покрытые красной, светло-голубой и темно-голубой эмалью золотые нагрудные таблички в виде храмиков легкой конструкции, представляющие искусную сквозную работу в чистом и богатом геральдическом стиле. Они принадлежат музею Гизы (рис. 126). От того же времени сохранились отдельные резные камни преимущественно в виде скарабеев (жуков). Эти камни вставлялись в кольца и служили печатями, подобно цилиндрам, употреблявшимся в Месопотамии уже при первых династиях египетской истории. Лувр владеет таким кольцом времен Аменемхета III; на вправленном в него сардониксе очень тонко вырезаны глубоким рельефом с одной стороны сидящий владелец кольца, а с другой – царь, повергающий своего врага на землю.
Рис. 125. Статуя царя Гора. По Моргану
Керамика. Гончары, давно использовавшие гончарный круг, по сравнению с древним периодом сделали значительные успехи. В особенности достойны внимания сосуды различной формы с геометрическими орнаментами, начертанными белой краской на красном фоне или красно-бурой на желтом или белом. Фигуры животных и людей, здесь и там прерывающие узор, едва можно распознать. Видно, что горшечники не вели никаких сношений с бенихасанскими живописцами. Наряду с этими сосудами имеют свою цену глазурованные горшки (так называемый египетский фарфор) по большей части бирюзового или лазоревого цвета. Из глазурованной глины изготовлялись также фигуры животных. Одна из таких фигур, хранящаяся в музее Гизы, представляет голубого бегемота среди болотных растений, окрашенных в черный цвет.
Картины, изображающие выдувальщиков стекла в одной из гробниц 12-й династии, доказывают, что стеклянное производство было в то время уже известно. Что касается столярных изделий, то должно заметить, что со времен 11-й династии начинают распространяться деревянные гробы и преимущественно внутренние оболочки мумий. Иногда они приспособляются к формам мумии так, что получается некоторое подобие человека, а иногда воспроизводят на своей крышке всю фигуру покойника, тщательно выполненную и роскошно иллюминированную разными красками. В таком же изобилии, как подобные гробы и оболочки мумий, в музеях имеются так называемые канопы – большие вазы для внутренностей покойников, с крышками, изображающими головы коршунов, павианов, шакалов и человеческие – символы охранителей умерших. В Среднем царстве канопы изготовлялись по большей части из алебастра.
4. Искусство Нового царства (от 1600 до 1100 г. до н. э.) и позднейшего времени
Людвиг Зибель называет период Нового царства "эпохой всемирных сношений". Тогда процветало Вавилонское государство, хотя именно в этот период мы знаем его всего менее; в то время существовала в Сирии, Палестине, Финикии и Малой Азии своеобразная культура, а на почве Греции господствовала прославленная в поэмах Гомера образованность, которую принято называть микенской. Сношения между всеми этими странами совершались путем мирного обмена и враждебных столкновений. Тутмес I, фараон 18-й династии, в победоносном шествии дошел до негритянских стран Нубии и берегов Евфрата, Тутмес III своими походами в Сирию и Палестину утвердил преобладание Египта в ту эпоху всемирной истории. К 19-й династии относятся продолжительные и победоносные войны Сета I и великого Рамсеса II с Хетой, войны Мер-эн-фта с ливийцами и народами побережья Средиземного моря. При Рамсесе III, 20-я династия, несчетные полчища, надвигавшиеся с севера, ударились об оплот, который представляло собой Египетское царство. Но период времени, начиная с Рамсеса IV и до Рамсеса XII, был эпохой упадка, от которого Египет оправился лишь через несколько веков.
Рис. 126. Часть золотого убора принцессы Гатор-Сат. С фотографии Бругша
Фараоны Нового царства, быть может, более великие строители, чем полководцы, покрыли долину Нила множеством гигантских сооружений, остатки которых еще и теперь, спустя 3500 лет, сохраняют отпечаток той эпохи; они украшали стены своих дворцов, храмов и гробниц снаружи и внутри цветными рельефами или живописью, занимавшей громаднейшие пространства, какие когда-либо отводились для нее у других народов; они снабжали свои надземные и подземные постройки изваяниями, колоссальность которых – символ духовного могущества. Насколько существенно повлияли на египетское искусство всемирные сношения долины Нила, остается невыясненным. Правда, многочисленные осколки микенских ваз в египетских гробницах, изображения пленников, принадлежащих к иноземным расам, и сокровищ послов, являющихся с данью, на плоских изображениях Египта, найденные в Телль-эль-Амарне клинообразные надписи на вавилонском языке, начертанные на глиняных плитах и содержащие в себе послания азиатских царей и египетских наместников к фараону Аменофису IV (Берлинский музей), свидетельствуют о том, как велики были международные сношения египтян того времени. Именно в эту пору в египетской орнаментике, особенно в живописных украшениях гробниц, появляется целый ряд новых мотивов, каковы, например, система спиралей с клиновидной чашечкой, тесьма, усеянная розетками, или развитая сеть четырехлистника и сочетание различного рода чашечек с выступающим наверху букетом цветков лотоса или папируса – сочетание, которое, несмотря на чисто египетский характер его составных элементов, ошибочно называют "финикийским букетом" или "сирийскими цветами"; Ричль назвал этот орнамент египетским пальмовым деревом, а Борхардт – "букетной колонной". Нельзя отрицать того, что все эти мотивы повторяются в произведениях искусства и Средней Азии, и микенского, но едва ли возможно, вместе с некоторыми исследователями Египта, смотреть на них как на заимствования извне, а не как на самобытные египетские явления, повторенные другими нациями. Спирали мы находим еще при первых династиях, а противопоставление спиралей встречается на скарабеях 12-й династии; "сирийский цветок", то есть египетское пальмовое дерево, встречается в египетских гробницах гораздо раньше, чем в памятниках сирийского и кипрского искусства; наконец, мы, вместе с Ричлем, считаем а priori невероятным, чтобы народ, наделенный таким самосознанием и такой изобретательностью, как египтяне, мог внезапно утратить силу для дальнейшего самостоятельного развития. Во всяком случае, говорить о "наплыве элементов азиатской культуры и азиатского искусства", затопившем будто бы Египет, значило бы зайти чересчур далеко.
Архитектуру Нового царства, центром которого были "стовратые" Фивы, мы можем изучить главным образом по храмам. Но следует отличать храмы, сооруженные на открытых местах долины Нила, от храмов в скалах или гротах верхней части этой долины, стесненной утесами. Затем надо отличать от громадных главных храмов, архитектурная прелесть которых заключается преимущественно в их внутренности, небольшие часовни, колоннады и галереи которых обращены кнаружи. Далее надо отличать храмы, назначенные для богослужения, от храмов в честь умерших царей, которые в это время нередко сооружались на значительном расстоянии от усыпальниц фараонов. Усыпальницы того времени, устраивавшиеся исключительно в скалах, хотя и достигавшие часто громадных размеров, с художественной точки зрения представляют интерес только по живописи, украшающей собой их внутренность.
Рис. 127. План надгробного храма Рамсеса III в Мединет-Абу. По Перро и Шипье
Самой необходимой для культа, но наименее интересной в художественном отношении частью вытянутого в длину египетского храма (рис. 127) был низкий темный зал святилища. Окруженный различными покоями, предназначенными для нужд богослужения, он составлял конечное помещение в целой анфиладе ведших к ней дворов и залов. Расположение этих дворов и залов обозначалось еще вне самого здания, в его священной ограде. Дорога к входу, по бокам которого стояли на страже два массивных обелиска, шла между двумя рядами обращенных друг к другу лицами сфинксов с человеческими или бараньими головами или баранов. Входные ворота, увенчанные желобчатым карнизом с изваянием крылатого солнечного диска в середине, представлялись низкими, как бы сдавленными между массивными башнями, так называемыми пилонами, которые занимали собой передний фасад здания во всю ширину (см. рис. 97) и были снабжены также желобчатым карнизом и кольцами, в которые вставлялись шесты с флагами. По обеим сторонам входных ворот возвышались колоссальные изваяния фараона, основателя храма. Пройдя ворота, посетитель вступал прежде всего в открытый двор, окруженный колоннадой, – в так называемый перистиль. Сюда, но никак не дальше, допускался народ при торжественных жертвоприношениях. За этим двором следовал зал с колоннами (гипостильный зал), важнейшая в художественном отношении часть египетского храма; ее средний неф, потолок которого покоился на более высоких и массивных колоннах, нежели колонны боковых нефов, имел для пропуска света отверстия в верхней части своих стен, превосходивших высотой все остальное сооружение. Из этого зала особый переход, тоже часто украшенный колоннами, вел в низкое помещение святилища. Все эти части здания, которые строитель мог по желанию увеличивать в отношении как числа, так и размеров, обозначались снаружи в расчленении наклонных стен, характерных в египетском зодчестве: по краям этих стен шел тот валик, а вверху их находился тот карниз, с которыми мы уже познакомились выше; потолки означенных помещений были каменные, плоские.
Рис. 128. Развитие египетских колонн в эпоху Нового царства. По Перро и Шипье
Изменение стиля выразилось прежде всего в форме колонн (рис. 128, а, б, в, и рис. 129, а и б). Колонна с капителью в виде нераспустившегося цветка лотоса, эта гордость Среднего царства, исчезает. Колонны с капителью в виде раскрывшегося цветка, нередко представляющего теперь заостренные лепестки чашечки растения Nymphaea caerulea, встречаются, как и лилиевидные колонны, только на рисунках. Папирусовидные колонны с капителями в форме закрытого пучка цветов этого растения постепенно теряют свои характерные признаки. Иногда колонна составлена из многих стеблей, перехваченных в нескольких местах как бы обручами (рис. 128, а). Но чаще как сама колонна, так и ее капитель разделяется на восемь стеблей (рис. 128, б). Колонны в виде связок стеблей после 19-й династии встречаются редко. Папирусовидная колонна с гладким стволом и капителью в форме раскрывшегося пучка цветов (рис. 128, в, раньше эта форма называлась капителью в виде открытого цветка лотоса) выступает на первый план, и ее все еще можно различить по суженности основания и коротким листьям на нижней части и на капители, какие встречаются именно только у папируса. Пальмовидные колонны встречаются все чаще, и капитель в виде колокола, ведущая свое начало, по всей вероятности, от капителей деревянных жердей для палаток (см. рис. 112, д), делает слабые попытки выступить на сцену в Карнаке. Гладкие стержни колонн покрываются надписями и рисунками, и все стены храмов, подобно колоннам, в изобилии украшаются также письменами и изображениями, отличающимися более великолепными и более разнообразными тонами красок, нежели живопись предшествовавших времен. "Храм, – говорил Масперо, – является изображением вселенной, как понимали ее египтяне. Каждая часть его декорировалась соответственно ее значению". Цоколь стен украшается всякого рода цветочным орнаментом. Голубой потолок усеян желтыми пятиконечными звездами. Между ними парят коршуны богинь юга и севера, встречающиеся как на потолке среднего нефа гипостильной залы, так и на дверных притолоках; иногда на темном, как ночь, фоне изображаются солнца и луны. Но среди земных цветков и небесных светил, украшающих внутренние стены дворов и залов так же, как и внешние стены пилонов, встречаются настоящие картины. На наружных стенах и отчасти на стенах дворов, обнесенных колоннами, изображаются мирские деяния царя, прославляются его войны и победы. Затем, углубляясь в храм, можно видеть, как царь, окруженный членами своей фамилии, приближается к божеству, ее родоначальнику. Наконец, на стенах внутри храма изображаются некогда совершенные царем благочестивые деяния и жертвоприношения.
Рис. 129. Колонны: а – с колоколообразной капителью, в Карнаке; б – с пальмообразной капителью, в Солеле. По Перро и Шипье
С архитектурной точки зрения египетский храм может считаться первой попыткой создания расчлененного каменного сооружения, выражающего своей формой внутреннее содержание. Но эта попытка не всегда увенчивалась успехом. Так, например, гипостильный зал, разделенный колоннами на несколько нефов, имевший плоский потолок и освещавшийся окнами, проделанными в верхней части стен наиболее высокого среднего нефа, в сущности был решением задачи, естественно связанной с величиной зала, и притом решением, открывавшим путь к дальнейшим успехам строительного искусства. Однако отдельные помещения египетского храма не составляли одного органически цельного сооружения; художественное убранство колонн лишало их впечатления крепких подпор, и все здание вообще было тяжеловесно, тяжесть ощущалась снаружи еще сильнее, нежели внутри, из-за массивных стен, разделенных на части, и башен при входных вратах. Но и внутри здания общее впечатление получалось скорее гнетущее, чем возвышающее дух, так как посетителю приходилось блуждать в сумраке леса колонн, между их толстыми, стоящими близко один от другого стволами, и, по мере приближения к святилищу, погружаться во мрак все более и более густой, непросветный. По крайней мере снаружи, пока было светло, вступали в свои права картины и надписи. Расположенные в строго определенной системе, они исполняли роль истолкователей идеи как духовного, так и художественного значения всего сооружения.
Рис. 131. Гипостильный зал в Карнакском храме. По реставрации Шипье
Рис. 130. Группа колонн храма Амона в Карнаке. С фотографии Плюшова
Как уже было сказано выше, центром строительной деятельности Нового царства были Фивы. Деревни Карнак и Луксор расположились на правом берегу Нила на месте древнего города. Постройку большого карнакского храма Амона, основанного еще Аменемхетом I, фараоном 12-й династии, продолжали почти все государи 18-й и 19-й династий и даже еще более поздних времен. Храм, сохранившийся в Луксоре, постройке которого предшествовало неоконченное сооружение, относящееся к Среднему царству, начат Аменофисом III, фараоном 18-й династии, и достроен Рамсесом III, 19-й династии. Большой храм Амона в Карнаке, длина 1400 метров и ширина 600 метров, – самый громадный памятник египетского религиозного зодчества (рис. 130). В его главном зале, построенном Тутмесом III, находятся еще протодорические колонны (см. рис. 121), представляющие собой как бы копии с бенихасанских колонн. В перистиле двора, принадлежащем тому же царю, встречаются восьмистебельчатые папирусовидные колонны с закрытыми зонтами цветов и с острыми гранями стеблей, на которые мы уже указывали (см. рис. 101); в одной из других галерей того же храма колонны имеют капитель в виде колокола, обращенного отверстием книзу (ср. рис. 129, а); капитель в виде зонтика цветков, открытого сверху, появляется внутри этого храма впервые лишь в большом гипостильном зале, относящемся к 19-й династии; из 134 колонн, на которых покоится потолок зала, имеющего 100 метров в длину и 50 метров в ширину, такая капитель дана лишь двенадцати круглым гладким колоннам среднего нефа, достигающим 21 метра высотой (рис. 131). В большом Луксорском храме, передний двор которого лежит под углом к остальной, более древней части здания, капители в виде зонтика цветков встречаются в высоком 14-колонном переходе, соединяющем этот первый двор со вторым. Вообще же и в Луксоре преобладает закрытая папирусовидная капитель, но еще не в сглаженной форме, а в виде пучка. Стержень колонны иногда перехвачен в различных местах большими обручами (рис. 132). В Фивах, на левом берегу Нила, заслуживают внимания главным образом большие погребальные храмы 19-й и 20-й династий. Еще в I в. царица 18-й династии Хатшепсут, дочь Тутмеса I, построила в Дейр-эль-Бахри, близ Фив, для себя и своих близких чудное сооружение, заслуживающее среди надгробных храмов царей такого же внимания, как и полупещерные храмы. Собственно святилище храма высечено в скале. Четыре обставленных колоннами двора, через которые проходит путь в пещерный храм, лежат один выше другого на четырех террасах, соединяющихся между собой лестницами. Тому, кто усмотрел бы в этом влияние азиатских построек в виде террас, с которыми Тутмес I мог познакомиться в своих походах, должно напомнить, что сооружения египтян всегда приспособлялись к рельефу местности и что в каждом их храме встречаются небольшие подъемы со ступеньками, ведущие из одного помещения в другое. Проходы к рассматриваемому храму крыты потолком, держащимся на выступающих один над другим камнях. Аменофис III, которому приписываются главные части храмов Карнака и Луксора, равно как и сидящие колоссы в Мединет-Абу, некогда находившиеся перед его храмом, создал в небольшом храме Элефантины, на южной границе государства, образцовое сооружение особого типа храмов, обставленных снаружи колоннами со всех четырех сторон; к сожалению, это здание было разрушено в 1822 г. и известно только по рисункам.
Совершенно особенное место в истории как религии, так и архитектуры Египта занимает Аменофис IV. Он заменил многобожие поклонением единственно солнцу. Он невзлюбил город храмов Амона и основал между Фивами и Мемфисом, в нынешнем Телль-эль-Амарне, новый город, который украсил храмом солнца и дворцом; их давно уже известные развалины доставили массу новых открытий, благодаря исследованиям Флиндерса Петри. Уже в колоннах дворца замечается стремление освежить и оживить дряхлеющее египетское искусство новыми заимствованиями из природы. Одни колонны представляют собой пучок тростника, перевязанный ремнями, и под их капителью висят изображения гусей. Другие колонны украшены скопированными с натуры усиками листьев плюща или циссуса. Третьи колонны окружены орнаментными полями, на которых появляются спирали. Наконец, встречается капитель в виде пальмового опахала, как и в Солебе приблизительно в ту же эпоху, местами со стеклянной мозаикой голубого, золотистого и красного цветов. "Вообще, – говорил Штейндорф, – всюду видно предпочтение, оказываемое мозаичной технике. Гуськи, увенчивавшие стены, были зачастую выложены кусками черного и красного гранита; иероглифические надписи составлялись также из разнородных камней". Наряду со стенной живописью по штукатурке встречаются раскрашенные стуковые полы. Искусство Телль-эль-Амарны отличается пестрой своеобразной свежестью. Но подобно тому, как вскоре после смерти Аменофиса IV его религиозные реформы под давлением иерархической реакции превратились в ничто, так и своеобразное искусство Телль-эль-Амарны рассыпалось в прах, из которого оно и возникло.
Рис. 132. Развалины Луксорского храма. С фотографии Плюшова
Сет I, фараон 19-й династии, построил храм с пальмовидными колоннами в Сезеби; но главным его сооружением, которое продолжал его сын и преемник Рамсес II, стал большой храм в Абидосе с его передними дворами без колонн, двумя залами с колоннами, но без среднего нефа, с семью святилищами, крытыми ложными сводами. Преемник этого государя, Рамсес II Великий, покровительствовал зодчеству больше всех других повелителей Египта. Продолжая в Фивах, на правом берегу Нила, постройку Луксорского и Карнакского храмов, он сооружал на левом берегу свой надгробный храм, известный под названием Рамессеума, в котором второй двор украшен столбами с кариатидами. Рамсес II построил храмы также в Мемфисе, Танисе и Бубастисе. Но особенно своеобразны оставшиеся от его времени небольшие храмы, высеченные в скалах по верхнему течению Нила, в Нубии. В Бет-эль-Валли, Герф-Гусене и Вади-Себуа, равно как и в Дейр-эль-Бахри, эти постройки относятся к полугротам, так как их передние помещения расположены под открытым небом. Но в Абу-Симбеле (Ибсамбуле) храмы уже совершенно скрываются в недрах отвесных прибрежных скал, так что снаружи видны только их фасады. Фасад малого храма в Абу-Симбеле украшен стоящими во весь рост колоссальными фигурами, из которых четыре изображают Рамсеса II, а две – его супругу (рис. 133). Внутри храма потолок зала подпирается шестью столбами, на капителях которых снова является голова богини Гатор. Фасад большого храма, столь часто воспроизводимый в рисунках, занят четырьмя сидящими колоссами, достигающими 20 метров высотой; рядом с ними стоят статуи меньших размеров. Потолок первого большого зала внутри храма покоится на восьми так называемых столбах Осириса, то есть на столбах, лицевая сторона которых украшена колоссальными статуями Осириса во весь рост, прислоненными к ним спиной.
Рис. 133. Фасад малого Абу-Симбельского храма. По Присс-д’Авену
Однако, несмотря на громадность и великолепие своих произведений, архитектура 19-й династии с ее схематической аккуратностью и гладкой облицовкой колонн представляет несомненные признаки упадка той силы и грации, которыми отличалось зодчество 18-й династии.
Из сооружений, относящихся к эпохе 20-й династии, замечательны только воздвигнутые при Рамсесе III. В Карнаке, неподалеку от большого храма Амона, выстроен им храм Хона, бога луны, сына Амона, не отличающийся ни значительностью размеров, ни изяществом деталей, но часто упоминаемый в истории искусства как простейший образец архитектуры египетских храмов (см. рис. 97). Надгробный храм Рамсеса III в Мединет-Абу является лишь сколком с Рамессеума – его великого предшественника. Зато весьма оригинальное гражданское сооружение представляет собой Павильон Рамсеса III, обильно украшенный плоскими изображениями и расположенный по одной продольной оси с надгробным храмом, на некотором расстоянии от его входа. Это сооружение, полукрепость-полудворец, по-видимому, можно рассматривать как памятник царю, придуманный им самим.
В плоских изображениях на стенах этих зданий наше внимание останавливают на себе более воспроизведения светских деяний фараонов, чем мистические изображения религиозных обрядов, каковы сцены посвящений, жертвоприношений, погребения усопших и перевозки мумий на погребальных судах. Только теперь, в период Нового царства, появляются изображения суда над умершим с весами для души, что свидетельствует о росте и эволюции верований египтян. Некоторые из рельефов религиозного содержания в храмах, как, например, изображения богини, которая кормит царя своей грудью (в Гебель-Сильсиле и Бет-Валли), или множество изображений молящегося царя (Аменофиса III в Фивах и Сета I в Абидосе), принадлежат к своеобразнейшим и грациознейшим созданиям фантазии египетских художников. На одном рельефе, находящемся в Лувре и довольно сносно сохранившем свои краски, Сет I представлен вместе с богиней Гатор. Рельеф Абидосского храма, изображающий жертвоприношение, совершаемое фараоном, обнаруживает уже перемену, происшедшую в художественных воззрениях, окончательно созревшую в эпоху Нового царства. Пропорции здесь стройны и вытянуты гораздо больше, нежели в периоде Среднего царства; через тонкие покровы на нижней половине фигуры слегка просвечивает тело; всюду заметно стремление к легкости, но традиционное положение верхней половины туловища далеко еще не оставлено, а большие пальцы на правой руке и на левой ноге все еще нарисованы не с надлежащей стороны. Неестественный способ во времена 19-й династии изображать пальцы отогнутыми кнаружи повторяется и в дальнейшем, например в известковом рельефе, изображающем Рамсеса II ребенком (Лувр).
Рис. 134. Египетские потолочные орнаменты Нового царства. По Присс-д’Авену
Настоящими произведениями исторического монументального искусства надо считать изображения гражданских деяний фараонов на наружных стенах храмов 18-й и 19-й династий. Деяния государей 18-й династии имели большей частью мирный характер. Наглядную картину представляет поход царицы Хатшепсут в страну фимиама Пукт на Красном море, изображенный в ее надгробном храме в Дейр-эль-Бахри. Шествие еще расположено в несколько рядов, один над другим. Вода, обозначенная, как и всегда, отвесными зигзагами, кишит черепахами, морскими раками и всевозможными рыбами. Наибольшим движением отличаются сцены нагрузки и отплытия судов. Затем совершенной новизной при 19-й династии являются большие картины войн эпохи Сета I и Рамсеса II. На наружной поверхности стен Карнакского храма представлено поражение бедуинов. В фиванском Рамессеуме, в Луксорском храме и в одном из покоев Абу-Симбельского храма изображен Рамсес II – исполин на военной колеснице, влекомой пылкими конями, натягивает лук или потрясывает копьем, он торжествует над своими врагами, которые валятся перед ним один на другого, или атакует осажденную крепость. Рамсес III в храме в Мединет-Абу изображен взирающим на морское сражение, стоя на берегу, пуская стрелы из своего лука и переступая через трупы, а также возвращающимся на колеснице с охоты на львов в густых камышах. В изображениях битв и военных экспедиций этой эпохи встречаются все те попытки выражать отдаление, на которые мы указывали выше, то есть при изображении фигур, находящихся в разных планах, одна позади другой, они помещаются целиком или наполовину одна над другой, а также производится удвоение контуров, причем фигуре, находящейся дальше, дается даже больший размер, чем ближней. Новизной были также изображения коня, который вообще появился в Египте лишь в период Среднего царства. Хотя формы этого животного в ту пору никогда не разрабатывались с такой любовью, как в Древнем царстве формы осла, однако движения лошадиных фигур воспроизводятся живо и наглядно. Нежно прочувствованные любовные сцены на стенах павильона в Мединет-Абу переносят нас в совершенно иной мир. Они представляют эпизоды интимной жизни Рамсеса III и его супруги. Каждая из этих картин – небольшая милая идиллия.
Рис. 135. Аменхотеп IV и его супруга. Рельеф в Телль-эль-Амарне. По Лепсиусу
Из изображений на плоскости в фиванских усыпальницах Нового царства в декоративном отношении интересна прежде всего роскошная по краскам орнаментация потолков. На рис. 134 показано, как цветочные чашечки различных форм, египетские пальметты, розетки, завивающиеся ленты и даже бычьи черепа перемешиваются в этой орнаментации с геометрическими или геометризованными основными мотивами, в числе которых, наряду с дуговыми коймами, шахматными полями и т. п., появляются также сети меандров и спиралей. Стенные картины с фигурами исполнены в царских гробницах полуобъемно (раньше преимущественно плоско) и знакомят нас с различными обрядами религиозного культа, похорон и суда над умершими, не встречающимися в древних гробницах, но главным образом – с обыденной и домашней жизнью обитателей долины Нила. В способе воспроизведения сюжетов мы встречаем здесь новые попытки отбросить древнеегипетские шаблоны и внести в изображение новые мотивы и движения, наблюденные в природе. В этом отношении особенно показательны гробницы в Телль-эль-Амарне. Поклонение солнцу изображается здесь с необыкновенной наглядностью. Солнечный диск стоит над священнодействием на небе и шлет на землю свои лучи, из которых выходит рука, готовая принять приносимые в жертву дары. Аменхотеп IV, называемый в Телль-эль-Амарне Хуен-этеном, и его супруга, сидящая с ним рядом, изображены в виде одной фигуры с двойными контурами, но с чрезвычайно индивидуальными, почти карикатурными чертами, с поразительно тонкой шеей, выпяченным животом и мягко округленными линиями (рис. 135). В сценах пиршеств прислужницам даны свободные позы, а ноги фигур в Телль-эль-Амарне чаще, чем где-либо, имеют правильное положение, позволяющее видеть все пять пальцев. Наконец, весьма важное значение имеет живопись на стенах и на полу, открытая Флиндерсом Петри во дворце Телль-эль-Амарны. В середине наиболее сохранившегося пола (рис. 136) изображен бассейн воды с рыбами и цветами лотоса; в окружающем этот бассейн пространстве над различного рода цветами порхают птицы. Все это вместе исполнено поразительно свободно и естественно для египетского искусства. Но по одной этой причине мы еще не считаем себя вправе, подобно Гельбингу, приписывать этим изображениям микенское или финикийское происхождение. По нашему мнению, исследователь Штейндорф преувеличивает, утверждая, что эти изображения "исполнены в совершенно естественном, свободном от всяких условностей стиле". В сущности, здесь сделано лишь несколько шагов вперед к достижению большей натуральности. Точно так же надо считать преувеличенным мнение, будто бы в лицах двух царевен на одной из стенных картин "свет и тени переданы с удивительной градацией тонов".
Рис. 136. Украшенный живописью пол в Телль-эль-Амарне. По Флиндерсу Петри
Но в отношении свободы движения фигур настоящие картины в некоторых из фиванских гробниц той эпохи действительно заходят дальше всего, что считалось возможным для древнейшего египетского искусства. Стоит лишь взглянуть на танцовщиц и музыкантш на одной фиванской картине из Британского музея (рис. 137), чтобы тотчас же признать, что египтяне действительно умели заменять на картинах обычную профильность поворотами en face и en trois quarts. Однако Эрман совершенно прав: подобные вольности допускались лишь при изображении лиц низших сословий; но и тогда – прибавим от себя – эти вольности составляли не более как исключения, подтверждающие общее правило.
В египетской живописи рассматриваемой эпохи возникает особый род плоских изображений – картины на папирусе, древнейшие в мире книжные иллюстрации или миниатюры. Первые свитки папируса с подобными изображениями относятся только к периоду Нового царства. Изображения занимают собой и верхнюю часть манускрипта, и находятся в различных местах текста, и иногда располагаются по всему свитку. Это красные или черные контурные чертежи, исполненные тонким тростниковым пером и затем слегка или вполне иллюминированные при помощи кисточки. Большинство свитков папируса до греческой эпохи сохранилось в гробницах. Изречения, служившие умершим, так сказать, проводником в вечную жизнь, писались для покойников: в Древнем царстве – на саркофагах, в Среднем – на гробах, в Новом – на свитках папируса, помещавшихся при трупе. Эти свитки принято было украшать рисунками. Их образцы имеются почти во всех европейских музеях. Древнейшая из уцелевших книг мертвых относится к 18-й династии, а древнейшая из всех "книг о том, что есть в преисподней", – к 20-й. Полный экземпляр Книги мертвых находится в Туринском музее. Рисунки подобных свитков редко представляют что-либо новое в художественном отношении. Главное место среди них занимают изображения суда над умершими. На рис. 138 – фрагмент папирусного свитка, хранящегося в Британском музее. В противоположность подобным памятникам сатирические папирусы знакомят нас с новой стороной характера египетского народа и его искусства. В основе ее лежит любовь к насмешке при помощи животного эпоса. Действия людей или определенных лиц переносятся в мир животных и через то выставляются в смешном виде; так, например, сатирический папирус в Туринском музее представляет пародию на подвиги Рамсеса III, изображенные в его Павильоне в Мединет-Абу. Сражающиеся между собой воины представлены в виде кошек и крыс. На одном из папирусов Британского музея царь изображен в виде льва, а его супруга, с которой он играет в шахматы, – в виде газели.
Рис. 137. Фиванская фреска эпохи Нового царства. С фотографии Томпсона
Рис. 138. Суд над умершим. Живопись на папирусе. С фотографии Томпсона
Рис. 139. Статуя Мемнона близ Мединет-Абу. С фотографии
Скульптура круглых фигур в эпоху Нового царства, легко преодолевавшая технические трудности в моделировке частностей, особенно ног, головных уборов и одежды, отличалась еще большей тщательностью, но вообще была проще и безжизненнее, чем в Древнем царстве. При портретном сходстве изваяний царей их лица приукрашиваются согласно установленным предписаниям; фигуры становятся все более стройными; их осанка, насколько это допускает египетская оцепенелость, делается все более натуральной и свободной. Из гигантских статуй царей в сидячем положении, высеченных из красного гранита, которые воздвигались перед храмами, замечательны статуи Аменофиса II в Мединет-Абу, одна из которых была известна у греков под названием поющей статуи Мемнона. Они достигают в высоту почти 16 метров, без подножия (рис. 139). Колосс Рамсеса III в Рамессеуме имеет в высоту более 17 метров. Колоссы Рамсеса, стоявшие перед храмом в Абу-Симбеле, как гласит большинство сохранившихся сведений, которые Масперо считает преувеличенными, достигали до 20 метров высотой. Из числа царских изваяний меньшего размера, относящихся к Новому царству, статуя Тутмеса III в музее Гизы отличается естественностью лепки лица, точно так же, как головы Гиремгеба, последнего фараона 18-й династии, и его супруги, находящиеся в том же музее, отличаются своего рода одушевленностью весьма удачно воспроизведенных черт лица. Прекраснейшим из всех многочисленных изваяний Рамсеса II считается гранитная статуя в Туринском музее, отличная по технике и свидетельствующая о наблюдательности художника. Из скульптур другого рода особенно интересны сидячие фамильные группы, какова, например, группа Пта-Маи, жреца Пта, в Берлинском музее (см. рис. 104), а также фигуры людей, молящихся, приносящих жертву или сидящих на корточках. Фигуры сидящих на корточках обычно закутаны в широкие мантии. Сен-Мут, воспитатель царевен при дворе царицы Хатшепсут, статуя которого из черного гранита находится в Берлинском музее, закутан в такую мантию вместе с принцессой (рис. 140).
Рис. 140. Статуя Сен-Мута. С фотографии
В сонм египетских небожителей вступает в это время новое божество, злой дух Бес, изображаемый в виде карлика, оскалившего зубы. Ему приписывают западноазиатское происхождение. Со времен 18-й династии его фигура повторяется бесчисленное множество раз, в большом и малом размере. Небольшое фаянсовое изваяние Беса, Берлинский музей, воспроизведено на рис. 141.
Рис. 141. Бес, играющий на арфе. По Эрману
Древнейшие из сохранившихся египетских бронзовых статуэток, каковы, например, статуэтки Рамсеса II в Берлинском музее, которые можно считать самыми древними во всем мире литыми из бронзы полыми фигурами, относятся также к Новому царству; но большинство таких произведений принадлежит позднейшей эпохе. Особенной известностью пользуется бронзовая статуэтка бубастской царицы Куромамы, 22-я династия, находящаяся в Луврском музее в Париже. В этой фигуре роскошная золотая демаскировка соответствует стройности и округлости форм, свойственных утонченному вкусу эпохи ее исполнения (рис. 142).
Среди глиняных фигур Нового царства, которые массами клались в гробницы с покойниками, любопытны фаянсовые фигурки с цветной, преимущественно синей поливой. Образцы резьбы по слоновой кости встречаются вообще отдельными экземплярами со времен 52-й династии; в ряду изделий этого рода особенно выделяется статуэтка Ити, 18-я династия, музей в Гизе. Ити сидит на чашеобразной капители колонны и смотрит на мир повелительно и вместе с тем комично. Небольшие деревянные статуэтки Нового царства нередко поражают большой тонкостью исполнения. Стоящий военачальник в Лувре и подобная фигура в Берлинском музее относятся к 18-й, а известные деревянные статуэтки жрецов и детей в Туринском музее – к 20-й династиям. Из дерева вырезаны прелестные в своем роде "туалетные ложки", ручки которых представляют чрезвычайно реалистичные мотивы, заимствованные из растительного царства и из жизни животных и людей. Цветы, бутоны и стебли лотоса повторяются здесь в самых разнообразных видах. У одной из ложек в Луврском музее, рисунок которой часто приводится в изданиях, ручка представляет собой чащу лотосов, через которую пробирается, срывая цветы, знатная девушка с высоко подобранным платьем (рис. 143). Ручка другой ложки представляет почти нагую девушку, которая во время своего купания гонится за уткой; сама ложка выдолблена в спине утки. Подобные произведения находятся и в музее Гизы.
Рис. 142. Бронзовая статуэтка царицы Куромамы. С фотографии Жиродона
Изделия золотых дел мастеров при трех великих фиванских династиях тесно примыкают к таким же произведениям Среднего царства. Нагрудные щиты мумий, обрамление которых изображает ворота храма, а середина занята символическим, сквозной работы, рисунком в стиле гербов, составляют среди сохранившихся памятников золотых дел мастеров в Новом царстве главный род драгоценностей, служивших для украшения. К числу клейнодов музея Гизы принадлежит украшение царицы Ахотеп, 17-я династия, а среди сокровищ Лувра находится украшение сына Рамсеса II, нагрудный щит которого, сделанный из золота и ляпис-лазури, изображает царскую змею рядом с коршуном. О том, как далеко ушли египтяне в металлических работах с насечкой, свидетельствует кинжал из гробницы Ахотеп, хранящийся в музее Гизы. Края клинка состоят из золота, а середина – из темной бронзы с надписями и контурными рисунками, исполненными насечкой. На одной стороне главный рисунок изображает льва, преследующего быка, а второстепенный, у оконечности кинжала, – четыре саранчи, сидящие одна позади другой; на другой стороне – пятнадцать цветков с открытыми чашечками. Иероглифическая надпись на этом кинжале и сам его стиль не оставляют никакого сомнения в его египетском происхождении.
Рассматривая глянцевитых скарабеев и другие египетские амулеты в наших музеях, убеждаешься, что они вырезаны по большей части из обыкновенных камней и покрыты цветной стеклянной поливой. Это побуждает нас вернуться к фаянсам, к лепным глиняным сосудам, которые в Среднем царстве бывали почти исключительно синего цвета, а в эпоху 19-20-й династий пестрели уже различными цветами. Преобладающие тона на сосудах Аменофиса III были серые и фиолетовые. При дворе Аменофиса IV, в Телль-эль-Амарне, любили яркость, и потому не только утварь, но и мелкие изделия из обожженной глины покрывались глазурью самых роскошных цветов. Небольшие египетские синие чаши со стилизованными изображениями животных и растений, исполненными в черных контурах, относятся к 18, 19 и 20-й династиям. Стеклянных сосудов того времени сохранилось крайне мало. Среди них встречаются прелестные экземпляры с желтыми цветочными орнаментами на полупрозрачном синем фоне. Таким образом, во всех этих изделиях мы видим чувство формы и красок, благодаря которому египтяне доброго старого времени превращали в маленькое художественное произведение все, к чему ни прикасались.
Рис. 143. Древнеегипетская деревянная ложка. По Перро и Шипье
Снова целых полтысячи лет глубокого упадка отделяют расцвет египетской культуры при великих Рамессидах от нового повышения ее уровня в VII и VI вв. до н. э., при фараонах 26-й династии, Псамметихе I Нехао, Псамметихе II, Априесе и Амазисе. Столицей снова освобожденного и объединенного государства был тогда Саис, при устьях Нила. Поэтому эпоху 26-й династии, культурное развитие которой было подготовлено еще 25-й династией, принято называть Саисской.
От обширных строительных предприятий саисских царей, повсюду восстанавливавших древние святилища, сохранились для нас лишь ничтожные остатки. Особенность египетского искусства той эпохи выказывается главным образом в скульптуре. В ней наблюдаем мы теперь, с одной стороны, наклонность к архаизму, к возврату назад дальше эпохи Рамессидов, к художественному творчеству Древнего и Среднего царств, а с другой – стремление к изяществу и чистоте форм. Теперь отдается предпочтение твердым темным камням, каковы базальт, черный и серый граниты, а также одна порода зеленого камня. Фараонов Древнего царства изображают с особым благоговением и любовью, отчасти быть может, по старым образцам. Девять статуй царя Хефрена в музее Гизы, которые, как это окончательно доказано Борхардтом, принадлежат отнюдь не 4-й, а 25-й или 26-й династиям, ясно выражают собой архаистическое направление саисского искусства. Особенной известностью пользуется большая диоритовая статуя пятого зала этого музея (рис. 144). Точно так же идеализированное изваяние головы молодого царя и стройная фигура царицы с головным убором Исиды, принадлежащая Берлинскому музею, носят на себе отпечаток саисской эпохи. Четыре надгробных рельефа в музее Гизы, исполненные необыкновенно чисто и изображающие приношение и прием даров для жертвоприношений в память умерших, дают особенно ясное представление о стиле рельефов того периода.
Несколько столетий спустя Нижний Египет сделался центром греческой духовной жизни. Завоевание Нильской долины персами прошло для нее бесследно, завоевание же македонянами оплодотворило ее потоком эллинской образованности. При Птолемеях, в Александрии, греки научились понимать египтян, египтяне – греков. Через это соприкосновение двух народов произошел смешанный стиль, который отразился в эллинском и затем в римском искусстве лишь своего рода манерностью, тогда как во все египетское искусство он внес большую свободу, мягкость и закругленность форм, что нередко бывало довольно заметным противоречием его неизменяемым первоначальным основам.
Рис. 144. Диоритовая статуя фараона Хефрена. С фотографии
Менее всего изменился стиль египетской архитектуры, которая во времена Птолемеев и римлян создала еще целый ряд больших храмов в древнеегипетском стиле. Из изменений в храмостроительстве, характеризующих ту пору, прежде всего бросается в глаза любовь к помещению парапетов в промежутках между наружными или надворными колоннами, а затем дальнейшее развитие колонн, в которых теперь перетяжки и расширения у подножия нередко сменяются непрерывной прямотой стержня, между тем как капитель становится более роскошной и натуралистичной. Храмы в Эдфу и Дендере, постройка которых тянулась со времен Древнего царства, в том виде, в каком они сохранились, точно так же как и храмы в Омбосе (Ком-Омбо) и Эсне, вполне принадлежат птолемеевской и римской эпохам.
К числу небольших храмов, окруженных снаружи колоннами со всех сторон, по образцу храма, сохранившегося от древнего времени в Элефантине, следует отнести два изящных строения позднейших времен на острове Филэ. Еще до греческого завоевания, Нектанебо, фараон 30-й династии построил на юге этого острова небольшое здание без целлы и крыши, которое Эберс мог бы назвать скорее убежищем для путешественников, нежели храмом (рис. 145); такое же здание, только несколько большей величины, было построено на востоке острова в римские времена. Из стен парапета, окружающих нижнюю часть здания, поднимаются колонны, на которых покоится карниз. В Павильоне Нектанебо над капителью в виде чаши высится вполне развитая вторая капитель с изваяниями головы богини Гатор со всех четырех сторон. В маленьком храме, стоящем в Дендере рядом с большим, встречается бывшая в рассматриваемое время в большом употреблении чашевидная капитель, украшенная по всей своей окружности рельефными рядами листьев и сильно напоминающая коринфскую капитель греческой архитектуры. Капитель в виде распустившегося цветка лотоса отличается особенным богатством своих форм в Эдфу. Капитель в виде распустившейся лилии находится в Ком-Омбо, а богато развитая капитель в виде развернувшегося зонта цветков папируса – в Филэ. Богатство форм в ту эпоху так велико, что почти ни одна капитель не походит на другую.
Рис. 145. Павильон Нектанебо. По Присс-д’Авену
Плоские изображения на стенах храмов, по большей части снова располагающиеся рядами один над другим, в некоторой степени страдают излишним обилием. Каждый храм свидетельствует о желании поместить в нем по возможности все существующие мотивы египетского искусства. Вырезка койланаглифических изображений (ср. рис. 104) становится глубже, так что фигуры приобретают большую рельефность; при этом довольно часто обнаруживается противоречие между мягкой округлостью лепки фигур и первобытной строгостью их расположения. Наоборот, миниатюры папирусных манускриптов, благодаря более тонким тростниковым перьям переписчиков и художников позднейшего времени, становятся более нежны, но зато и более ничтожны и холодны по содержанию, чем в доброе старое время.
В скульптуре круглых фигур позднейшего периода Египетского царства следует отличать доптолемеевский стиль от птолемеевского. Некоторые произведения, поражающие необыкновенно чутким и сильным подражанием природе и содержащие в себе наряду с греческими главным образом все-таки египетские характерные черты, по всей вероятности, относятся к последнему времени перед завоеванием Египта Александром Македонским. К произведениям этого рода принадлежат: берлинская бронзовая статуэтка, представляющая человека в длинном одеянии с изображением Осириса в руках, она поражает необыкновенной тщательностью моделировки голой головы; голова писца, изваянная из темного камня и производящая такое впечатление, как будто сформирована прямо с натуры, парижский Лувр; бритая голова пожилого человека, сделанная из черного камня, Берлинский музей (рис. 146). Натуральность лепки черепа этой головы, поверхность которого оживлена разными случайными особенностями, естественность очертания рта со впадиной между верхней губой и носом и индивидуальная форма ушных раковин наводят на мысль, что это вполне зрелое произведение греческой эпохи диадохов; не только общее впечатление этого изваяния дает знать о его египетском происхождении, но и в достаточной степени выказываются его египетские особенности, например в глазах с тонкими краями век.
Рис. 146. Голова египетской статуи, изваянной из черного камня. С фотографии
Египетское искусство собственно птолемеевской эпохи стоит, однако, на иной почве. Судить о нем дает нам возможность изваяние одного из Птолемеев, находящееся в музее Гизы. Современные скульптору черты изображенного лица противоречат архаической одеревенелости позы фигуры.
Итак, мы видим, что египетское искусство в продолжение 4 тыс. лет оставалось верным самому себе, хотя и подвергалось сравнительно ничтожным, но все-таки заметным изменениям, и что затем, точно так же, как египетский мир богов, падало, погибало и снова возрождалось в неудержимом потоке всемирной греко-римской культуры. Однако вплоть до своего окончательного исчезновения оно вообще заимствовало извне гораздо менее, чем само отдавало. Национальная замкнутость Египта дала его искусству силу оказывать плодотворное влияние на все соседние страны. В отношении успехов зодчества египтяне шли впереди всех других народов: в развитии зал с колоннами и боковым верхним освещением, украшении стен полихромными монументальными изображениями исторического и религиозного содержания точно так же, как и в законченности воспроизведения нагого человеческого тела при спокойном или умеренно подвижном его положении, в передаче индивидуальности голов в портретных изображениях и употреблении в орнаменте различных форм растительного царства. Некоторые из созданий египтян (пирамиды, обелиски, сфинксы, гирлянды цветов и бутонов лотоса) удержались неизменными в языке форм современного нам искусства. Для всех областей искусства и художественно-ремесленных производств египтяне дали образцы, которые другие, более юные народы могли развивать далее в новом, самостоятельном духе.
II. Месопотамское искусство
1. Введение. Древнехалдейское искусство
Хотя искусство халдеев и искусство египтян в исторические времена развивались независимо одно от другого, однако в них нет недостатка в чертах, указывающих на их первоначальное родство, заметное и во всех условиях жизни обоих народов.
Реки Месопотамии, как и Нил, периодически подвержены наводнениям от весеннего таяния снегов на горах Армении, на Ниле – от летних ливней тропической Африки; как здесь, так и там наводнения с древнейших времен регулируются и умеряются каналами и способствуют плодородию низменности, тучная почва которой не только благоприятствовала земледелию и скотоводству, но и побуждала к выделке кирпича и к постройкам из него. Нижней Месопотамии недоставало только близости гор, которые, окаймляя скалами долину Нила, доставляли ей в изобилии камень, благодаря чему египтяне имели возможность воздвигать из прочного материала свои храмы и гробницы, предназначенные для вечного существования. Сходству естественных условий Египта и Месопотамии, как на то особенно указывал Гоммель, соответствует схожесть некоторых первоначальных проявлений их культуры, а именно подобие языков, письмен, времясчисления и религий. В основных религиозных воззрениях обоих народов одинаковую роль играет обоготворение небесного океана Ана, или Ну, от которого выводилось происхождение божеств воздуха и земли, солнца и луны. Почитание божества света у обоих народов занимало первое место, хотя вавилоняне почитали, наряду с солнцем и луной, также и звезды в большей степени, чем египтяне; даже животная символика обоих народов, находившаяся в связи с их верой в богов, представляется во многих отношениях родственной, хотя у египтян поклонение животным, быть может, под влиянием суеверий первоначального африканского населения их страны, практиковалось в большей степени, нежели у вавилонян.
От сходства между местными географическими условиями и между основным мировоззрением произошли и точки соприкосновения между египетским и древнемесопотамским искусствами. Тем не менее никто не может принять произведение древнеегипетского искусства за древнехалдейское; их сходство не идет дальше того, что обусловливается равенством ступени культурного развития обоих народов.
Древнехалдейское искусство в своих существенных чертах является искусством городов шумерского юга и семитского севера, впоследствии Вавилонского государства, которые, ведя с переменным успехом борьбу из-за преобладания, имели каждый своих особых царей до тех пор, пока вавилонский царь Хаммурапи не соединил под своей властью юг и север в одно большое Древневавилонское государство. По Леманну, это произошло в 2231 г. до н. э., по Гоммелю и Эд. Мейеру, – значительно позже. Века владычества в Вавилонии Касситов, достигшего наибольшей силы в XV столетии до н. э., для истории искусства дают весьма мало материалов; от столетий, следовавших непосредственно за тем, сохранились лишь единичные произведения вавилонского искусства. В то время Вавилонское царство все более и более подпадало под власть своего соседа, Ассирии, пока наконец в 689 г. ассирийский царь Синахериб окончательно не сровнял Вавилон с землей. Развитие древнехалдейского искусства начинается за 3 тыс. лет до н. э. и заканчивается к 2000 г. до н. э., но древневавилонское искусство мы могли бы, вероятно, проследить вплоть до VII в. до н. э., если бы то, что осталось от него, по большей части не погибло под развалинами нововавилонского искусства. Нововавилонское государство, просуществовав всего одно столетие (625-539 до н. э.) и успев за это время состариться, породило искусство, произведения которого удивляли евреев и греков.
Шумеры, которые, в противоположность семитам, по языку и телосложению представляются родственными, с одной стороны, арийцам, а с другой – тюркам, считаются создателями всей древнемесопотамской культуры. Их литературу, искусство, науку и религию усвоили себе семитские вавилоняне и ассирийцы. Даже их язык продолжал существовать у месопотамских семитов в значении священного. Чисто шумерскими остались южные города страны, из которых в истории искусства имеют значение Эриду, находившийся на месте нынешних развалин Абу-Шарейна, Сирпурлы (Сиргуллы, Сиртеллы, Лагаша), на месте нынешнего Телло, родины Авраама, Ура в Халдее, нынешний Мугхейр (Мукаджьяр) и Ларс (Сенкерех). Раньше других семитизировались средневавилонские города Урук, библейский Эрех, развалины которого ныне называются Варкой, и Ницпур (Нибур, Ниффер). Чисто семитскими были северные вавилонские города, из которых сам Вавилон и его родная сестра Борзиппа похоронены под развалинами Гиллы, Бирс-Нимруда и Эль-Касра, тогда как следы Агади, тождественность которого с Аккадом установлена не всеми исследователями, и родственный ему Сиппар дошли до нас в развалинах Абу-Габбу.
Рис. 147. Могильный склеп в Уре. По Перро и Шипье
До середины XIX столетия места этих первобытных городов обозначались холмами мусора и песка, возвышавшимися на обширной, жаркой равнине. К раскопкам этих холмов приступили в начале 50-х гг. XIX в. англичане Лофтус и Тейлор. Первые сообщения об их трудах появились в 1855 и 1857 гг. Французская экспедиция 18521853 гг. избрала главной ареной своей деятельности по части раскопок саму столицу царства – Вавилон. Древности, найденные этой экспедицией в 1855 г., погибли в волнах Тигра, но ее научные результаты изложены Оппертом в его главном труде, появившемся в 18591863 гг. Роулинсон, автор сочинения о Месопотамии, продолжал в 1854 г. исследования в Бирс-Нимруде. После того исследование халдейско-вавилонских развалин возобновилось только в 1870-х гг. Гормузд Рассам исследовал развалины Абу-Габбу и дал отчет о своих работах в 1884 г. Де Сарзек с 1877 г. сделал в Телло ряд открытий, обильных результатами, которые опубликованы им вместе с Леоном Гёзе (Heusey) в объемном труде, появившемся в 1887 г. Пенсильванский университет с 1889 г. производил раскопки древнего Ниппура; его открытия опубликованы Гильпрехтом и Джоном Петерсом. Раскопками Вавилона в начале XX в. занимались и германские общества.
Формы зодчества Древней Месопотамии обусловливались свойствами строительного материала, который был под рукой. Тучную глину местной почвы формовали в большие куски или разрезали в виде правильных кирпичей. Кирпич или только просушивался на воздухе и солнце, или обжигался в огне; кое-где его уже глазуровали, причем обычно штемпелевали именной печатью царского зодчего. Тесаный камень, изготовление которого обходилось дороже, употреблялся только для придверных брусьев, пластических украшений и ваяния. Постройка производилась массивными террасообразными наслоениями или правильной кладкой, которая лишь редко, в тех случаях, когда нужно было сообщить ей большую устойчивость, получала наклон, обычно же подкреплялась выступающими из стен пилястрами. Потолки закрытых помещений делались, по-видимому, из пальмовых стволов или из деревянных балок, которые получали из лесистых местностей. По крайней мере, от древнехалдейских времен не осталось никаких следов сводчатых покрытий или куполов, и по ассирийским сводам и куполам, сооруженным двумя тысячелетиями позже, невозможно заключить, что подобного рода покрытия существовали в древнехалдейской архитектуре. Древние халдеи, без сомнения, уже имели понятие о своде, как и о первобытном ложном, образуемом через кладку краев двух противоположных стен выступами до тех пор, пока последние не сомкнутся между собой, чему классическим примером может служить свод склепа в Уре (рис. 147) и свод с замковым камнем (рис. 148). Но оба этих рода сводов, принадлежащие к типу скорее стрельчатого, чем круглого свода, здесь, как и в Египте, применялись редко и для второстепенных целей.
Рис. 148. Сводчатый водосточный канал в Ниппуре. По " American Journal of Archaeology"
Вопрос, употребляли ли древние халдеи колонны или столбы для поддержки потолков и крыш, на который еще недавно давали отрицательный ответ, решен теперь положительно. В одном сооружении в Телло, кирпичи которого отмечены штемпелем царя Гудеа и которое, следовательно, принадлежит первой половине 3-го тыс. до н. э., де Сарзек нашел два толстых столба, каждый состоял из соединения четырех круглых кирпичных колонн. В нескольких часах езды от Телло Джон Петерс открыл здание, внешние стены которого расчленены массивными полуколоннами, а в одном из двух внутренних помещений этого здания – 18 кирпичных колонн с четырехугольными базами, расставленных очень тесно, так что это помещение представляет собой настоящий гипостильный зал. Петерс относит эту постройку к середине 3-го тыс. до н. э. Само собой разумеется, от всех этих кирпичных колонн сохранились лишь обломки. Но и в них можно распознать, что каждый ряд кирпичей состоял из 6 штук надлежащей формы. Предположение, что для поддержки потолка изнутри раньше таких колонн употреблялись стволы пальм, представляется тем более вероятным. что в полуколоннах с наружной стороны стен халдейских построек продолжали существовать, только превратившись в кирпичные, те круглые стволы, между которыми первоначально клались глиняные стены, а там, где эти полуколонны ставились одна подле другой без всяких промежутков, подобно органным трубам, как, например, в некоторых частях фасадов дворцов в Телло и Варке, образцами для них служили, несомненно, бревенчатые тыны.
Рис. 149. Стенное украшение в Варке. По Лофтусу
Относительно декоративного увенчания древнехалдейских зданий, имевших, по всей вероятности, жестяные крыши, мы не можем составить себе ясного представления. Главные фасады обычно были разделены на части четырехгранными или полукруглыми выступами или углублениями, причем или выступали широкие части стены в виде ризалитов, или же полуколонны и столбы располагались в ряд с промежутками или без них, или же, наконец, ровная поверхность стены разнообразилась проведением углубленных тяг или разбитием ее на поля. Гораздо труднее ответить на вопрос о декоративной облицовке древнехалдейских кирпичных стен. Невозможно признать за общее правило, что в халдейских постройках кирпич никогда не являлся снаружи в натуральном виде, как это предполагали Перро и Шипье. Де Сарзек, Гёзе и Масперо утверждали самым определенным образом, что древний дворец царя Гудеа в Сирпурле (Телло) не имел ни снаружи, ни внутри никакой облицовки, то есть его кирпичные стены были ничем не отделаны. Тем не менее нет недостатка в следах облицовки других зданий. Одна – на стене дворца, открытого Лофтусом в Варке, очевидно, была покрыта простой штукатуркой, а в Абу-Шарейне, древнем Эриду, на куске внутренней поверхности стены найдено грубое изображение мужчины с птицей в руке. Любопытна также другая стена, отрытая Лофтусом в Варке; она разбита на части полуколоннами, стоящими рядом, наподобие органных труб, и, кроме того, облицована мозаикой, представляющей правильные геометрические фигуры, сложенные из небольших кирпичиков натуральных цветов, желтого, красного и черного (рис. 149).
В Эриду Тейлор также нашел остатки подобной облицовки. Но еще оригинальнее третий род украшения стен, найденный в Уруке, а именно полыми кирпичами в виде блюдец, обращенных вогнутостью кнаружи. Глазурованный кирпич, игравший видную роль в позднейшем месопотамском искусстве, по-видимому, был в употреблении также и в Халдее. Остатки подобного кирпича найдены в Мугхейре и Варке. Вообще внешний вид древнейших халдейских кирпичных городов в отношении красок, надо полагать, не особенно отличался от средневековых кирпичных городов Северо-Германской низменности.
В развалинах, исследованных в стране халдеев, можно различить, точно так же, как и в Египте, постройки двоякого рода: религиозные и гражданские, храмы и дворцы.
Основу халдейского храма, унаследованную Ассирийским царством, составляло массивное террасообразное здание. Эти террасы, или этажи, кверху становились постепенно все меньше и меньше и соединялись между собой наружными лестницами. На верхней террасе стояло небольшое, вроде капеллы, святилище божества, украшенное с особенной роскошью как снаружи, так и внутри; перед ним совершались жертвоприношения. Постройка в виде уступов, или террас, которую мы уже видели у многих народов, представляет собой простейший, самый первобытный способ, особенно удобный на обширных равнинах, для вознесения обиталища бога-небожителя над туманом и житейской суетой города так, чтобы оно было видимо каждым верующим с далекого расстояния. Храм имел в плане форму прямоугольника; каждый верхний этаж строился с отступом к задней, узкой стороне, так что спереди на каждой террасе оставалось достаточно места для длинной лестницы, поднимавшейся прямо кверху. При квадратном плане верхние этажи уменьшались равномерно со всех четырех сторон, причем лестница, разбиваясь на части под прямыми углами, шла по всем четырем сторонам этой уступчатой пирамиды. Прямоугольный тип здания господствовал на шумерском юге, квадратные в плане уступчатые пирамиды преобладали на семитском севере.
Из целого сонма крылатых духов, которые были созданы фантазией обитателей Месопотамии наполовину или даже совершенно по образу и подобию животных и которыми, по представлению этих обитателей, кишела вселенная, выделились высшие божества, их человек создавал по своему образу и подобию; сперва эти божества являлись лишь защитниками и покровителями известных городов: три великих бога – неба, океана и земной тверди – Ан, Эа и Бел, наряду с которыми стояли бог солнца Самас, бог луны Син, бог молнии Раман и весьма усердно чтимая богиня Иштар. Богу Эа поклонялись преимущественно в Эриду, Сину – в Уре, Ану, Иштар – в Уруке, Бел, который в Вавилоне отождествлялся с Мардуком, или Меродахом, богом утреннего солнца, – в Ниппуре. В Эриду еще доныне можно распознать две террасы трехэтажного храма и часть лестницы его переднего фасада, поднимавшейся между двумя скошенными стенами. В Уре особенно хорошо сохранился второй этаж, украшенный большими выступающими из его наружной поверхности столбами. Но от храма в Уруке осталась только бесформенная груда кирпича, сушенного на воздухе. Эти три храма имели прямоугольное основание, тогда как остатки храма Бела в Ниппуре свидетельствуют, что это было здание с квадратным планом. Что касается крестообразного фундамента, который здесь чаще всего встречался при раскопках, то он несомненно принадлежит постройкам позднейшего времени.
Рис. 150. План дворца царя Гудеа в Телло. По Гёзе и де Сарзеку
Халдейские дворцы, с фасадами которых мы уже несколько ознакомились, состояли из ряда комнат и залов, группировавшихся вокруг больших и малых дворов. Наиболее известен план дворца царя Гудеа в Телло (рис. 150). В этом сооружении, воздвигнутом за 3 тыс. лет до н. э., еще не были употреблены колонны для поддержки потолка, но на двух фасадах видно, что они разделялись на части попеременно полуколоннами, примкнутыми одна к другой, и стенными выступами со ступенчатым профилем. Древнейшие из построек, открытые Петерсом вблизи Телло, так же как и штучная облицовка стен дворца в развалинах Вусваса в Варке, относятся к позднейшему времени. Таким образом, не подлежит сомнению, что постройки из сырого кирпича без колонн времен царя Гудеа относятся к более ранней эпохе, а постройки с колоннами и облицовка стен представляют позднейшую ступень развития древнехалдейской архитектуры.
Глубокая древность древнехалдейско-вавилонского искусства выказывается также в украшениях других его произведений. Повторения фигуры рыбы на одной древневавилонской цилиндрической печати в коллекции Леклерка (рис. 151, а), точно так же, как и многократное повторение одного и того же мотива – оленя, преследуемого водяным чудовищем, на таком же цилиндре из Телло, находящемся в Лувре, в Париже (б), уже являются почти животной орнаментикой. Но растительная орнаментика в ту эпоху еще совсем чужда древневавилонскому искусству. Древнейшая розетка, имеющая некоторое подобие цветка, встречается впервые на тиаре царя, изображенного на межевом камне XII столетия до н. э. (ср. рис. 164). Узоры, иногда напоминающие этот род орнамента на цилиндрических печатях, представляют собой не что иное, как солнечный диск, испускающий лучи; изображение это, вместе с изображением луны, которой уже в то время давали очертание турецкого полумесяца, повторялось бесчисленное множество раз как символ бога света, царящего над вселенной. Точно так же не следует смешивать с растительной розеткой диск, окруженный семью шарами-планетами или вмещающий их в себе. Волнистые линии обычно означают воду. Но гораздо чаще в Древней Халдее употреблялся простой геометрический орнамент, который образуют известные терракотовые штифты в вышеупомянутой стенной облицовке (см. рис. 149). Вставленные один подле другого ромбы чередуются здесь со светлыми и темными треугольниками, расположенными в шахматном порядке, и с узорами из зигзагообразных параллельных линий. Такие же поля ромбов сохранились на одном обломке камня, найденном в Телло. Концентрические круги встречаются заполняющими некоторое пространство на древних цилиндрических печатях. На одном таком цилиндре в коллекции Леклерка мы видим замечательно расположенные фигуры в виде буквы Т с закрученными концами верхней части, чередующиеся с прямоугольными щитками (рис. 151, в). На древнем рельефе из Телло, изображающем полный герб города, найден ленточный орнамент, то есть орнамент несомненно технического происхождения (рис. 152). За исключением этого герба, все упомянутые орнаменты напоминают нехитрое искусство первобытных народов.
Рис. 151. Древнехалдейские цилиндрические печати. По Менану (а, в, г, д, е, ж), Гёзе и де Сарзеку (б)
Рис. 152. Халдейский рельеф с ленточным орнаментом. По Гёзе и де Сарзеку
В основе древнехалдейского искусства – ваяние, и прежде всего пластические изображения человека. Не переходя границ архаических ступеней развития скульптуры, эти произведения оставляют далеко за собой все, что нам известно на этой ступени, за исключением памятников Египта; наблюдение за природой замечательным образом соединяется в них со стилем. Статуи из диорита (или долерита) в Лувре, в Париже, дают нам понятие о халдейской крупной скульптуре; они были отрыты в Телло лишь в последней четверти XIX столетия. В произведениях же декоративного ваяния и образцах пластических мелких художественных работ древнехалдейской эпохи в европейских коллекциях давно уже не было недостатка. Цилиндрические печати из мрамора, горного хрусталя, ляпис-лазури, гематита, яшмы и еще более дорогих полублагородных камней дошли до нас сотнями от всех столетий месопотамской культуры. По надписям на них такие исследователи, как Менант, имели возможность определить, по крайней мере для наиболее важных экземпляров, время и место происхождения. Эти резанные вглубь пластические изображения, воспроизводящие чаще всего мифологические сцены из двух великих древневавилонских героических поэм, или богослужебные обряды, предназначались для делания оттисков на мягких глиняных досках, которые в Месопотамии заменяли собой писчую бумагу, и рисунок на оттисках получался рельефный. Едва ли не столь же многочисленны небольшие глиняные фигурки, добытые при месопотамских раскопках; но определение времени и места их происхождения еще затруднительнее, чем цилиндрических печатей. Однако и тут были сделаны попытки отличать древнехалдейские произведения от ассирийских и нововавилонских. Сюда же следует причислить бронзовые фигурки всех эпох. Уже среди произведений, найденных в Телло, можно отличать крупные бронзы выбивной работы от более мелкой литой бронзы. Слегка рельефные изображения сохранились на глиняных досках и обломках памятных столбов и других произведений.
Рис. 153. Рельеф царя Нарамсина. По Гоммелю
Для определения времени происхождения всех этих художественных предметов пользуются прежде всего двумя северовавилонскими памятниками, снабженными надписями: цилиндрической печатью древнего царя Саргона из Аккада, из коллекции Леклерка, в Париже (рис. 151, г), и обломком базальтового рельефа в Константинопольском музее, описанным Шейлем и представляющим, рядом с половиной фигуры царя, надпись Нарамсина, сына Саргона I (рис. 153). Пока исследователи принимали, что Нарамсин, царь Агади и, вероятно, также Вавилона, жил в 3750 г. до н. э., мягкость форм его рельефа, при их угловатости в произведениях более позднего шумерского искусства при Урнине и его современниках – произведениях, с которыми мы познакомимся ниже, – представлялась неразрешимой загадкой. Но с того времени, как мы, вместе с Леманном, стали относить Нарамсина снова к эпохе лишь за 2750 лет до н. э., а следовательно, его отца, Саргона, к 2800 г. до н. э., а лагашского Урнину к 3000 г., история древневавилонского искусства уже не представляет для нас никаких отступлений от естественных законов эволюции.
Важнейшее место среди сохранившихся изваяний занимают найденные в Телло и находящиеся в Лувре. Самые неповоротливые и примитивные произведения шумерского Телло, по нашему мнению, поддерживаемому Гёзе вопреки Масперо, должны быть старше вышеупомянутых северовавилонских древностей времен Саргона и Нарамсина. Но и наиболее зрелые произведения Телло отнюдь не представляют собой более нового стиля, и лишь единичные экземпляры из найденных там обломков пластических произведений относятся к высшей ступени развития, отличающейся большим совершенством. Из числа царей и верховных жрецов Сирпурлы, которые стали нам известны по уцелевшим надписям, Урнина (Гоммель читал его имя Ург-ханна) и его внук Эаннатум принадлежат к значительно более древним поколениям, нежели Урбаи и его преемник Гудеа. При первом процветало древнейшее, при втором – наиболее зрелое искусство Древней Халдеи, которое, конечно, представляется крайне древним и само по себе.
Рис. 154. Обломок древнехалдейской дугообразной каменной отделки стены. По Гёзе и де Сарзеку
Из пластических произведений Телло, которые можно было бы приписать еще более древней эпохе, чем эпоха царя Урнины, следует указать на обломки дугообразной каменной отделки стены, украшенной рельефными поясными изображениями одной и той же нагой мужской фигуры (рис. 154). У каждой из них руки лежат на груди, представленной en face, причем правая рука поддерживает левую; головы же повернуты в профиль. Из-за орлиного носа, составляющего непосредственное продолжение очень низкого лба, вся голова имеет птичий вид. Волосы на голове и бороде изображены в виде волнистых линий. Угловатый, почти ромбовидный глаз, несмотря на профильное положение головы, рисуется en face и под толстой, выпуклой бровью занимает большую часть всего лица, между тем как небольшой, отступающий назад рот почти теряется в бороде. Большие пальцы на руках – безобразно велики. В общем, получается впечатление искусства по-детски неумелого, но при всей своей неумелости сильного по замыслу.
К произведениям с начертанным на них именем царя Урнины принадлежит прежде всего обломок серого камня с рельефом, вероятно, помещавшегося в виде герба города над одними из дворцовых ворот в Сирпурле (Лагаше). На нем изображен орел с львиной головой, распростерший свои крылья над двумя симметрически стоящими задом к нему львами. Этот древнейший из всех известных гербов в мире, в котором ясно выражен геральдический стиль, сохранился в полном виде на одном рельефе небольшого размера (см. рис. 152), а также награвирован на одном серебряном сосуде той же эпохи. Но стиль фигур времен Урнины можно изучить лучше всего при помощи каменного рельефа, изображающего, если судить по надписи на нем, царя и его родных. Все фигуры представлены в профиль, одни – в повороте налево, другие – направо. Глава рода отличается своей величиной. Верхние части обнаженных тел имеют такое же положение, как на описанном выше дугообразном рельефе. Нижние части прикрыты колоколообразной одеждой с кусками меха, образующими складки. Плоские стопы ног повернуты соответственно профилю головы, тип которой не отличается сколько-нибудь заметно от типа вышеозначенного более древнего изображения. Однако на всех головах, за исключением лишь одной, волосы и борода подстрижены, и в очертаниях глаза, уха и рта выказывается более внимательное наблюдение натуры.
Рис. 155. Военная сцена на Стеле коршунов царя Эаннатума. По Гёзе и де Сарзеку
Затем следует указать на известную Стелу коршунов Эаннатума. Сохранилось всего лишь шесть обломков этой кверху несколько суживающейся плиты, украшенной с обеих сторон рельефами и надписями, прославляющими одну из побед царя. Тем не менее главные изображения, подразделенные на несколько частей, можно различить до некоторой степени: царь представлен вдвое большей величины, чем его воины; стоя на колеснице, он преследует своего разбитого врага (рис. 155). Далее изображены: погребение убитых, торжественное жертвоприношение по случаю победы, казнь пленников, царь, собственноручно убивающий предводителя вражеской армии, коршуны, слетевшиеся на поле сражения и улетающие с головами павших в мощных клювах. Отдельные изображения представляют толпы людей или наваленные один на другой трупы. Художник соблюдал последовательность происшествий и пробовал свои силы в воспроизведении разнообразных мотивов движения, но фигуры уже получили постоянный архаический халдейский тип: птичий профиль головы, которая почти вся занята глазом и носом, стиснутые формы туловища, плоскую ступню ног, угловатые руки. Разработка частностей несколько лучше, чем в более древних памятниках, хотя до настоящего понимания форм здесь еще очень далеко. Однако все контуры очерчены твердо и целесообразно. Гёзе называет этот памятник, относимый им к 4000 г. до н. э., "древнейшей баталической картиной в мире". По новейшим исследованиям, эта стела относится никак не далее как к 3-му тыс. до н. э. Обломки подобных памятников, найденные в Сирпурле, свидетельствуют о том, что подобного рода плиты с рельефами изготовлялись по повелению царей в память их подвигов и для украшения их дворцов, подобно тому, как нынешние коронованные особы заказывают с той же целью баталические картины.
За этими шумерскими памятниками следуют семитско-древневавилонские памятники царя Саргона I и его сына Нарамсина, живших за 2800-2700 лет до н. э.: вышеупомянутая цилиндрическая печать из коллекции Леклерка в Париже и слегка рельефная полуфигура царя, Константинопольский музей. Оба этих произведения должны быть поставлены во главе позднейшего и, при всем своем архаизме, все-таки более зрелого искусства древней Месопотамии. Цилиндрическая печать Саргона I или его писца типична для стиля целого класса подобных мелких художественных памятников; на ней симметрично повторяется в чисто геральдическом стиле нагая фигура героя Исдубара, или Гильгамеша, опустившегося на одно колено и подносящего небесному быку сосуд, из которого льются два священных потока; бык несколько склонил на сторону свою голову с большими буйволовыми рогами и жадно пьет божественную влагу. По нижнему краю струится в каменистых берегах поток, обозначенный правильными волнообразными линиями (рис. 151, г). Замечательно, что герой сцены обращен к зрителю совсем прямо: всей своей огромной головой с кудрями, подобными львиной гриве, тогда как ноги повернуты в профиль; поразительны также рисунок нагого тела, лепка мышц героя и быка, хотя и не совсем анатомически правильная, и, наконец, свобода движения и поворота головы животного. Все произведение проникнуто реализмом, соединенным с истинным чувством стиля, но в то же время его архаичность выказывается в жестких, угловатых чертах лица и в симметрически вьющихся локонах на голове героя. Подобные цилиндрические печати той же коллекции (рис. 151, д и е), а также из Британского музея и музеев в Нью-Йорке и Гале изображают битвы Исдубара и Кабаниса со львами, быками и баснословными двупородными чудовищами, которые, ради симметрии и соразмерности расположения, представлены поднявшимися на задних ногах до высоты человеческого роста и нередко повторяются в геральдическом стиле. Вышеупомянутый базальтовый рельеф с надписью Нарамсина, находящийся в Константинопольском музее (см. рис. 153), – также единственное в своем роде произведение. На нем сохранилась полуфигура царя с остроконечной бородой, в высокой тиаре, обращенная профилем влево; в опущенной правой руке и полуприподнятой левой она держит древко оружия или какой-либо символический предмет. Волосяная одежда оставляет открытыми правую руку и правое плечо. Голова имеет семитский тип. В надписи, по Шейлю, заключается смесь семитских и шумерских элементов. Если не считать изображения груди во всю ее ширину и анатомических погрешностей в плечевом и локтевом сочленениях, фигура царя отличается чрезвычайной естественностью и мягкостью. Особенно жизненно моделированы голова и руки; несмотря на то что поверхность рельефа сильно пострадала, тонкая разработка деталей бросается в глаза.
Рис. 156. Сидящая статуя Гудеа, найденная в Телло. По Гёзе и де Сарзеку
Рис. 157. Стоящая статуя Гудеа, найденная в Телло. По Гёзе и де Сарзеку
Переносясь на юг, мы встречаем в Сирпурле более зрелое искусство, относящееся, однако, не к 4-му, а к 3-му тыс. до н. э., а именно в десяти статуях зеленоватого диорита, найденных в развалинах дворца в Телло. К сожалению, ни у одной из них не сохранилось головы; зато были найдены отдельные головы, из которых одна, по всей вероятности, принадлежала какой-либо из этих статуй. Одна из этих статуй, обильно покрытых надписями, изображает царя Урбау, остальные же девять – царя или верховного жреца Гудеа в различную величину. Небольшой статуе Урбау, стоящего во весь рост, недостает не только головы, но и ног. Как и статуи Гудеа, она изображает царя en face, задрапированным лишь в большой четырехугольный кусок ткани, образующий на нижней части тела как бы колокол и перекинутый через левое плечо, так что правые плечо и рука остаются ничем не прикрытыми. Но в действительности она отличается от статуй преемника названного царя большей архаичностью, выражающейся в короткости и стиснутости членов и в более плоском, поверхностном обозначении их форм, например в полном отсутствии складок одежды. Из статуй Гудеа, которые, если судить по надписям на них, некогда стояли в разных храмах, как приношения богам, четыре изображают царя сидящим, а четыре – во весь рост. Во всех видна окаменелая симметричность, распространяющаяся и на верхние, и на нижние конечности, а потому указывающая на более древнюю ступень развития искусства, чем фронтальность (по Юлию Ланге). Руки лежат одна в другой на груди, обе ноги, обращенные прямо вперед, параллельны между собой, и хотя в сидячих статуях достаточно обработаны, но слишком сближены одна с другой; в стоячих статуях благодаря их положению пятки исчезают в массе статуи, но стопы отделены одна от другой небольшим пространством. Формы тела вообще еще довольно укорочены и уширены, но иногда, как и у статуй в натуральную величину, плечи слишком узки, что, по-видимому, обусловливается первоначальной массой куска диорита, из которого они изваяны. Необходимо, однако, заметить, что во всех этих статуях мы видим истинное, вполне сознательно выполненное воспроизведение человеческого тела. Глаз современного нам анатома найдет здесь уклонения от совершенной точности, но в общем нагое тело, хотя и слишком мясистое, вылеплено верно и мягко, а на одежде, умышленно гладкой и натянутой, в надлежащих местах намечены складки и оторочка ткани; если локти слишком угловаты, а кисти рук чересчур сплющены, то пальцы на руках и ногах с их суставами и ногтями изваяны с натуральностью, не оставляющей желать ничего лучшего. Лишь одна из сидячих статуй имеет колоссальный размер. Из остальных одна представляет царя Гудеа с планом постройки, другая – с масштабом на коленях (рис. 156). Эти околичности, равно как и многие надписи на постройках, видимо, свидетельствуют о том, какое важное значение придавали месопотамские цари своей строительной деятельности. Одна из меньших статуй во весь рост (рис. 157) отличается тонкостью и свободой исполнения. Голова, найденная поблизости от этого торса, совершенно оголена; волосы и борода гладко выбриты, и только смело изогнутые брови, сросшиеся над переносьем, очерчены резко. Вообще это прекрасно сформированная голова с большими открытыми глазами и полными, правильными чертами лица. Подобные же черты, но выполненные еще тоньше, мы находим в двух других, также гладко выбритых головах (рис. 158, б), по сравнению с которыми так называемая "голова с тюрбаном" имеет более строгий и более древний характер. Ее более оживленное лицо также гладко выбрито, но пышные кудри на голове изображены совершенно правильными небольшими спиральными линиями и связаны над лбом в виде диадемы или тюрбана (рис. 158, а). Один обломок бородатой головы выполнен, напротив того, свободно и мягко, вполне соответственно общей свободе и мягкости, которыми отличается рельеф Нарамсина. По-видимому, в промежуток времени между древней и более поздней эпохами, когда было принято отращивать волосы и бороду, существовал период, в котором их брили или носили коротко остриженными. Из числа изваяний, найденных при прежних раскопках и признанных, на основании раскопок в Телло, древнехалдейскими, следует упомянуть еще об одной небольшой статуе из Луврского музея, изображающей сидящую женщину с большой головой, в волосяной одежде (рис. 159).
Рис. 158. Головы, найденные в Телло. По Гёзе и де Сарзеку
Рис. 159. Древнехалдейская женская статуя. По Гёзе
Из декоративных скульптур того времени, найденных в Телло, нужно прежде всего указать на небольшое круглое подножие, на нижней ступени которого сидят на корточках нагие мужские фигуры, прислоненные спиной к среднему цилиндру. Замечательна также каменная ваза царя Гудеа, рельеф которой представляет собой символическое изображение, состоящее, совершенно так же как греческий кадуцей, из двух змей, обвившихся вокруг жезла (рис. 160).
Дальнейший ход развития древневавилонского искусства, быть может, всего удобнее проследить по истории цилиндрических печатей. Но здесь не всегда бывает легко отличить действительно древнее от позднейшего, от подражающего древности. В Сирпурле были найдены цилиндры с изображениями битв Исдубара, подобными тем, с которыми мы уже ознакомились.
Рис. 160. Каменная ваза царя Гудеа с изображением жезла, обвитого змеями. По Гёзе и де Сарзеку
В дальнейшем развитии этой отрасли искусства вступает в свои права стиль рельефа, дающий предпочтение профилю, а нагота героического периода при изображении религиозных обрядов сменяется более культурным костюмом, причем наряду с гладкой четырехугольной драпировкой появляется одежда, образующая широкие складки. Только одна богиня, по господствующему мнению, которое оспаривал Соломон Рейнах, великая богиня Иштар, впоследствии перешедшая в Грецию с именем Афродиты, на цилиндрах обычно изображается нагой с ясно выраженной женской формой бедер; на воспроизведенном у нас цилиндре из Ура (см. рис. 151, ж), находящемся в коллекции Леклерка, в Париже, Исдубар является снова нагим и позади сцены моления, занимающей первый план.
То же самое наблюдается и во множестве древневавилонских глиняных и менее многочисленных бронзовых фигур. Характерный тип нагой богини представляет одна глиняная статуэтка из Луврского музея, отличающаяся от обычной строгой фронтальности легким наклоном головы. Однако древнехалдейско-шумерское происхождение этого произведения отнюдь нельзя считать доказанным. Девственные формы нагого женского тела мы встречаем в одной несомненно древнехалдейской бронзе из Телло (рис. 161), в которой довольно изящно разыгран мотив несения корзины на голове.
Дальнейшее развитие древневавилонского искусства или, вернее, его движение назад, вплоть до наступления ассирийского владычества, яснее всего выказывается в некоторых рельефах. Так, концу 3-го тысячелетия до н. э. приписывается небольшой, тонко исполненный рельеф из Берлинского музея (рис. 162), изображающий царя, к которому низшие боги подводят одного из высших богов. Здесь все проникнуто еще чисто древневавилонским вкусом. Глиняные доски из одной гробницы в Сенкерехе, срисованные Лофтусом, вероятно, также относятся к 3-му тыс. до н. э. Сцены охоты и происшествия повседневной жизни, изображенные на этих досках, представляются более оживленными по движению и более свободными по рисунку, чем предшествовавшие им произведения халдейского искусства, но небрежными и поверхностными в отношении исполнения частностей. Фигура царя на межевом базальтовом столбе из Британского музея, относимом к XII столетию до н. э., о чем мы уже говорили, исполнена в новом стиле, отличном от древнехалдейского (рис. 163). Обычно ее считают изображением царя Мардука-надин-ахи (11271131), но, по Гоммелю, она скорее представляет Навуходоносора I (1137-1131). Несмотря на древний характер этого произведения, выражающийся в укороченности пропорций тела, во всей позе и одеянии царя, вооруженного стрелой и луком, мы уже видим переход к ассирийскому стилю, обнаруживающийся в тяжелой, богато расшитой одежде без всяких складок, в тщательном прикрытии всех частей тела и, наконец, в растительной розетке на тиаре. Рельеф из Храма солнца в Сиппаре, Британский музей, изображающий поклонение богу солнца, Самасу, сидящему на троне, в котором мы находим колонну легкой конструкции с капителью, снабженной волютами, и с такой же базой, относится лишь к 852 г. до н. э., то есть к той поре, когда рядом с вавилонским искусством уже процветало ассирийское. Здесь уже мало следов той силы и солидности, которыми отличалось халдейское искусство за 3 тыс. лет до н. э. (рис. 164).
Рис. 161. Древнехалдейская бронзовая фигура женщины. По Гёзе и де Сарзеку
Рис. 162. Древневавилонский рельеф. С фотографии
Для оценки древнехалдейского искусства лучше всего принимать в расчет произведения месопотамского искусства, возникшие до конца 3-го тыс. до н. э. Эти произведения поучительны главным образом потому, что соответствовали условиям местности и времени своего происхождения. В отношении террасообразного способа постройки храмов и по большей части в орнаментике древние халдейцы стояли еще на уровне доисторических и первобытных народов. С усовершенствованием постройки дворцов и в особенности с успехами в ваянии человеческого тела они поднялись, соответственно своей остальной культуре, на степень истинной художественности. Но продолжать развитие этого искусства было суждено не им, а их наследникам – ассирийцам.
2. Ассирийское искусство
Остатки произведений ассирийского искусства, разрушенных и погребенных вследствие внезапных катастроф, в течение двух тысячелетий покоились непробудным сном под лишенными всякой растительности холмами мусора, и лишь во второй половине XIX в. явились на свет благодаря дорого стоившим раскопкам французов и англичан. В Ашшуре (Калех-Шергате), родине первобытного бога того же имени и северных семитов, получивших от нее название ассирийцев, находившейся на правом берегу Тигра, открыты отдельные остатки памятников древнеассирийского искусства. Гораздо плодотворнее были результаты раскопок Ниневии, позднейшей столицы Ассирии, лежавшей на левом берегу Верхнего Тигра, любимого города великой богини Иштар. В самой Ниневии, на развалинах которой ныне стоят напротив города Моссула местечки Куюнджик и Неби-Юнус, в Калахе (нынешнем Нимруде), к югу от Ниневии, и в Имгур-Беле, нынешнем Балавате, к востоку от Ниневии, англичане А. Г. Лайярд, В. Кеннет Лофтус, Гормузд Рассам и Георг Смит сделали великие, крайне важные открытия, главные результаты которых поступили в Британский музей, в Лондоне. В Дур-Шаррукине (Хорсабаде), к северу от Ниневии, раскопки производили французы Ботта и Фландин, Плас и Тома, поэтому произведения искусства, найденные там, находятся в Луврском музее, в Париже.
Рис. 163. Межевой столб Навуходоносора. С фотографии Томпсона
Рис. 164. Поклонение богу солнца. Рельеф. По Перро и Шипье
Ассирийцы, некогда населявшие означенные места, сильные и мускулистые, любители войны и охоты, влили новую струю в дряхлевшее месопотамское искусство IX-VII столетий до н. э., и хотя эта струя не отличалась большой чистотой, но все же была и более сильной, и более живой и свежей. Конечно, ассирийцы сознавали себя плотью и кровью вавилонян, которым были обязаны как религией, государственными учреждениями, наукой и литературой, так и основными чертами искусства; но они не гнушались заимствовать некоторые отдельные формы орнаментики также и у своих дальних родственников, египтян. Но уже сам факт дальнейшего развития искусства на берегах Тигра в эпоху наибольшего процветания Ассирийского государства, продолжавшуюся четверть тысячелетия (884-626 до н. э.), доказывает, что северные месопотамцы сознательно шли собственным путем; действительно, произведения ассирийского искусства занимают среди подобных произведений, оставшихся от всех народов земного шара, совершенно отдельное положение, вследствие чего нельзя назвать ассирийцев подражателями в нарицательном смысле этого слова. Так, например, крылатые львы и бескрылые быки с человеческими головами, стоявшие в виде горельефных колоссов на страже при входах в ассирийские дворцы, по своим мифологическому характеру и значению могли быть и вавилонского происхождения. Но если бы употребление их, как символов и декоративных фигур, было у вавилонян столь же распространено, как у ассирийцев, то они были бы открыты не на одной только ассирийской почве. Известняковые или алебастровые плиты с рельефными изображениями различных эпизодов из жизни царя, приставленные одна возле другой и тянувшиеся рядами по нижней части стен на дворах, в проходах и в залах дворцов ассирийских государей, нагляднее всего свидетельствуют о национально ассирийском дальнейшем развитии месопотамского искусства, хотя и не подлежит сомнению, что стиль этих рельефов образовался в Вавилоне.
Наиболее прямая связь ассирийского искусства с вавилонским видна в архитектуре, к которой так или иначе относятся почти все открытые доселе художественные памятники Ассирии. И в этой стране главными строительными материалами служили штампованная глина, просушенный на солнце кирпич, в заметных местах кирпич, обожженный в огне, кое-где глазурованный. Ассирийские храмы, носившие название цигурат, представляли собой, точно так же, как халдейские и вавилонские, массивные террасообразные постройки, кверху суживавшиеся. Но прямоугольное основание, господствовавшее на юге Месопотамии, здесь, на севере, уступило место квадратному, получившему свое начало в Средней Месопотамии. Как и дворец царя Гудеа в Сирпурле, о котором мы говорили выше, дворцы состояли из большего или меньшего числа дворов, из которых каждый, вместе с выходившими на него залами и покоями, представлял собой одно замкнутое целое. Несколько таких отделений, обычно три, помещения для мужчин, женщин и хозяйственных потребностей, были обнесены одной общей стеной с четырехугольными выступающими из нее зубчатыми башнями и с массивными входными воротами и образовывали одно увенчанное зубцами здание на широко раскинувшемся возвышении, на которое вели двойные лестницы и рампы. Обширная наружная поверхность стен дворцов, как и в Древней Халдее, на главном фасаде расчленялась системой углублений, уступчатый профиль которых, разумеется обусловливаемый характером кирпичных построек, соответствовал двойному или тройному ряду зубцов, расположенных ступенями. Древнехалдейское деление фасада на части круглыми столбами, поставленными один подле другого, встречается местами и в Ассирии. Низкие верхние этажи, открывавшиеся на плоскую кровлю, имели вид лишь башенок на отдельных выступах стен; окна или галереи с колоннами являлись, по-видимому, только в таких надстройках на стенах и над воротами. Однако и тут нет недостатка в признаках дальнейшего развития сравнительно с древневавилонским зодчеством. Прежде всего нужно заметить, что ассирийцы употребляли свод гораздо чаще, нежели древние халдеи юга. Юлиус Опперт говорил: "Еще и в нынешнем Вавилоне постройки сооружаются из кирпича и деревянных столбов, в противоположность новой Ниневии (Мосуле), где своды кладутся из сырого кирпича".
В ассирийских развалинах сохранились явственные части коробового свода, с одной стороны, над пролетами ворот городских стен, а с другой – в водосточных каналах, в которых можно видеть то циркульный, то эллиптический, то заостренный свод. Куски кладки, которые можно было принять только за остатки обрушившихся сводов, найдены также в хорсабадском дворце. Ворота и двери, как правило, имели дугообразную форму верха, но встречаются также двери с прямолинейным верхом. Коробовыми сводами, по-видимому, покрывались проходы и продолговатые главные залы дворцов. Французские исследователи. со времен Пласа и Тома утверждали, что некоторые из квадратных залов имели купольное покрытие. На происходящих из Куюнджика рельефах, Британский музей, изображены небольшие здания (рис. 165), доказывающие, что ассириянам не были чужды постройки с куполообразным покрытием. Однако на прочих плитах с изображениями ассирийских дворцов, кроме армянских зданий с фронтоном, мы видим исключительно постройки с плоской крышей. Во всяком случае, такая крыша, устроенная на деревянных балках, сверху которых намощен пол из битой глины, составляет общее правило в ассирийском строительном деле, как это подтверждается тем, что Лайярд при своих раскопках постоянно находил кучи золы от обуглившихся балок, равно как и тем, что в надписях царей говорится о кедровых бревнах, которые привозились для построек.
Рис. 165. Рельеф из дворца Синахериба в Куюнджике. По Лайярду (II, табл. 17)
Рис. 166. Бронзовый рельеф из Балавата. По Перро и Шипье
Каменные колонны, насколько можно судить по немногим сохранившимся от них обломкам, применялись при постройке ассирийских дворцов только в указанных выше побочных местах или же как украшения наружной поверхности стен. Однако изображение внутри дома на одном бронзовом рельефе, найденном в Балавате (рис. 166), точно так же как бронзовая оболочка деревянной колонны, обнаруженная Пласом на одном из дворов в Хорсабаде, и, наконец, надписи, разобранные Мейсснером и Ростом, из которых одна гласит, что Синахериб приказал подпереть колоннами потолок в одном помещении нижнего этажа, показывают, что ассирийцам не были чужды деревянные колонны как подпоры. Во всяком случае, колонны в Ассирии исполняли свое назначение лучше в тех, похожих на шатры, легких небольших храмах (aediculae, павильонах, киосках), которые в ней, как и в Египте, существовали наряду с массивными сооружениями, известными нам преимущественно по изображениям на плитах с рельефами, чем в монументальных зданиях.
Рис. 167. Ассирийский рельеф из Нимруда. По Лайярду (I, табл. 30)
Изображение настоящего шатра найдено в северо-западном дворце в Нимруде (рис. 167). Верхние концы представленных здесь подпор свободно выходят наружу. Капитель с волютами, та, что на рисунке видна с левой стороны, поразительно напоминает подобные капители, встречавшиеся в египетской живописи (см. рис. 99, ж, з, и). Своеобразны также две капители, что направо, с волютами и обращенными друг к другу фигурами каменного барана на подставках, помещенными над волютами. Основываясь на этом мотиве, Перро видит в ассирийской волюте как здесь, так и повсюду, подражание рогам каменного барана. Однако такое объяснение происхождения волюты, в смысле общего положения, маловероятно. На хорсабадских и куюнджикских рельефах небольшие храмы представляются не шатрами, а каменными постройками; их колонны, как и везде в Ассирии, – круглые и гладкие. Волюты их капителей удвоены, поставлены одна над другой. Наконец, рельеф в Британском музее, изображающий бога солнца в его храме с колоннами, доказывает, что капитель с волютами употреблялась еще в поздневавилонском искусстве (ср. рис. 164) и что, следовательно, на нее нельзя смотреть как на ассирийское изобретение. Но особенно невероятным представляется предположение, что она произошла от египетской пальмовидной капители. Однако в ассирийской архитектуре встречаются типы колонн, принадлежащие только ей одной. Сюда относится хорсабадская колонна с капителью в виде приплюснутого шара (рис. 168), украшенного двумя венцами из дуг, охватывающими один другой; сюда же следует отнести найденное в Куюнджике подножие колонны, имеющее подобную же форму и подобное украшение; это подножие покоится на спине крылатого быка с человеческой головой. Сюда относится также обломок базы из Нимруда в виде крылатого сфинкса полуегипетского характера (рис. 169). Что подножиям колонн действительно придавали вид этих фантастических животных, как то делалось потом в средневековой Европе, видно из одного рельефа, найденного в Куюнджике, Британский музей. Подножия колонн здания на этом рельефе, имеющие вид круглых подушек, покоятся на спинах животных, которые стоят парами, одно против другого. Нижний край этой подставки орнаментирован ступенчатыми зубцами. Не подлежит сомнению, что все эти формы, за исключением сфинкса, – месопотамского происхождения.
Рис. 169. Ассирийский крылатый сфинкс. Подставка под колонной. По Лайярду (I, табл. 93)
Рис. 170. Ассирийские крылатые кони и священное дерево. По Лайярду (I, табл. 50)
Рис. 168. Капитель в виде приплюснутого шара из Хорсабада. По Перро и Шипье
Итак, по части главных ассирийских орнаментальных мотивов мы уже ознакомились с двух- или трехступенчатыми зубцами, появляющимися также в виде рядов, и с венцами циркульных дуг, которые имели самое разнообразное применение. Из геометрических фигур встречается, кроме того, простая стена перекрещивающихся линий, а для оживления длинных полос особенно часто употреблялся мотив стропил Л. Из мотивов чисто технического происхождения коренной принадлежностью Месопотамии были лента и плетение, которые мы уже видели в Древней Халдее (ср. рис. 154). Кроме того, в месопотамской орнаментике важную роль играли сказочные крылатые животные, иногда крылатые быки и кони (рис. 170) или животные в естественном виде, изображенные то стоящими одно против другого, как в гербах, то борющимися между собой, то образующими собой длинные ряды. Не то было с мотивами растительного царства. К представлению о розетке и здесь относят орнаментные фигуры различного происхождения. Зубчатые звезды и концентрические круги, иногда окаймленные небольшими круглыми возвышеньицами, какие мы уже видели в Древней Халдее, принадлежат к числу астрономических мотивов. Наиболее употребительная в Ассирии розетка, заимствованная из растительного царства, имеет вид звездчатого цветка, если смотреть на него сверху, вроде обыкновенного подсолнечника или маргаритки. На одном ассирийском рельефе позднейшего времени мы видим отчетливое ее изображение в виде цветка на длинном стебле (ср. рис. 189). Древнейшая из сохранившихся месопотамских розеток помещена на тиаре царя Мардук-надин-ахи, или Навуходоносора I, XII столетия до н. э. (ср. рис. 164). Во всяком случае, в орнаментации египетских потолков она встречается еще раньше. Но образец для этого мотива настолько под руками у всех и каждого, что подобный орнамент мог быть изобретен как в Египте, так и в Месопотамии вполне самостоятельно. Не нужно, однако, смешивать розетку с четырехлиственником и трехлиственником. Наряду с розеткой, заимствованной из царства растений, в ассирийской орнаментике видную роль играет пальметта, опахало из расправленных листьев. Как правило, ее отдельные листья украшены полосками и выходят все вместе из подобия цветочной чашечки с небольшими завитками, напоминающей собой подобные же египетские фигуры. Книзу стебли продолжаются в виде дугообразно извитых лент, на которых расположен ряд отдельных пальметт. Иногда в таких рядах пальметта чередуется с фигурами животных, иногда же фигура животного изображается на ее верхушке. Делафуа и Гудиейр едва ли правы, сводя эту ассирийскую пальметту, на которую, правда, впоследствии персы смотрели как на силуэт настоящей пальмовой верхушки, к так называемой египетской пальметте; это тем менее вероятно, что в древнехалдейском периоде ее присутствие нигде не удалось открыть. Во всяком случае, ассирийцы создали в качестве излюбленного орнамента, наряду с розеткой, собственную пальметту с весьма характерным схематическим очертанием. Среди розеток и пальметт, равно как и независимо от них, иногда встречается фигура на длинном стебле, кверху заостренная, подобная почке или плоду, которую – может быть, совершенно ошибочно – называли кедровой шишкой, и другая фигура, круглая, посредине со светлыми полосками на темном фоне, увенчанная наверху тремя листочками, имеющая вид тоже почки или плода и называемая, вероятно также неправильно, гранатовым яблоком (рис. 171). Очевидно, обе эти фигуры не имеют ничего общего с египетским лотосом, хотя, как мы увидим ниже, этот последний в свое время действительно входил в ассирийскую орнаментику и без всякой переделки, в виде цветка или цветочных бутонов, попеременно применялся в рядах орнаментов. Нельзя отрицать, что собственно ассирийская растительная орнаментика схожа с египетской; но уже манера сопоставления вышеозначенных форм с лентообразными и плетениевидными мотивами, с одной стороны, и с фигурами из царства животных – с другой, имеет вполне ассирийский характер, и никто, в отношении общего впечатления, не смешает ассирийского орнамента с египетским. Из числа символических орнаментов Ассирии крылатый солнечный диск действительно заимствован из Египта. Но изображение на этом диске божества в образе бородатого мужа – уже опять чисто месопотамского происхождения (рис. 172). Равным образом азиатского происхождения священное дерево – роскошное соединение вышеозначенных пальметт и так называемых кедровых мотивов, комбинированных различным образом (см. рис. 170 и 172). Смысл этого изображения не выяснен; но так как с обеих его сторон были, в геральдическом стиле, помещены крылатые духи, фигуры людей или зверей, то, по всей вероятности, оно имело какое-либо религиозное значение.
Рис. 171. Ассирийский орнамент с плетением и гранатовыми яблоками. По Перро и Шипье
Вышивки, которыми украшены одежды, изображенные на каменных рельефах, дают нам весьма наглядное общее представление обо всех этих мотивах и в то же время – ясное понятие о столь же высоком состоянии вышивания в ассирийских художественно-ремесленных производствах, как и в Вавилоне в XII в. до н. э. Напротив того, художественное гончарное производство, по-видимому, никогда не играло важной роли в Ассирии. Орнаментика ассирийских сосудов – простая геометрическая; однако Лайярд описал осколки глиняного сосуда, составляющего исключение из этого правила и украшенного чисто ассирийскими орнаментами, а именно полосами плетения, пальметтами, гранатовыми яблоками.
Рис. 172. Крылатый диск солнца с ассирийским божеством. По Лайярду (I, табл. 163)
Роскошные сосуды изготовлялись преимущественно из бронзы и украшались гравировкой, позолотой, золотой и серебряной выкладкой в виде концентрических кругов, и нигде так ясно, как на сосудах этого рода, не наблюдается борьба азиатских мотивов с проникшими потом из Египта.
Переработка ассирийцами различных чужих элементов их орнаментики в одно ясное сильное целое, очевидно, была художественным делом самого этого народа. Но до величайшего совершенства он дошел в общем декоративном убранстве ворот, коридоров, дворов и залов своих царских дворцов, где не оставалось ничего не украшенным и, по всей вероятности, не иллюминированным. Деревянные ворота и двери часто были обиты чеканной бронзой. Вообще, по заявлениям древних авторов, обшивка металлическими листами играла большую роль в украшении стен, нежели об этом можно судить по сохранившимся памятникам. Стены, сложенные из глины и просушенного на солнце кирпича, несмотря на свою толщину, были недостаточно прочны для того, чтобы выносить на верхних своих частях облицовку металлом или камнем. Облицовка состояла здесь или из глазурованного кирпича, из которого составлялись картины и большие надписи, или из штукатурки, расписанной красками. Только внизу, у самого пола, можно было отделывать стены плитами известняка или алебастра с раскрашенными рельефными изображениями, составляющими гордость ассирийского искусства. Близость гор давала ассирийцам, в прямую противоположность с вавилонянами, возможность добывать плиты. Этот материал обусловливал развитие местного искусства. Большие каменные рельефные изваяния исторического содержания имели у ассирийцев чисто национальный характер, и по ним-то, главным образом, мы можем проследить ход развития ассирийского искусства.
Письменные источники дают лишь скудное понятие о произведениях ассирийского искусства за время между 1300 и 900 гг. до н. э.; сохранившиеся же от этой эпохи памятники ассирийского искусства и еще более скудное. Мы знаем, что еще Салманасар I (около 1300 г. до н. э.), наряду с Ашшуром и Ниневией, основал третью столицу царства, Калах, и соорудил террасообразный храм; по всей вероятности, остатки этого храма дошли до нас в развалинах кирпичных, обложенных каменными плитами стен, которые были открыты Лайярдом в Нимруде. Нам известно также, что Тиглатпаласар I, "первый из великих ассирийских завоевателей", как называет его Эд. Мейер, воздвиг в древнем Ашшуре несколько храмов и восстановил другие (около 1100 г. до н. э.); плохой рисунок Роулинсона знакомит нас с его изображением на выветрившемся рельефе, сохранившемся рядом с надписью на скале близ истоков Тигра. Мы знаем, что сын Тиглатпаласара, Ашшурбелкала, соорудил себе дворец в Ниневии; имя его надписано на торсе дурно выполненной в отношении пропорциональности нагой женской фигуры, Британский музей, которая, как таковая, является совершенно исключительной среди ассирийских изваяний. Наконец, нам сообщают, что в IX столетии до н. э. ассирийские наместники управляли нижней долиной Хаборы; и действительно, Лайярд нашел здесь, в Арбане, остатки древнего ассирийского дворца, четырех крылатых быков с человеческими головами, льва с открытой пастью и профильное изображение воина слегка выпуклой работы. В этих произведениях особенно характерно тщательное, мелочное исполнение волос, заплетенных в небольшие одинаковые пучки.
История ассирийского искусства, собственно говоря, начинается лишь с царствования великого Ашшурнасирпала (884-860 до н. э.), перенесшего свою резиденцию из Ашшура в Калах и воздвигшего там, к югу от террасообразного храма, гигантский дворец, известный под названием северо-западного дворца Нимруда. К его длинной, узкой главной зале вели двое входных ворот с севера и по воротам с юга и запада. На страже каждых ворот северной, длинной стороны стояло по паре изваяний крылатых львов с головой человека и – что необычно – с человеческими руками; у дверей западной, узкой стороны стояли крылатые львы с человеческой головой, но без рук, у южных дверей – крылатые быки с человеческой головой, какие впоследствии встречаются чаще всего. Идея, лежавшая в основе этих образов, достаточно ясна. Неземной дух-покровитель олицетворяется в образе, составленном из частей тела наиболее мощных земных существ. Голове мыслящего человека придаются крылья орла, хребет быка, лапы льва. Характерен крылатый лев с головой человека из дворца Ашшурнасирпала, Британский музей (рис. 173). Прежде всего во всех этих стражах ассирийских врат поражает оригинальность изображения пяти лап вместо четырех: вследствие того что эти изваяния помещались на углах, образуемых стенами, их исполняли так, что спереди они представлялись как бы настоящими круглыми скульптурами; но для того, чтобы сохранить целиком вид всей фигуры при взгляде на нее сбоку, та передняя нога, которая примыкает к стене, удваивалась. В извинение этого отступления от натуры надо сказать, что пятой ноги не было видно при взгляде на фигуру ни спереди, ни сбоку. Головной убор этого крылатого льва состоит из тиары с изображенными на ней рогами, которая вообще присуща ассирийским богам; выступающие вперед, сросшиеся над переносицей брови и большие широко раскрытые глаза унаследованы ассирийскими статуями от древнехалдейских; овал лица, мясистые щеки, горбатый нос – отличительные черты семитского типа, повторяющиеся во всем ассирийском искусстве без особенной индивидуализации. Длинные, густые волосы на голове и бороде образуют множество небольших, правильных спиральных локонов – прием изображения волос, продолжавшийся и в ваянии Греции в древнейшую ее эпоху. Львиные лапы этого фантастического существа представляют преувеличенное обозначение мышц и сухожилий, особенно ясно выразившееся именно в этом древнем произведении калах-нимрудского искусства.
Рис. 173. Крылатый лев из дворца Ашшурнасирпала. С фотографии Манселля
Собственно рельефы залов северо-западного дворца знакомят нас со всем содержанием и языком форм ассирийского искусства. Колоссальные духи в образе крылатых людей стоят охранителями царя, которому прислуживают евнухи. Орлиноголовые боги поклоняются священному дереву (рис. 174). Длинные стороны главного зала были украшены двумя расположенными один над другим и разделенными полосой с надписью рядами изображений жизни и деяний монарха. Мы видим его здесь едущим на охотничьей колеснице и убивающим диких зверей (рис. 175), совершающим возлияние в честь богов по случаю удачной охоты на льва или дикого быка, проводящим жизнь в тесном общении с крылатыми небожителями, которые изображены с головным убором, украшенным рогами, или с орлиными головами. Видим, как царь, стоя на своей боевой колеснице, сражается под валами неприятельской крепости, как переправляется через реку в сопровождении воинов, плывущих при помощи надутых пузырей, как победоносно возвращается домой, встречаемый музыкантами.
Рис. 174. Священное дерево и божества с орлиной головой. Ассирийский рельеф. С фотографии Манселля
Большинство этих рельефов находится в Британском музее, но некоторые из них попали также в Берлинский и Дрезденский музеи. Все они носят на себе своеобразный отпечаток древнейшего ассирийского рельефного стиля, представляют превосходную, слегка выпуклую работу резцом и изображают все фигуры постоянно в профильном положении. Боги, а также цари и даже сановники монархии представлены всегда с длинными волосами и окладистыми бородами; слуги же, рабочие, простые люди и в особенности евнухи носят длинные волосы, но лишены бороды. Женские фигуры являются лишь плачущими на крепостных стенах или в шествиях пленников. Глаза передаются еще без малейшего намека на пластику глазного яблока. Длинные одежды без складок, иногда обшитые тяжелой бахромой с кистями, а иногда и богато вышитые, покрывают большую часть всего сильного, широкоплечего, хотя и несколько коренастого тела. Там, где выступает обнаженное тело, как, например, на руках и ногах, наблюдается анатомически точная выделка мышц и сухожилий, на которую мы уже указывали. Совершенно нагие мужские фигуры встречаются разве лишь в изображениях убитых и ограбленных врагов или преследуемого неприятеля, переплывающего реку. В данных случаях чувство формы во всей совокупности организации нагого тела оказывается малоразвитым. В этом отношении египтяне стояли выше ассирийцев. Тем не менее, некоторые частности, как, например, число ребер, часто правильно наблюденное, положение рук и постановка ног показывают, что глаза ассирийских художников с самого начала видели лучше, чем египетские. В египетском рельефе было принято за правило при профильной постановке обеих ног изображать и ту, и другую с внутренней стороны, то есть со стороны большого пальца; в ассирийском же рельефе нога, ближайшая к зрителю, всегда изображалась правильно; точно так же рука, находящаяся ближе к зрителю, воспроизводилась вместе со своим плечом в приблизительно правильном профильном положении, и иногда, хотя и не всегда, другая рука, удаленная от зрителя, в противоположность египетскому методу, совершенно правильно заслонялась грудной клеткой и на рисунке оставались видимы только ее кисть и предплечье. Столь оживленные позы и движения, какие сообщало человеческому телу египетское искусство, никогда не удавались ассирийскому. Зато изображения диких зверей в охотничьих сценах и лошадей в сценах сражений далеко превосходят египетские в отношении передачи как форм, так и движения. В изображениях, находящихся в северо-западном дворце, задний план, равно как и околичности, намечен лишь настолько, насколько безусловно необходимо для того, чтобы сюжет был понятен. Однако река, представленная в виде совершенно правильных волнистых линий и оживленная фигурами рыб и закрученными спиралями, гораздо более натуральна, чем реки в египетских картинах. Горы обозначены сетью чешуек, что составляет также характерный прием ассирийского искусства; нет недостатка в деревьях, хотя они изображаются схематически, без различия отдельных пород, и очень аляповато. Нечего и говорить, что какой бы то ни было намек на перспективу отсутствует. Следующие одно за другим возвышения рисуются, как на плане. Все, что стоит или растет вертикально, изображается, ради ясности, как бы отражающимся в зеркале, в лежачем положении, иногда верхом вниз. Вообще распределение фигур в пространстве, лишь только прерывается спокойное, простое чередование предметов, делается произвольным и беспорядочным. Но при этом отдельные эпизоды воспроизводятся смело и с жизненной правдой. Таким образом, здесь чувствуется недостаток не верности взгляда, но умения передавать наблюденное.
Рис. 175. Охота на льва. Нимрудский рельеф. С фотографии Манселля
Рис. 176. Статуя Ашшурнасирпала. С фотографии Манселля
Замечательна широкая полоса клинообразных надписей, тянущаяся вдоль всех четырех стен, всегда на равной высоте, по всем залам дворца Ашшурнасирпала, в том числе по залам, украшенным изображениями больших фигур, где она проходит через эти последние поперек их туловища. Поясняя содержание изображений рассказами о деяниях царя, она не составляет органически целого с отдельными пересекаемыми ею изображениями, но тем не менее до известной степени увеличивает их декоративную связь между собой.
О состоянии круглой пластики во времена Ашшурнасирпала дает нам понятие его изваяние величиной меньше натуры, Британский музей (рис. 176). Само собой разумеется, что оно, как и все ассирийские статуи, имеет строго фронтальное положение. Голова с длинной бородой ничем не покрыта. Туловище, рассчитанное на то, чтобы смотреть на него только спереди, очень сплюснуто. В руках, кистях рук и ногах – полное отсутствие реалистичности; одежда, окутывающая все тело, разделена на части нашитой на нее бахромой. Украшенная рельефами стела Ашшурнасирпала в Британском музее лучше, чем это изваяние, выдерживает сравнение с несколько более древними такими же вавилонскими стелами. Эти каменные, сверху закругленные памятники с изображением царя, символическими околичностями и пространными надписями составляют особенность всего месопотамского искусства; им любили давать форму невысоких, притупленных вверху обелисков, четыре грани которых украшались рельефными изображениями охотничьих и боевых подвигов царя, расположенными одно над другим. Обелиск Ашшурнасирпала в Британском музее упоминается реже, чем обелиск его сына, только потому, что от него сохранились одни обломки. Существование уже в то время связи между египетским и ассирийским искусствами доказывают вырезанные в египетском вкусе из слоновой кости головки, хранящиеся в Британском музее, если только они происходят не из более поздних построек; найдены они в северо-западном дворце Нимруда и, по-видимому, были вставлены в деревянные двери или дощатые панно (рис. 177).
Рис. 177. Резьба по слоновой кости. Фрагмент. С фотографии Манселля
Живопись по штукатурке в верхних частях стен дворца Ашшурнасирпала до некоторой степени побледнела и стерлась после того, как была открыта. По словам Лайярда, то были изящные цветные орнаменты ярких красных и голубых тонов. Фигуры найдены в живописи только на глазурованных кирпичах: сохранились обломки больших картин на кирпиче с такими маленькими фигурами, что каждый кирпич заключает в себе целые фигуры. На единственном обломке, который был найден несомненно в нимрудском северо-западном дворце, все фигуры без голов (рис. 178, а). В противоположность позднейшим изображениям этого рода, мы видим здесь на желтом фоне обведенные черным контуром зеленые драпировки с белой обшивкой. Орнаментным мотивам на кирпиче соответствуют украшения, вышитые на одеждах царя и его вельмож, особенно роскошные и разнообразные на рельефных плитах, сохранившихся в северо-западном дворце. Вся древнейшая орнаментика ассириян с ее мотивами, взятыми из животного и растительного царств, с ее расположением рядами и в геральдическом стиле, здесь перед нами в самом изящном исполнении. Однако египетский цветок лотоса еще отсутствует; бронзовые сосуды с египетскими мотивами орнаментации, найденные в этом дворце, попали в него, очевидно, лишь впоследствии.
Сын Ашшурнасирпала, Салманасар II (860-824 гг. до н. э.), построил центральный дворец в Нимруде (Калахе) и расширил начатые еще при его отце постройки в Имгурбеле (Балавате). Важнейшие из пластических произведений, относящихся ко времени царствования этого государя, находятся в Британском музее; это, во-первых, так называемый черный обелиск, на всех четырех гранях которого помещены в пять рядов, один за другим, изображения царей, данников ассирийского государя, с их слонами и верблюдами (рис. 179); во-вторых, найденная в Ашшуре (Калех-Шергате) базальтовая, утратившая голову фигура царя в сидячем положении и, в-третьих, большая часть знаменитых бронзовых пластин, служивших облицовкой ворот в Балавате, с изображениями походов царя. Стиль этих произведений отличается уже более мягкими, более расплывчатыми контурами и несколько более отчетливым задним планом в сравнении с тем, какой мы находим в северо-западном дворце. Сидящая фигура царя производит впечатление слабого подражания такой же царской статуи из Телло (ср. рис. 156).
Рис. 178. Ассирийские изразцы с цветными изображениями. По Лайарду
Рис. 179. Черный обелиск Салманасара II. С фотографии Манселля
В центральном дворце Салманасара II в Нимруде найден также один из совершеннейших образцов ассирийской живописи на глазурованном кирпиче (см. рис. 178, в). На одном и том же кирпиче изображены в полный рост царь и сопровождающие его евнух и воин; царь держит в правой руке чашу, из которой делает возлияние в честь находящейся перед ним фигуры, сохранившейся лишь наполовину. Контуры – еще черные, но уже едва заметны. Выцветшие краски костюмов – белая, темно-желтая и серовато-желтая; фон – светло-желтый. Фигуры – более стройны, чем на современных этой живописи рельефах; в руках и ногах преувеличенной мускулатуры незаметно. Из юго-восточных развалин Калаха, относящихся, вероятно, ко времени царствования Рамманирариса III (811-732), добыты многочисленные фрагменты живописи на кирпиче, хранящиеся в Британском музее; от более древних памятников этого рода они отличаются белым цветом контуров (см. рис. 178, б).
Этими контурами здесь очерчены, без обозначения мускулатуры, поразительно стройные светло-желтые и светло-синие фигуры на зеленоватом или желтоватом фоне.
Дворец Тиглатпаласара III Узурпатора (745-727), в Калахе, был разрушен его преемником. Впоследствии Асархаддон употребил рельефы из залов этого дворца для своей новой постройки. К их числу, по всей вероятности, принадлежат изображения, изданные Лайярдом (Mon. I, с. 63-67), – шествие со взятыми в добычу изваяниями богов, которых несут на плечах два человека.
Рис. 180. Реставрация Хорсабадского храма. По Тома
При Саргонидах произошел новый расцвет ассирийского искусства. Тотчас же по вступлении своем на вавилонский престол основатель этой династии, Саргон (722-705), начавший с 709 г. до н. э. именоваться Саргоном II, соорудил себе в местности нынешнего Хорсабада, на склоне горы, крепость Дур-Шаррукин, на западной стене которой возвышался его гордый, исполинский, увенчанный зубцами дворец. Перро называл Дур-Шаррукин "Версалем этого ассирийского Людовика XIV". На дворцовой террасе, к юго-западу от царского замка, рядом с ним возвышался храм, устроенный в виде уступов; вероятно, он состоял первоначально из семи этажей, последовательно уменьшавшихся с приближением кверху; из них сохранилось лишь четыре. Наружная поверхность стен этих массивных этажей была разбита на части углубленными полями уступчатого профиля и покрыта штукатуркой, окрашенной на первом этаже в белый, на втором в черный, на третьем в красный, на четвертом снова в белый цвет (быть может, первоначально синий). Основываясь на показаниях Геродота о цвете различных поясов на стенах Экбатаны, Тома полагает, что пятый этаж был окрашен в оранжево-красный, шестой – в серебристо-серый, и, наконец, верхний этаж был позолочен (рис. 180). Царский дворец, к которому примыкало это здание, исследован на таком большом пространстве и столь тщательно, как ни одно из других ассирийских сооружений. Внутрь дворца вели двое массивных ворот – одни на северо-восточной стороне, другие – на юго-восточной. Три пролета в каждых из этих ворот были украшены парами крылатых быков с человеческими головами. По обеим сторонам юго-восточных ворот между крылатыми быками было помещено по огромной человеческой фигуре, одной рукой прижимающей к себе поднятого с земли льва и держащей в другой руке серповидный меч; вероятно, то были изображения вышеупомянутого вавилонского национального героя Исдубара или его друга Эабани, которые мы уже видели на древнехалдейских цилиндрах (ср. рис. 151, д, и рис. 181). Пролеты ворот были сводчатые и облицованы глазурованным кирпичом. Пластическими произведениями были наиболее богаты дворы и залы мужского отделения. Глазурованным же кирпичом всего роскошнее украшены были покои женского отделения, отчасти крытые коробовыми сводами (рис. 182). Например, стены одного из дверных пролетов в этом отделении украшены рядом стоящих одна возле другой полуколонн и под ним – цоколем, обложенным глазурованными кирпичами, из которых составлена картина, изображающая львов, быков и других животных, идущих мимо яблони. Фон картины – светло-синий. Все животные и предметы на ней – желтого цвета, с примесью белой краски. Листья на яблоне – ярко-зеленого цвета.
Рис. 181. Скульптурное украшение юго-восточных ворот Хорсабадского дворца. С фотографии Жиродона
Пластические произведения из Хорсабада находятся по большей части в парижском Лувре. Бронзовый лев из Дур-Шаррукина естествен не менее каменного льва из Кальха, находящегося в Британском музее.
Во дворце Саргона найдено 26 пар алебастровых крылатых быков с человеческой головой. Любопытны, кроме того, горельефные изображения Исдубара, особенность которых состоит в том, что тело в них, так же как на древнехалдейских цилиндрах, обращено к зрителю передом, а ноги представлены профильно, обе в одну сторону. Подобная неумелость воспроизведения видна и в некоторых крылатых духах из Хорсабада, изображенных en face. Многочисленные алебастровыве плиты с рельефами из дворца Саргона, поставленные в один ряд, протянулись бы на два километра. Содержание их – то же, что и подобных рельефов из Калаха. И здесь мы находим хронику жизни царя, представленную в фигурах, например, постройку им дворца. В стиле уже заметна перемена: рельеф становится выпуклее, полоса надписей, проходящая в Калахе через все фигуры, уже отсутствует; любовь к изображению частностей увеличивается; стремление к тщательной разработке, постоянно повторяющееся в истории искусства через известные промежутки времени, становится заметным. В фигурах это сказывается в обозначении зрачков, которое теперь вполне обычно (рис. 183). На заднем плане, который занимает значительное пространство, по сравнению с тем, что было раньше, отдельные детали исполняются с большей наблюдательностью и отчетливостью. Уже можно распознавать породы деревьев, а море отличать по его раковинам и другим обитающим в нем животным, равно как и по беспорядочно рассеянным на его поверхности спиралям, то есть волнам от реки, при изображении которой спирали всегда располагаются в направлении ее течения. На ветках деревьев появляются птицы, через дорогу перебегают куропатки. Но при всем этом выполнение произведения слабее, чем в более древних художественных памятниках Калаха. Вообще рельефы дворца Аттпттурнасирпала, хранящиеся в Британском музее, при всей жесткости своего исполнения, производят впечатление большей строгости, свежести и содержательности, чем рельефы дворца Саргона, находящиеся в Лувре. Во дворце Саргона найдена также единственная в ассирийском искусстве шарообразная капитель (см. рис. 168). Дальнейшее развитие скульптурной орнаментики представляет нам также известный каменный дверной порог, хранящийся в Лувре (рис. 184). Наружную рамку этого порога составляет ряд чисто египетских цветков лотоса, чередующихся с его бутонами и соединяющихся с ними при помощи изогнутых стеблей. Внутреннюю рамку образует полоса, украшенная розетками. Эти две рамки окружают главное поле орнамента, занятое приставленными друг к другу шестилиственниками.
Рис. 182. Стенная отделка в женском отделении Хорсабадского дворца. По Тома
Рис. 183. Голова ассирийского царя. Рельеф из Хорсабада. С фотографии Жиродона
Рис. 185. Бронзовый сосуд из Нимруда. По Лайярду (II, табл. 60)
Рис. 184. Каменный дверной порог из Хорсабада. По Перро и Шипье
Здесь так же, как и на бронзовых сосудах из Нимруда (рис. 185), относящихся, вероятно, к эпохе Саргона и представляющих собой, несмотря на полуегипетскую орнаментику, наверное, произведения Азии, видно, как ассирийские художники совокупляли и переделывали по-своему отдельные египетские мотивы. И в военное, и в мирное время египтяне все более и более оказывали влияние на ассирийцев.
Рис. 186. Синахериб, конь и слуга. Рельеф из Ниневийского дворца. С фотографии из Берлинского музея
Сын Саргона, Синахериб (705-681 г. до н. э.), разрушитель Вавилона и завоеватель Египта, снова перенес свою резиденцию в Ниневию. Он укрепил этот город стенами, тянувшимися несколько миль, а в его центре соорудил для себя два дворца, один юго-западный, на месте нынешнего Куюнджика, и другой – в южной части города, в Неби-Юнусе. От времен Синахериба остались также рельефы на скалах в долинах Бавиана и Мальтаи. И здесь, и там изображены великие национальные ассирийские боги в обычных одеяниях, с высокими тиарами на голове; эти фигуры – выше человеческого роста, стоят на животных, и цари поклоняются им. И здесь, и там соблюден строгий древний стиль рельефа, несмотря на удлиненность пропорций. Никакие изображения заднего плана не нарушают спокойного однообразия плоскости, на которой выступают фигуры. Иное дело – большие скульптурные хроники из куюнджикского дворца Синахериба. Большие, связанные один с другим ландшафты, каких никогда не бывало в египетском искусстве, тянутся по множеству плит; в том же дворце найдены и другие достопримечательности ассирийской архитектуры, каковы, например, четыре шарообразных подножия колонн (ср. рис. 168) и каменный дверной брус с пластическими фигурами животных. Алебастровые доски со скульптурной хроникой из этого дворца находятся в Берлинском и Британском музеях. Некоторые из берлинских досок, как, например, с изображением царя и его коня (рис. 186), представляют еще старинное несложное расположение фигур, но на лондонских досках уже видимо является новый стиль. В берлинском рельефе заметно, что фигуры становятся более стройными, мускулатура рук и ног менее утрированной. Но главное нововведение заключается в том, что изображений без ландшафта на заднем плане почти не встречается. Этот фон, изобилующий разнообразно индивидуализированными деревьями, зданиями и водяными вместилищами, сливается в связные ландшафты, и масса мотивов, рисующих нравы и обычаи, не имеющих ничего общего с главным сюжетом, врывается и оживляет однообразные истории. Фигуры, вообще уменьшившиеся в размере, помещаются среди ландшафта в несколько рядов, одни над другими, а иногда разбрасываются в нем без всякого порядка. Но заднему плану, который имеет вид географической карты и на котором горы, независимо от их верхних очертаний, все еще изображаются условно, в виде сети чешуек, а реки по-прежнему в виде правильных волнообразных спиралей, несмотря на всю его связность, все еще недостает какой бы то ни было перспективы, и вследствие присоединения к пластике столь многих элементов живописи эти изображения вообще лишены строгого пластически декоративного характера.
Рис. 187. Дверной порог из дворца Синахериба в Ниневии. По Лайярду (II, табл. 56)
Дверной порог из дворца Синахериба (по Лайярду, отнюдь не из дворца Ашшурбанипала) в Британском музее (рис. 187) доказывает, что, кроме того, орнаментные формы, не нарушая древнего стиля, становились все более и более роскошными. Бордюр из египетских цветов и бутонов лотоса совершенно походит на такой же узор порога из Хорсабада, хранящегося в Лувре; но на внутреннем поле рисунка является новое великолепное применение мотива лотоса. Мы видим здесь, что египетское наследие развивается далее, чтобы перейти в этом виде к позднейшим народам. Если, собственно говоря, всю технику искусства при Синахерибе нельзя считать прогрессом в художественном отношении, то нельзя и не признать, что именно благодаря своей борьбе с новыми тенденциями она имеет весьма важное значение для истории развития ассирийского искусства.
Преемник Синахериба Асархаддон (681-668), завоеватель Египта, известен в истории искусства лишь как соорудитель громадного югозападного дворца в Кальхе, оставшегося, однако, навсегда недостроенным. При сыне этого государя, Ашшурбанипале (668-626), известном у греков под именем Сарданапала, ассирийское искусство снова и своеобразно расцвело в последний раз. Правда, искусство времен Ашшурбанипала, в отношении силы и величественности, нельзя равнять с искусством времен Ашшурнасирпала, но все-таки оно было светлее, свободнее и чище, чем при Синахерибе. Ассирийская чуткость к природе, великолепно выказавшаяся в изображениях животных, возвышается теперь до настоящей правдивости, а техника достигает величайшей мягкости и свободы, какие только могли быть доступны той общей ступени развития, на которой стояло ассирийское искусство. Ашшурбанипал построил для себя северо-западный дворец, великолепные алебастровые рельефы которого принадлежат к лучшим украшениям Британского музея; развалины этого дворца были открыты в Куюнджике главным образом Гормуздом Рассамом и Георгом Смитом. Сцены битв из войны Ашшурбанипала с эламитами в своей общности, конечно, грешат такой же разбросанностью и перепутанностью композиции, как и подобные изображения времен Синахериба; но их подробности нередко отличаются вкусом и большой жизненностью, и иногда, как бы с преднамеренной реакцией против преобладания ландшафтного фона, последний совершенно опускается в охотничьих сценах (рис. 188), но зато в других случаях мирная, замкнутая в себе жизнь изображается с таким изяществом и любовью, что иногда кажется, будто именно она стала главным сюжетом художественного воспроизведения (рис. 189). Здесь виноградные лозы вьются вокруг елей и кипарисов, там кисти винограда свешиваются со всех сторон в естественном изобилии или вытянулись на длинных стеблях подсолнечники рядом с деревом, под которым лежит ручная львица. К числу наиболее известных изображений такого рода относятся: Ашшурбанипал на охоте, в богатом одеянии, верхом; в его руке, натягивающей лук, столько непринужденного движения, сколько не встречалось раньше в подобных изображениях; дикие лошади и дикие козы, обращающиеся в бегство, переданы чрезвычайно живо, хотя и без ландшафтного фона; раненый лев сидит на земле, открыв свою пасть, из которой льется обильный поток крови (рис. 190); львица, пронзенная тремя копьями, рычит от боли и уже не в состоянии волочить свои парализованные задние ноги; царь пирует в виноградной беседке (рис. 191), покоясь на ложе подле царицы, сидящей на троне, и оба подносят к губам своим чаши, тогда как перед беседкой, в роще пальм и кипарисов, играют музыканты. Однако усматривать в этих произведениях, подобно Брунну, греческое влияние было бы слишком смело.
Рис. 188. Сцена охоты. Куюнджикский рельеф. С фотографии Манселля
Рис. 189. Сад с дикими зверями. Куюнджикский рельеф. С фотографии Манселля
Рис. 190. Лев, изрыгающий кровь. Куюнджикский рельеф. С фотографии Манселля
Прошло еще не одно столетие, прежде чем какой-либо более молодой народ мог достигнуть в монументальном искусстве той степени свободы и жизненной правды, какая была присуща ассирийцам в этом роде изображений. Опперт называл ассирийцев "голландцами древности". В отношении развития пейзажа и воспроизведения животных в свойственных им формах и движениях, в отношении вообще чувства действительности, с которым ассирийцы изображали, насколько доставало у них умения, исторические сюжеты, они заслуживают это название. Но не следует забывать и идеализации, заметной в некоторых больших изображениях церемоний, представляющих царя в его сношениях с богами и добрыми гениями. Способ изображать последних в виде крылатых людей представляет в Египте вовсе не его коренную, местную, а месопотамскую особенность, хотя перенесенную туда лишь в позднее время по отношению к определенным божествам и сохранившуюся до настоящего времени в христианском олицетворении ангелов. Конечно, ассирийцы, кроме этого приема изображать неземное, постоянно прибегали для того к изображениям менее идеального характера, к изображениям двупородных существ, полулюдей-полуживотных; но некоторые из таких фантастических фигур имеют у них более органическое строение, нежели у египтян. До просветления же человеческого тела божественной идеальностью и до выражения в человеческих лицах душевных движений ассирийцы так же были далеки, как и египтяне; в индивидуализации тела и особенно головы они даже значительно отстали от египтян: портретное искусство было им чуждо. По сравнению с египтянами они сделали соответственный эпохе шаг вперед лишь в частностях, но вообще отнюдь не продвинулись на высшую ступень художественного развития.
Рис. 191. Царь, пирующий в виноградной беседке. Куюнджикский рельеф. С фотографии Манселля
При преемниках Ашшурбанипала ассирийскому величию наступил вскоре конец. Вавилонский царь Набополасар соединился с царем Мидии, Киаксаром, для борьбы с их общим наследственным врагом. В 660 г. до н. э. они достигли своей цели. "Все четыре резиденции, – говорит Эд. Мейер, – Ниневия, Дур-Шаррукин, Кальха и Ашшур погибли в пламени, и их сровняли с землей, после чего они уже никогда не возвращались к жизни… Ни один народ не подвергался такому совершенному истреблению, как ассирийцы".
3. Нововавилонское искусство
Вавилон был еще почти весь в развалинах, когда Набополасар пробудил Древнее евфратское царство к новой жизни. Немногие из остальных городов государства пострадали меньше столицы. Что не было уничтожено рукой неприятеля, то погибло от нерадения и бедности. Набополасар начал лично руководить восстановлением Вавилона. Он заложил громадные укрепления столицы и приступил к постройке в ней нового царского дворца. Однако только преемнику этого государя, Навуходоносору II (604-562), суждено было наделить Нововавилонское царство собственным искусством. Не в одном только Вавилоне, но и во всех городах страны, в Уре, Ларсе, Уруке, Ниппуре, Сиппаре, он восстанавливал разрушенные храмы, возобновлял крепостные и канализационные сооружения, украшал дворцы с прежней роскошью. Навуходоносор считал настоящим своим делом не военные походы, а постройки. Только ими он и гордился в своих надписях. И точно так же, как Навуходоносор в начале Нововавилонского царства, Набонид (555-539) в конце его, перед тем как оно было в 538 г. покорено великим персидским царем Киром, пытался возвратить Вавилону жизнь и блеск минувших тысячелетий. Нововавилонское искусство расцвело не больше как на полстолетия, в течение которого оно едва ли могло развиться далее, поэтому оставленные им следы не особенно многочисленны; произведенные в Вавилоне раскопки французских и английских археологов не привели к результатам, богатым новыми данными; более успешны раскопки, производимые ныне на месте древнего мирового города немецким обществом ориенталистов. К счастью, понимание сохранившихся здесь обломков облегчается и пополняется письменными источниками.
Громадный четырехугольник, занятый Вавилоном, по Геродоту, имел в каждой своей стороне по 120 стадий (22 километра).
Снаружи он был со всех сторон окружен широким рвом с водой. За рвом следовала гигантская стена, сооруженная из обожженного кирпича, асфальта и слоев тростника; ширину ее Геродот определяет в 50, а вышину в 200 локтей. Позднейшие авторы дают менее крупные цифры; во всяком случае, в измерение высоты стены входили и башни, которых Ктезий насчитывал 250. Все авторы согласны в том, что по стене можно было ездить и разворачиваться на четверке лошадей; новейшие немецкие раскопки подтвердили эти данные, так как установили, что стена имела в ширину 42 метра. Сотня ворот в стене, со всеми их столбами и карнизами, были медные. Что такие ворота употреблялись в Вавилоне – доказывается найденной Рассамом в Борсиппе половинкой массивного бронзового дверного порога. Эта массивная литая пластинка, украшенная с лицевой стороны четырехугольными полями с розеткой в каждом из них, находится в Британском музее. Евфрат, протекавший через город, делил его на две части, они соединялись между собой мостом, каменные устои которого "были погружены в глубину с большим искусством", были скреплены железными шипами и поддерживали плоский помост, устроенный с величайшим мастерством из кедровых, кипарисных и пальмовых бревен.
Рис. 192. Известняковый обломок из Эль-Касра. По Перро и Шипье
Важнейшие из произведений нововавилонской архитектуры – дворцы и храмы. Два царских дворца, стоявшие друг против друга на противоположных берегах реки, были соединены между собой подземным ходом со сводами, устроенным под руслом реки. Дворец левого берега был обнесен тройным рядом стен и отличался величиной и великолепием. Там находились знаменитые висячие сады Семирамиды, причисленные древними к семи чудесам света. Нин и Семирамида, как строители Вавилона, – разумеется, легендарные создания письменной греческой истории, и еще Диодор, наиболее подробно описавший висячие сады после Ктезия, замечал, что они были сооружены не Семирамидой, а в более позднюю эпоху. Нам известно, что Навуходоносор приказал устроить эти сады для своей супруги Амитисы, родом из Мидии, с той целью, чтобы они напоминали ей горы ее родины. Диодор описывает их как террасообразную постройку, "поднимавшуюся подобно горе, ярус над ярусом, так что она имела вид театра. Ряды стен поддерживали эти возвышавшиеся одна над другой террасы… на высочайшей из стен находилась верхняя терраса сада одинаковой вышины с городскими стенами…" Страбон добавлял, что террасы покоились на сводах. К капитальнейшим постройкам Вавилона принадлежал также большой храм Бела – знаменитая Вавилонская башня. Геродот описывал ее, как очевидец. По его словам, стены, которыми было обнесено это святилище, представляли собой квадрат, имевший в каждой стороне 2 стадии (около 370 метров); "в середине этой священной ограды возвышалась башня, сложенная вся из камня, имевшая в основании по одной стадии (185 метров) в длину и ширину; на нижней башне стояла вторая, на второй третья и т. д., так что всех башен было восемь, одна над другой. Снаружи шла вокруг всех башен витая лестница снизу доверху, а на последней башне находился большой храм…" Видимо, Геродот описывал уступчатый храм уже известного нам типа.
Рис. 193. Слуга с собакой. Нововавилонская терракотовая пластинка. По Масперо
Прочие искусства развивались в Вавилоне в тесной связи с архитектурой. Об изваяниях вавилонских богов мы знаем только из литературных источников. Геродот и Диодор сообщали об огромных золотых и серебряных статуях, которыми был украшен описанный выше храм на вершине башни Бела. Пророк Даниил (III, 1) также упоминал о колоссальном золотом изваянии Бела. Диодор, опираясь на Ктезия, рассказывал о медных статуях царей. Из архитектонических скульптурных произведений сохранился, например, в Британском музее обломок известняка, найденный в Эль-Касре (рис. 192), с изображением двух бородатых мужей с тиарами из перьев на голове, поддерживающих в виде атлантов балку архитрава.
Декоративным целям служили, конечно, также и небольшие терракотовые пластинки, украшенные рельефными изображениями; найденные Роулинсоном в Бирс-Нимруде пластинки находятся в Британском музее; на одной из них довольно натурально представлен полунагой слуга, ведущий на привязи большую собаку (рис. 193).
Металлическая облицовка, по-видимому, играла в Вавилоне еще большую роль, чем в Ниневии. Филострат писал: "Дворцы вавилонских царей сияли еще издали своей бронзовой одеждой; женские покои, помещения для мужчин и переходы были украшены, вместо картин, посеребренными или позолоченными, иногда даже настоящими золотыми изображениями". Стены главного дворца были расписаны картинами. На средней стене были изображены натуральными цветами "всевозможные дикие звери". То же самое говорится о внутренних стенах и о башнях на них. "Все целое, – писал Диодор, – представляет собой охоту с бесчисленным множеством диких животных, фигуры которых величиной в четыре локтя. Среди них изображена Семирамида верхом на коне, убивающая дротиком пантеру, и рядом с ней царь Нин, закалывающий копьем льва". Весьма возможно, что рассказчик принял за царицу одного из тех безбородых спутников царя, какие нам известны по произведениям ассирийского искусства. Раскопки, произведенные в XIX столетии, доказали, что эти картины были сложены из глазурованного кирпича. Искусство расписывать кирпич, покрывать его глазурью и составлять из него украшения зданий было в Вавилоне чисто местным. Ассирийцы мало применяли этого рода живопись и никогда не достигали такого мастерства ни в глазуровании, ни в получении великолепных тонов красок, как вавилоняне. По замечанию Опперта, ассирийская глазурь относится к вавилонской, как акварель к живописи масляными красками. То обстоятельство, что изображения на кирпичах у того и другого народов, вследствие самого способа писания красками, несколько возвышаются над фоном, по большей части синим, нисколько не препятствует нам причислить этого рода картины к плоским изображениям. Ассирийские известняковые и алебастровые рельефы в руках нововавилонских художников сами собой превратились в картины на кирпиче. В покоях Вавилона найдено огромное количество обломков глазурованных кирпичей, но никогда не удавалось сложить из них какую-либо целую картину. Сохранились, однако, части животных и людей, копыта лошадей, глаза и бороды людей, части цветов и листьев, сети чешуек, которыми обозначались горы, и спирали, изображавшие воду. Хотя большая часть добытых Оппертом кирпичных обломков утонула в Тигре, однако в Британском музее и в Лувре собрано достаточное количество подобных кусков для того, чтобы мы, дополнив их воображением, могли составить себе понятие об ассирийских рельефах времен Синахериба и Ашшурбанипала и мысленно восстановить картины охотничьей жизни, украшавшие собой городские стены Вавилона. Надписи были сделаны белой краской по синему фону. Желтая, черная и белая краски и здесь являются главными, вместе с синей. Красная краска встречается редко, чаще – очень темная желтая; новейшие немецкие сообщения упоминают о зеленом фоне.
Немногие из сохранившихся произведений декоративной пластики, на которые мы указали, – цилиндрические печати, поскольку они вавилонского происхождения, и многочисленные обломки картин на кирпиче показывают, что нововавилонский стиль отнюдь нельзя считать особенно успешным развитием месопотамского стиля, превзошедшим ассирийский. Только в отношении общего хода искусства в рассматриваемую эпоху в отдельных обломках как бы чувствуется несколько большая гибкость языка форм. Если же глазурованный кирпич и металлы получили более широкое применение в орнаментике Вавилона, чем в орнаментике Ассирии, имевшей поблизости богатые каменоломни, то это следует объяснять не столько духом времени, сколько свойствами природы Средней и Южной Месопотамии.
III. Доэллинское искусство восточного побережья средиземного моря и соседних стран
1. Микенское искусство
Вслед за древними мирами искусства долины Нила и Месопотамии, из которых каждый был вполне самостоятельным, самодовлеющим, должен быть рассмотрен важный по своему значению третий мир, охватывавший собой страны, берега которых омываются восточной частью Средиземного моря: Сирия, Малая Азия, острова Эгейского моря и восточный берег Греции. Зародыши возросшего на почве этих стран искусства переносились с одного берега на другой на крыльях морского ветра, оплодотворяясь разнообразными египетскими и древневавилонскими влияниями, но в некоторых отношениях развивались сами собой под живительными лучами местного солнца.
Одновременно с расцветом египетского царства в новый период и вторичным подъемом древнехалдейской культуры в Вавилоне при владычестве Коссеев, во 2-м тысячелетии до н. э., по берегам и на островах Эгейского моря процветала культура, которую со времени раскопок Шлимана в Микенах принято, ради краткости, называть микенской. Микенское искусство, таким образом, древнее известного нам ассирийского, финикийского, малоазийского времен Гомера. Выше, в разделе, посвященном доисторической эпохе, мы уже указали на еще более древние ступени развития искусства, каким оно, например, представляется после раскопок города Трои. Домикенская эпоха эгейского искусства на острове Крит, ставшего известным после открытия Эвансом одной образной надписи на критских камнях, равно как на некоторых других островах Эгейского моря, постепенно переходит в микенскую. Древности острова Фера, относящиеся, как это доказано, к концу 3-го тысячелетия до н. э., а именно остатки стенной живописи красками с линейными орнаментами и мотивами растительного царства и осколки глиняных сосудов с красочными на них орнаментами, уже близки произведениям микенского искусства. Две урны, высеченные из зеленого мрамора и имеющие форму свайных построек, одна прямоугольная – с острова Милос (мюнхенская коллекция), другая круглая – с Аморгоса, представляют богатые спиральные украшения микенской бронзовой эпохи. Угловато стилизованные нагие женские фигуры со скрещенными на груди руками, обнаруженные в гробницах Аморгоса и других островов, относятся уже к микенской эпохе. Но цветущей порой микенского искусства считаются 15001200 гг. до н. э. К этому времени относится существование главных пунктов этого искусства, Тиринфа и Микен, в той части Пелопоннеса, которая потом получила название Арголида, а также существование Трои на малоазийском берегу. С 1893 г. нам стало известно, что из городов, откопанных на месте древней Трои (в Гиссарлыке), не второй снизу, как предполагал Шлиман, а лишь шестой был созданием микенской культуры и, следовательно, "священным Илионом" Гомера. Но также и в Кноссе на Крите, даже в афинском Акрополе обнаружены остатки построек и произведений искусства, относящихся к этому периоду расцвета микенской жизни; могилы, богатые произведениями прикладного искусства, раскрылись под заступами археологов не только в Микенах, Навплии, Амиклах (Вафио) на Пелопоннесском полуострове, но и в Спате, Менеди, Элевзисе в Аттике, в Орхомене в Беотии, в Домини (Воло) в Фессалии, а также на Крите, Родосе, Кипре и других островах. Наиболее любопытные остатки вырыты и описаны Шлиманом в 1870-1890 гг. Начатое им предприятие продолжали, и притом более систематично и научно, В. Дёрпфельд в разных пунктах, Хр. Цунта – в Греции. Микенские, дофиникийские и еще более древние доисторические гробницы Кипра описал М. Онефальш-Рихтер; остатки микенской колонии в Нижнем Египте откопаны в Колуне Фландерсом Петри. Обломки, найденные Шлиманом в Трое, за исключением тех, которые пришлось отдать в Константинополь, находятся в Берлинском музее народоведения, сокровища же, добытые в греческой почве, – в главном афинском музее.
Носителями микенской культуры были обитатели Греции до "переселения дорийцев", происшедшего в 1100 г. до н. э., – предшественники, а может быть и предки, по крайней мере по боковой линии, позднейших эллинов, называвших их пеласгами. В поэме Гомера они являются теми "светло-поножными, кудреглавыми" ахеянами, которые разрушили священный город Трою. Гомер, подобно певцам Нибелунгов, воспевал геройские подвиги поколений, живших тысячелетиями раньше него. Искусство, которое он приписывал им или даже их богам, подробно рассказывая об их щитах, кубках и других вещах, во всяком случае, находилось перед его глазами. Что среди этих предметов были произведения, имевшие тысячелетнюю давность, следовательно, произведения микенской эпохи, представляется возможным, потому что кроме них Гомер упоминает о современных им произведениях финикийского происхождения.
Микенская культура относится к бронзовой эпохе. Ей не так, как гомеровскому железному веку, были известны бронзовые оружие и орудия. Даже железные кольца, служившие для украшения, появляются лишь в самом ее конце. Это эпоха доисторическая лишь настолько, насколько искусство поэзии не есть история. Однако Эванс доказал, что древняя, быть может, собственно еще идеографическая образная надпись, найденная им на Крите и своим линейным видом приближающаяся к буквенному письму, – единственная в своем роде между произведениями всей области распространения микенской культуры; остается только ожидать, к каким результатам приведут дальнейшие открытия или дешифрование найденных знаков.
Мегалитический способ постройки городских стен этой области тоже можно назвать принадлежащим бронзовой эпохе. Каждый городской холм заключал в себе камни, которые можно было вставить в его стены. К циклопическим стенам, то есть беспорядочно сложенным из грубых камней, отесанных лишь с наружной стороны, присоединялись, особенно при сооружении ворот, иногда правильные ряды отесанных четырехугольных плит, а в самих Микенах, наряду с такой кладкой, виден в некоторых местах и более поздний, полигональный тип постройки, при котором стена складывалась из неправильных многогранных каменных глыб, тщательно отесанных и пригнанных одна к другой до совершенно правильного смыкания пазов. Этот полигональный способ был неизвестен в Египте и Месопотамии, а в Греции стал обычным при возведении городских стен.
Устройство ворот в подобных городских стенах Перро представляет себе следующим образом: первоначально ворота делались из двух каменных столбов, поставленных наклонно один к другому и сходившихся верхними концами так, что эти столбы вместе с порогом образовывали треугольник; дальнейшим развитием постройки такого рода являются два вертикально стоящих столба, соединенных между собой вверху массивной каменной плитой, над которой, для уменьшения давления, устроен треугольник, подобный вышеозначенному. Прекрасный образчик таких сооружений представляют известные Львиные ворота в Микенах, в которых мы видим горизонтальную каменную балку, лежащую на двух почти вертикальных каменных столбах, и треугольник, уменьшающий давление, причем последний заполнен каменной глыбой с рельефным изображением в геральдическом стиле колонны между двумя львами, привставшими на задних ногах (рис. 194). Эта колонна может считаться прототипом всех микенских колонн. Вверху она толще, чем внизу, стоит на узком и низком круглом подножии и украшена капителью, состоящей, в направлении снизу вверх, из выпуклого кольца, выемки, значительно выпуклой подушки и четырехугольной плиты (абаки). На этой плите лежат четыре кружка, на которых покоится еще вторая, также четырехугольная плита, завершающая собой капитель. Эта каменная колонна, очевидно, подражание деревянным колоннам микенских дворцов. Четыре кружка представляют собой концы круглых балок. Точно так же и утончение книзу, свойственное только микенским каменным колоннам, объясняется происхождением их от деревянных. Ножкам столов и стульев и теперь дается такой вид.
Рис. 194. Львиные ворота в Микенах. С фотографии
Для истории архитектуры показательны коридоры и камеры в городских стенах Тиринфа. Коридоры снабжены карнизом и крыты стрельчатым ложным сводом; двери такого же очертания, как описанное выше, ведут в камеры, служившие кладовыми, устроенные по бокам коридора и крытые таким же сводом, как и он. Там, где камеры разрушены, дневной свет проникает через островерхие отверстия дверей коридора, который, таким образом, кажется издали готической галереей.
Городские дворцы исследованы при раскопках настолько, что можно распознать не только их план, но и способ постройки, равно как и украшения стен. Строительным материалом для них служили плитняк, кирпич, высушенный на воздухе, и дерево. Достойно внимания, что шестой микенский город, Троя, представляет собой пример перехода к строительству из камня. Обожженный кирпич в то время был еще неизвестен. В Тиринфе и Микенах из камня состояли только низ стен и скрытые в каменном поле подножия колонн; из необожженного кирпича были сложены верхние части стен с веерообразными гнездами в них для концов деревянных балок; из дерева сделаны колонны с капителями и настилкой над ними, расположенные против них стенные пилястры и крыша, которая покрывалась утрамбованной глиной. Стены нуждались в облицовке, и для нее употреблялись деревянные и металлические доски, местами также драгоценные породы камня, но чаще всего – слой извести, которая легко добывалась из богатых известняками гор Греции.
Рис. 195. План Тиринфского дворца. По Шлиману и Дёрпфельду
Стены дворца в Тиринфе открыты на весьма большом пространстве (рис. 195). К большому, открытому двору дворца прилегают с юга двое массивных ворот, одинаковых в плане (К и Н). Те и другие образуют с обеих сторон, передней и задней, портики, открывающиеся наружу проходами между двумя колоннами и между выступами боковых стен самих ворот (антами). Это настоящие греческие пропилеи, которые мы встретим в период расцвета эллинского искусства. Через меньшие ворота (К) мы вступаем прежде всего в прямоугольный двор, окруженный галереями на колоннах (Z), на нем еще можно различить место находившегося тут жертвенника Зевса (А). К северной стороне двора примыкают сени главного здания мегарона мужчин (М). Три двери, одна подле другой, ведут во внутренний передний зал, открывающийся дверями без створ в собственно мегарон – большой прямоугольный зал, посреди которого помещается большой очаг, до сей поры еще окруженный четырьмя подножиями колонн, поддерживавших кровлю. Каким образом была она устроена в этом внутреннем покое, как проходил в нее свет и как выходил из нее дым очага – остается неразрешенным, спорным вопросом. Те исследователи, которые находили во всей этой постройке сходство, хотя и весьма отдаленное, с египетскими храмами, склонны думать, что и здесь существовало несколько более высокое среднее пространство с потолком, подпираемым деревянными колоннами, и с боковыми отверстиями для света. Помещение для женщин (О) представляет собой в меньших размерах повторение зала мужчин. Дворец микенских властителей признают первообразом греческого храма. Перро и Шипье даже издали устройство микенских балочных покрытий, представлявшее все подробности строения дорических балок, с той лишь разницей, что последние здесь не каменные, а деревянные. Если придерживаться только непреложных фактов, то мы можем составить себе понятие о форме микенских деревянных колонн по типу каменных, сохранившихся в орнаментации, какова, например, колонна, на Львиных воротах, на которой лежат каменные балки, видимо подражающие деревянным.
Рис. 196. Алебастровый фриз Тиринфского дворца. По Перро и Шипье
От стенных украшений микенских дворцов сохранились значительные остатки. К числу пластических произведений этого рода принадлежит алебастровый фриз из сеней зала мужчин в Тиринфском дворце (рис. 196). Отдельные его части представляют орнамент, вообще нередко встречающийся на произведениях микенского искусства и характерный для него. К среднему куску фриза, отчасти усаженному в вертикальном направлении розетками, справа и слева примыкает по продолговатому куску, орнаментированному в горизонтальном направлении двумя полуовалами, середина которых занята веерообразной пальметтой, а край состоит из ряда сердцевидных спиралей. Перро и Шипье, с которыми согласился также Ноак, полагали, что этот фриз маскировал собой деревянные балки сеней мегарона таким образом, что куски с розетками приходились на выступающие вперед оконечности балок и отмечали их. Таким образом, на этот фриз следовало бы смотреть как на прототип позднейшего дорического триглифного фриза. Несколько отступающие назад части фриза с веерообразными украшениями в полуовалах в таком случае соответствовали бы метопам. Орнаменты фриза несколько возвышаются над синей глазурью его фона, так что "синие фризы", которыми, по Гомеру, был украшен дворец Алкиноя, нельзя считать выдумкой поэта.
Рис. 197. Узор в виде ленты, образующей спирали. Из тиринфских фресок. По Перро и Шипье
Рис. 198. Критский резной камень. По Эвансу
Многочисленные фрагменты известковой штукатурки стен свидетельствуют о том, до какой степени они были расписаны. Раскраска производилась прямо по сырой извести, а следовательно, здесь впервые в истории искусства появляется настоящая фресковая живопись. Краски, слегка возвышавшиеся своими контурами над белым или синим фоном, были исключительно красной, желтой и синей. Среди изображений, к которым мы еще вернемся впоследствии, наиболее важное – ловля быка. В числе орнаментов встречаются часто повторяющиеся на микенских художественных произведениях из других материалов и иной техники, например, такие: своеобразная сетка с ромбовидными петлями и круглыми глазками резных очертаний; спиральные и всякого рода волнообразные линии; завитки, обращенные один к другому и составляющие сердцевидные фигуры; сердцевидные листки один в другом и настоящие ветки растений, обрамленные фигурами в форме пузырей. Особенно любопытен орнамент в виде ленты, образующей спирали, который обрамлен по краю полосой розеток; по своему характеру он принадлежит к типу сеток спиралей, встречающихся на потолках египетских гробниц Нового царства (рис. 197). Очевидно, этот узор, который мы находим также в Орхомене, только в еще более древней форме, заимствован непосредственно из египетского искусства.
Каким образом подобный орнамент мог быть занесен из-за моря, о том дает нам пояснение один найденный Эвансом на острове Крит резной камень, украшенный узором в виде подобного соединения спиралей, но только со срединным листком другой формы (рис. 198).
Усыпальницы, сохранившиеся от микенской эпохи, своим содержанием еще богаче жилищ. Из них наиболее интересные находятся в Микенах. Усыпальницы, похожие на шахты, у внутренней стороны Львиных ворот, древнее куполообразных гробниц в нижнем городе. Для истории архитектуры первые имеют значение только благодаря такой же каменной обкладке их стен, какую мы встречаем в европейской бронзовой эпохе. Гробницы украшены стоячими каменными плитами (стелами), которые, если это женские усыпальницы, не имеют никаких украшений, а если мужские, то орнаментированы рельефными узорами меандрических линий и изображениями перевозки умершего на ратной или охотничьей колеснице. Древнейшими считаются гробницы, в которых мужские останки были найдены с золотыми масками, нагрудниками, поясами и роскошно отделанным оружием, а женские – в великолепных золотых диадемах, венцах и подвесках; помещенные здесь же сосуды – золотые или серебряные. Гробницы, в которых мужских масок и женских серег и браслетов не оказалось, относятся к более позднему времени; все предметы украшений и оружие здесь проще, а сосуды по большей части глиняные.
Рис. 199. Колонна "Сокровищницы Атрея" в Микенах. По Зибелю
Рис. 200. Часть потолка куполообразной усыпальницы в Орхомене. По Брунну
Куполообразные гробницы обложены снаружи землей и представляют собой круглые, похожие на пчелиные улья помещения с ложным сводом, образуемым выступающими один над другим горизонтальными рядами камней. Открытый проход в холме ведет ко входному порталу. Наиболее известная и интересная из гробниц этого рода – сооружение, которому Павсаний, греческий писатель времен Римской империи, дал название "Сокровищница Атрея". От богатой отделки треугольника, устроенного над воротами для уменьшения давления, сохранились лишь обломки двух боковых колонн, вырубленных из темно-зеленого камня; они находятся в Микенах, афинской, лондонской и мюнхенской коллекциях (рис. 199). Форма их такая же, как форма колонны на Львиных воротах. Они утончаются книзу, а вверху на них лежит капитель, состоящая из круглой подушки и карниза под ней, украшенного кольцом листьев. Стержень колонны обвит в горизонтальном направлении рядами полос, как бы лент, образующих зигзаги и украшенных волнообразными завитками. Внутри гробница, в которой "стены и потолок сливаются между собой", была обита, как это можно заключить по еще сохранившимся в стенах дыркам и бронзовым гвоздям, металлическими украшениями, вероятно бронзовыми розетками. Она имеет в высоту 15 метров и столько же в диаметре. В другой куполообразной гробнице, открытой в Микенах г-жой Шлиман, любопытна орнаментальная колонна, представляющая микенское утончение книзу и вместе с тем снабженная дорическими каннелюрами. Микенские колонны считаются "истинными протодорическими колоннами" также и по форме своих капителей. Куполообразная гробница в Орхомене, в Беотии, которую Павсаний принимал за сокровищницу Миния, знаменита узором в виде сети спиралей на своем потолке зеленоватого сланца. В этом узоре спирали постоянно чередуются с веерообразными пальметтами, а средние поля окаймлены полосой, усаженной розетками; строго выдержанное разграничение между краями и внутренними полями может быть рассматриваемо как важная ступень дальнейшего развития египетских потолочных украшений (рис. 200).
Рис. 202. Троянский свинцовый идол. По Перро и Шипье
Рис. 201. Микенская золотая погребальная маска. По Брунну
Скульптуру и живопись микенского мира искусств вообще трудно рассматривать отдельно от его художественно-ремесленных производств. Искусство и художественное ремесло составляли в нем еще одно целое. Впрочем, отсюда можно исключить некоторые произведения скульптуры и живописи, не относящиеся к предметам повседневного употребления. Что касается микенского ваяния, то памятники его – это прежде всего маски покойников в древнейших гробницах, выбитые из листового золота. Как бы ни были они сделаны, механическим ли способом или от руки, они плотно облегали лица умерших и представляют собой первые опыты ваяния с натуры (рис. 201). Из числа находок в микенском кремле заслуживают внимания: голова безбородого человека в натуральную величину, из пористого камня, с отлично сохранившейся окраской, отчасти напоминающей собой татуировку; изваяния двух львов в натуральную величину, теперь безголовых, на главных воротах в Микенах. В сравнении с вялыми общими формами вышеупомянутых гробничных рельефов они представляют собой шаг вперед в отношении тщательного изображения мышц и оживления поверхностей, насколько это было доступно более зрелому микенскому искусству. Многочисленные безобразные маленькие идолы из обожженной глины, камня, слоновой кости и бронзы, найденные в области распространения микенского искусства, по большей части имеют характер уже знакомых нам произведений доисторической эпохи. В большинстве случаев на них можно смотреть как на предметы арийского происхождения и местной работы. Однако и теперь не всегда возможно выделить из этих находок произведения из других местностей или исполненные под чужестранным влиянием. Маленький свинцовый идол из Трои (рис. 202), изображающий нагую женщину со свастикой на животе, большинство исследователей признает, как и все изображения Иштар (Астарты, или Афродиты), за вещь вавилонского происхождения, а Соломон Рейнак указывает на этот идол даже как на доказательство того, что все этого рода фигурки арийско-европейского происхождения. Если этот троянский свинцовый идол стоит на довольно низкой ступени лестницы развития искусства, то на конце ее следует поставить женскую бронзовую фигурку, 19 сантиметров высотой, находящуюся в Берлинском музее; фигурка эта, как и многие ей подобные, была найдена, вероятно, на Крите. Ее ниспадающее платье, волосы, заплетенные в косу и спустившиеся на спину, полный бюст с округлыми формами и широкий размах свободной позы производят впечатление поразительно зрелого произведения (рис. 203).
Рис. 204. Воины на микенской могильной стеле. По Цунте???????, 1896)
Рис. 203. Микенская бронзовая женская статуэтка. По Перро и Шипье
С микенской живописью знакомят нас прежде всего фрагменты стенных фресок. Но и в картинах с фигурами она ограничивается черными контурами и употреблением трех красок: желтой, красной и синей. Ввиду древности той ступени развития искусства, к которой относятся эти картины, само собой понятно, что все фигуры в них изображены профильно и без соблюдений перспективы. Вышеупомянутое изображение ловли быка происходит из дворца в Тиринфе: дикое животное с короткой головой и торчащими вперед рогами повернулось влево и быстро бежит. Мужчина, на котором, по-микенски, нет ничего, кроме передника и ремней на ногах, правой рукой схватил быка сзади за рога, и животное мчится с ним изо всей силы; фон картины – синий, бык – желтый с красными пятнами. В одной из боковых пристроек микенского кремля найден замечательный фрагмент картины, на котором изображены люди с ослиными головами, идущие один за другим и несущие длинную жердь. Картина эта относится к той зародышной поре греческой мифологии, которую Мильхгёфер назвал полидемонизмом. Микенские полулюди-полуослы могут считаться предками греческих сатиров. Как и сатиры, они имеют юмористический характер. Другой фрагмент, изображающий двух женщин, в резной зубчатой раме, производит впечатление настоящей станковой картины, хотя и написан на сырой извести. К такого же рода картинам надо причислить живопись на каменной плите, которую нашел Цунта в одной куполообразной усыпальнице среди так называемых народных могил в Микенах. На среднем поле картины изображены пять воинов в шлемах и со щитами, идущие вправо и мечущие копья (рис. 204). И здесь мы находим обведенные черными контурами фигуры на белом фоне, иллюминированные только желтой, красной и синей красками. Забегая вперед, надо также упомянуть о рисунке на "вазе с воинами", найденной в Микенах (рис. 205); на нем кроме шести отступающих воинов и стоящей позади них плачущей женщины изображены еще пять героев, которые наступают с поднятыми вверх копьями, – фигуры, совершенно сходные с воинами, нарисованными на вышеупомянутой стеле, не только по одежде и вооружению, но и по формам. Как и во всех произведениях микенского искусства, фигуры эти стройные, с тонкими ногами, длинными шеями и носами. Поэтому и камень, и ваза, о которых мы говорим, подтверждают местное происхождение микенского стиля. Наиболее зрелые из сохранившихся произведений микенского искусства принадлежат, однако, к резьбе на камне, работе по золоту и художественному гончарному делу.
Рис. 205. Обломок микенской вазы с изображением воинов. По Фуртвенглеру и Лёшке
Резьба на камне оставила образцы гравированных печатей и предметов украшений. Так как их находили впервые на греческих островах, то и назвали островными. По этим памятникам древности, начиная с критских, можно проследить переход от эгейского искусства к микенскому, от образных письмен к буквам, от простых орнаментов и изображений животных и людей к охотничьим и военным сценам, от старого верования в демонов к греческому героическому мифу. Что касается форм, то в изображениях, резанных на печатях и каменьях, служивших украшениями, мы находим, в период зрелости микенского искусства, хорошо понятные, только чересчур длинные фигуры с тонкой, "осиной" талией, живые и выразительные движения, какие обычно встречаются во всех видах этого искусства; в костюме изображенных мужчин видим передники, похожие на купальные штаны, в костюме женщин – постоянно повторяющиеся широкие, ниспадающие одеяния; нередко заметна склонность к симметричности, которая здесь, как и повсюду, непосредственно приводила к геральдическому стилю. К наиболее ценным памятникам этого рода принадлежат два овальных камня для золотых перстней, найденные в древнейшей микенской гробнице. На одном изображена охота на оленей, на другом – битва (рис. 206, е). На каменной печати из Крита представлен демон с ослиной головой, несущий на перекинутом через плечо шесте добычу охоты (ж), – pendant к людским фигурам с ослиной головой, которые мы видели на микенских фресках. Изображение на золотом кольце, представляющее группу женщин с цветами в руках под деревом, еще до конца не объяснено (з).
Рис. 206. Микенские памятники гравирования на камне и золотые изделия. По Брунну (ж, и), Перро, Шипье (а, б, г, е), Рейхелю (з) и Шухардту (в, д, к)
Рис. 207. Полип. Микенская золотая бляха. По Шухардту
Рис. 208. Микенская золотая бляха в форме листа. По Шухардту
Произведения золотых дел мастеров дают возможность наглядно проследить в микенской культуре все ступени развития орнаментики и пластики. От гладких диадем домикенского искусства Трои, не отличавшихся в своих частностях разнообразием форм, до золотых кубков Вафио надо было пройти длинный путь. Выбитые из листового золота предметы, найденные в древнейших гробницах Микен, орнаментированы выпуклыми концентрическими лиственными венками с розетками в виде звезд и цветков нарцисса, с вилообразными и спиральными линиями во всевозможных вариациях, иногда они согнуты в три и четыре колена. Еще одна особенность микенского искусства – орнаментальные мотивы, взятые из местной природы. Главную роль играет полип, или сепия (рис. 207); его восемь закручивающихся щупалец настолько подходят к стилю спирального орнамента, что их, пожалуй, можно считать породившими этот стиль. Карл Тюмпел указывал на то, что сепия считалась священной в животной демонологии, и с полным основанием видел в ней родоначальницу Лернейской гидры. Из растительного царства заимствована форма украшений в виде веерообразных листьев (рис. 208) и венков из листьев, как самых простых, так и самых сложных очертаний. На других предметах из листового золота встречаются фигуры целых животных – оленей, кошек, лебедей, орлов, иногда парами, наподобие гербов. Головка одной золотой шпильки представляет собой целую фигуру хорошо сформированного каменного барана. К представителям местной фауны иногда присоединяются фантастические существа Египта и Малой Азии. Сфинксы (см. рис. 206, д) и грифы встречаются ничуть не редко. Иногда попадаются и человеческие фигуры, чаще других – довольно плохо смоделированная фигура нагой женщины, окруженная летающими голубями: это богиня Иштар (Астарта, Афродита); ее нагота, по толкованию Рейхеля, вовсе не символ женственности, а связана с мифом, вероятно еще досемитского происхождения, о путешествии этой богини в преисподнюю для искупления душ. Поэтому предметы подобного рода надо считать амулетами, сопровождавшими умерших в могилу и обеспечивавшими для них загробную жизнь (см. рис. 206, в). Элементы большинства этих орнаментальных мотивов найдены также на золотых и серебряных сосудах из шахтообразных усыпальниц. Только украшение одного обломка серебряного кубка сильно уклоняется от орнаментации этого рода. Рельеф на нем изображает оборону города, под стенами которого сражаются стрельцы из лука и пращники (см. рис. 206, г). Горы, деревья, крепость своей малой взаимной связью в отношении ландшафта напоминают произведения позднеассирийского искусства. Однако длинные фигуры сражающихся, в отношении своей героической наготы, соразмерности членов тела и живости движений не имеют ничего подобного себе в искусстве той эпохи. Наиболее драгоценными художественными произведениями из числа найденных в древнейших шахтообразных усыпальницах надо признать клинки кинжалов. В так называемой четвертой гробнице нашли 5 бронзовых клинков с рисунками, живо и естественно выполненными золотой и серебряной насечкой. На одном из этих клинков с одной стороны изображен лев, преследующий антилопу, а с другой – пять охотников, борющихся со львом (см. рис. 206, и). Главная вещь из пятой гробницы – клинок с золотой и серебряной выкладкой на обеих сторонах, изображающий животных вроде кошки, нападающих на уток (см. рис. 206, к). Действие происходит на реке, в водах которой плавают рыбы, а на берегу растут цветы; но среди них не видно ни папируса, ни лотоса. Это изображение вообще напоминает до некоторой степени живопись на полу в Телл-эль-Амарне, но, как заметил Шухардт, египетский кинжал из гробницы царицы Ахотеп походит на этот кинжал только тем, что также орнаментирован. Эти металлические инкрустации имеют весьма важное значение, так как дают понятие о технике и языке форм, с которыми были выполнены или, по крайней мере, задуманы работы по металлу, прославленные Гомером, особенно знаменитый щит Ахиллеса, воспетый в "Илиаде". Так, например, золотой виноградник с серебряными лозами и черненными гроздьями мы легко можем представить себе выполненным техникой плоских рисунков на микенских клинках. Наконец, в высшей степени любопытны два кубка (см. рис. 206, а и б) из куполообразной усыпальницы в Амиклахе (Вафио). Они покрыты рисунками выбивной работы, превосходящими по силе, натуральности и жизненности изображенного все, что было создано искусством раньше цветущей поры Эллады. Представлена сцена ловли диких или полудиких быков. На одном рисунке она происходит спокойно: нагой поселянин привязал за левую заднюю ногу ревущего быка, который покорно дает вести себя. Рисунок второго кубка, напротив, полон жизни и движения. Один из быков сопротивляется, и его пришлось охватить сетью; другой бык сильным прыжком сбрасывает со своей спины одного из ловцов, а другого поднял на рога. Можно смело сказать, что ни современное этим рисункам египетское, ни современное им месопотамское искусство не были в состоянии изобразить в боковом ракурсе профильную фигуру столь верно и точно, как изображен здесь поселянин, падающий со спины быка; и при этом – какое отвращение ко всякой схематизации натуры, сколько тщательности в передаче мускулатуры человеческого тела и животных, сколько чутья к прелести разнообразных мотивов движения!
Произведения микенской художественной керамики, после того как мы познакомились с великолепными произведениями золотых дел мастерства, дают нам очень мало нового. С тех пор как Фуртвенглер и Лёшке издали в 1886 г. свой классический труд "Микенские вазы", число вновь найденных осколков ваз по меньшей мере удвоилось, но, в сущности, они только подтвердили историю развития микенского гончарного искусства, эскизно набросанную этими учеными. Микенские вазы, расписанные матовыми красками по глянцевому или неглянцевому фону, относятся к более древнему периоду, чем раскрашенные лаковыми красками. Эти последние составляют особенность всего греческого искусства, включая в него и микенское. Вазы, расписанные матовыми красками, как правило, сформованы, а расписанные лаковыми красками – сделаны все на гончарном круге. Глиняные сосуды, раскрашенные лаковыми красками, можно разделить на четыре класса, из которых два первых, развивавшихся параллельно, древнее двух остальных. Сосуды первого класса покрыты сплошь черной лаковой краской, по которой роспись произведена матовыми белой и темно-красной красками. На вазах второго класса – фон белый или темно-коричневый, а рисунки исполнены темно-коричневой и лаковой краской и кое-где тронуты белой. Сосуды третьего класса свидетельствуют о значительном шаге вперед, сделанном в горшечном производстве. Их глина лучше, гладкая поверхность блестит теплыми желтоватыми тонами, украшения написаны лаковой краской, принимающей всевозможные оттенки от желтобурого до черно-бурого, причем подробности пройдены белой краской. В четвертом классе, который уже выходит за пределы микенской культуры, желтый фон более матового или зеленоватого тона, а в орнаментации, исполненной лаковыми красками, встречается снова красная.
Что касается содержания орнаментации первых двух классов, то микенский стиль является в нем уже вполне развитым; наряду с узорами, состоящими из спиралей и других извивающихся линий, мы находим в ней мотивы, заимствованные из местной приморской природы, каковы, например, волны, рыбы, морские звезды, акалефы, раковины, кораллы, полипы (рис. 209); последние встречаются особенно часто, причем их щупальца во всевозможных изгибах, какие только можно придумать, охватывают бока сосудов; употребляются также растительные мотивы – побеги плюща, ветки деревьев, цветы лилии, части пальмы, с которой микенские мореплаватели, конечно, должны были познакомиться в какой-нибудь из областей распространения их культуры. В стиле третьего класса вместе со всеми этими орнаментами, уже усвоенными микенскими золотых дел мастерами, являются линейные узоры, происхождение которых ошибочно приписывают ткацкому ремеслу, и чаще изображаются фигуры птиц, четвероногих, реже людей, как на описанной выше вазе с воинами, но никогда не встречаются грифы, сфинксы, львы и египетские цветы лотоса. Рейнак заметил, что и животные геральдического стиля, попадающиеся в орнаментации сосудов четвертого класса, отнюдь не заимствования с Востока, как это считали раньше.
Рис. 209. Глиняная ваза из Талиса. По Фуртвенглеру и Лёшке
Значение микенской орнаментики для истории развития древнего искусства разъяснено преимущественно исследованиями Ричля. Во всяком случае, этот ученый совершенно прав, признавая особенное развитие растительного орнамента самостоятельным художественным делом микенцев, в котором они имеют право считаться предшественниками эллинов. Действительно, в микенском искусстве мы впервые встречаемся со свободно вьющимися усиками растений, впервые видим узоры, составленные из непрерывно изгибающихся и прерывающихся растительных стеблей, что чуждо всему восточному искусству, но свойственно всему эллинскому и послеэллинскому (рис. 210).
Участь, которую уготовило микенскому искусству "переселение дорийцев", особенно ясно отражается именно в живописи на вазах. Микенский стиль сменяется геометрическим, с важнейшей разновидностью которого мы познакомимся, когда будем говорить о так называемом дипилонском стиле. Однако он развился отнюдь не из микенского стиля, а совершенно самостоятельно. После исследований Бёлау нам известно, что геометрический стиль, вероятно, и на греческой почве существовал прежде микенского, что он, будучи, так сказать, народным стилем, всегда был на ней в употреблении совместно с микенским и что после того, как микенская культура угасла, снова сделался нераздельно господствующим и стал развиваться далее. Как мы уже видели, микенская орнаментика не была свободна от чуждых, преимущественно египетских влияний. К египетским сеткам спиралей и рядам цветов лотоса присоединялись сфинксы и азиатские грифы. В микенских гробницах найдено довольно много чисто египетских предметов, а Фландерс Петри доказал присутствие в Египте немалого количества микенских произведений, свидетельствующих о торговых сношениях между северным и южным берегами восточной части Средиземного моря. Роль посредника в этих сношениях часто играл остров Крит. Однако греческие героические сказания повествуют, что "данайцы – братья египтян" прибыли в Аргос, и никто не станет оспаривать того, что герои "Илиады" и "Одиссеи" принадлежали сами к народу мореплавателей.
Рис. 210. Микенская глиняная ваза. По Фуртвенглеру и Лёшке
Но как ни убедительно, как ни остроумно защищал Гельбиг в 18961897 гг. взгляд, будто наиболее характерные из главных предметов микенских художников промышленных производств – это изделия, вывезенные из Финикии, мы не можем согласиться с ним. Мы не усматриваем никаких связующих нитей между уцелевшими микенскими художественными произведениями и дошедшими до нас финикийскими, которые во всех отношениях более поздние и менее оригинальные. Все главные произведения микенского искусства, включая и обломки описанных выше кубков, серебряного и золотого из Вафио, представляют одним лишь им принадлежащий стиль арийско-европейского происхождения. Брунн справедливо заметил: "Ничто здесь не напоминает нам ни египетского, ни ассирийского искусства, ни также кипрских работ смешанного стиля, тогда как, напротив того, мы не находим здесь ничего, что сколько-нибудь противоречило бы греческому характеру в самом общем его смысле".
Конечно, по "микенскому вопросу" разрешены далеко не все загадки. Будущие открытия покажут, действительно ли следует искать центральный пункт эгейско-микенского искусства на Крите, а не на континенте, равно как и то, можно ли сводить различие между стилями, наблюдаемыми в микенском искусстве, к вытеснению значительно более древней пеласгийской культуры грубейшей ахейской (Риджвей), или же следует считать древнеевропейское "мужицкое искусство", так полностью и не вытесненное, мостом через пропасть, отделяющую доэллинское искусство на греческой почве от эллинского.
Во всяком случае, пока новые открытия не доставят нам лучших данных, чем уже имеющиеся, мы будем вместе с Брунном, Фуртвенглером, Лёшке, Мильхгёфером, Шухардтом, Рейнаком, Перро, Эвансом и многими другими известными археологами признавать микенское искусство национальным для додорического населения Восточной Греции и островов Эгейского моря, сохранившим свой характер благодаря тому, что все чуждые элементы, которые к нему несомненно притекали, оно перерабатывало самостоятельно, а по большей части совершенно поглощало.
2. Искусство Сирии (Финикии, Кипра и Палестины)
Сирия, лежащая между Месопотамией и Средиземным морем, между Египтом и Малой Азией, с самого начала своей истории, как в художественном, так и в политическом отношении, попеременно попадала в зависимость от того или другого могущественного соседа, которые нам известны как старшие из цивилизованных народов всего мира. Обращаясь взорами за море, Сирия очутилась, по крайней мере в 1-м тысячелетии до н. э., в роли распространительницы достояний египетской и вавилонско-ассирийской культур, как она их понимала, при помощи своих судов до самого дальнего запада Северной Африки и Южной Европы, и даже еще дальше. Жителями ассирийской береговой полосы, на долю которых выпала эта роль, были финикийцы, эти "царственные купцы" доэллинского периода древнего мира. Кипр, остров меди и кипарисов, единственный большой остров поблизости от сирийского берега, был занят древнейшими из финикийских колоний.
Кипрское искусство, на раннюю связь которого с микенским мы уже указывали, представляется в первой половине 1-го тысячелетия до н. э. лишь ветвью финикийского. Обращаясь к континенту, то же самое можно сказать относительно Палестины, граничившей на юге Сирийской области с Финикией. Евреи тем более были вынуждены держаться искусства своих ближайших родичей и соседей, потому что с развитием у них понятия о едином, личном, но невидимом божестве они поставили себе задачу, рядом с которой не могла идти самостоятельная переработка египетских и вавилонских художественных элементов.
Рис. 211. Развалины храма в Амрифе. По Ренану
Считалось, что древнейшие из уцелевших произведений финикийского искусства, за исключением некоторых стен, сложенных из тесаных призматических камней, и сооружений в скалах, лишенных всяких украшений, относятся никак не дальше чем к 1-му тысячелетию до н. э.; но некоторые исследователи (Гельбиг) вообразили, что им удалось открыть финикийское искусство 2-го тысячелетия до н. э., и притом в памятниках, не уступающих по своему значению микенским. Мы уже говорили выше, что не можем присоединиться к этому мнению. Эванс указал на возможность совершенно противоположного, а именно того, что знаменитая азбука финикийцев, на которых до сей поры смотрели как на изобретателей буквенного письма, заимствована ими от микенцев.
Древние финикийские города Арад, Мараф (Амриф), Гебал (Библ), Сидон, Тир длинным рядом тянулись с севера к югу по узкой береговой полосе, между поросшим кедрами Ливаном и голубым Средиземным морем, нередко выступая из этого ряда на прибрежные острова. До конца 2-го тысячелетия, по части торговых и других сношений, первенствовал Сидон, вскоре после 1000 г. до н. э. уступивший свое преобладание Араду на севере и Тиру на юге. Достойные внимания памятники древнефиникийского зодчества сохранились почти единственно в Амрифе, городе, родственному Араду. Из них прежде всего надо упомянуть об остатках нескольких храмов. Но только один из них устоял доныне (рис. 211). Посреди двора длиной 48 и шириной 55 метров, стены которого высечены в скалистой возвышенности, на подножии в 3 метра высотой, занимающем площадь около 51/2 квадратного метра и составляющем одно целое с массой скалы двора, возвышается небольшой храм в виде часовни с плоской крышей, тремя глухими стенами и одной, лицевой, открытой. Крыша с внутренней стороны сводчатая, снаружи обведена египетским карнизом и состоит из одной плиты. Другую часовню, находившуюся неподалеку от этой, Ренан нашел совершенно развалившейся; тем не менее, можно было убедиться, что вогнутая полоса ее карниза была орнаментирована египетскими уреями.
Изображение на библской монете позднейшей эпохи (рис. 212) доказывает, что финикийский храм, обычно помещавшийся на просторном дворе, составлявшем его главную часть, иногда заключал в себе лишь священный символ божества – натуральную глыбу метеора или искусственный конусообразный камень. Справа на монете изображен священный двор храма с возвышающимся на нем конусообразным камнем, слева – примыкающая ко двору часовня уже греческого стиля.
Рис. 212. Библская монета. По Перро и Шипье
Памятники древнего некрополя в Амрифе также дают нам несколько точек отправления. Одна из надмогильных башен (рис. 213) состоит из низкого квадратного цоколя и трех цилиндрических ярусов, с приближением к вершине башни уменьшающихся в своем объеме. На углах цоколя из круглой стены выступают передней половиной туловища львы. Оба верхних яруса окружены рельефным зубчатым карнизом с венцом ассирийских уступчатых зубцов. Здесь мы видим подражание ассирийским образцам, так же как в описанном выше храме подражание некоторым египетским формам.
Рис. 213. Надгробная башня в Амрифе. По Ренану
Кипр, с древнейших времен священный остров финикийской Астарты, греческой Афродиты, вышедшей из пены морской у его берегов, изобиловал храмами этой богини. По его южному берегу с запада на восток шли города: Пафос, Курион, Амаф, Китион (Ларника). Затем, внутри острова, находились Идалия (Дали) и Голгос (Афиено). На монетах позднейшего времени с изображением главного пафосского святилища Афродиты и голубей при нем (рис. 214) это святилище имеет в отношении архитектуры отдаленное сходство с маленькими моделями храмов в Микенах, вытисненными из листового золота, на них мы видим также сидящих голубей (рис. 215). Это объясняется по-разному. Одни из писателей видят в средней, более высокой части здания лишь пристройку для входных ворот двора храма, тогда как другие усматривают в изображении указание на то, что храм был разделен на три пространства, из которых среднее было выше боковых, вроде египетского гипостильного зала или, может быть, микенского мужского мегарона.
Более осязательные результаты раскопок на Кипре получены по части орнаментики финикийского зодчества. Капители колонн, высеченные из одного и того же куска, как и их стержни, встречаются на Кипре гораздо чаще, чем на континенте. Как здесь, так и там нет недостатка в орнаментированных стелах, пластинках и других предметах, знакомящих нас с финикийской орнаментикой. Разумеется, надо быть осторожным, чтобы не приписать финикийцам остатков позднейшего, греко-римского искусства, которых встречается немало как на Кипре, так и в Сирии. Но весьма интересно, что восточные мотивы орнамента до такой степени вошли в плоть и кровь художников этих местностей, что они до позднейших времен вносили их в греко-римские формы.
Рис. 214. Пафосская монета. По Перро и Шипье
Рис. 215. Вытисненное из золотого листа изображение храма, найденное в Микенах. По Шухардту
На континенте, в Гебале, Ренан нашел капитель египетского характера, состоящую из круглого стержня и гуська, а неподалеку от означенного места, в Эдде, – капитель, состоящую из кольца, подушки и четырехугольной плиты и напоминающую собой микенскую и более позднюю дорическую капители. На Кипре найдены более богатые и разнообразные формы: из них прежде всего укажем на несколько капителей в Луврском музее, в Париже (рис. 216), происшедших, вероятно, от египетских капителей в виде чашечки цветка колокольчика и пальметтных деревьев и представляющих собой зачаточную форму ионической капители. По-видимому, эти капители принадлежали не постройкам, а могильным стелам и ничего не поддерживали. На рис. 217 весьма характерная капитель. Над чашечкой с обращенными в разные стороны волютами, между которыми вставлен треугольник, украшенный изображением полумесяца и солнечного диска, лежат две или три чашечки с волютами, закрученными кверху, и в середине верхней чашечки помещен лучеобразный сирийский куст лотоса, который мы уже видели в Египте. Это преобразование и самостоятельное применение мотива "египетского пальметтного дерева", как указывал на то Ричль, – единственное оригинальное художественное создание финикийцев. Тот же мотив в сокращенном виде мы встречаем и в собственно "финикийской пальметте", несчетное число раз повторяющейся в финикийском искусстве. На двух алебастровых плитах в Лувре (рис. 218 и 219), найденных в Араде, мы видим как бы ковровый узор, составленный из рядов этих пальметт. Плетение из ассирийской ленты окаймляет этот узор. На одной из плит, в нижней ее части, изображен крылатый сфинкс, а на другой – составленное из финикийских пальметт новое пальметтное дерево, подобное ассирийскому священному дереву, помещенное между двумя поднимающимися на него грифами. Египетский крылатый диск бесчисленное множество раз повторяется в финикийских орнаментах, часто в соединении со змеем-уреем; нередко встречается также древнехалдейское соединение полумесяца с круглой звездой или солнечным диском. Как эти символы впоследствии примешивались в Финикии к греко-римской орнаментике, показывает нам кусок фриза из храма в Гебале-Библе, хранящийся в Луврском музее (рис. 220).
Рис. 216. Кипрская капитель. С фотографии
То же самое сочетание египетских и ассирийских мотивов, как в зодчестве и орнаментике, мы видим также и в пластике Финикии и Кипра. Как долго египетское влияние сохраняло за собой руководящую роль на сирийском континенте, доказывает саркофаг Эхмуназара, найденный в Сидоне и хранящийся в Луврском музее (рис. 221). Каменная крышка его, по египетскому обычаю, представляет собой подобие мумии умершего с очевидно портретным изображением головы. Весьма возможно, что это изваяние исполнено руками египтянина. Однако его относят лишь к началу IV в. до н. э.
Рис. 217. Кипрская капитель. По Перро и Шипье
Развитие финикийской мелкой пластики на континенте Гёзе излагает на основании терракотовых фигур, найденных в Финикии. От периода первого владычества Египта над Финикией ничего не сохранилось. Во всяком случае, в древнейших терракотовых фигурках заметно намерение подражать ассирийскому искусству. Это ясно видно, например, в небольшой колеснице, запряженной четвериком, в Луврском музее. Лишь после того, как в саисскую эпоху Египта финикияне снова подпали под его владычество, их художники стали подражать более мягкому египетскому стилю. Это выказывается преимущественно в терракотовых фигурках сидящих женщин с египетским головным убором и статуэтках бога-карлика Беса (см. рис. 141). Но с VI столетия до н. э. финикийцы начали подражать архаическому стилю греков. Это видно в особенности в женских фигурках во весь рост, в их ионических костюмах и прическах. Разумеется, что ввиду малой самостоятельности финикийцев по части искусства эти произведения нельзя считать прототипами архаического греческого стиля, за какие принимали их довольно долго. Финикийцы всегда были и оставались подражателями.
Рис. 218. Финикийская алебастровая плита. По Перро и Шипье
Рис. 219. Финикийская алебастровая плита. По Перро и Шипье
Подобный же ход развития представляют кипрские статуи, изваянные из местного мягкого известняка, экземпляры которых находятся во всех археологических музеях Европы. Но большинство из них попало в Лувр и благодаря Чесноле – в Нью-Йоркский музей. Внешняя особенность этих статуй различной величины состоит в том, что все они хотя и изваяны с лицевой стороны в строгофронтальном положении, однако имеют характер полурельефов. Назначением их было стоять прислоненными спиной одна к другой или к стене, а потому их задняя сторона не только оставлена неотделанной, но и нередко представляет грубую плоскость, как будто все изваяние было сзади приплюснуто во всю длину. В стиле этих статуй вместе с ассирийским или египетским элементами с самого начала проявляется еще третий элемент, который можно назвать только греческим. Еще первобытные обитатели Кипра были родственны грекам, и вслед за финикийской колонизацией острова с юга последовало заселение его эллинами с севера. Поэтому весьма возможно, что, как допускает Брунн, среди художников, работавших на Кипре, вначале было очень мало лиц арийского происхождения и что они, подчиняясь вкусу заказчиков-финикийцев, а также вследствие неимения перед глазами иных образцов, держались в VIII столетии ассирийского, в VII саисско-египетского художественного стиля и только в VI в., под влиянием архаического греческого искусства, получили опять самостоятельность. Для ассирийской эпохи Кипра характерна, например, мужская статуя Нью-Йоркского музея (рис. 222. В ней можно узнать семитский овал лица, азиатский головной убор, ассирийскую манеру изображать волосы на голове и бороде, длинную, спускающуюся вниз без складок одежду; но в ней заметно также и отклонение от ассирийского стиля: в бритых усах, сглаженных мышцах рук, небольших складках накинутой на плечи части костюма. Переход к египетскому влиянию представляет другая мужская статуя того же музея. В головном уборе, бороде и волосах на голове еще выказывается ассирийский стиль, но все туловище обнажено вплоть до бедер, талию охватывает египетский схенти, а на шее надето египетское украшение. Вполне египетский отпечаток имеет третья мужская статуя того же музея. Ее безбородое лицо обрамлено египетской прической; египетскому схенти соответствуют и египетские браслеты; туловище облечено в безрукавную сорочку, плотно прилегающую к телу (рис. 223). В более поздних кипрских статуях египетского характера можно проследить, как постепенно углы рта и глаз начинают, в манере эллинского архаизма, оттягиваться к вискам, подбородок выступать, высокие головные уборы и прически исчезать. Наконец, являются фигуры совершенно греческие по типу, одежде и ее складкам, какова, например, одна из мужских статуй Луврского музея (рис. 224).
Рис. 220. Фриз Библского храма. С фотографии Жиродона
Рис. 221. Саркофаг Эхмуназара. С фотографии Жиродона
В Финикии художественные ремесла процветали. До самой эпохи римских императоров славились финикийские ткани, особенно крашенные соком пурпурной улитки; не менее славились и тонкие финикийские изделия из цветного стекла, которые хотя и представляли собой с VII в. подражание египетским, однако две тысячи лет спустя положили основание стеклянному производству Мурано. Менее значительно было в Финикии и на Кипре гончарное дело. Тем не менее в историческом отношении кипрская керамика чрезвычайно интересна, так как мы, вместе с Обнефальшем-Рихтером, в состоянии проследить ее начиная с древнейших доисторических времен. И здесь, в сосудах, подражающих тыквам и плетеным корзинам, мы находим первоначальные формы керамики. Затем появляются одна за другой разновидности стиля, который можно уподобить неолитическому стилю Европы, доисторическому Египта, древнейшему господствовавшему на острове Фера и в Аморгосе, равно как и развитому микенскому.
Последнюю, дофиникийскую ступень представляют раскрашенные красной и черной красками сосуды (от 1200 до 900 г. до н. э.), черепки которых найдены в Китионе вместе с железными предметами, и которые находятся в музее Грасси, в Лейпциге. В кипрских вазах финикийской эпохи кое-где заметно влияние современного им дипилонского стиля с его геометрическим разделением поверхности на поля. Вместе с тем встречаются концентрические круги, розетки, египетские венки из цветов и бутонов лотоса, отдельные неумело исполненные фигуры человека и животных, иногда даже фризы с изображениями животных. Однако высшей точки развития кипрская керамика никогда не достигала.
Рис. 222. Кипрская статуя в ассирийском стиле. По Чесноле
Тем более важную роль играли финикийско-кипрские металлические изделия, особенно щиты и плоские чаши, украшенные концентрическими кругами символических орнаментов и изображениями небесных и земных крылатых существ, рядов животных, человеческих фигур, охотничьих и военных сцен; и те и другие выдержаны в ясно выраженном восточном стиле с отпечатком египетского и ассирийского влияний то каждого отдельно, то обоих вместе. Выбитые из бронзы щиты, найденные в гроте Зевса на Иде и описанные Гальбгерром и Орси, хранятся в музее Кандии.
Рис. 223. Кипрская статуя в египетском стиле. По Чесноле
С Кипра также остатки бронзового щита с простым орнаментом (Луврский музей). Финикийские щиты Британского музея и Грегорианского музея в Ватикане добыты из этрусских гробниц. Серебряные и бронзовые чаши этого рода украшены изображениями частью выбивной, частью резной работы. Серебряная чаша музея Кирхера в Риме (рис. 225), на которой изображение в совершенно египетском духе сопровождается финикийской надписью, происходит из Палестины; оттуда же добыты золоченые серебряные чаши той же коллекции, на наружном крае которых изображены в египетском стиле приключения какого-то царя на охоте. В Цере, в гробнице Регулини-Галасси, сокровищам которой Грегорианский музей в Риме преимущественно обязан своим значением, найдена серебряная чаша, на которой по наружному краю идет полоса с изображением пеших и конных воинов, средний круг представляет охоту на львов, а внутренний – нападение двух львов на быка. В Дали, на Кипре, найдена вызолоченная серебряная чаша Луврского музея, на которой изображены львы, грифы и крылатые сфинксы, сражающиеся с людьми. Все эти произведения имеют большую важность, так как благодаря своему распространению при помощи финикийской торговли по всем берегам Средиземного моря немало содействовали перенесению на них восточных художественных форм. Греческого и даже микенского в этих изображениях уже нет почти ничего, и мы находим в них единственно египетские и ассирийские мотивы, а потому считаем совершенно напрасным искать место их изготовления, как делает это Брунн, на острове Кипр, а не на континенте. Еще в "Илиаде" (гл. XXVIII) описывается серебряная чаша, представлявшая "сидонян искусных изящное дело":
Мужи ее финикийцы, по мглистому плавая Понту, В Лемнос продать привезли, но как дар предложили Фоасу.Корабли финикийцев перевозили "по мглистому Понту" не только товары, но и переселенцев на дальний запад известного тогда мира. Славнейшей из финикийских колоний, как известно, был Карфаген, основанный в 800 г. до н. э. Поселения финикийцев находились также на островах Сицилии, Сардинии и Мальте. От доримского времени в Карфагене сохранилось чрезвычайно мало памятников, за исключением развалин городских стен. Но смешанный египетский, финикийский, греческий и римский стиль изображений, уцелевших на североафриканских надгробных камнях и обломках разных изделий, был слаб и не оказывал никакого влияния. От финикийских храмов на Мальте (Гагиар-Ким) и небольшом соседнем острове Гоццо (Ла-Джигантейа) сохранились лишь остатки стен циклопической, полигональной, мегалитической кладки, по которым можно различить только планы этих сооружений. В них замечательно яйцевидное закругление отдельных покоев и употребление каменных глыб поразительной величины, из которых вырублены двери при входах и в проходах.
Затем своеобразны нурагены в Сардинии. Это высокие круглые сооружения в виде усеченных конусов, сложенных приблизительно горизонтальными рядами грубо отесанных камней; массивная стена колоссальной толщины такого сооружения заключает в себе одно, а иногда и несколько помещений, похожих на пчелиные улья и соединенных между собой проходами и лестницами; потолок у них сводчатый, образованный рядами камней, выдвигающихся вперед один над другим. Остатки таких построек сохранились сотнями, и из них многие, соединенные между собой стенами, иногда, например, в Орту, образуют (по реставрации Шипье) нечто вроде небольшой крепости; прежде их считали гробницами или храмами, но теперь все единогласно признают, что они служили если не жилищами, то сокровищницами или убежищами на случай опасности. К подобным сооружениям можно причислить талайоты на Балеарских островах, имеющие совершенно такое же устройство. Нурагены и талайоты в прежнее время считались произведениями финикийцев, ныне же их приписывают североафриканским переселенцам докарфагенской эпохи, которые, как это доказывают многочисленные найденные здесь предметы, имели торговые сношения с финикийцами и карфагенянами. Действительно, чисто сардинские бронзовые фигурки обитателей нурагенов в музее Кальяри, представляющие по большей части воинов или охотников, по своей натуралистичности и непосредственности, а вместе с тем и по варварской простоте и угловатости совершенно примитивной работы, не имеют ничего общего с финикийским стилем.
Рис. 224. Кипрская статуя в греческом стиле. С фотографии Жиродона
Влияние финикийского искусства распространилось к востоку не дальше береговой полосы Сирии. Тут лежала Палестина, священная страна Ветхого Завета. Особенное внимание, возбуждаемое постройкой Иерусалимского храма в ряду вопросов истории древнееврейского искусства, объясняется влиянием религии евреев на духовную жизнь человечества. Между тем, за исключением некоторых остатков стены на горе Сионе, или Мориа, о древности которых еще ведутся споры, не осталось почти никаких следов еврейского искусства доалександрийской эпохи. Описание храма и дворца Соломона в Третьей книге Царств (гл. 5-8) не оставляет, однако, никакого сомнения в том, что возвести эти сооружения Соломон поручил финикийским зодчим. Тирский царь Ахирам (Хирам), между 1000-900 гг. до н. э., удовлетворяя просьбу своего друга Соломона, предоставил в его распоряжение неограниченное число камнетесов и плотников; совершенно случайно Хирамом звали и литейщика, которого Соломон вызвал к себе из Тира, "он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди" (3 кн. Царств, гл. 7, ст. 14). Храм Соломона представлял в плане три двора. В окружавшей его внешней стене заключался доступный для всех и каждого передний двор, называвшийся "двором язычников". Другая, более высокая стена с медными воротами, выходившими на восток, юг и север, окружала второй двор – "двор евреев". Третья стена с воротами, расположенными против ворот второй стены, огораживала более возвышенный "двор священников". На задней, западной стороне этого внутреннего двора стояло здание храма, состоявшее из башнеобразных ворот, открытых сеней, высокого "святилища" и кубовидного "святого святых", где хранился Ковчег Завета со скрижалями заповедей. Фундамент и стены оград были сложены из больших каменных глыб, стены храма – из тесаного камня; колонны дворов, крыша и деревянная обшивка святилища были кедрового, а полы елового дерева. Но все эти материалы были покрыты богатой облицовкой из листового золота. В Третьей книге Царств (гл. 6, ст. 29) говорится: "На всех стенах храма сделал резные изваяния херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, кругом внутри и вне"; дополнением этому указанию может служить видение Иезекииля: "Сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима – два лица" (гл. 41, ст. 18). Кто, читая эти слова, не подумает о месопотамском священном дереве с крылатыми фигурами по его бокам? Здесь могли играть некоторую роль древневавилонские предания, занесенные в Халдею из Ура еще Авраамом. Наоборот, архитектура храма, без сомнения, пользовалась главным образом египетскими формами уже по тому одному, что это были единственные, какими владели финикийцы в столь древнее время, до ассирийского завоевания. Попытки реставрации храма, при которых Шипье принимал это обстоятельство, во всяком случае следует считать не более как произвольными измышлениями.
Рис. 225. Финикийская серебряная чаша, найденная в Палестине. По Перро и Шипье
Дворец Соломона описан несколько точнее, чем храм. Колонны кедрового дерева играли главную роль как в сенях, так и в галереях дворца, равно как и в его зале, о котором говорится: "И покры досками кедровыми дом свыше над странами столпов, и число столпов четыредесять и пять, по пятинадесяти ряд". Из литейных работ Хирама в Иерусалиме особенно упоминается о двух: во-первых, о паре орнаментированных "столпов" при входе в храм, высотой в 14 локтей, с капителями в 5 локтей, получивших название Иахин и Воас; одни считают их свободно стоявшими колоннами, другие – частями сооружения; во-вторых, упоминается так называемое "море лияно" в притворе священников – исполинский бассейн для воды в форме плоской чаши, поддерживаемой хребтами 12 быков, расположенных в виде круга и обращенных головами кнаружи. Херувимы внутри "святая святых", высотой в 10 локтей, с крыльями в 5 локтей длиной, были оливкового дерева и позолочены. Имели ли они человеческий или звериный образ, или представляли собой двупородные существа, как херувимы в видении Иезекииля, неизвестно. Во всяком случае, эти крылатые изваяния Иерусалимского храма способствовали тому, что фантастические образы, созданные месопотамским искусством, разнообразно варьируемые, удержались в искусстве до нашего времени.
3. Искусство Малой Азии (хеттское, фригийское, ликийское и другие)
В Северной Сирии мы находим первобытную своеобразную культуру и искусство, которую при помощи образных письмен и на основании общих стилистических признаков можно проследить с севера до границ Малой Армении, с запада до самого сердца Малой Азии и до ионических берегов Средиземного моря, но средоточия которых находились, по-видимому, на малоазийской почве. Еще Райт и А. Сейс, а в особенности Перро и Шипье, отстаивали мнение, что носителями этой культуры и искусства были хетты (гиттиты, гефиты), которым в XIV в. до н. э. приходилось вести тяжелые войны с египтянами и которые были известны также евреям и ассирийцам. Пухштейн сомневался в этом и предлагал наименовать носителей этой культуры псевдохеттами. Но со времен П. Йенсена, который впервые разобрал письмена этого народа и доказал, что он – родоначальник нынешних арийских армян, называвших себя гатийцами, едва ли можно сомневаться, что "общеизвестное название хеттов "хетты" соответствует названию "гатийцы"". Как бы то ни было, мы говорим об искусстве тех хеттов, письмена которых, по Йенсену, были в употреблении между 1300-550 гг. до н. э. Развалины произведений хеттского зодчества, состоящие из стен нередко циклопической кладки, свидетельствуют об исчезнувшем могуществе и великолепии. Изделия прикладного искусства, среди которых заслуживают внимания амулеты, обещают привести в будущем к неожиданным заключениям. До сих пор значение хеттов в истории искусства основывается лишь на монументальных произведениях их скульптуры. Остатки крупных изваяний найдены лишь в ограниченном числе; чаще встречаются фигуры львов, передняя часть которых изваяна вполне кругло, остальное же тело исполнено рельефом. Но всего важнее – хеттские пластические произведения полувозвышенной работы, в особенности те, которые украшали ворота городских стен или были изваяны на скалах в священных или достопамятных местах. Принадлежность всех этих памятников одному и тому же искусству, которую энергичнее всех отстаивали Перро и его английские предшественники, а опровергал Густав Гиршфельд, которую снова стал защищать Пухштейн и окончательно доказал Йенсен, выказывается уже в одинаковом и равномерном развитии костюма изображенных фигур. Сначала безбородые цари хеттов носят высокую остроконечную шапку, короткую фуфайку и башмаки с длинными носками, как это мы видим на всех памятниках этого народа. Впоследствии остроконечная шапка становится принадлежностью богов, цари же довольствуются плоской шапкой и изображаются в более длинных мантиях; затем постепенно появляется густая борода и, наконец, одежда приближается к ассирийской.
В отношении хронологии этих изваяний мы пользуемся преимущественно исследованиями П. Йенсена.
Два рельефа на скалах Карабели, близ Нимфи, в Лидии, относятся к концу 2-го тысячелетия до н. э. Они изображают отдельные мужские фигуры, из которых лишь одна хорошо сохранилась. Действительно ли это те фигуры, которые Геродот считал египетскими памятниками побед Сезостриса, – вопрос нерешенный. Во всяком случае, в них незаметно ничего египетского, но также нет ничего и ассирийского. Наиболее сохранившаяся фигура в остроконечной шапке, в обуви с длинными носками, с копьем и луком, по своей приземистости и угловатости характерна для древнехеттского искусства.
Вероятно, довольно близкое сходство с этими рельефами имеет замечательный монумент Эфлатунбунара, в Ликаонии. Его глухой кубовидный фасад увенчан монолитной плитой, на которой изображен солнечный диск с громадными крыльями, простирающимися над всем памятником. На отдельных полях представлены в два ряда, один над другим, отчасти под крылатыми солнечными дисками меньших размеров, выветрившиеся теперь фигуры с воздетыми руками. Руки, головы и верхние части тела изображены en face, а ноги – в профиль. Древность этого фантастического произведения бросается в глаза так же, как и его хеттский характер.
Приблизительно к 850 г. до н. э. относятся рельефы дворца в Гюджюке (Эйёке) в Каппадокии. По его фасаду, справа и слева от входа, тянутся на цоколе каменные рельефы, изображающие обряды богослужения. Происходит поклонение быку. Божество стоит на двуглавом орле, древнейшем из всех известных. Искусство хеттов представляется здесь более свободным и зрелым, чем в предыдущих памятниках. Чрезвычайно жизненно исполнены животные (волы, овцы, львы); особенно замечательны головы львов, выступающие из углов стен вполне скульптурно. Два сфинкса у ворот имеют вид египетских фигур в ассирийском вкусе; во всем остальном ассирийского влияния незаметно.
Рис. 226. Хеттский рельеф из Синдширли. С фотографии
Немногим моложе гюджюкских рельефов знаменитые названия на скалах в большом открытом святилище (Джасиликайя) Богазкёе, в Каппадокии. И здесь язык форм все еще довольно свободен от ассирийских оборотов; но по своему содержанию эти изваяния, очевидно, подходят к сирийским и уже к ассирийским представлениям о божестве. Подобно описанным выше рельефам Мальтаи (ср. рис. 183), они приводят нас на небо, боги которого стоят на животных. К этим богам движутся длинные процессии низших богов, среди которых шествует царь; обряды и отдельные фигуры изображены в различных местах скалы. Жрец несет как бы небольшой храм, увенчанный крылатым солнечным диском и подпираемый желобчатыми колоннами, волюты которых загнуты книзу. В этих колоннах думали видеть родоначальников ионических колонн, но Йенсен доказал, что здесь, как и в группах знаков, встречающихся в других местах, мы видим лишь хеттские иероглифы, относящиеся к несущей фигуре, к царю.
Старше или моложе описанных остатков рельеф на воротах Синдширли в Северной Сирии, трудно сказать, так как он сильно выветрился. Йенсен склонен считать его относящимся к немного более раннему времени, чем 750 г. до н. э., уже по тому одному, что на нем люди представлены бородатыми, тогда как более древние фигуры не имеют бороды. Изваяния в Синдширли, поступившие в Константинопольский музей, представляют мужчину и женщину, совершающих жертвоприношение, воина на коне и стрельца из лука. На рельефе из Синдширли, находящемся в Берлинском музее, кроме фигур воинов (рис. 226) изображены бог охоты с львиной головой и крылатый бог с головой грифа; кроме козлов, быков и львов мы видим здесь еще крылатых грифа и сфинкса. Вследствие близости Ассирии сюда, очевидно, уже проникли во множестве месопотамские мотивы. Приблизительно современны этому произведению львы при воротах в Мараше и Альбистане, на правом склоне Тавра; охота на львов в Ордасе, близ Малатийи, может быть отнесена к 712-708 гг. Ассирийский характер обнаруживается в этих произведения все яснее и яснее.
Вполне ассирийским языком форм, хотя отчасти и с иностранным акцентом, говорит рельеф, перенесенный в Берлинский музей из Сактшегёзу, Северная Сирия. На нем изображена царская охота на львов, несколько напоминающая собой ассирийские рельефы времен Саргонидов; однако, ввиду отсутствия в этом изображении обуви с длинными носками, сомнительно – принадлежит ли вообще это произведение хеттам. Но рельеф на скале в Ивризе (Ибризе), на границе Ликаонии и Киликии, – памятник хеттского искусства VII в. до н. э. Перед исполинской профильной фигурой хеттского бога неба, украшенного гроздьями винограда, стоит фигура поменьше – поклоняющегося ему царя. В этом рельефе даже лепка мускулов на ногах – ассирийская. Близко походит на него рельефное изображение царя в Боре, в западной части Тавра.
Развитие искусства хеттов во всей их области шло, по-видимому, одним и тем же путем. За направлением, в котором вообще незаметно ассирийского влияния, следовало другое, воспринимавшее представление, но еще не сам язык форм Ассирии, и, наконец, третье, которое было уже не в состоянии отделаться и от ассирийских форм. Затем искусство хеттов, столько же древнее, сколько и слабое, быстро подчинилось раннегреческому духу, врывавшемуся к ним с запада; само же оно было слишком бессильно и неустойчиво для того, чтобы играть сколько-нибудь значительную роль посредника между искусствами Востока и Запада.
Область нынешней Армении, на северо-востоке Малой Азии, как это установлено В. Бельком и Леманном, занимали в 600 г. до н. э. и позже халды, владевшие доармянскими клиновидными письменами. Относительно произведений их искусства в Ване и его окрестностях положительных данных вообще имеется мало. По-видимому, их каменным сооружениям своды были так же чужды, как и художественно развитая система колонн. Подпорами балок служили круглые столбы без баз и капителей.
Несколько раньше и одновременно с искусством хеттов на севере и западе полуострова, омываемого Черным, Эгейским и Средиземным морями, процветало другое малоазийское искусство, более богатое зачатками развития; создатели этого искусства, принадлежавшие несомненно к арийскому племени, были того же корня, что и эллины, и с ранних пор находились с ними в самых разнообразных сношениях. Но прежде чем развитие этого искусства окончилось, весь западный берег Малой Азии достался ионийским эллинам, которые насадили на нем или противопоставили родственной им догреческой жизни настоящую раннегреческую культуру.
На пороге малоазийского искусства стоит громадное произведение скульптуры, которое еще древние греки считали одним из чудес искусства, если не самой природы: в нише, высеченной в скале на северном склоне Сипила и имеющей 10 метров в высоту, изваяна из натуральной скалы круглая фигура женщины на троне, которую прежде принимали за Ниобею, воспетую Гомером, а ныне признают изображением матери богов, Цибелы, описанным у Павсания. По словам Павсания, это изваяние исполнено сыном Тантала. Следовательно, находясь в местности, входившей потом в состав Лидийского царства, оно принадлежит сказочной Фригии Тантала и Пелопса, считавшихся предками микенского царя Агамемнона. Таким образом, микенское искусство Трои было также и древнефригийским; и действительно, могильное сооружение, находящееся вблизи Сипила и связанное с именем Тантала, несмотря на некоторые различия, может быть приравнено к куполообразным усыпальницам Микен. Снаружи оно представляет собой круглое цилиндрическое сооружение, сложенное гладко из многоугольных камней с конической верхней частью, увенчанной изваянием символа жизни (фаллоса). Внутри оно имеет стрельчатый свод, образуемый выступающими один над другим горизонтальными рядами камней, и представляет глухую прямоугольную камеру с правильным соотношением отдельных частей. Конус этой усыпальницы обвалился так же, как и верхушки всех соседних усыпальниц. Символические изображения, изваянные из красного трахита, которые увенчивали его, разбросаны кругом.
Прочие произведения искусства Малой Азии принадлежат послегомеровским временам; следовательно, древнейшие из них относятся к концу IX столетия до н. э.
В Лидии, с начала VII в. (с 694 г.) царили один за другим Гигес, Ардис, Алиатт и Крез, прежде всего интересны древнейшие могильные курганы. Над всем полем, занятым близ Сарды этими курганами, высится надгробный холм Алиатта, по словам Геродота не уступавший египетским пирамидам. Если эта усыпальница не достигала высотой величайшей из них, то превосходила ее своим объемом. В этой земляной насыпи, отчасти покрытой каменной кладкой, от которой остались лишь скудные следы, скрывалась прямоугольная камера с плоским потолком, устроенным из длинных мраморных глыб, и проход к ней, крытый хотя и грубым, но правильнокруглым коробовым сводом. В истории торговых сношений, равно как и в истории прикладного искусства, лидийские цари обессмертили себя изобретением и распространением монет. Древнейшие монеты времен Гигеса и Ардиса выбиты из электрона, сплава золота и серебра, имели яйцевидную форму и только на одной стороне были снабжены углубленными символическими изображениями, в числе которых видное место занимала лисица. Полагают, что усовершенствование, состоявшее в том, что их стали чеканить из чистого золота, а изображения на них делать, по крайней мере с одной стороны, выпуклыми, проникло сюда, вероятно, из соседних ионических городов, Милета и Эфеса, в Сардах же оно нашло себе подражание еще при Алиатте и Крезе. На рис. 227 – одна из таких древнейших лидийских монет с углубленным изображением лисицы (Британский музей).
Рис. 227. Лидийская монета. По Перро и Шипье
Более важны, чем могильные холмы Лидии, наряду с которыми можно поставить могилы Карии и Мизии (Трои), гробницы в скалах в восточных странах Малой Азии, резко отличающиеся от произведений хеттского искусства. Очень важно, что оба рода памятников малоазийского искусства, одновременно возникшие рядом одно с другим, в области своего распространения почти исключают один другого. Гробницы в скалах на севере Малой Азии встречаются в Пафлагонии, на юге полуострова – в Ликии, а внутри страны – во Фригии, в более поздней послегомеровской Фригии, Фригии времен царя Мидаса.
Для истории зодчества эти малоазийские горные усыпальницы имеют неоценимое значение, так как чрезвычайно наглядно представляют нам тот процесс, когда формы деревянных построек передавались сооружениям из камня. Процесс этот с такой же ясностью можно проследить разве только в одной Индии. В местностях Малой Азии и Армении, изобиловавших как лесом, так и дождями, развилась крыша с фронтоном на деревянных стропилах. Дождливая погода диктовала свои формы строительству жилищ – седлообразную крышу, с боковыми скатами, удобную для стока воды. Отвесные передняя и задняя стороны двускатной крыши превращаются во фронтоны, а в технике плотничьего дела берут свое начало кровельные стропила, передние концы которых образуют треугольник фронтона. Деревянные постройки этого рода, в которых фронтон лицевой стороны нередко выступал вперед, образуя галерею, подпираемую деревянными столбами, удовлетворяли, несмотря на свою недолговечность, потребностям жизни сменявшихся поколений. Но жилища умерших, предназначенные для вечности, устраивались в скалах, для придания же им привычной приветливой внешности обиталища живых людей натуральная скала отделывалась в виде фасада деревянного жилища. Рельеф во дворце Саргона в Ниневии, изображающий разрушение храма с фронтоном в армянском городе (рис. 228), доказывает, что уже в 700-х г. до н. э. в Армении существовали храмы с фасадами, увенчанными фронтоном.
Рис. 228. Ассирийский рельеф с изображением древнеармянского храма с фронтоном. По Ботте
Рис. 229. Гробница Мидаса во Фригии. По Перро и Шипье
Фригийские фасады, высеченные в скалах, разбросаны близ Кютагиджа (Kjutahijas) на пространстве 40 километров по направлению с северо-востока на юго-запад. Северо-восточное городище фасадов в скалах этой местности известно со времени путешествий Тексье, югозападные же усыпальницы близ Айацинна (Ayazinn) открыты лишь в 80-х г. XIX в. Рамзаем. Затем Ребер и Кёрте снова подвергли исследованию фригийские памятники в скалах; один из результатов этих исследований, особенно тех, которые произведены Кёрте, состоит в том, что не должно смешивать фасады, имеющие религиозное значение, с могильными фасадами. Гробницу Мидаса (рис. 229) и все подобные ей фасады, орнаментированные геометрическим узором, следует считать не усыпальницами, так как при них нет погребальной камеры, а религиозными сооружениями и памятниками умершим. Во всяком случае, гробница Мидаса, как видно из надписи на фригийском языке, заимствованном от финикийского алфавита, посвящена царю Мидасу или сооружена для него. Подражание деревянной конструкции выразилось здесь в фальшивой двери, ведущей лишь в плоскую нишу в кайме, обрамляющей фасад, а также в форме фронтона. Кроме того, сам рисунок узора, не совсем подобный меандру, а состоящий из крестов, квадратов и четырехугольных петель и покрывающий весь фасад, столь же легко мог быть заимствован от подобных орнаментов резьбы по дереву и от узоров на коврах, как это обычно утверждают. Подражание деревянной кровле еще яснее видно в фасаде Деликли-Таша. К важнейшим произведениям этого рода принадлежит также памятник в скале близ Арсланкайя. Он обработан с трех сторон; на фронтоне его передней стороны находится сфинкс, на фронтоне одной из боковых сторон – гриф, а на другой – лев, поднявшийся на задние лапы; в нише находится изображение великой матери богов с двумя львами по бокам. Это сооружение безусловно можно признать религиозным. От всей его орнаментации, хотя и местного происхождения, уже веет греческим духом; то же самое можно сказать о фризе из пальметт и бутонов на фасаде в Кючук-Ясили-Кайе, в котором его ассирийское происхождение выразилось столь же ясно, как и ионический характер.
Рис 230. Горная гробница в Гамбаркайе. По Гиршфельду
Наоборот, в так называемом юго-западном некрополе встречаются настоящие гробничные фасады. Подражание жилью обнаруживается у них не столько снаружи, сколько внутри. В погребальном покое, как правило, вырубаются ложе и при нем каменное изголовье. Одна из самых любопытных усыпальниц – так называемая "развалившаяся гробница", фасад которой украшен довольно хорошо изваянными львами и двумя воинами в латах, сражающимися с чудовищем. Вышеупомянутые фасады с геометрической орнаментацией едва ли древнее всех других, как это полагали до сего времени. Переходным звеном является именно памятник в Арсланкайе. Из всех этих произведений, по-видимому, ни одно нельзя отнести к более раннему времени, чем VII в. до н. э., и едва ли какое-либо из них исполнено раньше разгрома Лидийского царства персидским царем (546 г. до н. э.). В той же местности находится еще вторая, более поздняя серия гробниц в скалах с фасадами совершенно эллинского характера. До сих пор полагали, что происхождение их относится к V и IV столетиям до н. э. Однако Кёрте и Ребер доказали, что они принадлежат эпохе римских императоров. Лишь одна из них могла бы быть приписана промежуточной эпохе, именно гробница, открытая Кёрте близ Кёкче-Киссика: по гладкому фасаду с фронтоном и по колоннам открытой галлереи она подходит ближе к пафлагонским гробницам в скалах, чем к более древним, фригийским.
Эти пафлагонские гробницы в скалах, исследованные Густавом Гиршфельдом и отчасти им же открытые, отличаются полугреческим стилем и погребальными покоями с открытыми проходами к ним, а также портиками на колоннах, это нехарактерно для сооружений Фригии. Портик перед гробницей в Гамбаркайе (рис. 230) имеет три колонны, многие из портиков в Искелибе – две, а один из них – единственную колонну. Колонны суживаются кверху, покоятся на массивных подножиях и вместо капителей снабжены четырехугольными плитами, а иногда и несколькими плитами, лежащими одна на другой. Несколько отличны только капители колонн четвертой гробницы в Искелибе, состоящие из львиных голов.
Рис. 231. Ликийская горная гробница: треугольным фронтоном. По Тексье
Ликийские гробницы в скалах, самым тщательным образом исследованные и описанные Бенндорфом, отличаются подражанием деревянным постройкам. Хотя ни одна из них не древнее гробниц персов, многие моложе завоевания Ликии македонцами, а некоторые близки к постройкам и изваяниям греческого стиля, однако по своему типу они относятся, очевидно, к догреческому периоду, и так как ничего подобного им не встречается нигде, то следует считать их национальными ликийскими памятниками. Эти каменные фасады гробниц и погребальные постройки Ликии представляют собой точные копии местных деревянных бревенчатых строений. В них можно ясно различить пороги, столбы, рамы, балки. Концы балок сильно выступают наружу и иногда загнуты крючкообразно.
Плоская, далеко выдающаяся кровля образуется плотно прилегающими друг к другу круглыми брусьями, на которых покоятся доски настила. В гробницах Ликии, например в Хойране, можно распознать лишь фасад подобного деревянного дома, сделанного из камня; в другой хойранской гробнице воспроизведены две стороны дома, а в Пинаре – три стороны, так что задняя стена сливается со скалой; в Феллосе все четыре стороны гробницы отделены от скалы. Кровля этих гробниц – вообще плоская, но встречаются также крыши с фронтоном, который имеет вид прямолинейного, но низкого треугольника, как, например, в Антифеллосе (рис. 231). У одной из гробниц в Пинаре (рис. 232) фронтон – высокий, имеющий вид остроконечной арки, увенчанной бычьими рогами. Один каменный саркофаг в Антифеллосе представляет собой как бы отдельно стоящий деревянный дом с остроконечной аркой; в нем удивительным образом соединены не только стиль деревянной конструкции со стилем каменной, но и готический стиль с чисто греческими отдельными украшениями.
Переход от древнеликийского времени к греческому в ликийской пластике еще более интересен, чем в зодчестве. Тем не менее лишь немногие из пластических произведений Ликии производят впечатление чисто греческих. Сюда причисляют рельефы развалин надгробной башни в Тризе, в особенности же пластическое украшение гробницы в Ксанте, поступившее в Британский музей. Лежащие львы, из которых один держит в лапах молодого львенка, имеют слишком мягкие формы для того, чтобы их можно было считать архаическими греческими изваяниями. Но герой, вонзающий меч в поднявшегося на задние лапы льва, несмотря на свою наготу, по своим формам совершенно персидский или даже халдейский.
Рис. 232. Ликийская горная гробница со стрельчатым фронтоном. По Бенндорфу и Рейссу
Эллинское искусство приведет нас еще раз в Малую Азию. Заимствования, сделанные им в пору его младенчества, от малоазийских варваров оно возвратило им с избытком. Но было бы ошибочно относить к ранней эпохе период воздействия Греции на негреческую Малую Азию и видеть в упомянутых выше пафлагонских и фригийских капителях колонн, напоминающих то дорическую, то ионическую, то коринфскую капители греков, не более как жалкие подражания греческим образцам. Уже само разнообразие их очертаний, свежее и самобытное, доказывает, что они, подобно кипрским капителям, скорее всего, должны считаться начальными формами развитых греческих орденов, хотя в отдельных случаях они и моложе этих последних. Только благодаря взаимодействию этих и им подобных предшествующих ступеней на одной и той же почве местного развития и восточного влияния, высокой художественной фантазии эллинов удалось выработать их три классических ордена.
IV. Древнеперсидское искусство
1. Искусство при Кире и Камбисе
Когда после падения Вавилона (в 538 г. до н. э.), вся Малая Азия подпала под власть великого персидского царя Кира, а после взятия Мемфиса (в 525 г. до н. э.) священная страна Нила признала владычество Камбиса, сына Кира, арийская раса окончательно получила господство на земле. Со времен этих государей из рода Ахеменидов персидское искусство вступает в поле зрения исторических исследований. У этого сравнительно юного искусства не было недостатка в великолепии и достоинствах, но оно еще меньше имело право называться народным, чем искусства Египта и Месопотамии, которые хотя и возделывались главным образом по воле царей, однако взросли все-таки на национальной почве и широко проникли в народ. Древнеперсидское искусство – скорее лишь искусственное, официальное создание гордого и победоносного царского рода, который был столь честолюбив, что старался возвысить уровень культуры даже у побежденных народов. Поэтому неудивительно, что рост этого искусства прекратился, как только победы Александра Великого уничтожили могущество персидских государей. Развившись, достигнув процветания и погибнув насильственной смертью в течение 200 лет (550-336 гг. до н. э.), искусство персов было, в сущности, искусством немногих поколений.
Но распространение его в пространстве было гораздо обширнее, чем во времени. Древние царства Мидия и Элам были связаны с Персией более прочными и многолетними узами, нежели провинции, завоеванные ею впоследствии. Древние столицы этих государств Экбатана (Мидия) и Суза (Элам) оставались любимыми резиденциями персидских царей, поэтому эти два города мы должны были бы считать главными центрами персидского придворного искусства; между тем в Экбатане (Гамадане) из остатков от великой эпохи Персии найдены только два подножия колонн и туловище льва. Сокровища парижского Лувра, добытые Делафуа в Сузе, все-таки представляются более ценными из открытых памятников персидского искусства. Но, заботясь о завоеванных столицах, властители из дома Ахеменидов не забывали и своей родины, лежавшей к юго-востоку. Кир предпочитал родовую резиденцию своих предков, Пасаргады, остатки которой нашли в долине верхнего течения Польвара, близ Мешед-и-Мургаба.
Но Дарий основал в 100 километрах к югу от Пасаргад новый великолепный город, Персеполь, для дворцов которого, по-видимому, и был впервые изобретен собственно персидский стиль. То, что было начато Дарием, продолжал его сын Ксеркс. Развалины Персеполя, их исследовали Тексье, Фландрен, Кост, Штольц и Делафуа, до сих пор остаются самым классическим памятником персидского искусства.
О доперсидском искусстве Экбатаны и Сузы нам известно немногое. Геродот (I, 93) описывает городские стены Экбатаны. Они шли в семь рядов, и зубцы каждого ряда, возвышаясь над зубцами предыдущего, отличались от них своим цветом, что, наверное, было заимствованием от разноцветного окрашивания террас месопотамских храмов (ср. рис. 180). Напротив того, Полибий (X, XVIII, 9-10), описывая древний мидийский царский дворец в Экбатане, изображает его деревянной постройкой, в которой колонны, карнизы и стены были обложены серебром и золотом, хотя и были только кедровые и кипарисные. Такой деревянный дворец был высок, имел плоскую крышу, стройные, просторно расставленные колонны с широкими прямоугольными капителями и с высокими и прочными подножиями. Персидские крестьянские дома на южном берегу Каспийского моря, виденные Делафуа в Мазендеранском округе, и теперь еще носят на себе тот характер построек, из которого, как кажется, образовался этот национальный стиль древнемидийских дворцов.
Изображение стен Сузы находится на одном рельефе Сарданапала в Куюнджике; некоторые рельефы на скалах, обильно снабженные надписями, дают нам представление о доперсидском стиле ваяния этого города. Один из них по одеянию и позе фигур представляет отдаленное сходство с памятниками хеттов Северной Сирии; в другом можно ясно различить стиль более позднего вавилонского искусства, которому принадлежат также и небольшие глиняные фигурки нагих богинь, найденные как здесь, так и в Месопотамии.
Из произведений эпохи Ахеменидов повсюду сохранились только гробницы и развалины дворцов. Гробницы или представляют собой отдельно стоящие сооружения, или высечены в скалах и украшены фасадами, как в Египте и Малой Азии. Дворцы, восстановление которых возможно благодаря этим, высеченным в скалах, фасадам и сохранившимся колоннам и остаткам стен, служили или для жилья, или для приемов: собственно, это были, как и ныне мы видим в Восточной Азии, обнесенные стенами места с садами, среди которых отдельные помещения не соединялись в одно целое, как в Ассирии, а стояли одно рядом с другим в виде отдельных построек. Все это были здания с плоской крышей на колоннах (архитравной конструкции), причем колонны – высокие, стройные, расставленные широко и по своему числу и значению играли во дворцах такую важную роль, как ни у одного другого народа. Колонны, углы и выступы стен, косяки дверей, окон и ниш, равно как фундамент и лестницы, были тесанные из камня, а именно из твердого, серого, иногда отливающего желтизной известняка персидских гор. Сами стены были сложены из кирпича, обычно только высушенного на воздухе, а иногда – просто из твердой глиняной массы. Антаблемент колонн и крыша были плотничной работы. Деревянная кровля позволяла широко расставлять колонны; стройность формы каменных колонн напоминала собой предшествовавшие им деревянные столбы.
Рис. 233. Гробница Кира близ Мешед-и-Мургаба. По Делафуа
Как вышеупомянутый крестьянский дом новейшего времени в Мазендеранском округе представляется для нас прототипом мидийского деревянного дворца Экбатаны, так этот последний, в свою очередь, по замечанию Перро, может считаться прототипом такого персидского дворца, в котором деревянные столбы заменены каменными колоннами. Но для развития отдельных форм каменного сооружения иранские первообразы были недостаточны. Мы увидим, как персидское придворное искусство пользовалось заимствованиями от соседей Персии, и вместе с каменным зодчеством персов познакомимся также и с их пластикой – с ваянием рельефов, тесно связанным с этим зодчеством.
Развалины Пасаргад близ Мешед-и-Мургаба относятся ко временам Кира и его сына Камбиса. Лучше всего сохранилась гробница Кира (рис. 233): это усеченная пирамида с шестью уступами, стоящая посредине двора, который некогда был обставлен колоннами; на верхнем уступе помещается сама гробница в виде домика с фронтоном. Это единственный пример постройки с фронтоном в Персии. Высота всего сооружения – приблизительно 11 метров. Нижние карнизы оснований и самой гробницы, равно как и главный ее карниз, имеют греческий изогнутый профиль. Базы колонн, окружающих двор, состоящие из покрытого желобками вала и четырехугольного плинтуса, благодаря этим желобкам представляют собой намек на базы ионического ордена (рис. 234). Сомнение, высказанное Перро по поводу мнения Делафуа, что во всем этом сооружении отражается влияние малоазийских греков, точно так же не имеет под собой почвы, как и возражение Делафуа против того, что это действительно гробница Кира, описанная Страбоном (XV, III, 7).
Рис. 234. База персидской колонны из Пасаргад. По Делафуа
Подобно тому как в Малой Азии сохранились надгробные башни наряду с фронтонными гробницами в Пасаргадах, неподалеку от гробницы Кира, возвышается на 12 метров развалина надгробной башни, сооруженной из хорошо пригнанных друг к другу тесаных камней, с выступающими по углам столбами и увенчанной зубчатой каймой. Совершенно такая же, но лучше сохранившаяся башня близ Персеполя служит доказательством того, что подобные башни имели крышу в виде усеченной пирамиды.
Об исчезнувшем великолепии дворца Кира в Пасаргадах теперь свидетельствует только одна высокая колонна; базой ее гладкого стержня служит простая круглая плита. Несколько других баз еще покоятся на своих прежних местах; кое-где уцелели также несколько углов каменных стен и нижние части дверных косяков, на которых видны ноги людей и грифов, следы находившихся тут рельефных изображений. Однако и по этим скудным остаткам можно заключить, что дворец, основные черты которого повторяются всюду в Персии, состоял из прямоугольного центрального зала с потолком, подпираемым восьмью колоннами, из портика на четырех колоннах и из боковых помещений с каждой стороны зала. Надписи не оставляют никакого сомнения в том, что это был дворец Кира; но в нем, по-видимому, жилых помещений не было. Следовательно, это был один из вышеупомянутых дворцов, служивших только для торжественных приемов.
Из памятников ваяния в Пасаргадах заслуживает внимания главным образом каменная плита, сохранившаяся от небольшого здания. На ней находится рельефное изображение обоготворенного Кира (рис. 235). Царь представлен стоящим и повернувшимся вправо. На нем – узкое, плотно прилегающее к телу ассирийское одеяние без всяких складок, окаймленное тесьмой с розетками и бахромой. Достойны внимания египетские амоновы рога в уменьшенном виде, приделанные над ушами Кира; поражают также две пары больших крыльев, как у ассирийских богов, за его плечами; своеобразен и головной убор египетских богов над его головой. Вероятно, это произведение было исполнено при сыне Кира, Камбисе, который долго жил в Египте и олицетворяет собой причисление великого завоевателя к лику богов. Но для этой цели у художника не было в распоряжении туземных формул, вследствие чего он держался ассирийских и египетских мотивов. В общем, профильное положение тела передано вполне безупречно; грудь изображена так же правильно, как и голова, и только громадные крылья кажутся скорее парящими сами по себе, чем органически приросшими к спине.
Рис. 235. Рельеф Кира в Пасаргадах. По Делафуа
2. Искусство при Дарии, Ксерксе и их преемниках
В развалинах Пасаргад имя Кира встречается только в надписях, в развалинах же Персеполя оно уже совершенно исчезает, но тем чаще попадаются начертания имен Дария I и Ксеркса I, к которым лишь изредка присоединяются имена позднейших царей. Поэтому не подлежит никакому сомнению, что развалины Персеполя содержат в себе памятники дальнейшего развития персидского искусства при Дарии. Собственно говоря, из развалин в окрестностях древнего Персеполя интересны для нас только дворцовая терраса в резиденции (Чиль-Минар, или Тахт-и-Джемшид) и гробницы в Накши-Рустеме.
Рис. 236. Царская гробница в скале близ Накши-Рустема. По Делафуа
Кроме упомянутой выше надгробной башни мы находим в Накши-Рустеме лишь фасадные гробницы в скалах. К четырем таким гробницам этой местности (рис. 236) следует прибавить еще три такие же в скалах позади большой террасы в Персеполе. Древнейшая из них – гробница Дария в Накши-Рустеме, признанная такой по находящейся на ней длинной надписи. Большую часть этого памятника занимает подражание фасаду дома или дворца. Над ним, в особом поле, помещено изображение двухэтажной художественно исполненной тронной эстрады, на которой стоит царь, молящийся божеству света. Фасад изображает собой портик на четырех колоннах, ограниченный с боков стенками. Дверь, ведущая внутрь гробницы, занимает все пространство между двумя средними колоннами. Над наличником двери, имеющим вид тройной рамы, находится египетский желобчатый, украшенный тройным рядом листьев карниз, который играет роль украшения дверей, окон и ниш во всех персидских зданиях. Колонны состоят из базы в виде вала, лежащего на двух четырехугольных плитах, из гладкого круглого стержня и из знаменитой персидской капители с головами быков в ее простейшем виде. На двух изваяниях передней части быков, обращенных спинами один к другому, и на седлообразной выемке между их шеями покоится короткая, выступающая поперечная балка, увенчанная плитой. На ней и на шеях быков покоятся верхние части фасада: архитрав, состоящий из трех гладких полос, карниз с рядом зубцов и тянущийся над ним фриз с изображениями идущих львов. Тронная эстрада верхнего поля, независимо от своих архитектурных подпор, поддерживается двумя расположенными один над другим рядами из 28 человеческих фигур в разнородных одеждах с поднятыми вверх руками. Из надписи видно, что эти фигуры – олицетворение 28 областей персидской монархии. На эстраде стоит царь в одежде, образующей множество складок, с тиарой на голове, обратившись вправо и молитвенно подняв вверх правую руку; перед ним – жертвенник, на котором пылает священный огонь; в небе плывет диск солнца – первоисточник всякого света и огня; еще выше летит помещенное в центре священного крылатого кольца изображение Агуры-Мазды (Ормузда), древнеперсидского бога света, в виде бородатой полуфигуры в царском одеянии. Это изображение представляет собой все, что дошло до нас от религиозного искусства персов. Конструкция описанного фасада гробницы лишь весьма отдаленно напоминает египетские прототипы, какие мы встречаем в горных усыпальницах Бени-Хасана и в малоазийских гробницах в скалах Пафлагонии; в частностях же ясно заметно пользование чуждыми элементами. Даже персидские капители с бычьими головами указывают на аналогии в египетском и ассирийском искусствах; но эти аналогии отнюдь не настолько поразительны, чтобы отнять у персидской колонны с бычьими головами ее художественную самостоятельность. Архитрав, несмотря на отсутствие венчающего карниза, очевидно, внушен ионическим или вообще более древним образцом; на тронных подмостках мы находим такие орнаментные формы, как ряд так называемых ов, состоящий из свешивающихся попеременно широких и остроконечных листьев, и так называемый шнур перлов, состоящий из шарообразных элементов, попеременно круглых и удлиненных, – формы, которые изобрело греческое искусство, хотя наклонность к ним наблюдается и в более древних художественных произведениях. Сюда относится египетский желобчатый наддверный карниз, ассирийское изображение божества над фигурой царя, ассирийский общий характер всего изваяния, который относительно передачи складок в духе архаического искусства Греции, разумеется, далеко превосходит и ассирийский стиль, и стиль пасаргадского изображения Кира. Уже отсюда явствует, что персидское придворное искусство было первым, следовавшим по эклектическому направлению, и что дальнейшее его развитие в этом направлении, вероятно, находилось в зависимости от присоединения Египта к Персии, последовавшего тем временем; но при этом если кроме гробницы Дария обратить свое внимание на шесть других царских гробниц в скалах, то тотчас же определятся и резкие границы этого развития: эти шесть гробниц относятся к позднейшей эпохе, и хотя новейшая из них на 150 лет моложе гробницы Дария, однако они похожи на эту последнюю и друг на друга как две капли воды. У большинства из них нет только фриза львов на архитраве.
Рис. 237. Сложная персидская колонна из персепольских пропилеев. По Фландину и Косту
Дальнейшее развитие искусства Персии представляют дворцы ее позднейших царей. Имя великого Дария носит громадная террасообразная постройка, на которой стояли царские дворцы Персеполя. Постройка эта, прислоненная задней стороной к горе и имевшая 473 метра в ширину и 286 метров в глубину, образовывала с трех сторон стену высотой от 10 до 13 метров, сложенную из камней хотя и неправильных, но отесанных и хорошо пригнанных один к другому. На подпираемую этой стеной террасу с северо-западной стороны ведет большая, удобная двойная лестница, марши которой сперва расходятся, затем симметрически идут друг против друга и наконец снова сходятся. Из колонн сооружений на этой террасе остались стоящими только пятнадцать, а от остальных сохранились лишь обломки или базы; тут же торчат, подобно призракам, каменные угловые пилястры стен и многочисленные обрамления ниш, дверей и окон, иногда монолитные, тогда как сами стены, сложенные из необожженного кирпича, уже давно рассыпались в прах. Персидская колонна, колонна времен Дария, является здесь в своем полном, сложном составе (рис. 237). Колоколообразная база покрыта узкими, свешивающимися вниз листьями, соединяющимися вверху с пальметтами и дающими ей вид каннелированной в вертикальном направлении. Круглый вал служит переходом от базы к стержню колонны и покрыт многочисленными продольными каннелюрами; длина его равняется двенадцати и более поперечникам. Капитель разделяется на три главные части – нижнюю, среднюю и верхнюю. Нижняя часть состоит из двух капителей египетского характера, помещенных одна на другой: из чашевидной (как в Солебе) и колоколообразной (как в Карнаке). Некоторые отрицают колоколообразность формы этого нижнего члена капители и видят в нем не что иное, как свесившиеся, так сказать увядшие, пальмовые листья – форму, которая могла быть заимствована от венца из листьев эолической капители, принадлежащей догреческому искусству Малой Азии. Средняя часть состоит из четырехгранного куска, украшенного на каждой грани двумя парами волют. Прототипом и этой формы могла послужить эолическая капитель. Верхняя часть представляет собой описанную выше капитель с бычьими головами (ср. рис. 235). Очевидно, в основе этого нагромождения не связанных между собой органически мотивов лежала потребность более резко расчленить чрезвычайно высокие колонны, для чего одной капители с бычьими головами оказывалось недостаточно. Но впечатление этого неорганичного соединения форм скрадывается обилием и разнообразием украшений.
Дворец Дария (жилой) в Персеполе, достроенный, как гласит надпись, лишь Ксерксом, был прямоугольный в плане, как и все персидские дворцы. Его квадратный центральный зал имел 16 колонн, расставленных в четыре ряда, а портик – 8 в два ряда. К центральному залу с трех сторон примыкали жилые помещения. Перед портиком, обращенным на юг, лежала открытая терраса, на которую с двух сторон вели лестницы. В каждом из двух треугольников, образованных на стенах этими лестницами, были изображены полурельефной работой львы, вцепившиеся зубами в спину быка, – типичное символическое украшение всех подобных мест на лестницах в Персеполе. Срединная стена между лестницами была украшена рядами воинов; на боковой ограде лестниц, снабженной зубцами, поднимавшимися вверх в виде уступов, были изображены как бы восходящие со ступеньки на ступеньку мужи, одетые попеременно один в короткую, другой в длинную одежду и несущие предназначенные для царя дары. От самого дворца уцелело лишь немного колонн, но пристенные пилястры и обрамления ниш, дверей и окон сохранились довольно хорошо. На них был представлен сам царь: на одном из дверных наличников мы видим его величественно входящим в эту дверь в сопровождении слуги, который изображен поменьше; на другой пилястре – царь, представленный спокойным и бесстрастным, борется с крылатым единорогом, у которого голова львиная, а когти птичьи; царь левой рукой держит чудовище за рог, а правой вонзает в него меч. Изобразить царя в опасном для него положении, по персидским понятиям, очевидно, было непочтительно; напротив того, следовало выразить наглядно, при помощи символического изображения, превосходство царя, который может шутя, без малейшего напряжения сил, побеждать все чудовища в мире. Прототипами и этих изображений следует считать сцены борьбы эпических героев со львами и быками, встречающиеся на древнехалдейских цилиндрах. Вся совокупность рельефов рассматриваемого дворца повторяется с некоторыми изменениями во всех остальных персидских дворцах. Везде на стенах и брустверах лестниц мы встречаем воинов, оберегающих особу царя, и представителей народа, чествующих его и подносящих ему дары, а внутри дворцов видим царя шествующим или побеждающим чудовища. Все это соразмерно, символично, торжественно. Оживленных сцен охоты и битв, какими ассирийские цари украшали стены своих дворцов, здесь нигде нет.
Персепольский дворец Дария для парадных приемов известен под названием зала со 100 колоннами. Развалины его содержат в себе достаточно данных для того, чтобы можно было мысленно восстановить его. Будучи предназначен для торжественных случаев, он не заключал в себе никаких жилых, побочных помещений. Это был громадный четырехугольный зал 75 метров в длину и ширину с потолком, подпертым 100 колоннами высотой 111/2 метра каждая. К этому залу с северной стороны примыкал открытый портик, в который вели из зала двое дверей; длиной он был около 56 метров, а глубиной 16 метров. Потолок его между боковыми стенами подпирался двумя рядами колонн, по восьми в каждом. Наружные края его боковых стен были украшены изваяниями крылатых быков с человеческой головой, в характере подобных ассирийских фигур. Колонны все принадлежали к разряду описанных выше роскошнейших персидских колонн. Стены главного зала разделялись на части дверями, нишами и окнами. На дверных наличниках найдены в двух местах изображения царя, сидящего в своей палатке, на эстраде, под охраной парящего над ним Агуры-Мазды и принимающего воздаваемые ему почести (рис. 238).
Рис. 238. Царь на троне. Персепольский рельеф. По Фландину и Косту
В отношении стиля рядом с этими персепольскими рельефами времен Дария должно отвести место рельефному изображению этого государя, вырубленному на скале по дороге из Экбатаны в Вавилон. Оно находится на высоте 50 метров над дорогой и еще издали поражает своей длинной надписью, в которой Дарий возвещает о своих деяниях. Он опирается на свой лук и попирает ногой корчащегося под ней пленника. Позади царя стоят два телохранителя. К нему подводят новых пленников в узах. Над ним парит Агура-Мазда в своем крылатом кольце.
Во всех этих персидских рельефах времен Дария заметны ассирийские стиль и приемы композиции; персидская незрелость обнаруживается в постоянном повторении одних и тех же, раз и навсегда принятых, мотивов и в неподвижности изображенных фигур, которые сами по себе и были бы способны к движению; веяние же греческой свободы чувствуется в лучшем понимании условий рельефа, в обилии складок, хотя и намеченных по-старинному, схематически, и в большей чистоте и мягкости лепки мускулов, причем, однако, локоны волос на головах все еще выделываются, как прежде, однообразно и грубо.
Рис. 239. Зал Ксеркса в Персеполе. По реставрации Шипье
Ксеркс построил для себя на южной стороне главной террасы Персеполя обращенный к прохладному северу жилой дворец, значительно превосходивший своими размерами дворец Дария. В квадратном по плану центральном зале этого здания было 36 колонн (вместо 16), а в портике – 12 (вместо 8). Некоторая перемена художественного вкуса заметна в скульптурных произведениях, украшавших этот дворец. Правда, царь и в нем является под зонтиком, который держит над его головой идущий за ним слуга, но битв царя с чудовищами уже нет, а вместо них появляется изображение красивых безбородых молодых слуг, несущих ковры, сосуды, корзины; без сомнения, это признак смягчения нравов; более мягким становится и стиль рельефа: формы его делаются более округлы, легки и гладки.
Рис. 240. Капитель с единорогами из зала Ксеркса в Персеполе. По Перро и Шипье
Дальнейшее развитие зодчества мы найдем в парадном дворце Ксеркса, особенно если вместе с Перро, Шипье и другими, ввиду полного отсутствия остатков стен, дверных и оконных частей, которые сохранились бы, придем к заключению, что этот дворец, служивший блестящим украшением Персеполя, совсем не был обнесен стенами, а состоял исключительно из крытых сверху и открытых по бокам портиков с колоннами. Двери в жилых дворцах закрывались створками, но входы дворца со 100 колоннами, как видно по их наличникам, только занавешивались. Ксеркс пошел еще дальше – совсем устранил окружные стены (рис. 239). Две пары лестниц, одна впереди другой, ведут на северную сторону дворцовой террасы; первые две лестницы, отделенные одна от другой широкой площадкой, примыкают непосредственно к стене террасы; вторая, передняя пара, имеющая более узкую площадку, устроена так, что эта последняя приходится против середины площадки первой пары. На террасе, перед квадратным в плане залом с шестью рядами колонн, по шести в каждом, находится стоящий отдельно от нее портик с 12 колоннами, расставленными в два ряда. Два портика, каждый также на 12 колоннах, высятся на таком же расстоянии по бокам главного зала. Все колонны высотой приблизительно в 191/2 метра и расставлены на расстоянии 9 метров одна от другой, считая от оси до оси. Таким образом, все это сооружение своей высотой и шириной значительно превосходит зал Дария со 100 колоннами. Стремление к разнообразию и новизне обнаруживается в нем отчасти возвращением к старине. Капители колонн центрального зала и переднего портика имеют полную, многосложную форму персидских капителей; в остальных частях дворца колонны, будучи каннелированны, возвращаются к простой форме капителей с бычьими передами, какие мы видим в фасадах гробниц. При этом в восточном портике мы находим действительное нововведение – встречающиеся только тут капители с передами единорогов, протянувших вперед свои львиные лапы (рис. 240). С другой стороны, надо заметить, что колонны центрального здания возвращаются к трехсоставным базам фасадов гробниц, между тем как передний и оба боковых портика сохраняют более новую персидскую форму базы – колоколообразную.
Рис. 241. Данники, несущие дары. Персепольский рельеф. По Фландину и Косту
Рис. 242. Кипарисы и пальмы. Персепольский рельеф. По Перро и Шипье
Скульптурные украшения широких лестниц были обильны и великолепны не менее всего сооружения. И здесь в каждом из четырех треугольных стенных пространств лестниц были изображены львы, терзающие быков, а на передней средней стене – царские телохранители. На парапетах лестниц были представлены воины, поднимающиеся со ступени на ступень. Более широкая передняя стена первой пары лестниц, шедшей позади второй, была расчленена вертикальными полосами на три поля, занятые изображениями людей и зверей, длинными вереницами направляющихся к середине: слева – придворные, воины и слуги царя, его колесницы и кони; справа – послы провинций со своими дарами, плодами и зверями. Попытка разнообразить представленное обнаруживается в том, что идущие фигуры кое-где оборачиваются назад (рис. 241); стремление к разнообразию видно также и в изображении зверей – верблюдов, зебу, лошадей, баранов, ведомых людьми; потребность в большем богатстве форм проявляется в рисунке деревьев, которыми прерываются ряды зверей и людей; из деревьев изображены лишь кипарисы и пальмы; при грубости общего очертания кипарисов их ветви и плоды в какой-то степени естественны, но пальмы имеют вид прямо скопированных с египетского "дерева пальметт": цветочные чашечки с завитками, причем из верхней распускается пальметта, как бы умышленно-условно обозначают собой ствол пальмы, а та фигура, которая, собственно, только называется пальметтой, играет здесь роль пальмовой верхушки (рис. 242). Ландшафтных фонов, какие нередко встречаются в египетском и ассирийском искусстве, в персидском придворном искусстве не имеется.
Сооружения Ксеркса на персепольской террасе завершаются пропилеями, обращенными своей узкой стороной к главной лестнице террасы, а длинной – к лестнице, ведущей к парадному дворцу царя. Таким образом, содержа в себе проходы в обоих направлениях, пропилеи служили для входа и на террасу, и в постройки Ксеркса; они состояли из архитрава, покоившегося на четырех массивных пристенных столбах и четырех колоннах; проходы в длинной стороне находились между этими парами колонн, а в узкой – между пристенными столбами, по бокам которых стояло по крылатому быку с человеческой головой известного уже нам ассирийского типа.
Рис. 243. Капитель колонны из Сузы. С фотографии
Прочие постройки на персепольской террасе, из которых на самой поздней находится надпись Артаксеркса-Оха (362-339 до н. э.), менее значительны и для нас менее поучительны. Существенно новыми формами не могут похвалиться также и персидские дворцы в Экбатане и Сузе. Каменные колонны, открытые при раскопках Делафуа, начатый Дарием и законченный Артаксерксом Мнемоном парадный дворец в Сузе, остатками которого можно любоваться в Луврском музее в Париже (рис. 243), представляют избыток форм, распространенных в других памятниках вполне развитого персидского искусства. Нечто новое мы находим здесь во фризах, сложенных из цветных глазурованных глиняных плит. Сохранившиеся куски этих фризов сложены и пополнены с большим искусством; они также находятся в Лувре. Суза лежала на краю месопотамской равнины. То обстоятельство, что здесь, как и в Вавилоне, кирпич служил материалом для исполнения некоторых задач каменной пластики, следует считать не столько свидетельством дальнейшего развития персидского искусства при Артаксерксе Мнемоне, сколько явлением, зависевшим от географических условий. Наиболее знамениты фриз с изображением царских лучников (рис. 244) и фриз со львами, хранящийся в Лувре (рис. 245). Где, собственно, помещались эти фризы, не совсем выяснено; однако фриз со львами, отличающийся тонкостью в отделке даже жил на головах, во всяком случае украшал собой высокую часть здания. Что касается фриза с лучниками, то надо заметить, что ни у одного из них не сохранилась голова, и все головы воспроизведены вновь по масштабу голов на каменных рельефах Персеполя. Однообразность фигур в обоих фризах поразительна; она станет для нас понятна, если мы вспомним, что эти рельефы исполнены посредством оттиска глины в одну и ту же форму. Девять фигур лучников, сложенных из обломков фриза, опираются обеими руками на копья; луки закинуты у них за плечо, и у каждого висит колчан за спиной. В одежде, вместе с уже известным нам изображением складок, мы видим узоры, состоящие попеременно из розеток и ромбов. Краски ограничиваются белой, черной, коричневой и желтой, если не считать синевато-зеленой, преобладающей в фоне. Красная краска не встречается. В каймах вокруг этих картин, так же как и на других обломках подобных кафельных произведений искусства Сузы, мы встречаем всю орнаментику Персии, как будто перечень всех ее мотивов: уступчатые зубцы, отчасти со стрельчатыми углублениями внутри, полосы треугольников, тесьмы с розетками, ассирийские ряды пальметт, связанных между собой непрерывными дугообразными лентами, и рядом – различные вариации мотивов пальметты и пальмового дерева (рис. 246). И в этой области персидское придворное искусство не создало ничего нового.
Рис. 244. Фриз с фигурами лучников в Сузе. По акварели Макса Кюнерта (фотография) и по реставрации дрезденского Альбертинума
Рис. 245. Фриз с фигурами львов из Сузы. С фотографии
О так называемом мелком искусстве Персии сообщать почти нечего. Бронзовые фигурки были найдены только в области Сузы. Хранящаяся в Лувре статуэтка мужчины, обнявшего левой рукой сидящую возле него большую собаку, при довольно расплывчатом исполнении имеет скорее персидский, чем вавилонский характер. Персидские цилиндрические печати походят на ассирийские и нередко представляют более оживленные охотничьи и военные сцены и более реалистичные пальмы, чем те, какие мы встречаем в крупных произведениях персидского искусства. Одна из цилиндрических печатей Дария находится в Британском музее. Здесь следует предположить участие вавилонских мастеров, точно так же как в крупных произведениях персидской пластики – участие малоазийских. Так как у персидского влияния не было сколько-нибудь видного прошлого, то, принимая во внимание его техническое совершенство, трудно думать, чтобы оно возделывалось самими персами. Недаром мы имеем сведения о разных греческих художниках, работавших при дворе персидских царей, и отнюдь не немыслимо, чтобы они до такой степени подлаживались к желаниям своих заказчиков даже и в отношении общего стиля своих работ, что сохраняли лишь те греческие черты и приемы, которые сразу бросаются в глаза в пластике персидских рельефов. Очевидно, эта пластика относится к более поздней, свободной и менее суровой поре, чем древнеегипетское и древнеассирийское искусство; конечно, в ней иногда ощущается временное соприкосновение с эллинским искусством эпохи его наибольшего блеска, но нигде она не приковывает к себе нашего внимания каким-либо изящным мотивом, самобытной мыслью, народной чертой, нигде не замечается в ней перехода к свободе и зрелости современного ей греческого искусства. Пластика персов неизменно оставалась придворным искусством древнего мира.
Рис. 246. Сузские пальметты и пальмы. По Делафуа
Оценка персидской архитектуры не столь неблагоприятна. Распознавать, откуда она заимствовала большинство своих отдельных мотивов, нетрудно; но во всей своей общности зодчество персидских дворцов представляется в значительной степени действительно местным, своеобразно прекрасным продуктом. Пространные террасы, служащие основанием зданий, удобные двойные лестницы, леса колонн, состоящих из нескольких частей и богато орнаментированных, цветные архитравы и потолочные балки сливались в одно красивое целое. Не только между частями колонн, но и в отделке дверей и окон существовала строгая пропорциональность, основанная, как доказал Делафуа, на определенных численных отношениях (ширина относится к высоте как 1:2, 2:3, 2:5), которые впервые соблюдаются здесь и в Греции. Конечно, персидской архитектуре времен Ахеменидов не было суждено оказать продуктивное влияние на европейское искусство, которое быстро приобрело бы мировое значение, но для Дальнего Востока чудные сооружения Персеполя были, так сказать, светочами более чистого мира искусств. Мы увидим далее, что зачатки буддийского искусства Индии проникнуты персидским веянием.
Книга третья Греческое искусство
I. Искусство до Персидских войн
1. Введение. Искусство в 900-575 гг. до н. э.
Искусство долины Нила и Месопотамии существовало уже тысячи лет, когда греческое искусство только начало становиться на ноги, чтобы, достигнув в своем быстром, победоносном шествии необычайной высоты, завоевать Европу, Африку и Азию. С тех пор прошли тысячелетия, и греческое искусство, несмотря на средневековое междуцарствие и стремление нового времени сбросить с себя его оковы, все еще пользуется известного рода преобладанием: вспомните новейшие великолепные постройки всего мира, все еще обильно заимствующие свои формы из греческих орденов, и программы обучения в наших художественных школах, в которых теперь, как и раньше, срисовывают и воспроизводят греческие статуи. Это проникло в наше сознание, на каждом шагу можно встретить орнаментные формы, прямо или косвенно заимствованные у Греции.
"Правда, свобода и красота" – вот те оспариваемые только хмурой теорией понятия, которым греческое искусство обязано тем, что оно господствующее в мире. Искусству греков удалось достичь правды в подражании природе. Оно впервые, путем продолжительной борьбы, воспитало в себе умение не только передавать человеческий образ во всей чистоте его соотношений, со всеми подробностями его тела, во всей жизненности свойственных ему движений, но и изображать его внутренний мир со всеми ощущениями, выражающимися в его телодвижениях и отражающимися в его мимике: греческое искусство постепенно научило нас видеть в обширных связных изображениях не более как отрезки от всего мира явлений, передающие их приблизительно верно; ему впервые удалось, идя шаг за шагом, вложить в изображения своих богов и героев столько внутренней правды и столько убедительности, что они принуждают зрителя к их почитанию и самоочищению. Греческое искусство впервые добилось свободы в своих творениях не только в натуралистическом направлении, точно передавая анатомию тела и движения души, но и в независимости этого изображения от всех прочих духовных сил и от соседних миров искусств, оказывавших на него влияние в эпоху его младенчества. В пору своего расцвета ни одно искусство никогда не бывало до такой степени национальным, как греческое. Оно отражало одну лишь природу, и притом так, как ее видел греческий глаз, который привык олицетворять все, что он видел. Олицетворялись греческие боги, леса, горы, источники, моря, небесные явления, солнце, луна и звезды, города, наконец, даже добродетель и порок (антропоморфизм). Своим вечным значением греческое искусство в значительной степени обязано этой свободной человечности. Красота же греческого искусства несомненно состоит в его правде и свободе; кроме того, как и всякая художественная красота, она заключается в полном согласии формы с содержанием; вместе с тем, относительно формы, красота заключается и в целесообразности, которой греческий художник, там, где это необходимо, подчинял и саму свободу. Все, что было сказано о власти искусства воссоздавать творения природы в ее духе, но с устранением случайностей, которые в частностях отклоняют ее в сторону, – все это прежде всего мы находим в искусстве греков. Некоторые из их собственных изречений гласят об этом. В свои лучшие времена, времена полной самостоятельности, частные образы, которые это искусство представляло, незаметно сделались в его руках типами, превратились в образцовые фигуры всего мира людей, героев и богов, из которого были взяты. Чтобы достичь высшей человеческой красоты, греческие художники уже с ранних пор стали заниматься определением численных отношений между отдельными частями тела. В изменении этих отношений прежде всего выражались перемены вкуса как отдельных художников, так и разных эпох. Конечно, многие из величайших художников во все времена творили на основании лишь собственного наблюдения, и это мы могли потом вычислить в их созданиях; но тот факт, что мы могли произвести такое вычисление, служит доказательством целесообразности принятых греками соотношений. При всем том в пределах этой целесообразности царили свобода и мягкость. Даже греческие архитекторы – а у скульпторов это само собой понятно – любили отнимать у соотношений их оцепенелость через незначительные отклонения от геометрической правильности и этим способом иногда едва заметно сообщать своим произведениям вид органического целого. Разумеется, для изображения красоты душевной, говорящей от сердца сердцу, не было никаких формул; однако греческое искусство в одушевлении своих произведений превзошло все, что было создано более древними народами и прежними временами: в наиболее зрелых его созданиях форма и содержание соединены между собой совершенно.
Идеализм и реализм, стиль и природа сливаются в греческом искусстве в одно неразрывное целое. В области его задач стоят рядом, пополняя друг друга, идеальный фантастический мир и мир исторический, или мир настоящего и действительности. Художественная фантазия греков теснейшим образом связана с их поэзией. Поэмы Гомера и Гесиода, впервые создавшие для греков небо с его богами и землю с ее героями, передали пластическим искусствам их главный материал в ясной, как кристалл, форме. В отношении создания образов поэзия в Греции шла впереди изобразительных искусств. Точно так же и трагедия выступила на поприще изображения высших духовных возбуждений в то время, как живопись и скульптура греков стремились к достижению высшей свободы в передаче душевных ощущений и страстей.
Греческое искусство, прежде всего ваяние, воспроизводило действительность и выросло непосредственно из состязаний, объединивших эллинские племена со времени учреждения Олимпийских игр. В беге, скачках, борьбе испытывалась физическая сила и ловкость греков. Победителя ожидали высокие почести. По всей Греции возникли гимназии – учреждения для упражнения в силе и ловкости, где молодые люди, раздевшись донага, подготовляли себя к торжественным играм. Благодаря этому греки довели тело до совершенства соразмерности его членов, и греческие художники рано получили возможность изучать мужское тело со всех сторон и во всех движениях. Статуи, которые воздвигались в честь победителей, были ближайшим и наиболее непосредственным доказательством влияния физических упражнений при изображении обнаженного тела.
Наконец, только в истории греческого искусства художник впервые выступает на передний план. В больших монархиях Востока и Юга личность отдельных граждан терялась в громадной массе подданных, поэтому в их истории искусства не упоминается о тех или других художниках. Напротив того, в небольших государствах Греции, географическая раздробленность которой не благоприятствовала их объединению, на развалинах древнего монархизма выросла гражданская независимость отдельной личности. Уже во времена тиранов, в VI в. до н. э., в Греции появляются первые исторически известные художники; вместе с развитием гражданской свободы увеличилось количество имен художников и их значение. Вскоре явились мастера, имена которых потомство называет с благоговением. И как ни постепенно и ни органически шло развитие греческого искусства (причем ни один художник резко не порывал своей связи с традициями, а, стоя на почве произведений старины, совершенствовался в исполнении частностей), последовательные ступени развития искусства связаны с именами определенных мастеров, а само развитие шло вперед безостановочно и неудержимо.
Вследствие этого в истории греческого искусства рядом с историей художественных памятников получает место письменная, главным образом литературная, и передаваемая надписями история художников. Но так как лишь немногие из памятников греческого искусства снабжены надписями с именами мастеров и лишь ничтожное число этих памятников может, на основании несомненных источников, быть признано подлинными произведениями знаменитых мастеров, то история художников привходит в историю греческого искусства только как отдел литературных источников для истории памятников искусства, которые говорят сами за себя и на которую можно смотреть как на почти самостоятельную отрасль знания. Показать связь между историей греческих художников и сохранившимися памятниками греческого искусства – одна из главных задач художественной археологии. Иоганн Винкельман, отец истории греческого искусства, выпустивший свой главный труд в Дрездене в 1764 г., основывался на изучении памятников, хотя и почти не был знаком ни с одним из оригинальных греческих произведений, сделавшихся доступными для нас уже позже. Винкельман категорически заявил, что своей задачей он вовсе не считает проверку и исправление истории греческих художников. Спустя почти 100 лет после него Генрих Брунн, труд которого появился в 1857-1859 гг., снова взялся за историю греческих художников, причем, собрав все предшествовавшие работы по этому предмету, пополнил их длинным рядом сохранившихся произведений, которые прямо или косвенно приписал определенным мастерам или школам. Прошло еще одно поколение, и Адольф Фуртвенглер (его труд издан в 1893 г.), основываясь опять-таки на произведениях древнегреческого искусства и их копиях, число которых тем временем возросло в совершенно неожиданной степени, счел себя уже продвинувшимся в этом деле достаточно для того, чтобы приписать каждое из античных произведений, сохранившихся в оригинале или в копии, тому или другому из известных художников и поставить его в связь с определенными его созданиями, упоминаемыми в литературных источниках. Таким образом, он считал возможным в скором времени поставить "на место прежней бледной и тощей картины совершенно иную, гораздо более богатую красками картину истории греческого искусства". То обстоятельство, что Фуртвенглер смело приписывал сохранившиеся произведения известным художникам, не мешает нам признавать, что его выводы значительно обогатили историографию греческого искусства.
Если исследование истории греческих художников после появления труда Брунна, положившего ей основание, установило сравнительно немного новых точек зрения, то количество греческих памятников, и именно оригинальных, разрослось неимоверно. Считаем излишним возвращаться к раскопкам в Трое и областях распространения микенской культуры; но необходимо упомянуть, например, о немецких раскопках в древнем укрепленном городе Олимпии, предпринятых под руководством Курциуса и Адлера в 1875-1881 гг.; о немецких раскопках Конце и Гуманна в 1878-1886 гг. в акрополе Пергама, столицы Атталидов, в Малой Азии; о французских раскопках на Делосе, острове Аполлона, и в Дельфах, городе славнейшего из оракулов древности: о раскопках, произведенных греческим археологическим обществом в афинском Акрополе и в Элевзисе; о немецких раскопках на Приене и в Милете. Со времен всех этих раскопок, вызвавших к новой жизни массу оригинальных произведений, покоившихся в мертвенном сне в продолжение 1,5 тыс. лет, история греческого искусства совершенно преобразилась.
В конце 2-го тысячелетия до н. э. в области, занятой впоследствии греками, происходили передвижения народов и переселения племен, вследствие чего на местах пеласгийских или ахейских микенских рас осели эллинские. Одни за другими явились на сцену эолийцы, ионийцы и дорийцы эллинского корня. Эолийцы заняли северную часть западного берега Малой Азии и соседние с ним острова, особенно Лесбос. Ионийцы, вышедшие, вероятно, из Афин, заселили среднюю часть западного берега Малой Азии, на котором основали большие города Милет, Эфес, Колофон, Клазомены и другие, а также среднюю группу островов Эгейского моря: Наксос, Делос, Парос, Хиос и Самос. Потом дорийцы после своих странствований, известных под названием "переселение дорийцев" (около 1100 г. до н. э.), завладели Пелопоннесом и заняли южную часть западного берега с Книдом и Галикарнасом, а также южные острова: Кифера, Крит, Мелос, Фера, Кос и Родос. Спустя еще несколько столетий возникли греческие колонии на берегах Сицилии и Южной Италии, известные впоследствии под общим наименованием Великой Эллады. В IX столетии до н. э. возникли поэмы Гомера. Начиная с VIII столетия (776 г. до н. э.) ведется эллинское летосчисление по Олимпийским играм. С начала VII столетия распространяется влияние пифийского оракула в Дельфах, проникающее всюду, где только звучит эллинский язык, и даже еще дальше, вплоть до Фригии и Лидии, откуда цари посылают свои дары этому "пупу земли". История греческого искусства начинается, если не принимать в расчет легендарных имен, а также древнейших из надписей на вазах, лишь с VI в. до н. э. Но уже с VII в. до н. э. можно проследить развитие греческого искусства по сохранившимся памятникам различного рода, а некоторые виды художественных произведений, в особенности расписные глиняные сосуды, уводят нас еще на несколько столетий назад.
История греческой архитектуры благодаря произведенным раскопкам изменилась. Такие исследователи, как Дёрпфельд, Ребер, Перро и Шипье, взгляды которых так удачно свел воедино Ноак, производят греческий храм прямо от мегарона – зала мужчин у микенцев и троянцев (ср. рис. 195). Троны и столы для яств (жертвенники, алтари), воздвигавшиеся невидимым, лишь воображаемым богам, были предшественниками храмов. Только после того, как греческие героические поэмы закончили выработку образов богов, ощутилась потребность строить для них жилища, подобные человеческим. Священный алтарь, на котором возжигался жертвенный огонь, помещался вне этих зданий, на дворе. Священный двор (temenos, peribolos) был обнесен стеной, которая спереди иногда прерывалась монументальными воротами (propylon). Собственно храм имел назначение служить лишь жилищем для божества, кровом над его троном. Вначале греческие храмы, подобно уже описанным нами микенским акрополям, строились только из необожженных кирпичей и дерева и покрытие их состояло из плоской глиняной настилки по горизонтальным балкам. Главный покой мегарона превратился в продолговатый зал храма, в целлу, собственно жилище божества. Портик (pronaos), закрытый с боков, спереди же открывавшийся наружу двумя колоннами, помещенными между продолжениями продольных стен целлы (антами), обычно устраивался также с задней их стороны и в этом случае назывался описфодомом (opisthodomos). Но благочестие и художественное чутье древних эллинов не довольствовались таким чересчур простым преобразованием в храм жилища земных властителей. Для того чтобы устроить для богов празднично украшенные приюты, греческие зодчие окружали храм в антах со всех его четырех сторон открытой галереей с колоннадой и такой вполне законченный периптерический храм (peripteros) воздвигали на платформе с несколькими ступенями с целью вознести его над земным прахом. Некоторые ученые отрицают, что храм в антах предшествовал периптерическому, но нам это кажется вполне естественным. Лишь под конец развития формы храма его плоская кровля превратилась в двускатную, которая, быть может, уже давно применялась в частных постройках Греции, точно так же как и Малой Азии (ср. рис. 228). Низкие фронтоны над короткими сторонами здания почти всегда были обращены один к востоку, другой к западу. Надо признать доказанным, что крыши храмов, как и их колонны, даже в законченном виде периптерического храма, сначала были деревянные, хотя и обложенные кирпичом и обожженной глиной.
Рис. 247. Базилика, или храм, Посейдона в Пестуме. Справа – храм Цереры. Рисунок О. Шульца с фотографии
Частные изменения, происшедшие в греческом строительстве храмов, легче всего проследить в дорическом стиле. Триглифный фриз, первообразом которого, по всей вероятности, был описанный выше тиринфский расчлененный алебастровый фриз (ср. рис. 196), с развитием окружающей колоннады перешел с антов на антаблемент этой последней и распространился на все четыре ее стороны. Вместе с тем микенская колонна превратилась в деревянную дорическую. Четырехугольная плита над капителью (абака) удержалась. Круглый вал превратился в скошенный снизу эхин. Желоб под ним, украшенный венком из стоячих, вверху отгибающихся листьев, в эпоху развитого дорического стиля еще долго сохранял свои очертания и украшения. Но колонны, сделавшиеся более толстыми и состоявшие из целых древесных стволов, соответственно своему натуральному характеру стали суживаться в направлении снизу вверх, а не сверху вниз, как в микенском искусстве (рис. 247). Деревянные колонны постепенно уступали место каменным, каннелированным. Что в этом случае образцом для греческих зодчих служили египетские протодорические каменные колонны (ср. рис. 121), ученые столь же часто утверждали, как и отрицали; но вообще это представляется возможным, если примем во внимание, что именно в рассматриваемую эпоху Египет начал вступать в сношения с греками.
Рис. 248. План Герэона в Олимпии. По Дёрпфельду
Полагают, что в Герэоне, храме Геры в Олимпии, мы обладаем доказательством того, что весь этот процесс развития шел именно таким путем. Как бы то ни было, это святилище Геры, высшей небесной богини, считается древнейшим из греческих храмов, от которого сохранились вполне согласующиеся между собой остатки (рис. 248). Его сооружение вполне основательно относят раньше VII в. до н. э. Окружающая его колоннада, в противоположность позднейшим храмам, стоящим на трехступенчатом основании, возвышается на основании лишь с одной ступенью. В ней было по 6 колонн на коротких сторонах и по 16 – на длинных. Она была такой значительной длины, какая позднее не часто повторялась. Некоторые из колонн, сделанных из мергелевого известняка (poros), – монолитные, большинство же их сложено из кусков; на одной из них 16 каннелюр, но на большей части – уже по 20. В капителях выказывается весь ход развития дорической капители. У более древних под весьма выпуклым эхином еще имеется желоб, но он вскоре исчезает, а эхин постепенно принимает почти прямолинейный профиль (рис. 249, а-е). Замечено, что деревянные колонны первоначальных храмов с VII столетия стали мало-помалу заменяться каменными. Действительно, Павсаний, известный греческий путешественник II в. н. э., лучшим истолкователем которого надо считать Вильгельма Гурлитта, сообщал, что еще в его время одна из колонн заднего портика Герэона была деревянной. Внутреннее помещение этого здания представляет весьма показательный пример того, как из боковых капелл храма развилось его разделение на три корабля, причем стены этих капелл, служившие также и для поддержки потолка, сносились, как только замечалось, что концевых колонн, когда они вполне круглые, совершенно достаточно для опоры потолочных балок. После этого длинный зал оказывался разделенным двумя рядами колонн, по восемь в каждом, на широкое среднее пространство и на две узкие боковые галереи. Первоначально плоская глиняная крыша была в VII в. до н. э. заменена двускатной крышей из кирпичных плит с фронтонными придатками (акротериями) из обожженной глины. Относительно происхождения этих акротериев фронтона Бенндорф произвел любопытные исследования, подтвержденные потом и продолженные Треем. Акротерии надо считать отделкой круглых передних концов цилиндрических деревянных балок, которые, будучи видны снаружи, проходили вдоль вершины малоазийских деревянных домов. Круглая форма древнейших фронтонных акротериев объясняется, таким образом, сама собой. Среди остатков терракотовых архитектурных частей олимпийского Герэона также найден дискообразный придаток крыши. Своим техническим исполнением и своеобразной окраской эти терракоты напоминают древнейшие микенские глиняные сосуды. Узор, уже несколько углубленный, иллюминирован белой, желтой и фиолетовой красками по матовому полированному черному или темно-красному фону. Встречается пластически грубо выполненный круглый столб с розетками. Плоские орнаменты состоят из кружков, чешуек, шахматных и зубчатых узоров. Проскальзывают также восточные плетенки из лент и волнообразные полосы. Однако растительные формы еще не встречаются.
Рис. 249. Развитие капителей колонн Герэона в Олимпии (от а до е). По Дёрпфельду (из сочинения Курциуса и Адлера "Олимпия")
Рис. 250. Развитие капителей архаических дорических колонн: a – из сокровищницы Атрея в Микенах; б – на Львиных воротах в Микенах; в – из Герэона в Олимпии; г – из храма С в Селинунте; д – из храма D в Селинунте; е – из эллинского храма в Тиринфе; ж – из святилища Кардиако, на о. Корфа; з – из храма Аполлона в Сиракузах; и – из сокровищницы сиракузцев в Олимпии. По Ноаку
В общем внешнем виде законченного дорического каменного храма, в каком мы встречаем его в начале VI в. до н. э., особенно в древнейших и южноитальянских храмах, бросаются в глаза колонны окружной галереи, как бы прямо вырастающие из их общего подножия, сложенного из массивных плит, и снабженные 16-20 вертикальными сегментообразными в поперечном разрезе углублениями (ложками, каннелюрами) с острыми краями (см. рис. 247). Колонны стоят на расстоянии 11/4-11/2 своего нижнего поперечника одна от другой. Высота их, при увеличивающемся их стремлении к большей стройности, колеблется между 3-м и 4-м нижними поперечниками. За стержнем колонны идет его шея, отделенная от него на границе его верхнего куска одной или несколькими узкими выкружками и состоящая в более древних колоннах из упомянутого выше желоба, украшенного венцом из листьев (рис. 250) и постепенно исчезающего в течение VI столетия. Над шеей колонны несколько поясков (kyma) охватывают эхин, за которым следует четырехугольная плитка (abacus), довершающая собой капитель колонны, а с ней и нижнюю, поддерживающую часть сооружения. Верхняя часть последнего состоит из двух членов – архитрава (epistylion) и фриза (рис. 251). Архитрав, состоящий из каменных балок, перекинутых от оси одной колонны до оси соседней, – гладкий и заканчивается вверху выступающей полочкой, под которой на определенном расстоянии один от другого приделаны небольшие бруски с коническими каплями на них, похожими на головки гвоздей. Эти шесть капель, свешивающиеся с каждого из этих брусков, произошли, вероятно, от деревянных колышков, служивших для скрепления частей. Дорический триглифный фриз, идущий над архитравом, состоит из четырехугольных поверхностей, попеременно выступающих вперед и несколько отступающих назад. Выдающиеся вперед части называются триглифами; в них врезаны в вертикальном направлении две каннелюры, и две половинки каннелюр ограничивают их края. Триглифы находятся как раз над вышеупомянутыми брусками с каплями, которые как бы составляют с ними одно целое. Отступающие назад части, так называемые метопы, представляют собой, собственно говоря, гладкие поверхности, но нередко они бывают украшены скульптурной работой. Над триглифным фризом лежит, сильно выступая вперед, карниз (geison), венчающий собой антаблемент; его нижняя горизонтальная поверхность, так называемый слезник, снабжена, соответственно каждому триглифу и каждой метопе, рядом четырехугольных продолговатых пластинок (mutuli, viae), усаженных каплями. Карниз завершается полосой слегка изогнутого профиля. Подобные карнизы, но без пластинок с каплями, окаймляют фронтон. По краю карниза (sima), за которым собиралась дождевая вода, были рассажены львиные головы, через открытые пасти которых она могла выливаться. Акротерии, увенчивавшие собой вершину и углы фронтона, нередко имели форму зверей, человеческих фигур или сосудов. Крайние черепицы кирпичной крыши здания с длинных его сторон обычно имели вид пальметт. Но главным украшением храмов служили скульптурные произведения, помещенные как на метопах, так и на фронтоне. Монументальная скульптура Греции увековечила свою славу преимущественно исполнением фронтонных групп для храмов и других зданий.
Рис. 251. Антаблемент храма С в Селинунте. С фотографии
Впечатлению от дорического храма в значительной степени способствовала обильная, но изящная раскраска. Законченный греческий каменный храм представлялся очень расцвеченным. Здание вообще было одного цвета, но отдельные его части получали полную окраску, как правило в красный или синий цвет. Раскопки, однако, не подтвердили предположения, будто эхин и абака дорических капителей были всегда раскрашены. Но криволинейная часть карниза и прямые брусья архитрава уже в раннюю эпоху получали цветные украшения, один – в виде венка из широких, свешивающихся книзу листьев (рис. 252, а), другие – в виде ленточного меандра, простого или извилистого. Триглифы были обычно темно-синего цвета, а метопы оставлялись белыми или окрашивались в своей плоскости. Но окраска всюду служила не для сглаживания форм, а, напротив, для придания им большей рельефности. Свешивающимися книзу листьями выражалась обремененность их тем, что лежит над ними. Венчающие брусья украшались венками пальметт (анфемий) скульптурной работы или написанными краской.
Рис. 252. Киматии: а – дорический; б – ионический; в – лесбосский. По Баумейстеру
Внутреннее помещение большого, главного храма сохраняло свое разделение на три корабля, с которым мы уже ознакомились при описании олимпийского Герэона. Каменный потолок, разделенный на четырехугольные углубленные поля (потолок с кассетами, с калимматиями), с золотыми звездами в середине каждого такого поля, выкрашенного в голубой цвет, скрывал за собой деревянные кровельные стропила. Мнение, будто большинство значительных храмов получало свет через отверстие в крыше, со времен исследований Дёрпфельда и изысканий Дурма считается несостоятельным. Как видно из заметок Витрувия, древнеримского зодчего и писателя, гипефральные храмы с открытым, светлым пространством внутри составляли лишь редкие исключения. Почти во все известные и прославленные греческие храмы свет проникал единственно через их монументальные входные двери; при ярком южном солнце этого отверстия было достаточно для освещения внутренности храма.
Но главная прелесть архитектуры греческих храмов заключалась не внутри, а снаружи этих зданий. Эллинское обиталище божества производило впечатление не внутренней, а наружной своей стороной. Все было геометрически соразмерно, и этим в особенности отличался дорический храм. Здесь лучше всего можно проследить, как смягчалась эта строго геометрическая соразмерность и допускались легкие отклонения от нее, производившие впечатление органической жизни. Сюда относятся: замена прямых линий несколько изогнутыми; курватуры, то есть небольшие утолщения на горизонтальных балках дорических храмов; припухлость (entasis) и утончение стержней колонн; легкий наклон наружных колонн кнутри; сужение промежутков между угловыми колоннами и неправильность в положении триглифов, которыми отмечались оси каждой колонны и каждый пролет между колоннами и которые в развитом дорическом стиле на крайних концах фриза как бы сдвигались с оси колонны в угол. Общая форма дорического храма так гармонично закончена, что еще Беттихер в "Тектонике эллинов", в труде, некогда знаменитом, а теперь устаревшем, объяснял происхождение деталей этой формы не на основании истории их развития, указывающей всюду на их происхождение от деревянных построек, а на основании теории идеального воплощения абстрактных конструктивных и статических законов. Остается, однако, несомненным, что законченный дорический храм представляет в своей архитектуре строгое соблюдение конструктивных законов тяжести и ее подпор и в отдельных формах выражает эти законы самым ясным образом. Остается несомненным также и то, что стремление устраивать тихие жилища богов под кровлями, опирающимися на колонны, привело к полному, наисовершеннейшему развитию построек с колоннами и фронтонами. Но прежде всего остается истиной, что это художественное творчество, откуда бы оно ни заимствовало отдельные архитектурные элементы, было вполне самостоятельным проявлением греческого гения. Во всем мире нет архитектурного произведения, которое было бы подобно дорическому храму. Как целое сооружение он не имел предшественников себе, и это сооружение во всей совокупности своих частей было так поразительно, что искусство человечества твердо удержало его до наших дней.
В Южной Италии и на Сицилии сохранились остатки древнейших греческих храмов, более значительные, чем в самой Элладе, метрополии этих колоний. В Пестуме и Акраганте (Агридженто) эти остатки еще держатся; в Селинунте, Сиракузах и других местах, как известно, они уже повалились на землю. Подробное научное исследование, которое провели Кольдевей и Пухштейн, пролило свет на историю развития греческого храма. Дорические храмы этой части Западной, или Великой, Греции, постройка которых, как бы то ни было, относится к началу VI столетия, в свое время производили вообще впечатление строгости, даже некоторой тяжеловесности. В них имеется передний портик (pronaos), но задний портик (opisthodomos) еще отсутствует. Угловые колонны еще не сближены. Тесно расставленные, приземистые колонны имеют большую припухлость на стержне (entasis). Низкая капитель сильно выдается вперед. Желоб с венком из листьев под капителью является ее постоянной принадлежностью. Триглифный фриз несколько уже, чем архитрав. Фронтон сравнительно высок. Центральный храм в Селинунте (так называемый храм С) построен в начале VI столетия; колонны его – монолитные и имеют по 16 каннелюр. В окружающей его галерее было по 6 колонн на коротких сторонах и по 17 – на длинных, так что он еще более вытянут в длину, нежели храм Геры в Олимпии. Портик его замкнут передней стеной, но зато ряд колонн перед ним двойной. Его антаблемент выставлен в Палермском музее (см. рис. 251). Несколько позже сооружен северный Селинунтский храм (так называемый храм D). У него по 6 колонн на коротких сторонах и по 13 – на длинных, так что мы находим здесь уже нормальное численное отношение. Портик этого храма ограничен с боков не антами, а тремя четвертями колонн. Колонны портика имеют по 16, а колонны окружной галереи уже по 20 каннелюр. Мегарон Деметры в Гаджере, близ Селинунта, в котором, вместе с особенно древними формами карниза, мы находим в этом последнем намек на египетский желоб, любопытен открытым положением всего святилища с окружающими его двор стенами, входными воротами и алтарем. Древнейший храм Пестума (см. рис. 247), так называемая базилика, имеет 9418 колонн; соответственно нечетному числу колонн своей передней стороны он разделен внутри центральным рядом колонн на две части. Немного позже выстроен так называемый храм Деметры в Пестуме; его колонны, числом 6413, украшены уже 24 каннелюрами. Его портик, находящийся внутри окружной галереи, лишь наполовину огорожен с боков стенами (in antis), а передняя его половина состоит из трех свободно стоящих колонн (prostylos). Если оба этих храма сооружены действительно лишь в середине VI в. до н. э., то стиль их все-таки соответствует стилю построек, господствовавшему на Востоке в начале этого века.
К числу древнейших дорических храмов подобного рода принадлежат храм в Таренте, святилище Зевса в Сиракузах, храм Аполлона на острове Ортигии, близ этого города, и храм священного колодца в Кардако, на острове Корфа. Но и в Афинах открыты остатки древнейших городских храмов. Раньше позднейшего дорического храма, великолепного Парфенона Перикла, в афинском Акрополе, существовало не меньше трех храмов, посвященных Афине Палладе: один построен после персидских войн на том же самом месте, где красуется Парфенон, а два других – до персидских войн вблизи от того пункта, на котором впоследствии находился Эрехтейон. Остатки древнейшего из этих древних храмов были открыты и сложены вместе. Они относятся также к началу VI в.
К древнейшим дорическим храмам прежде причисляли (например, Дурм) храм в Ассосе, на эолийском берегу Малой Азии. На его колоннах – от 16 до 18 каннелюр. На брусочках под триглифами и на мутулах нет капель. На архитраве, вопреки обычаю, находятся скульптурные украшения. Судя по стилю этих украшений, к которым мы еще вернемся, они должны быть более позднего происхождения. Самым древним из сохранившихся дорических храмов прежде считали храм в Коринфе. Без сомнения, он принадлежит глубокой древности, как о том можно заключить по тому, что в его окружной галерее 6415 колонн, равно как и по их тяжеловесным стержням на 20 каннелюрах и по сильно выдающимся вперед капителям, еще лишенным желобчатой шеи (рис. 253).
Рис. 253. Часть храма в Коринфском кремле. С фотографии (collection Merlin)
Сокровищницы в Олимпии знакомят нас с родом построек, очень важным для истории зодчества. Адлер называл их "архитектоническими дарами", посвященными высшему божеству. Их портики с фронтоном, поддерживаемым колоннами, доказывают, что фронтон и колоннады не составляли в Греции исключительной принадлежности храмостроительству. Но уже одно расположение этих построек с севера на юг, а не с запада на восток резко отличает их от храмов. Сооружавшие их государства заказывали изготовление их частей из туземного камня у себя дома и затем отправляли их в Олимпию, где из них складывали здания. Древнейшая сокровищница в Олимпии – сокровищница сицилийского города Гелы относится к началу VI в. Она получила в истории строительного искусства важное значение, так как по этому сооружению было впервые выяснено, что в древнедорическом стиле карнизы фронтона и боковых сторон здания нередко бывали облицованы расцвеченной терракотой.
Рис. 254. Терракотовое украшение храма С в Селинунте. По Дёрпфельду
Рис. 255. Терракотовый карниз сокровищницы гелойцев в Олимпии. По Дёрпфельду
Раскрашивание этих терракот в храмах шло с начала VI в., до некоторой степени параллельно с орнаментированием глиняных сосудов. Терракотовые украшения вышеупомянутого древнейшего храма в Селинунте, как и коринфские вазы, расписаны прочными красной и черной лаковыми красками по бледному фону глины (рис. 254). Наряду с линейными орнаментами и простыми двойными плетенками здесь уже появляются орнаменты на мотивы растительного царства. Венок из свешивающихся листьев на верхней полосе карниза еще по-дорически полуугловато геометризован. Но пальметты в местах соприкосновения двойных плетенок уже имеют такую же форму, как и на милосских глиняных вазах; соединенные ряды, состоящие попеременно из пальметты и распустившихся цветков лотоса, которыми увенчана верхняя полоса карниза, имеют восточные формы, облагороженные эллинским чувством стильности. Меандры, плетенки, розетки и пальметты – главные составные части терракотовых карнизов сокровищницы Гелы в Олимпии (рис. 255). В одном из позднейших храмов Селинунта на терракотовом карнизе, между меандровой лентой и рядами лотосов и пальметт, находится шнур перлов (астрагал) почти в ионическом вкусе (рис. 256).
Кроме дорийцев главными ветвями эллинской народности, как известно, являются эолийцы и ионийцы. Поэтому вместе с дорическим тотчас же возникли эолический и ионический стили. Коринфский же орден, напротив, принадлежит более поздней ступени развития.
Эолический стиль установлен исследованиями Кольдевея на древнеэолической почве. По всей вероятности, он процветал наряду с дорическим и ионическим стилями лишь в течение короткого периода времени. Уже в VI столетии он совершенно угас. Позднейшие писатели не знают его и не упоминают о нем. Его право на историческое значение находится в тесной зависимости от того, правильно или неправильно сложил Кольдевей обломки капителей, найденные им в 1889 г. в местности древнего города Неандрии в троянской области и в Колумдадо на Лесбосе. Пока мы не видим, однако, никаких оснований присоединиться к мнению тех, кто сомневается в существовании этого стиля.
Рис. 256. Терракотовый карниз одного из позднейших селинунтских храмов. По Дёрпфельду
Рис. 257. Лесбосская капитель из Неандрии. По Кольдевею
Храм в Неандрии следует отнести к VII столетию. Он состоял из целлы, окруженной единственно стенами и помещавшейся на высоком основании. Целла, как и в так называемой базилике Пестума, рядом колонн была разделена посередине на две части. Микенский образец такого устройства достаточно известен – это так называемый "храм" в шестом микенском городе Троянского холма, в Гиссарлыке. Характерная особенность стиля выказывается в капителях колонн, стержни которых тонки, гладки, круглы и поднимаются прямо из пола, без баз. Эти капители несколько разнятся одна от другой, и в них явственно различаются три составные части; внизу – свободно свешивающийся лиственный венец, в середине – очень выпуклый вал, украшенный также листьями, вверху – две большие волюты, образуемые не одной, горизонтально лежащей лентой, как в ионическом стиле, а поставленные рядом, вертикально (рис. 257). Лиственный венец и вал, по нашему мнению, являются здесь лишь как старые составные части микенской капители. Но венец из листьев не соединяется с желобком, а как в персидском стиле, составляет особую часть капители. Раньше мы уже видели, что происхождение волюты как венчающей части колонны следует искать в так называемом египетском пальметтном дереве и что первообраз его можно найти на расписанных египетских колоннах (см. рис. 99, ж, з, и; рис. 129). Нам уже известно также, что капители с волютами были в ходу в Вавилоне и Ассирии. Но мы считаем несправедливым указывать как на ближайший первообраз эолической и ионической капителей с волютами на капитель небольшого, вероятно хеттского, храма, который несет в руках жрец на рельефе в Богазкёи (см. рис. 226).
Рис. 258. Колонна и антаблемент ионического храма в Приене. По Баумейстеру
Вероятно, также в VII столетии образовался ионический стиль, распространение которого даже в древности не ограничивалось ионической Малой Азией и ионическими островами Эгейского моря и который, очевидно, хорошо прижился там и раньше всего достиг своеобразного блеска. Ионический храм – того же происхождения, что и дорический. По своим основным чертам он совершенно походит на дорический. Коль скоро дорический храм произошел от микенского мегарона, как справедливо указывал на то Ноак, то отсюда же произошел и ионический. Разница лишь в том, что на малоазийской почве мысль скорее обращается к Трое микенской эпохи, нежели к самим Микенам. Действительно, в шестом городе Гиссарлыка впервые был открыт настоящий базис колонны, а самостоятельный базис составляет характерную особенность, которой ионическая колонна отличается от дорической. К сожалению, для истории развития ионического стиля недостает вещественных доказательств, подобных тем, какие сохранились для дорического стиля в Олимпийском храме Геры, а для эолического – в храме в Неандрии. Если древнейшие из известных нам ионических храмов, например храм Геры на Самосе, первый храм Артемиды в Эфесе и храм Аполлона в Дидиме, близ Милета, были сооружены не позже некоторых из упомянутых дорических храмов, то в противоположность этим последним, строители которых неизвестны, они принадлежат уже эпохе истории художников. Поэтому мы должны теперь рассмотреть уклонения ионического стиля от дорического и составить себе представление о нормальном ионическом храме с его отдельными частями (рис. 258).
Ионическая колонна выше и стройнее дорической, она начинается многосоставным подножием (базой), существенные части которого – опоясывающие его выкружки и покрытый желобками вал (trochilus и torus). Иногда колонна покоится, кроме того, на четырехугольной плите (плинте), служащей переходом от прямолинейных очертаний фундамента здания к округлости стержня. Этот последний покрыт в вертикальном направлении отделенными одна от другой каннелюрами, из которых каждая оканчивается вверху и внизу закруглением. Шейки у капителей нет, за исключением относящихся к аттическому стилю. Под капителью, на месте дорической опояски, стержень колонны окружен шнуром перлов (astragalus). Этот шнур, который можно проследить вплоть до египетского искусства, в своем вполне развитом виде составляет особенность ионического стиля. Капитель состоит большей частью из эхиноподобного киматия (kyma – приплюснутая подушка), орнаментированного рельефными свешивающимися листьями, попеременно тупоконечными и остроконечными, полосой яиц (полосой ов). Сверху, на месте "седлообразной колоды" древних переднеазийских плотников, лежит, спустившись своей серединой несколько вниз, масса, имеющая вид длинной тонкой подушки, оба конца которой свешиваются на передней и задней сторонах капители и закручиваются в виде больших спиралей (волюты). Но иногда, именно в древнейших азиатских капителях, между киматием, украшенным кольцом из листьев (кольцом из ов), и волютами находится еще круглая подушка. Поэтому нет ничего невозможного в том, что киматий, украшенный листьями, развился не из вала, подобно дорическому эхину, а из украшенного лиственным венком желоба микенской капители. В таком случае было бы совершенно естественно, если бы, как это и предполагали Ноак и Пухштейн, из обоих элементов микенской капители валик сохранился, за немногими исключениями, только в дорическом стиле, а лиственный венок – только в ионическом. История развития ионической капители, ясно изложенная Пухштейном, выказывается главным образом в различии способа соединения волют с киматием, или с валом, или же с тем и другим. Более древний восточный тип – капитель с валом и киматием, более древний западный – капитель без вала. Середину между этими типами занимают древнеаттические капители, впоследствии облагороженные Мнезиклом, в которых над киматием, вместо вала, имеется другая приставка. Но позднейшие ионические капители Малой Азии снова представляют нормальный тип, с киматием без вала (см. рис. 258).
Так как особенности капители с волютами бросаются в глаза вообще при рассматривании ее спереди и сзади, с боков же она представляет справа и слева только закругления подушки, то для угловых колонн оказалась необходимой поправка, состоящая в том, что на боковой стороне капители, той, которая обращена наружу, выделываются две волюты, как и на передней стороне, а соприкосновение, в которое они приходят с волютами этой и задней сторон, скрадывается тем, что они, несколько выдаваясь вперед, сходятся с соседними валютами по направлению диагонали. По-видимому, это неудобство побуждало афинских зодчих никогда не употреблять ионических колонн в окружных галереях, а ставить их только в промежутках между стенами или антами. Вместо дорической абаки ионическая колонна имеет над подушкой с волютами лишь тонкую четырехугольную, пластически украшенную плиту.
Ионический антаблемент также существенно отличается от дорического. Архитрав состоит из трех горизонтальных полос, из которых верхние несколько выступают над нижними. Во фризе нет подразделения на триглифы. Он тянется над архитравом совершенно гладкий, как готовое поле для фигурных украшений, от которых дается ему название зофора. Шнур перлов под полосой киматия, снабженный яйцевидными листьями (см. рис. 252, б), или ряд лесбосских сердцевидных листьев (в) отделяет архитрав от фриза, фриз от венчающего антаблемент карниза и нередко повторяется между нижней выносной плитой и выступающей над ней вперед полосой собственно карниза, причем выносная плита усажена зубцами (дентикулами) – четырехугольными брусками, помещенными один возле другого на небольшом расстоянии. Над карнизом идет слегка изогнутого профиля желоб, украшенный стилизованным растительным орнаментом рельефной работы. Ионический фронтон, увенчанный в вершине и по углам акротериями, выше, чем дорический.
Из предыдущего видно, что ионический храм при всем сходстве его плана и архитектуры с храмом дорическим все-таки имеет свой особый характер. Все отдельные его части пластичнее, антаблемент, поддерживаемый более стройными колоннами, легче; колонны расставлены под покоящейся на них тяжестью свободнее, так как нет триглифов, которые стесняли бы эту расстановку. В противоположность дорической силе в ионическом храме выражается мягкость, а дорической серьезности – ионическая веселость. Еще Витрувий видел в дорическом стиле воплощение мужской красоты, а в ионическом – женской, и нет ничего наивного в том, что волюты ионической капители напоминали этому писателю женские кудри. Во всяком случае, надо считать особенным богатством греческой архитектуры то обстоятельство, что ею одновременно были созданы эти два стиля, могущие взаимно дополнять и заменять друг друга, и что она умела отлично пользоваться ими обоими.
Древнейшие из дошедших до нас памятников греческой живописи – это украшения сосудов, которые их владельцы умышленно вверяли на хранение недрам земли. То были глиняные сосуды особого рода, которые, по набожному обычаю древней Европы, помещались вместе с другой домашней утварью в могилы. Тысячами извлечены они из могил Греции и Италии, особенно Этрурии – наиболее известной из областей, в которых осели греческие горшечники, и теперь этими сосудами наполнены коллекции древностей во всех европейских столицах; обширные иллюстрированные сочинения, из которых заслуживают упоминания кроме изданий немецкого Археологического института более старинные труды о вазах Герхарда и Бенндорфа, распространили сведения о них далеко за пределы областей, в которых они были найдены или где сохраняются. При помощи расписных греческих ваз мы можем шаг за шагом спускаться от древнейшей эпохи до III столетия до н. э. Изображения, которыми обычно украшены вазы, не только дают нам возможность бросить взгляд на повседневную жизнь греков и мифологию их богов и героев, занимавшую их воображение, что очень важно само по себе, но и представляют собой для более отдаленных веков наглядное отражение истории развития художественной живописи, лишь в ничтожной степени отвлекавшейся в сторону ремесленности. Только после персидских войн художественная живопись начинает идти отдельно от расписывания ваз. Греческие живописцы на вазах хотя нередко были вместе с тем и горшечниками, а иногда и специалистами своего дела, однако чувствовали себя художниками, как это доказывается обозначением их имен, встречающимся на многих глиняных сосудах, рядом с которыми, в числе сохранившихся произведений, следует прежде всего поставить точно так же разрисованные глиняные дощечки (pinakes), которые было принято вывешивать в священных местах как приношения богам.
Из глиняных сосудов древнейшего рода, относящихся к догомеровским временам и родственных с теми, которые мы находим еще в каменной эпохе Европы, нашего внимания в особенности заслуживают открытые в самой Греции. По характеру их украшений принято называть их вазами геометрического стиля. Аттические вазы этого рода по главному месту своего нахождения, у дипилонских ворот Афин, называются дипилонскими. Долгое время полагали, что глиняные сосуды с украшениями геометрического стиля внезапно вытеснили вазы микенского характера в эпоху переселения дорийцев. Но теперь пришлось возвратиться к убеждению, что вазы геометрического стиля, этого первобытного наследия всех европейских художественных манер, появились и на греческой почве раньше, чем микенская, что и в Греции они в течение нескольких веков постепенно вытеснялись своеобразными произведениями микенского искусства, а после того как это искусство угасло, снова выступили на первый план и господствовали на рынке вплоть до VII столетия, подвергаясь при этом чужеземным влияниям.
Древние вазы чисто геометрического стиля представляют темно-коричневые украшения, исполненные лаковыми красками на светлом, красновато-желтом фоне глины. Прямолинейное деление поверхности на сеть отдельных полей приспосабливается с тонким чутьем меры пространства к форме сосуда. Здесь, как и у первобытных народов, соединены между собой шахматные узоры, ромбовидные поля, зигзагообразные полосы, лучистые линии, простые и зубчатые кресты. На аттических дипилонских вазах, в противоположность беотийским, быть может еще более древним, наряду с этими узорами появляется уже меандр, который с того времени был в таком ходу у греков, что французы доныне неправильно считают его греческим узором (a la grecque). Но нет недостатка также и в кривых линиях. Большую роль играют круги; соприкасающиеся круги являются в Аттике предшественниками полос, схематически изображающих волны. Мотивы растительного царства, можно сказать, исключены. Розетки, занимающие целое поле, все еще походят скорее на звезды, чем на цветы. Однако нередко оставляются свободные промежутки для изображения животных и людей: животные в чистом дипилонском стиле, европейские домашние или дикие, нарисованы геометрически угловато, с тонкими ногами и длинными шеями; человеческие фигуры чаще встречаются на аттических дипилонских вазах, но сюжеты из мифологии и произведений поэзии еще отсутствуют. Обычная тема – морские битвы, праздничные пляски, погребение умерших, траурная процессия. Человеческие фигуры, изображенные на вазах, – древнейшие из открытых в Греции. Правда, у этих фигур голова с ее клювовидным носом походит на птичью; шея, руки, ноги изображаются тонкими штрихами, грудная клетка – в виде треугольника, и только бедра и икры имеют некоторую округлость; но все-таки в этих рисунках заметно понимание взаимных отношений между членами человеческого тела. Неумелый художник эпохи, в которую эллинское искусство находилось еще в пеленках, невольно, по необходимости, а не преднамеренно прилаживал свои схематично геометризованные фигуры к геометрическому характеру орнаментики этих сосудов. Для примера можно указать на принадлежащий Афинскому археологическому музею сосуд, на котором главный рисунок изображает похоронную процессию (рис. 259).
Рис. 259. Ваза дипилонского стиля. По "Monumenti dell’ Instituto"
История дальнейшего развития греческой живописи на вазах от дипилонского стиля до вазы Франсуа, относящейся к VI в. и представляющей уже вполне развитый строго архаический стиль чернофигурной живописи на вазах, столь же запутана, сколь и поучительна. Ее разъяснению способствовали преимущественно Конце, Брунн, Фуртвенглер, Дюммлер, Бёлау, Ригль и Лёшке. Новые взгляды установились особенно после раскопок Бёлау на острове Самос. Исследования Дюрам-Гревилля о красках греческой живописи на вазах важны для знакомства и с позднейшими сосудами, и с вазами той эпохи. В некоторых местах к элементам геометрического стиля еще примешиваются микенские. Эллинское чувство форм постепенно воспринимает элементы отовсюду, постоянно их очищая, просветляя и упрощая. На Востоке, в Малой Азии и Италии, по-видимому, никогда не существовало настоящего геометрического стиля. Здесь же в "послемикенском" стиле смешиваются азиатские и египетские формы непосредственно с микенскими. Перевес получает орнамент растительный. Лишь немногие из известных линейных орнаментов, как, например, меандр, были заимствованы из геометрического стиля соседей. Бёлау полагал возможным установить на востоке Эгейского моря три главных центральных пункта господства живописи на вазах по-микенски: эолийскую область в Малой Азии, откуда через Халкиду и Эвбею распространился в самой Греции черный фон с рисунками, выцарапанными на нем или расцвеченными белой и красной красками; ионийский Милет, которому принадлежит вся так называемая родосская живопись и родственная ей живопись Клазомен; остров Самос, также ионический, породивший в так называемых сосудах Фикеллуры, которые до сих пор считались разновидностью родосских, особый род ремесленной живописи. В этом отношении особое значение приобрел дорический остров Милос. Напротив того, Навкратис и Кипр не играли той роли в области самобытного творчества, которую им довольно долго приписывали.
Рис. 260. Древнегреческая живопись на вазах. По "Antike Denkmdler" (а, б, е), Бёлау (г, д), Брунну (в) и Конце (ж)
Общее расчленение и геометрические орнаменты, как, например, меандр, свастики и розетки, на милосских глиняных сосудах относятся к дипилонскому стилю; на рис. 260, ж, - прекрасный образец этих сосудов, находящихся в королевском дворце в Афинах и описанных Конце. Спирали и господствующие мотивы растительного царства заимствованы из микенской орнаментики. На прямое египетское влияние указывает узор фриза на оплечье вазы, хотя и исполненный вообще в греко-микенском вкусе, но снабженный грубо стилизованными цветами лотоса, обращенными попеременно кверху и книзу. В изображениях животных и людей (на этой вазе – два всадника, один против другого, а на других милосских вазах появляются уже мифологические фигуры) заметен большой шаг вперед сравнительно с фигурами на дипилонских вазах; но исполнение рисунка коричневыми контурами, не иллюминированными внутри, причем придатки вазы окрашены красной краской, все-таки обозначает лишь начальную ступень развитого стиля греческой живописи на вазах. Близко к милосским сосудам подходит по стилю сосуд, хранящийся в Палаццо деи Консерватори в Риме; во всяком случае, он более позднего происхождения. На нем рядом с рисунком, изображающим ослепление Полифема, начертано имя мастера: Аристоноф; это едва ли не самая древняя из сохранившихся подписей греческих художников.
Рис. 261. Родосское блюдо Эвфорба. По Брунну
Самосская и милетская (родосская) роспись ваз исполнялась при помощи кисти темной краской по белому фону. Фигуры часто обозначались лишь контурами, нередко имели также вид силуэтов; во втором случае светлые плоскости для внутреннего рисунка выцарапывались, поэтому особенности самосской живописи – это выделка внутреннего рисунка процарапанными линиями и украшение горизонтальных полос рядами попеременно темных и светлых полумесяцев, которые Бёлау называл "руководящим мотивом фикеллурской орнаментики". Прекрасный пример обработки человеческих фигур в этом стиле представляет сосуд альтенбургской коллекции (е), вокруг которого тянется изображение вакхической пляски. Отличие самосских ваз от милетских, как правило называемых также родосскими, составляют другие особенности. Мы видим на них постепенное превращение спиралей в усики растений. Вместе тем появляется ассирийская полоса плетения и дугообразный фриз с правильно чередующимися распустившимися и нераспустившимися цветками лотоса; тут же свастики и розетки, которые все больше и больше превращаются в звездообразные цветы, служат узором, заполняющим пустые пространства. Прогресс заметен также и в фигурах. Появляются изображения на эпические темы. На известном блюде Эвфорба, Британский музей (рис. 261), два воина сражаются между собой за труп третьего. Надпись на блюде поясняет, что это битва Гектора с Менелаем из-за тела Эвфорба; в фигурах и передаче их движений виден явный прогресс.
Рис. 262. Клазоменский саркофаг. По "Древним памятникам", издававшимся Императорским немецким археологическим институтом в Афинах
Живопись Клазомен, близ Смирны, известна благодаря обломкам ваз, описанным Робертом Цаном, и целому ряду глиняных сосудов совершенно особенного рода, распространившихся по Европе в конце XIX в. Эти глиняные сосуды не что иное, как саркофаги, отчасти имеющие форму человеческого тела, подобно египетским и финикийским гробам, отчасти напоминающие собой домашнюю посуду с высокой крышкой; все они богато украшены узорами и фигурами в стиле древней вазовой живописи. Найденные глиняные саркофаги в Клазоменах хранятся в Британском, Берлинском музеях и дрезденском Альбертинуме. Связь их с родосскими вазами подтверждается тем фактом, что древнейший из них, принадлежащий Британскому музею, происходит из Родоса, и сходством их орнаментации (рис. 262). О них следует здесь упомянуть для уяснения хода развития, хотя это уже VI в. Их орнаментика, исходя из орнаментики родосских ваз и обогащаясь формами, почерпнутыми из современной им архитектурной орнаментики, повторяет, так сказать, все, что до тех пор было создано на греческой почве. Мы находим на них меандр как в простейшем, так и в сложнейшем его виде; ленточные плетенки с концентрическими кругами в виде глазков и полупальметтки, вставленные в плетение; непрерывно тянущийся венок из свешивающихся попеременно заостренных и широких листьев – узор, который в пластической орнаментике называется ов и которым обычно бывают украшены горизонтальные вогнутые полосы на греческих зданиях; двойные плетенки, которые благодаря вставленным в них в одном направлении веерообразным пальметткам в углах их соприкосновения представляются как бы состоящими из сердцевидных фигур; непрерывно тянущиеся волнообразные усики с полупальметтками и полупальметтовым фризом и описанные вокруг них дугообразные линии – все это в более чистом, зрелом и простом виде, чем прежде, в виде, приближающемся к стилю цветущей греческой эпохи. Декоративные ряды животных, выдержанные еще в духе древней контурной живописи, даже ряды сфинксов, также уже теряют восточный характер. То же самое надо сказать и о человеческих фигурах. Попадаются изображения состязаний квадриг, ряды всадников, большие и малые группы сражающихся воинов. "Все старание, – говорил Брунн, – направлено здесь прежде всего к тому, чтобы правильно обработать отдельные фигуры в границах силуэтного стиля, установить известную основную схему для их поз и движений, равно как и группировать их на основании определенных художественно-тектонических законов". Это закон симметричности, соблюдаемый здесь для общей декоративности, тогда как в дипилонском стиле он применялся только в частностях.
Рис. 263. Битва Геракла с кентаврами. Живопись на древнегреческом сосуде для мази. По Брунну
Древнебеотийские чаши самой Греции возникли, быть может, под влиянием Эолии, распространившимся через Халкиду, и уже представляют орнаменты как геометрические, так и подражающие настоящим растениям. На рис. 260, г, – роспись сосуда, Афинский музей, представляет закручивающиеся усики и вставленные между ними веерообразные пальметтки. Рядом с беотийским стилем надо поставить халкидский и коринфский, образовавшиеся, вероятно, также под влиянием Эолии. Вопрос, представляет ли так называемый протокоринфский стиль общее достояние коринфско-халкидского цикла, не осмеливался решать даже Бёлау. Ряды животных в восточном вкусе теснятся на вазах этого стиля в виде простых несвязных линейных узоров. Наряду с темно-коричневым лаком на желтоватом фоне местами попадается темно-красный.
В собственно коринфской живописи по глине нельзя отрицать восточное влияние ввиду азиатского характера изображаемых в ней животных и растений. Ее так называют потому, что Коринф – главное место, где были найдены сосуды и таблицы (pinakes) этого стиля. Но и ее развитие под конец переходит в архаический национальный стиль греческой чернофигурной живописи на вазах. Коринфский и более поздний дипилонский стиль, с дальнейшим развитием которых мы еще встретимся в Афинах, идут рука об руку, хотя обычно не встречаются в одних и тех же местах. В собственно коринфском стиле линейные геометрические узоры совершенно исчезают, остается только разделение поверхности на поля горизонтальными полосками. К темно-красным прокладкам постепенно присоединяются белые. Внутренние линии фигур, прежде всего линии глаз, выцарапываются. Изображаются преимущественно ряды животных с расставленными между ними крапинами, цветочными розетками и другими цветами в том виде, в каком они представляются, если смотреть на них сверху; эти фигуры неправильно круглой формы помещаются во всех пробелах. Среди животных господствуют львы, пантеры, каменные бараны и лебеди. Встречаются также сказочные восточные животные. Цветочные розетки и крапины иногда уступают свое место пальметтам и цветкам лотоса, а иногда четырехлистнику. Местами встречаются также цветочные гирлянды в восточном вкусе. При дальнейшем развитии этого стиля животный фриз сменяется изображениями из человеческой жизни и мифологии. На известной небольшой вазе Додвелля, на ее крышке, мюнхенская коллекция, представлена охота на кабана (см. рис. 260, в). Сосуд для мазей с изображением Геракла, сражающегося с кентаврами, еще весь усеян розетками и крапинами, Берлинский музей (рис. 263). Кентавры изображены еще по-старинному: задняя, лошадиная часть их тела приставлена к целой человеческой фигуре, а не наоборот, как изображались кентавры впоследствии, когда верхняя часть человеческого тела приставлялась к целому туловищу коня на четырех ногах. Прежнее нагромождение орнаментов исчезает; так, например, на коринфской длинной вазе из Афинского археологического общества, на которой изображены Ахилл и Троил, имеется подпись художника Тимонида. Надписи рядом с каждой фигурой занимают место розеток, цветов и бутонов, которыми раньше бывало заполнено все пустое пространство. Переход к строгому стилю ваз с черными фигурами составляют наиболее зрелые из изображений на коринфских глиняных досках, осколки которых хранятся в Берлинском музее. Храм близ коринфского Акрополя, где были вывешены эти доски, был посвящен Посейдону, поэтому его изображения во всевозможных видах и сочетаниях составляют главное содержание живописи на этих досках, занимающей иногда обе стороны. Картины из жизни греческих рабочих и ремесленников принадлежат также к наиболее распространенным сюжетам на досках. Переход к строгому стилю ваз с черными фигурами, в котором женщины изображались белой, а мужчины черной краской, можно видеть, например, на обломках вазы, где изображены Посейдон и Амфитрита на колеснице (см. рис. 260, е). Здесь только лишь намечается правило, по которому впоследствии глаза у мужчин будут рисоваться круглыми, а у женщин – миндалевидными (б).
Рис. 264. Беотийская глиняная фигура. По Перро и Шипье
Попробуем проследить переход аттического геометрического стиля в строгий архаический чернофигурный, каким он является на вазе Франсуа. Прежде предполагали, что в рассматриваемом отношении существует пробел, который стал меньше с открытиями, сделанными в Коринфе. Однако со времени исследований Брунна, Бёлау и Перниса явилась возможность и здесь различить переходные ступени. Мы видим, что аттические расписыватели ваз были не в состоянии противостоять наплыву восточных мотивов, но вместе с тем успели переработать их самостоятельно и приобщить к греческой сокровищнице художественных форм. Любопытна ваза из Афинского музея, орнаментированная в геометрическом стиле: на ее средней полосе изображена колесница, запряженная уже четырьмя конями вместо обычной в прежнее время пары; среди ее узоров встречаются ряды спиралей, охваченных зигзагами. Интересна дипилонская ваза из копенгагенской коллекции, на которой два безобразных фантастических льва оспаривают друг у друга труп воина. На кружке, найденной в Фивах и хранящейся в коллекции Афинского археологического общества, вместо ряда животных, не представляющего в настоящем дипилонском стиле ничего необычного, появляется кентавр, преследующий лань. Берлинская амфора из Гиметта украшена фризом листьев в микенском вкусе над средним поясом, занятым худощавыми воинами, и под этим поясом – другим фризом с фигурами львов. Очень оригинальный рисунок выцарапан на вазе Несса (Афинский музей). Выполнение фигур на этой вазе – Геракл, сражающийся с кентавром Нессом, и три бегущие Горгоны, уже близко настоящему стилю чернофигурной живописи на вазах. Только здесь нет еще белой краски, но зато чрезвычайно много красной и черной (см. рис. 260, а).
Рис. 265. Аттическая статуэтка из слоновой кости. По Перро и Шипье
Рис. 266. Древнегреческая бронзовая группа животных. По "Bronzen von Olympia" Фуртвенглера
Э. Поттье пытался разъяснить, каким образом в Греции начиная с VII столетия, быть может под влиянием Египта, совершился переход к силуэтному стилю со строго профильным положением фигур. Ученый предполагал, что в греческих мастерских, точно так же как и в египетских, писали с настоящих теней, которые нарочно для того отбрасывались на стену фигурами натурщиков, и объяснял ошибки в передаче членов тела, встречающиеся у египтян и греков, тем, что художники, которые стояли почти на уровне ремесленников, не умели как следует пользоваться этюдами, сделанными с этих теней. Такое объяснение приемлемо хотя бы тем, что, по крайней мере, не противоречит собственным показаниям греков, признававших силуэт началом всякой живописи. Данная силуэтная манера была способом изображения на плоскости, и можно считать успехом, что живопись в конце той эпохи, соответственно тогдашней ступени своего развития, держалась этого стиля и перенесла его с плоских досок (pinakes) на округлость сосудов.
Если, по современным воззрениям, живопись с самого начала приняла на себя руководящую роль в ходе развития греческого искусства, то и ваяние было той отраслью искусства, в которой греки научились наиболее совершенным образом сливать форму с содержанием и изображать небесное в земной оболочке, и притом, быть может, лучше, чем это удавалось каким-либо другим народам. Зачатки греческой скульптуры были, однако, столь же ничтожны, как и первые шаги живописи.
Рис. 267. Древняя олимпийская бронзовая пластинка. По Фуртвенглеру
Соответственно геометрическому стилю древнейшей греческой живописи на вазах из форменных зачатков древнейшего времени развивается тяжеловесная, но характерная пластика небольших фигур. Древнейшему беотийскому стилю ваз соответствуют замечательные глиняные женские фигурки, найденные в беотийских гробницах; их форма, напоминающая собой колокол, обусловливается их одеждой, отстающей от тела. Наиболее сохранившаяся из этих фигур, у которой безобразные ноги до колен прикрыты таким колоколовидным одеянием, находится в Луврском музее в Париже (рис. 264). Чрезмерно длинная шея, небольшая голова, отсутствие рта, резкий профиль и орнаментный узор на костюмах напоминают первобытный стиль Европы. Несколько хранящихся в Афинском музее статуэток нагих женщин, исполненных из слоновой кости, в пропорциях тела которых, при всей их геометрической угловатости, уже заметен значительный шаг вперед, было найдено в аттических дипилонских гробницах. Их вытянутые руки плотно прижаты к бедрам, уши поставлены слишком высоко, глаза чересчур велики, волосы на голове низко свешиваются с затылка. На головном уборе самой крупной из этих фигур выделан орнамент в виде настоящего меандра (рис. 265). Вместе с Перро мы не видим никакого основания приписывать этим статуэткам восточное происхождение, но считаем их принадлежащими, быть может, VIII в. до н. э. и истинными произведениями дипилонского стиля. Еще угловатые, вылепленные из глины или литые и затем кованые бронзовые небольшие фигурки людей и животных, особенно коней, ланей и оленей, – произведения того же стиля, найденные в Греции (рис. 266).
Соответственно стилю милосских, родосских и коринфских ваз за угловатым геометрическим стилем мелкой пластики следует прием, отличающийся большей округлостью форм, с восточным оттенком; изображаются только львы, сфинксы и другие заимствованные с Востока фигуры и некоторые мифологические образы. При раскопках в Олимпии из первобытных слоев добыты небольшие приношения богам, но не найдено ничего подобного микенским. На бронзовых выбивных изделиях с острова Крит и из Олимпии мы можем проследить параллельный ход развития от древнеевропейского бронзового стиля до стиля коринфских ваз. Изображения на бронзовой пластинке, хранящейся в музее Олимпии, расположенные одно над другим в четыре ряда, выбиты с задней стороны и затем отделаны с лицевой резцом (рис. 267). В первом, нижнем ряду изображена четырехкрылая, так называемая персидская, Артемида, держащая в каждой руке по пойманному ею льву; восточный характер имеют также фигуры в двух верхних рядах. Но второй снизу ряд представляет чисто греческий рисунок: Геракл, стреляющий из лука в кентавра, и дерево, означающее, что действие происходит в лесу. Заметим, что рисунки двух верхних рядов, первообразы которых думают найти в узорах ковров, при своей очевидной заимствованности, более закончены и лучше, чем изображение Геракла, при исполнении которого греческий художник должен был справляться с материалом, как он умел. Собственно говоря, Геракл не стоит на колене, а бежит; древнейшее греческое искусство всегда изображало быстрый бег таким образом.
Рис. 268. Олимпийская священная чаша. По Трею
К древнейшим греческим произведениям из мрамора принадлежит священная чаша VII в. до н. э., поддерживаемая головами трех женских фигур, стоящих на львах; обломки ее найдены в Олимпии, где и хранятся (рис. 268). Реставрация чаши в полном виде предложена Г. Треем. Одежда на женщинах еще без складок; их волосы не только выполнены пластически в виде локонов, но и раскрашены.
Зачатки ваяния крупных фигур у греков, точно так же как и зачатки их зодчества, надо искать в производстве из дерева. Многочисленные деревянные идолы (ксоаны), считавшиеся свалившимися с неба, напоминали позднейшим эллинам о начальном времени их пластики, с которым постоянно связывалось родовое имя мифологического мастера Дедала. Ни одной из таких деревянных фигур не дошло до нас, но зато сохранилось много изваяний из рыхлого известняка (poros) или из крупнозернистого островного мрамора, по которым можно составить понятие о технике их рубки из камня. Более или менее хорошо сохранившиеся произведения этого рода добыты главным образом из остатков разрушенных персами сооружений в афинском Акрополе, а также на Делосе и соседних с ним островах.
Мужские статуи изображают молодых, безбородых, нагих людей; женские статуи в одежде. Мужские, как правило, принимаются за изображения Аполлона, хотя некоторые из них можно признать фигурами атлетов и надгробными статуями; во всех этих изваяниях уже проглядывает идеал натренированного физическими состязаниями юношеского тела, выражающегося втянутым животом и сильно развитыми плечами и бедрами. Женским фигурам этого рода обычно не дается определенного наименования. В Германии, особенно Брунн, Овербек, Фуртвенглер и Зауер, ставили себе задачей классифицировать все эти статуи по времени и месту их происхождения. Главные черты развития выказываются в них все яснее и яснее. Во всяком случае, перевод старинных деревянных фигур на язык камня возник и происходил не на материке Греции, а на ионическом Востоке и островах.
Рис. 269. Древнегреческие женские статуи: а – обетное приношение Никандры; б – самосская статуя в форме бревна. С фотографии
Некоторые из найденных на греческих островах женских статуй, изваянных из камня в размере, превышающем натуру, свидетельствуют, что древнейшие деревянные идолы, представляющие собой лишь слабое подобие человеческого образа с прижатыми к телу руками, с сомкнутыми вместе ногами, были не что иное, как грубо отесанные доски, столбы и даже бревна. Женская статуя Афинского музея, высеченная, вероятно, на острове Наксос, хотя и найденная на Делосе, составляющая, как заверяет надпись, дар богам Никандры с Наксоса, походит на плоскую доску, хотя и вырублена из мрамора (рис. 269, а). Ее плоское лицо не выступает вперед над поверхностью всего обрубка, а одежда, лишенная складок, плоско спускается вниз. Полосы меандры под ее поясом – остатки прежней полной раскраски. Напротив того, женская статуя с острова Самос, в Лувре, к сожалению без головы, изваянная из мрамора, с надписью самосским алфавитом, кругла, как древесный ствол (б). В ней туловище совпадает с округлостью ствола. Отметим здесь шаг вперед в ваянии: в изображении двойного одеяния, правой руки, придерживающей низ верхней одежды, левой руки, покоящейся на груди, и, наконец, складок на одежде. Хотя это произведение принадлежит позднейшей эпохе, однако оно исполнено вообще в характере более раннего времени. Действительно, VII в. принадлежит колоссальная, вырубленная из известняка голова женщины, найденная в Герэоне, в Олимпии, и хранящаяся в музее этого города (рис. 270). Она украшена венком из листьев и брачным покрывалом. О ее глубокой древности свидетельствует Павсаний. Это произведение показывает, как деревянный стиль все еще отражался в ваянии голов из мягкого камня. Лицо остается приплюснутым, если даже мысленно приставим к нему утраченный нос; кверху широкое, книзу оно переходит в правильный овал. Волосы обрамляют лоб плоскими волнообразными линиями. Уши оттопырены. Брови и веки обозначены очень резко. Следы красок (темно-красной на лобной повязке, светло-красной на волосах) не оставляют никакого сомнения в том, что первоначально это изваяние было иллюминировано.
Рис. 270. Голова Геры, найденная в Олимпии. По Трею
Переход от первоначальной условности к сознательной передаче форм тела выказывается в фигурах нагих юношей еще нагляднее и отчетливее, чем в только что рассмотренных нами женских фигурах. Разумеется, даже позднейшие из этих статуй с выпрямленным, окоченелым телом имеют еще строго фронтальное положение, обычное во всем архаическом искусстве Греции. В мраморных фигурах этого рода, как и в египетских, левая нога несколько выставлена. К наиболее древним экземплярам мы вместе с Фуртвенглером и Юлием Ланге причисляем Аполлона из святилища Аполлона Птойонского в Биотии, Афинский национальный музей (рис. 271, а). Следует ли эти статуи, с их сравнительно приподнятыми плечами, плоской, даже впалой и не отграниченной от живота грудью, с лишенным мускулов животом и бесформенными руками, считать действительно явившимися под влиянием египетского искусства, вопрос, на который давали чаще утвердительный, чем отрицательный ответ. Так как именно в VII в., в котором вырабатывались дорическая каменная колонна и этот тип юношеских скульптур, греки находились в наиболее тесных сношениях с Египтом, а сходство данных изваяний с египетским на самом деле поразительно, то естественнее всего предположить здесь отражение египетского искусства, как допускали это и сами греки. Фуртвенглер говорил: "Известно, что этот тип есть не что иное, как подражание главному типу египетских статуй". По его мнению, тип этот проник через ионийскую Азию на Самос и оттуда – на греческий материк, где, конечно, тотчас же был преобразован в эллинском духе и сделался жизненнее. Аполлон Орхоменский, Национальный музей в Афинах (б), сильно напоминающий собой работу из дерева, представляет уже большую выделку мускулов на пространстве между грудью и пупком. Затем в течение некоторого времени господствует типичное обозначение этих брюшных мускулов тремя прямыми штрихами, как это видно у Аполлона из Птойона, Афинский музей. Наконец, делаются попытки еще ближе подойти к натуре без типичного изображения складок. У большинства фигур длинные волосы, перехваченные лентой и свешивающиеся прядями на плечи, образуют на лбу правильные спиральные кудри, тогда как в остальных местах, как, например, на статуях Ново-Мекленбурга, волнистость волос обозначается правильными квадратами. Аполлон из Фера, Афинский музей (рис. 272, а), своими округлыми формами уже мало походит на деревянного. Его покатые плечи, менее прижатые к телу руки, более вытянутое, свободнее смоделированное лицо и выпуклая грудь уже гораздо меньше напоминают египетское происхождение, хотя его живот снова менее обработан, чем в последних из названных произведений. В смысле художественного прогресса особенно характерна выпуклость грудной клетки: "Этот юноша может наконец дышать", – отметил Юлий Ланге. В конце рассматриваемого ряда произведений должно поставить так называемого Аполлона Тенейского, Мюнхенская глиптотека (б). Деревянный стиль отзывается, однако, и в этой фигуре. Главная схема все та же. Руки всё еще висят вдоль тела с сжатыми кистями, ноги по-прежнему касаются земли всей подошвой, причем левая немного выставлена вперед; волосы по-прежнему образуют неуклюжий парик. Но моделировка живота уже более не ограничивается схематическим обозначением мышц, и от головы с покатым лбом, с выступающим вперед почти по лобной линии носом и с приподнятыми углами губ уже веет свежей, своеобразной жизнью; руки и кисти, ноги и ступни, тонкие суставы воспроизведены почти с полной естественностью. Аполлон Тенейский с головы до ног – произведение эллинского искусства. "В Пелопоннесе, – говорил Фуртвенглер, – все усилия были направлены к переработке нового, чужеземного в отечественном духе; та вялость и неопределенность, которыми отличались ионические прототипы, были устранены, и их место заняли резкость и точность выделки форм".
Рис. 271: Аполлон Птойонский (а). С фотографии; Аполлон Орхоменский (б). С фотографии Ромаидеса
В противоположность всем этим каменным изваяниям, отзывающимся деревянным стилем, сидячие статуи из Дидимэона, знаменитого храма Аполлона в Дидимах, близ Милета, имеющие натуральную величину, а некоторые даже колоссальные, носят на себе отпечаток первобытно азиатского каменного стиля (рис. 273). Эти единственные остатки первого, разрушенного Дарием, храма были расставлены по пути к нему, подобно сфинксам на дорогах к египетским храмам. То были портретные статуи, посвященные божеству теми лицами, которых они изображали. Десять из них поступили в Британский музей; большинство их без голов, и все они поломаны и разбиты. Фигуры сидят на высоких мраморных тронах в оцепенелой позе древнехалдейских сидячих статуй, с которыми мы уже ознакомились (см. рис. 159). Руки плотно прижаты к телу, ладони лежат на коленях, головы обращены прямо. Различие заметно только в одежде, которая на древнейших из этих изваяний облегает тело плотно и почти без складок, потом появятся узкие вертикальные складки, а позднее – разнообразные складки. По своей величине, положению и надписям эти портретные статуи первой четверти VII в. представляются самыми древними произведениями ионической монументальной скульптуры.
Рис. 272: а – Аполлон Ферский. С фотографии Ромаидеса; б – Аполлон Тенейский. С фотографии
Рис. 273. Статуя из Дидимэона. С фотографии Манселля
О развитии собственно монументальной храмовой пластики в переходную эпоху от VII к VI столетию дают нам представление четыре богато раскрашенных древнейших фронтонных изваяния афинского Акрополя, выставленные в Афинском музее. Самое раннее из них, относимое к VII столетию, исполнено из местного известняка, содержащего в себе много раковин; оно малоискусной работы и исполнено инструментами, служащими для резьбы из дерева, – пилой, резцом, круглым долотом и терпугом. Изображает оно битву Геракла с Лернейской гидрой, змеиное туловище которой занимает весь правый угол фронтона, тогда как в левом углу кони Иолая, возницы Геракла, красиво опустив головы, обнюхивают большого краба, спешащего на помощь гидре. Все это изображение в настоящее время однотонно, в естественном цвете камня рисуется на светло-коричневом фоне, который, как это доказывал Трей, первоначально был синий. На втором фронтоне находится то же самое изображение, только в меньшем размере. Студничка считал вероятным, что это было украшение фронтона на противоположном фасаде того же здания, хотя стиль данного произведения кажется более поздним и более свободным. Оно исполнено из более твердого камня и рельефнее и отличается более искусной лепкой фигур; изображает оно битву Геракла с морским старцем Тифоном. Третья и четвертая из этих древних фронтонных скульптур несомненно принадлежали одному и тому же зданию, по всей вероятности вышеупомянутому древнейшему дорическому храму Афины, стоявшему рядом с местом, занятым впоследствии зданием Эрехтейона. Исполнены они, как бы в память об их деревянных предшественниках, еще орудиями резчика по дереву, но из твердого, плотного известняка и возвышаются над своим фоном в виде почти совершенно круглых фигур. Они были обильно раскрашены, тогда как фон, вероятно, не был покрыт краской. На одном из этих фронтонов с правой стороны изображена битва Зевса с тифоном (рис. 274), а с левой – битва Геракла с Эхидной. На другом фронтоне мы видим справа битву Геракла с Тритоном, а слева существо, которое, как полагают, следует признать за древнего аттического царя Кекропса со змеями вместо ног. Причудливая раскраска фигур объясняется тем, что это по большей части изображения фантастических существ. Замечательно, что углы всех четырех фронтонов заполнены телами животных, преимущественно змей и рыб, которые можно было удлинять по произволу. То был самый простой и удобный способ заполнять изображением данное треугольное пространство. Непринужденно группировать человеческие фигуры в углах фронтонов художники научились только впоследствии.
Рис. 274. Трехглавый тифон. Из скульптурного украшения древнеаттического фронтона. С фотографии
Рис. 275. Геракл, несущий керкопов. Метоп Селинунтского храма С. С фотографии Алинари
По времени происхождения рядом с древнейшими аттическими фронтонными группами следует из числа украшений на метопах дорических храмов прежде всего поставить три метопные группы среднего храма (С) в селинунтском Акрополе. Эти скульптуры, относящиеся к началу VI в., находятся в Палермском музее. Они представляют собой квадратные метровые плиты известкового туфа. Сюжеты изображений взяты из греческих героических сказаний. На одном из метопов представлен Геракл, несущий двух керкопов, висящих на жерди головой вниз (рис. 275); на другом мы видим Персея, который под покровительством Афины Паллады отсекает голову Медузы, опустившейся на одно колено и рождающей перед своей смертью коня Пегаса (рис. 276); на третьем метопе передний план занимает колесница, запряженная четырьмя лошадьми. Круглые пучеглазые головы коренастых фигур, изображенных на этих рельефах, обращены en face; их ноги и ступни круто повернуты в сторону, быть может, для того, чтобы они не выступали вперед, а может быть, и просто по неумелости художника. Неумелость сказывается не только в этом повороте, она видна и в чрезмерной массивности бедер в сравнении с туловищем, и в том, как фигуры Афины Паллады и Медузы втиснуты в отведенное для них пространство. Тем удачнее приспособлено изображение Геракла и керкопов к линиям квадрата, тем больше наблюдательности заметно в подробностях этого рельефа, например в свесившихся волосах керкопов, тем смелее ракурс в изображении коней на третьем метопе, задние ноги которых твердо стоят позади передних. Здесь все еще выказывается своего рода первобытная сила, чувствуется стремление художника возможно лучше заполнить, не нарушая требований рельефности, данное пространство, квадратная форма которого соответствует квадратичной стилизации форм тела фигур. Хотя рельеф здесь настолько высок, что фигуры лишь чуть-чуть прилеплены к заднему фону, тем не менее художник твердо держится правила, по которому ни одна часть изображения не должна выходить из первоначальной передней поверхности плиты. Едва ли менее древнего происхождения скульптуры сокровищницы сикионцев в Дельфах, из числа которых известностью пользуются метопы с изображением шествия Идаса и Диоскуров с их добычей. Фигурам, идущим рядом с быками, придан величавый, монументальный характер. Окраска по желтоватому фону камня подбором красок походит на живопись древнекоринфских ваз. Не менее древними надо считать рельефы селинунтских метопов, из которых один изображает Европу на спине Зевса, принявшего вид быка, другой – сидящего сфинкса, третий – Геракла, усмиряющего быка. Они исполнены в стиле греческого полного рельефа, противоположного стилю плоского рельефа, постоянно изображавшего фигуры в профильном положении даже тогда, когда живопись, как требовали ее свойства, уже освободилась от этого.
Рис. 276. Афина, Персей и Медуза. Метоп Селинунтского храма С. С фотографии Алинари
Мы видели, как греческое искусство во всех его отраслях под восточным, преимущественно западноазиатским, а также египетским влиянием вышло из своего первоначального грубого состояния и выработало национальный, самостоятельный стиль, в котором внимательное, хотя и робкое наблюдение природы соединялось со строжайшей закономерностью; мы познакомились также почти со всем богатством греческой орнаментики, развитие которой всюду шло одними и теми же путями. Мы увидим далее, что последующее обогащение греческой орнаментики состояло лишь в том, что в нее вводились естественные растительные формы, старинные же формы упрощались и облагораживались. Теперь речь будет идти уже не о возникновении новых художественных форм, но об их оригинальном развитии, расширении и разработке; отныне мы увидим, что хотя безымянные произведения все еще господствуют, однако во всех отраслях искусства их движением вперед руководят уже известные греческие художники.
2. Искусство в 575-475 гг. до н. э .
В VI в. наиболее влиятельными из греческих государств управляли тираны, усердно, с большим художественным чутьем, подобно Писистрату в Афинах, украшавшие города великолепными сооружениями, под сенью которых все искусства достигли первого строгого целомудренного расцвета. Преобладающее владычество богатых лидийских царей, из которых последним был Крез, распространившееся на весь эллинский берег Малой Азии и унаследованное от них персами, нисколько не мешало цветущим ионическим городам этой береговой полосы принимать живое участие в развитии эллинского искусства. Но настоящими исходными пунктами греческой художественной жизни этого столетия были острова: Самос, где правил тиран Поликрат, Хиос, Наксос и Крит.
Рис. 277. Колонна Эфесского храма Артемиды. По Овербеку
Первое место в истории этого развития принадлежит архитектуре, к произведениям которой примыкает большинство творений прочих отраслей искусства. Ройк и Феодор с острова Самос, считающиеся изобретателями греческого литья из меди и работавшие для Креза и Поликрата, были, по-видимому, в одно и то же время зодчими, скульпторами и золотых дел мастерами. Нам более всего известна деятельность Ройка, как строителя Герэона на Самосе, "древнейшего из ионических каменных памятников", как называл его Дурм. Вероятно, это был храм на десяти колоннах в каждой из узких своих сторон и с соответствующей этому двойной окружной колоннадой (диптер) или, может быть, лишь с одним наружным рядом колонн (псевдодиптер). От него сохранились только обломки колонн, базы и капители. Феодор был приглашен в качестве зодчего и на ионический континент Малой Азии, и на дорический Пелопоннес. В Спарте он построил круглое здание Скиаса. В Эфесе он участвовал как советник в закладке знаменитого храма Артемиды. Строителями этого чуда искусства в его первоначальном виде считаются Херсифрон и сын его, Метаген. Однако оно было окончено лишь 120 лет спустя, значительно позже персидских войн, другими художниками, затем, в 356 г. до н. э., сожжено безумцем Геростратом и восстановлено в новом виде при Александре Македонском. Сооружение Херсифрона – монументальный диптер ионического стиля. Надпись на обломке одной из его огромных мраморных колонн удостоверяет, что часть их была пожертвована Крезом; тот же обломок, хранящийся в Британском музее, в Лондоне, доказывает, что колонны первого Эфесского храма Артемиды были так называемые columnae caelatae, низы которых были роскошно украшены пластическими изображениями (рис. 277). Пластика на колоннах, разумеется, имела строгий древний характер. Обильное расчленение и горизонтальные желобки высоких баз этих колонн, как и колонн самосского Герэона (рис. 278), соответствуют древнему ионическому стилю. Но по общему виду этих двух храмов вполне развитого ионического стиля мы должны считать их совершенно зрелыми, мастерскими произведениями зодчества. Если принять в соображение, что Эфесский храм был длиной 127 метров, что его колонны были высотой 18 метров и что, следовательно, длина его внутри была приблизительно такая же, как и Кёльнского собора, тогда как высота равнялась высоте боковых нефов этого собора, то станет понятно, почему древние уже за одни громадные размеры причисляли его к чудесам света.
Рис. 278. База колонны храма Геры на о. Самос. По Баумейстеру
Храм Зевса под горой афинского Акрополя, один из громаднейших дорических памятников VI в., строили Антистат, Каллэсхр, Антимахид и Порин. Низвержение сыновей Писистрата (в 510 г. до н. э.) прервало эту постройку, и она была возобновлена лишь около 174 г. до н. э., но уже в другом стиле. Строители храма Афины в афинском Акрополе, дорического здания, славившегося в древности и получившего название Гекатомпедона за его целлу, имевшую длину 100 футов, неизвестны. Обе короткие стороны этого храма были украшены портиками. Позади его длинной целлы, разделенной на три нефа, находился квадратный в плане описфодом. Он был окружен простой колоннадой. Храм этот был разрушен во время персидских войн.
К эпохе Писистратидов относится сооружение большого дорического храма Аполлона в Дельфах, архитектором которого называют коринфянина Спинфара. На рубеже VI и V столетий и позже в Спарте работал архитектор и скульптор Гитиад, главными произведениями которого считаются храм и статуя Афины Халкиойкос. Этот эпитет богини показывает, что ее храм был медный; во всяком случае, он был обложен внутри листами с рельефными украшениями выбивной работы, описываемыми Павсанием и придававшими сооружению большой блеск и изящество.
Из зодчих, работавших в Олимпии раньше персидских войн, нам известны только Пирр, Лакрат и Гермон, которым приписывается постройка сокровищницы эпидамнцев. Но от других дорических сооружений в Олимпии сохранились еще более значительные остатки. Мы уже ознакомились с сокровищницей гелойцев, главный карниз которой выложен по сицилийскому и великогреческому (италийскому) обычаю терракотовыми, богато украшенными плитами (см. рис. 255). Эта постройка относится к первой половине VI столетия. Второй его половине принадлежат, насколько можно судить по формам их остатков, сокровищницы селинунтцев и мегарцев.
Рис. 279. Эгинский храм Афины. С фотографии
Дальнейшее развитие дорического стиля, выразившееся в исчезновении желоба с венцом листьев на шейке колонн, в большей сближенности всех линий и в постепенном облагорожении всех пропорций (см. рис. 249), лучше всего можно проследить по храмам, сохранившимся в Сицилии и Южной Италии. Кольдевей и Пухштейн относят некоторые из них, как, например, Селинунтский храм D, так называемую базилику, и храм Цереры в Пестуме к середине VI столетия. С уверенностью мы можем приписать той же эпохе и средний храм (F) на восточном холме Селинунта. Колонны этого храма (6414) имеют одни по 16, другие по 20 каннелюр; каннелюры некоторых из колонн портика отличаются той особенностью, что, как в ионическом стиле, не примыкают друг к другу острыми краями, а отделены одна от другой небольшим пространством. Эти колонны представляют собой еще переход к вполне развитому дорическому стилю, так как у них под капителью все еще имеется небольшой желоб. Замечательна балюстрада в промежутках между колоннами в галерее, окружающей целлу этого храма. На него походит его сосед, величайший из селинунтских храмов, храм G, который так и не был закончен и теперь лежит в развалинах. По всей вероятности, он был посвящен Аполлону; из его колонн (8417) древнейшие еще имеют желобки под капителями, тогда как на позднейших, относящихся к концу VI столетия, их почти нет. Среди храмов, колонны которых уже совершенно лишены желобков, надо отметить вышеупомянутый храм в Коринфе (см. рис. 253). К сицилийским и южноитальянским храмам конца VI столетия относятся храм Геракла в Акраганте (Агридженто) с колоннами (6415), грубыми капителями антов, высоким и тяжелым архитравом, а также храм в Метапонте и древнегреческий храм в Помпее, раскопкой которого в 1889 г. руководили Ф. Дун и Л. Якоби. К началу V столетия принадлежит храм Афины на о. Эгина, известный своими фронтонными группами и имевший лишь по 12 колонн в длинных и по 6 в коротких своих сторонах (рис. 279). Эти лишь слегка утончающиеся кверху и припухлые колонны, из которых двадцать еще стоят на своих местах, сравнительно стройны и расставлены широко, но их капители имеют древний склад, хотя уже и не перехвачены желобком. Внутри храм разделен на три нефа двумя рядами колонн, помещенных в два яруса. О строгости и простоте, о силе и изяществе, которыми отличался этот храм, еще и теперь свидетельствуют его развалины.
Относительно греческой живописи в VI столетии литературные источники дают сравнительно мало сведений. Напротив того, роспись ваз этой эпохи изобилует именами художников и "подписанными", то есть снабженными означением имени художника, рисунками. Однако прежде чем обратиться к этому роду живописи, мы должны остановиться на показаниях литературных источников о живописи и рассмотреть немногие сохранившиеся ее памятники.
Рис. 280. Стела Лизея. По Лёшке
Древние писатели сообщают, что живопись обязана своим происхождением стремлению закрепить тень, бросаемую живым существом на поверхность стены или на доску; одни художники зарисовывали контур тени, и таким образом родилась линейная живопись, вскоре пополнившаяся нанесением внутренних линий; другие заполняли все пространство внутри контура одной краской и так положили начало одноцветной живописи, которую какой-либо художник оживлял, прибавив к ней еще красную краску. Один взгляд на древнейшую вазовую живопись, с которой мы уже знакомы, убеждает нас, что живопись в одних контурах и живопись с заполнением контуров краской вначале действительно шли рука об руку; точно так же нам уже известно, что к черной краске одноцветной живописи прежде всего присоединилась красная. Изобретателем этой прибавки, вероятно, был коринфянин Экфант. Дальнейшие успехи живописи связаны с именем афинянина. Эвмара (или Эвмареса). Этот художник первый стал отличать мужской пол от женского во всех возрастах и умел характеризовать всякого рода профессии. Разумеется, здесь речь идет лишь об изображении женских фигур белой, а мужских черной краской, как мы это уже видели в переходном стиле вазовой живописи (см. рис. 260, б). Гораздо важнее усовершенствования, приписываемые Кимону Клеонскому, трудившемуся не только в VI в., но и в начале V. Плиний говорил, что этот мастер, пользуясь успехами, достигнутыми Эвмаром, изобрел косые изображения (obliquas imagines). Эти слова надо понимать, вопреки всем другим толкованиям, в том смысле, что Кимон стал воспроизводить головы, груди, туловища, руки и ноги в правильном сокращении, а может быть, и правильно рисовать видимый сбоку человеческий глаз, который в живописи на вазах еще долго после персидских войн изображался en face даже при профильном положении головы. Предположение старинных исследователей, что выражение "obliquas imagines" означает изображение фигур в три четверти поворота хотя и правдоподобно, но может быть оспариваемо. Клейн видит в этом выражении указание только на соединение силуэтной живописи, которую представляют нам чернофигурные вазы, с живописью контурной, какова она на вазах краснофигурных. Далее Плиний Старший делается более ясным, говоря, что Кимон впервые стал изображать различия лиц и взгляды назад, вверх и вниз, намечать подробности членов тела, обозначать на его поверхности жилы, передавать складки и выпуклости одежды. Все эти усовершенствования, как мы вскоре увидим, мало-помалу проникали и в живопись на вазах.
За исключением живописи на глиняных досках и сосудах, от греческой живописи времени, предшествовавшего персидским войнам, по весьма понятной причине сохранились крайне скудные остатки. В ту пору и в Греции существовала лишь ничтожная разница в отношении стиля между раскрашенным плоским рельефом и настоящей живописью. На хранящихся в главном афинском музее аттических надгробных стелах, которые обычно бывали украшены рельефным изображением умершего, мы видим вместо рельефа изображение, исполненное в одних чертах. На стеле Лизея (рис. 280) представлен умерший в полный рост, в торжественно-спокойной позе, с кубком в опущенной правой руке и со священной ветвью в поднятой левой, как бы готовящийся совершить жертвенное возлияние; строгие, благородные, оставленные светлыми формы этой фигуры выступают на темном фоне. Красок сохранилось очень мало, за исключением пурпура на исподнем одеянии. Лёшке полагал, что, неприкрытые одеждой части тела, вероятно, были не раскрашены. К сожалению, от головы Лизея сохранилась лишь нижняя часть. Обе подошвы еще по-старинному касаются земли всей своей поверхностью. Форма букв надписи свидетельствует, что это изображение относится к эпохе Писистрата. Оно может считаться прекрасным образчиком древнеаттической живописи по мрамору, из которой развилась краснофигурная живопись ваз. Близко походит на это изображение по своему приему раскраска написанной на мраморе головы Эфеба, найденной близ предгорий Суниона. И у нее при профильном положении лица глаз нарисован en face. Жирар указывал на эту голову и стелу Лизея как на произведения, характеризующие состояние искусства при Кимоне Клеонском; но мы полагаем, что у него рисунок глаза был свободнее.
Расписные аттические глиняные доски этой эпохи составляют переход к расписным глиняным сосудам, с которыми они вполне сходны стилем. VI столетию, даже его середине, принадлежат, по Гиршфельду, аттические глиняные плиты из Берлинского музея, найденные в 1872 г. близ Дипилонских ворот. Хотя они дошли до нас в обломках, однако оказалось возможным восстановить их в прежнем виде. Это большие картины, изображающие погребальные обряды; они тянутся с доски на доску и, вероятно, служили украшением гробницы. Профезис – выставление тела умершего, его оплакивание, собрание его близких в траурном покое, процессии всадников и колесниц, запряженных четверкой лошадей, все это – совершенно в стиле средней поры чернофигурной вазовой живописи. Как и в этом стиле, женщины изображены белыми, с миндалевидными глазами, нарисованными en face при строго профильном положении голов; мужчины написаны черной краской, с глазами в виде кружков, с обеих сторон которых прибавлено по небольшой черте. Внутренние линии рисунка придают много жизни силуэтам, все еще как бы начерченным с теней и все еще резким, хотя в них и сказывается понимание натуры. Одноцветный общий фон местами разнообразится клеевыми красками; белая, желтая и красная краски различных оттенков образуют гармонический цветовой аккорд. Глиняная доска с подобной сценой погребения, находящаяся в Лувре, более позднего происхождения.
Рис. 281. Чаша Аркезилая. По Рейе и Колиньону
Другие доски этого рода (pinakes), отчасти служившие образцами для живописи на вазах, сохранились в Афинах. Особенно любопытен обломок глиняной доски, хранящийся в Акропольском музее и относящийся приблизительно к 500 г. до н. э. На нем представлен воин, быстро идущий в левую сторону. Белый фон вместе с коричневым цветом тела, с лиловато-красным и черным образуют простую хроматическую гармонию. Замечательны также черные и красные линии, которыми обрамлена доска. Глаза переданы все еще без соблюдения какой бы то ни было перспективы. Поэтому в описанном изображении мы видим работу, относящуюся к более древней ступени искусства сравнительно со стенной живописью Полигнота, но вместе с тем и образец упоминаемой писателями "живописи четырьмя красками", из которой развилась богатая тонами живопись названного художника.
Глиняные сосуды рассматриваемого времени свидетельствуют о постепенном развитии чувства изящного у греков уже одними своими формами, которые мало-помалу переходят от древних шарообразных очертаний к более стройным и красивым. Соединение между собой ножки, туловища и (где требовалось) горлышка сосуда и приставка к нему одной или нескольких ручек отличаются безупречным, образцовым для любой эпохи вкусом, в каждом данном случае соответствуют назначению сосуда и имеют приятные для глаз формы. Амфоры предназначались для хранения жидкостей, гидрии – для ношения воды, кратеры – для смешивания жидкостей, киафы – для черпания. Для разливания употреблялась кружка (oinochoe), для питья – чаша (kylix) или кубок (kantharos).
Лекифы (lekythoi) – стройные кувшины с ручкой, служившие для хранения мазей или священного масла, которое употреблялось при погребальных церемониях. Арибаллы (aryballoi) – раздутые в середине сосуды такого же рода.
То обстоятельство, что дошедшие до нас экземпляры по большей части были предназначены не для обиходного употребления, а изготовлены специально для украшения гробниц, нимало не уменьшает художественно-ремесленного значения их форм.
VI столетие – классическая эпоха чернофигурной живописи на вазах, а также пора развития живописи с красными фигурами, еще первый, суровый, резкий расцвет которой продолжался до персидских войн. В VI в. Афины сделались центром производства глиняных ваз; с ними соперничали на этом поприще Халкида на Эвбее, быть может, в это время и Навкратида в Египте; Коринф старался еще держаться на одном уровне с ними, но афинские фабрики ваз быстро превзошли в мастерстве все прочие, и именно на этих фабриках чернофигурная живопись прежде всего вступила на путь строгой стильности. Но в это время в более отдаленных колониях живопись на вазах очень наивно стремилась к оживлению своих изображений, не нарушая связи своей со стариной, доказательством чего может служить часто приводимая в пример чаша Аркезилая, Парижский монетный двор (рис. 281). Аркезилай, царь Кирены, греческого города в Ливии, сидя на корабле, наблюдает за взвешиванием сильфиона, который тотчас же грузится в трюм. В фигурах работников много жизни и движения, хотя и беспорядочного. Глаза у мужчин, при профильном повороте голов, нарисованы по-прежнему en face и имеют миндалевидную форму.
Рис. 282. Ваза Франсуа. Вид сбоку. С фотографии
Собственно историю развития греческой живописи на вазах можно проследить всего яснее на вазах с подписями художников, которые встречаются почти исключительно в Аттике. Описанием этих ваз занимался в особенности В. Клейн. На первое место в аттической чернофигурной вазовой живописи должна быть поставлена ваза Франсуа, названная так по имени открывшего ее ученого и находящаяся во Флорентийском музее (рис. 282). На ней значатся имена Эрготима, гончара, формовавшего ее, и Клития, художника, которым она расписана. Это большой сосуд для смешивания жидкостей, сверху донизу покрытый изображениями мифологического содержания; начав с брака Пелея и Фетиды, художник проводит нас в этих изображениях через различные циклы мифов, воспроизводит сцены войны и ссор, мира и спокойствия. Расположение рисунков параллельными рядами придает им древний и восточный характер; такое же впечатление производят и нижняя полоса на туловище вазы с ее пальметтными деревьями среди фигур сфинксов и грифов, и изображенная на ручках крылатая Артемида, удушающая льва (так называемая персидская Артемида). Но все эти мифологические рисунки представляют уже вполне развитый плоский стиль чернофигурной живописи во всей его, еще нередко неповоротливой, резкости, но и со всей внутренней оживленностью.
Рис. 283. Древнегреческая живопись на вазах. По "Antiken Denkmdler" (а) и Герхарду (б, в)
Рис. 284. Битва Геракла с немейским львом. Живопись Эксекия. По Герхарду
Рядом с раннеархаическим стилем вазы Франсуа должно быть отведено место прежде всего строгоархаическому стилю. Желтоватый фон глины благодаря примеси к ней краски получает красивый красный тон, на котором выступают фигуры, написанные блестящей черной краской с процарапанным внутри рисунком и пройденные сверху клеевыми красками. Рисунки на вазах этого стиля представляют все те старинные особенности профильных положений, очертаний тела и формы глаз, с которыми мы уже ознакомились. Живот у человеческих фигур все еще тощий, а бедра – широки и массивны. Одежда покрыта разнообразными узорами, но на ней еще мало складок. Фигуры, представленные в спокойном положении, отличаются окоченелостью; движения резки. Среди изображенных богов главную роль играет Дионис, бог вина, среди героев – Геркулес. Но и вся обыденная жизнь греков воспроизводится в этих рисунках: мы видим женщин у колодца, юношей, занятых гимнастическими упражнениями, охоту (рис. 283), состязания в беге, пиры, пляски и музыкальные развлечения. На горлах, ножках, краях и ручках сосудов снова являются орнаменты. Дугообразные фризы с трехлиственными профилями цветов еще напоминают египетские образцы, хотя цветы стройнее, их усики эластичнее. Стебельки плюща на краях сосуда – уже греческое нововведение. Пальметты на ручках имеют уже вполне греческое изящество и легкость, хотя располагаются еще со строгой симметрией. Главными мастерами строго архаической вазовой живописи в Аттике были Эксекий и Амазис. Амфоры Эксекия можно видеть в Лувре, Британском музее и Берлинском антиквариуме; амфоры Амазиса – в Парижском мюнц-кабинете и Британском музее. Рис. 284 скопирован с берлинской амфоры Эксекия.
Рис. 285. Древнегреческая живопись на вазах чернофигурного стиля: вверху – Ахилл, преследующий Троила и Поликсену; в середине – суд Париса; внизу – битва Геракла с немейским львом. По Герхарду
Стиль чернофигурных рисунков на вазах постепенно, не теряя главных отличительных признаков архаизма, становится более легким и свободным. В нем, по-видимому, начинает отражаться малоазийское ионическое влияние. Формы делаются более округлыми, на одежде появляются складки, пальметты на ручках утрачивают свое строго симметричное расположение, и между их стеблями и листьями появляются порхающие птицы, что составляет важное нововведение. В числе имен художников заслуживают внимания имена Харитея, Тимагора и Тихия. Но главным мастером отживающего стиля чернофигурной живописи является Никосфен. К 68 чернофигурным вазам его работы, которые были известны Клейну, следует прибавить еще одну чашу с фигурами, частью черными, частью красными, и три сосуда, украшенных уже одними красными фигурами. Небольших амфор этого мастера особенно много в Лувре. Но позднейший аттический стиль с черными фигурами гораздо нагляднее можно изучить по многочисленным вазам, не снабженным именами художников: таковы, например, ваза из Берлинского музея с изображением битвы Геракла с вепрем и знаменитые вазы с изображением суда Париса и надевания сбруи на четверку лошадей. На рис. 285 – замечательная ваза, общее декоративное впечатление от которой обусловливается прекрасным распределением четырех колеров.
Расцвет живописи на вазах отмечается в краснофигурных рисунках. Роспись древнейших из краснофигурных ваз отзывается еще угловатым стилем позднейшей чернофигурной живописи, характеризуемой изображением профильных положений. Благодаря исследованиям Студнички и других мы знаем, что этот строгий краснофигурный стиль принадлежит ко времени, предшествовавшему персидским войнам и даже V столетию до н. э.
Если мы примем, что происхождение этого стиля, как указывал Клейн, находится в связи с вышеупомянутыми изменениями, внесенными Кимоном Клеонским в искусство, то все же должны будем предположить, что искусство Кимона было более зрелое и свободное, чем искусство Эпиктета, главного из аттических мастеров первой строгой краснофигурной вазовой живописи. Теперь весь фон сосуда покрывается блестящей черной лаковой краской. Сперва фон сосуда процарапывался для черных фигур, но вскоре стали выцарапываться только фигуры на красном фоне глины. Внутренний рисунок исполняется посредством кисточки нежными штрихами. Там, где при изображении черных волос на голове значительные черные пространства сливались бы с черным фоном, проводятся контуры красной краской.
Эпиктет вместе с Памфэем, изготовлявшим также и чернофигурные гидрии и чаши, Гисхилом, Хелисом, Эпиликом, Кахрилионом и другими мастерами, большинство которых, как и сам Эпиктет, изготовляли еще, хотя уже в небольшом количестве, сосуды с черными и красными фигурами, составляют так называемый эпиктетовский цикл живописцев, их любимыми произведениями были кубки. Красные фигуры появляются сперва на внешнем рисунке чаш и с большими глазами, как и на чернофигурных чашах, и напоминают орнаментику первобытных народов. Обычно изображаются отдельные фигуры, движения которых приспосабливаются к круглоте или изогнутости данного пространства. "В одном месте, – говорил Клейн, – несут, поднимают, ползают, бегают, приседают, пляшут, прыгают; в другом происходят стрельба и метание, работа долотом и резцом, черпание воды, занятие музыкой, и все это только для того, чтобы оправдать те изгибы человеческого тела, которых как бы требует дно чаши". Из краснофигурных сосудов работы самого Эпиктета в Луврском музее находится чаша, на внутренней поверхности которой представлен опьяневший юноша, а снаружи, между глазкбми, изображены воин в шлеме и стрелок из лука. Много чаш и тарелок работы Эпиктета имеется в Британском музее. В Берлинском антиквариуме можно видеть чашу с подписью этого мастера; на внутренней ее поверхности изображен Силен с мехом, а на наружной – физические упражнения юношей (см. рис. 283, б). Вне эпиктетова цикла стоит Андокид, расписыватель амфор переходной эпохи от краснофигурного стиля к чернофигурному; его краснофигурная амфора с изображением похищения Гераклом треножника находится в Берлинском музее (в); она весьма поучительна для истории развития аттической живописи в VI столетии.
Письменные источники богаче сведениями по истории ваяния, чем по истории живописи. К древнейшим его произведениям, описанным очевидцами, принадлежал ларец Кипсела, стоявший в Олимпийском храме Геры. Этот знаменитый ящик коринфского происхождения, относящийся к первой четверти VI в., по всей видимости, был прямоугольной формы и сделан из кедрового дерева; пластическое украшение, которым была покрыта передняя его сторона в пять рядов, один над другим, было исполнено из кедрового дерева, из золота и из слоновой кости. Подобно вазе Франсуа, это произведение, должно быть, представляло богатый содержанием материал для наглядного знакомства с мифологией и по стилю изображений, вероятно, походило на эту вазу. При помощи описания Павсания мы имеем возможность, с одной стороны, бросить взгляд на способ перенесения эпического цикла мифов во всей его совокупности из области поэзии в область пластического искусства, с другой – получить понятие о законах строгого порядка в отношении соответствия форм содержанию, уже господствовавшего в архаическом греческом искусстве.
Более поздние произведения искусства, богато украшенные рельефами мифологического содержания и подробно описанные Павсанием, принадлежат уже не безымянным художникам. Трон Аполлона в Амиклах, неподалеку от Спарты, был произведением Бафикла Магнезийского. Он ясно указывает нам, что около VI столетия на пелопоннесское искусство оказывало влияние искусство малоазийское. Трон этот, как стало известно благодаря исследованиям Рейхеля, – вероятно один из трех примитивных памятников, которые чтились как седалища невидимого божества. Бафикл обновил его деревянный остов и инкрустировал пластическими бронзовыми изображениями выбивной работы. Статуя Аполлона, 15 метров высотой, была древнее трона, ибо, по словам Павсания, называвшего ее "подобной медной колонне", представляла собой нечто, не связанное органически с троном. Вопрос, каким образом пластические изображения, описанные Павсанием, были размещены на троне, возбудил продолжительные споры, в которых мнения значительно разошлись. Нам приходится довольствоваться данными реставрации Брунна, по которой главные рельефы разделялись на три серии, по девяти в каждой, причем все они соответствовали один другому по размеру и содержанию так же, как и рельефы на ларце Кипсела. В частности, мы можем представить себе их стиль, как это делает и Фуртвенглер, похожим на стиль позднейшей чернофигурной росписи ваз, вероятно, с заметным ионическим оттенком, а следовательно, с большим обилием складок на одеждах и более чистой моделировкой нагого тела, чем на ларце Кипсела.
Ввиду того впечатления, которое это изделие произвело в долине Эврота, можно считать весьма вероятным, что влияние Бафикла отразилось на Гитиаде из Спарты, который, как мы уже упоминали, соорудил храм Афины Халкиойкос в Спарте на рубеже V и VI вв. до н. э. Бронзовые рельефы на стенах целлы этого храма, которые Павсаний называл замечательнейшими произведениями Гитиада и которые изображали рождение Афины и Амфитриту и Посейдона, составляют третью известную нам большую серию мифологической пластики в Элладе. Бронзовая статуя Афины в этом храме принадлежала также Гитиаду; кроме того, он сочинил, сверх других стихотворений, гимн, посвященный этой богине, и, следовательно, был многосторонне способным и образованным художником.
Среди скульпторов этой эпохи мы встречаем Ройка и Феодора Самосского, которых уже знаем как зодчих. Полагают, что они завели в Греции литейное дело. Конечно, и до них давно уже изготовлялись небольшие массивные фигуры, отлитые из бронзы, поэтому в данном случае речь идет лишь о введении отливки пустых внутри статуй вокруг твердого ядра. Ройку принадлежала бронзовая женская фигура, называвшаяся, наверное, "Ночь" и стоявшая в Эфесе, близ храма Артемиды. Из работ же Феодора известны преимущественно золотые изделия, например перстень, изготовленный для Поликрата, тирана самосского, и серебряный сосуд для смешивания, вмещавший в себя 600 амфор и пожертвованный Крезом дельфийскому оракулу.
Современником этих художников был, как надо полагать, Смилид, которому принадлежало деревянное изображение Геры в ее Самосском храме. Предположение о происхождении этого художника из Эгины основывается только на том, что его деревянная статуя имела по-старинному натянутую позу и сомкнутые вместе ноги. Такие изваяния назывались эгинскими в противоположность древним статуям, отличавшимся большим движением и получившим название аттических или дедаловских. Изображение Геры на самосских монетах дает нам приблизительное понятие о древнейшем олицетворении этой богини.
Рис. 286. Делосская Нике. С фотографии
Наиболее значительными из древнейших греческих ваятелей из мрамора, по преданию, были уроженцы ионического острова Хиоса. В их числе упоминается целое семейство художников: Мелас, его сын Миккиад, внук Архерм и правнуки Бупал и Афенис. Об Архерме сообщается, что он первый изобразил Нике, богиню победы, крылатой. Поэтому неудивительно, что когда на Делосе были открыты база колонны с именами Миккиада и Архерма и неподалеку от нее крылатая Нике, исполненная из паросского мрамора в весьма древнем стиле, то предположили, будто нашли оригинальное произведение Архерма. Однако Трей доказал, что это мраморное изваяние не имеет никакого отношения к вышеупомянутой надписи. Тем не менее ничто не мешает нам представлять себе крылатую Нике Архерма именно такой, какова мраморная статуя, найденная на Делосе и находящаяся теперь в главном музее в Афинах (рис. 286). Богиня изображена бегущей, но ее движение напоминает падение на колени. Так как такую позу умели изображать лучше сбоку, чем спереди, то нижняя часть тела богини образует с верхней почти прямой угол. Эта фигура принадлежит, таким образом, к числу тех немногих произведений, на которые уже указывал Юлий Ланге и которые в рассматриваемую эпоху представляли собой отступление от закона фронтальности. В отношении стиля голова этой статуи близко походит на голову олимпийской Геры (см. рис. 270), хотя плоскостей, произведенных резцом древнего стиля, здесь нет и следа. Бюст исполнен довольно плоско и бесформенно. Под складками одежды обрисовываются хорошо сформированные бедра. Что Архерм принадлежал к числу тех ионических мастеров, которые перенесли свое искусство в Афины, доказывает найденный в местном акрополе пьедестал с именем этого художника. Сыновья его, Бупал и Афенис, жившие около 540 г. до н. э., уже пользовались всеобщей известностью. Император Август перенес фронтонную группу работы этих двух братьев с какого-то неизвестного греческого храма на фронтон храма Аполлона на Палатинском холме в Риме. Поэтому можно считать возможным, что коленопреклоненная амазонка, найденная на вилле Людовизи в Риме есть не что иное, как обломок этого оригинального произведения; впрочем, ее формы кажутся нам недостаточно грубыми для VI в.
Но первыми действительно знаменитыми ваятелями из мрамора считаются Дипойн и Скиллид; они были родом также с одного из греческих островов, вероятно с Крита, и работали в Пелопоннесе, преимущественно в Сикионе. Кроме мраморных статуй для храмов этого города они произвели группу деревянных, выложенных слоновой костью статуй для храма Диоскуров в Аргосе. Поэтому эти художники, как и Смилид, причисляются к основателям хризэлефантинной техники; многочисленные ученики распространили их приемы по городам Пелопоннеса.
Рис. 287. Гигант. Одна из фронтонных скульптур сокровищницы мегарцев в Олимпии. По Трею
Одного из этих учеников, Медона (иногда его называют Донтас, но едва ли правильно), Павсаний считал исполнителем приношений мегарцев в их сокровищницу в Олимпии. На фронтоне этой сокровищницы, по словам Павсания, была изображена битва богов с гигантами. Еще Брунн выразил мнение, что эта фронтонная группа принадлежала если не самому Медону, то кому-либо из художников одной с ним школы. Тем временем была открыта сокровищница мегарцев в Олимпии и найдены фрагменты фронтона, изваянные из рыхлого известняка и представлявшие действительно означенную битву; они находятся теперь в музее Олимпии. Трей относил их к середине VI в. В центре изображен Зевс, низвергающий одного из гигантов на землю; рядом с ним боги борются с другими гигантами. Лучше прочих фигур сохранился гигант средней группы, падающий на землю (рис. 287). Обработка его форм еще по-старинному отличается робостью, но представляет уже значительный шаг вперед в отношении передачи натуры сравнительно с более древними аттическими фронтонными рельефами, с которыми мы уже знакомы. Особенно живо выражены мотивы движения, и вся группа, если судить по реставрации Д. Отто, превосходно заполняла собой трехугольное пространство фронтона. Рельеф был ярко раскрашен, преимущественно красной краской, и сильно выделялся на светло-голубом фоне.
К ученикам Дипойна и Скиллида причисляется также Клеарх Самосский, которого обычно называют Клеархом Регионским, потому что он переселился в Регион в Южной Италии. Так как Регион лежал напротив Сицилии, то Овербек считал возможным, что этот художник распространил стиль школы Дипойна и Скиллида на Сицилии. Конечно, это не больше как предположение; как бы то ни было, но рельефы древнейших метопов Селинунтского храма F, находящиеся в Палермском музее, имеют очевидное родство с фронтонными изваяниями сокровищницы мегарцев в Олимпии. Сохранились лишь нижние половинки двух плит. На каждой было изображено по богине, низвергающей гиганта на землю. На одной из них гигант падает на колени еще очень скованно, неестественно. На другой, лучшей по стилю, гигант падает навзничь, и богиня, по всей вероятности Афина Паллада, попирает его левой ногой. Голова этого гиганта выполнена по-старому в отношении правильности расположения прядей волос на черепе и бороде, в остальном же смоделирована натурально. Можно даже сосчитать зубы в раскрытом рту.
Рис. 288. Сидящая Афина. С фотографии
Эндойя, художника, упоминаемого и другими писателями, Павсаний выставляет аттическим скульптором третьей четверти VI в. В Афинах имя его было найдено в двух подписях под утраченными произведениями; с другой стороны, найдена также изваянная из островного мрамора сидящая Афина, без головы и без рук, которую признали за статую, приписываемую Павсанием Эндойю. Но так как статуи Эндойи упоминаются в Малой Азии и так как предположение, что в то время художники работали в Ионии, противоречит истории развития искусства рассматриваемой эпохи, то весьма вероятно, что этот мастер был ионийцем по происхождению. Во всяком случае, этому предположению соответствует стиль вышеупомянутой статуи Афины, хранящейся в Акропольском музее в Афинах (рис. 288). По сравнению со старинными милетскими сидячими статуями она представляет громадный шаг вперед в отношении натуральности моделировки тела с плотно прилегающей к нему и образующей мелкие складки одеждой; тщательного исполнения волос, ниспадающих в виде кос на эгиду (нагрудник), и выразительности движения: богиня, откинувшись, немного отодвинула назад правую ногу. Если эта статуя исполнена не Эндойем, то она все-таки – образцовое произведение его эпохи и его направления. В то время ионическое искусство распространялось с островов широким потоком как по Пелопоннесу, так и по всей Аттике.
Имя, по всей вероятности аттического, художника сохранилось в одной из дошедших до нас надписей. Его звали Аристокл. Он выставил свою подпись на прекрасной надгробной стеле Аристиона, Афинский национальный музей (рис. 289). Эта стела представляет собой обращенную профильно вправо фигуру вооруженного бородатого воина; правая рука его опущена вниз, а левой он опирается на копье. В этой фигуре, втиснутой в узкую высокую рамку, видны все слабые и сильные стороны греческого барельефа рассматриваемой эпохи. В общем, профильное положение фигуры хорошо выдержано, лепка тела, несмотря на то что оно заслонено доспехами, исполнена не без чутья натуры, богатая окраска, благодаря которой фигура выступает на темно-красном фоне, гармонично стильна. В частности, ступни с длинными большими пальцами выработаны прекрасно, сильная грудная клетка представляет почти нормальное строение, голова и шея посажены на плечи лучше того, чем мы видели до сих пор. Но сильно развитые бедра все еще берут перевес над прочими членами нижней части тела, волосы на голове и бороде по-прежнему намечены схематически правильными прядями, глаза все еще изображены en face, ноги касаются земли все еще всей подошвой. Тем не менее от этого произведения, несмотря на его древность, уже веет той прелестью, не нарушающей, однако, пределов строгой правильности, которой отличалось позднейшее аттическое искусство.
Мосхофор Акропольского музея в Афинах представляет собой вполне круглую аттическую скульптурную фигуру того времени (рис. 290). Заказчик этой обетной статуи назван в надписи на ней, но имя художника не выставлено. Мосхофор исполнен из серовато-голубого гиметского мрамора и изображает бородатого человека в строго фронтальном положении; он несет на плечах теленка, держа его ноги обеими руками у себя на груди. В художественном отношении эта статуя близкородственна стеле Аристиона. Оба произведения дают понятие о том, как далеко аттическая скульптура шагнула собственными силами вперед после того, как ионическое искусство внесло в нее новый дух.
За эпохой тирании, к которой относятся все перечисленные нами скульпторы и скульптурные произведения, последовал период сильного внутреннего брожения во всей политической и интеллектуальной жизни Греции. Неудержимое стремление к свободе охватило всю эллинскую нацию. В государственной жизни оно выразилось изгнанием тиранов и окончательным введением республиканского правления, в области искусства – постепенным освобождением от оков, мешавших ему до того времени совмещать форму с содержанием. Греки начали сознавать свое духовное превосходство над всеми племенами мира, и это духовное превосходство ни в какой другой области не выражалось так ярко, как в искусстве; и хотя греческая пластика достигла свободы в передаче натуры, полнейшей чистоты во владении формой только по окончании персидских войн, однако благодаря своему постепенному движению вперед она уже находилась на той высоте, до которой еще было далеко искусствам других наций.
Рис. 289. Надгробная стела Аристиона работы Аристокла. С фотографии
Имена великих скульпторов, сохранившиеся в литературных источниках, за эту пору сильно умножились; еще больше стало отличных произведений, о которых сообщают эти источники. Но ни одно из произведений не дошло до нас в оригинале, и мы можем только приблизительно определить связь между памятниками скульптуры того времени и именами, записанными историей.
Рис. 290. Мосхофор. С фотографии
Центр развития скульптуры сместился с островов на материк, и Пелопоннес в отношении дальнейшего усовершенствования художественных форм в школах шел уже впереди Аттики. Аргос и Сикион стали руководить направлением; литье из бронзы, которое пустило здесь крепкие корни благодаря старым литейным мастерским, сделалось в этих местах главным производством. Пелопоннесское происхождение древней мраморной фигуры юноши, найденной при французских раскопках в Дельфах, удостоверяется надписью на ней: "…медь из Аргоса". Исполнена эта статуя едва ли позже 575 г. Юноша, которого она изображает (рис. 291), шире в плечах, коренастее, чем Аполлон Тенейский (см. рис. 272, б); голова его больше, и в отношении всех пропорций его можно считать в некотором роде предшественником квадратичного канона позднейшего аргосского искусства, усовершенствованного Поликлетом. Главным аргосским мастером в конце VI столетия считается Агелад (Гагелэд). Не сохранилось ни одной из его статуй богов, ни одного из его изваяний Афины, ни одной из его фигур победителей на Олимпийских играх. Но Фуртвенглер, основываясь на небольшой, массивной, литой из бронзы фигуре, найденной в Арголиде и находящейся в Берлинском музее (см. рис. 291), пытался доказать, что при помощи сохранившихся произведений мы можем составить себе понятие о древнеаргивском типе фигур нагих юношей, разработанном Агеладом. Эта небольшая статуя исполнена, без сомнения, позже того, когда работал Агелад, так как тело вылеплено в более свободной манере, чем мог себе позволить этот мастер. Но поза, постановка тела, обработка головы и волос – типичны. Уже сама форма прилегающих к голове, правильно расположенных, спускающихся на лоб волос и натуральность передачи их прядей выказывают по сравнению с прежним временем большой прогресс. Пропорции частей головы уже представляются рассчитанными. От подбородка до глаза расстояние такое же, как от нижнего края крыльев носа до начала волос на лбу. Правая рука висит свободно; на ладони вытянутой вперед левой руки лежит шар, по всей вероятности мяч. Обе ступни еще прилегают к земле подошвами; ни та, ни другая нога нисколько не выставлена вперед, но уже можно отличить ногу, выносящую на себе тяжесть тела, от ноги, свободной от нее. Юноша опирается на левую ногу, а правая отдыхает. Этой ноге соответствует незначительное отступление от строгой фронтальности: левое плечо несколько опущено, а голова чуть-чуть повернута влево.
Рис. 291. Нагой мальчик. Литая бронзовая фигура. По Фуртвенглеру
Конечно, остается еще вопросом, достаточно ли того обстоятельства, что эта бронзовая статуэтка найдена в Арголиде, для того, чтобы основывать на ней целое учение о развитии школы Агелада и о ее влиянии на аттическое искусство. Но все-таки мы должны признать в этой фигуре дополиклетовский канон аргивских статуй юношей; дальнейшее развитие этого канона мы видим и в бронзовом Аполлоне, найденном в Помпее и хранящемся в Неаполитанском музее, и в мраморном Аполлоне Мантуанского музея, к которым мы еще вернемся ниже, и даже в известной мраморной статуе юноши виллы Альбани, снабженной подписью некоего Стефана, художника несомненно более позднего времени и только подражателя.
Знаменитейшим мастером рассматриваемого времени в Сикионе был Канах. К числу прославленных его произведений принадлежала бронзовая статуя Аполлона в святилище Бранхидов, в Милете, и выполненная из золота и кости сидящая на троне Афродита, в Сикионе. Мы видим, что вся техника наступающего периода расцвета искусства уже достигает совершенства; мы узнаем также, что с этой поры пелопоннесских художников уже вызывают в ионическую Малую Азию. Милетские монеты дают нам некоторое понятие о позе чествовавшегося там бога Аполлона, представленного на них держащим в одной руке лук, а в другой, протянутой вперед, оленя. Небольшая бронзовая фигура из Британского музея в Лондоне (рис. 292), по-видимому, есть воспроизведение в общих чертах этой все еще архаической статуи.
Рис. 292. Бронзовая статуэтка. Копия с милетского Аполлона Канаха. По Овербеку
В это время на первый план ненадолго выдвигается остров Эгина со своими художниками особенного направления. Эгинской школе, вместе с пелопоннесской, принадлежит заслуга разработки воспроизведения нагого тела; пелопоннесская школа занималась изучением его преимущественно в состоянии покоя, тогда как эгинская обращала свое внимание главным образом на движения. Один из старейших эгинских художников – Калон, подпись которого, начертанная им самим, приблизительно в 500 г., сохранилась в афинском Акрополе. Несколько позже жил Онат, хотя и работавший после персидских войн, но пользовавшийся известностью, как свидетельствует о том его собственноручная надпись в Акрополе, еще около 500 г. По словам Павсания, аргосцы принесли исполненное им произведение в дар Олимпийскому храму. База этого произведения, представляющая собой плоский отрезок круга, найдена при раскопках Олимпии. Оно изображало греков, мечущих под Троей жребий, кому из них вступить в единоборство с Гектором. Судя по описанию, бронзовые герои были нагие, но в шлемах, со щитами и копьями. Как указывал Овербек, здесь мы видим первый в истории искусства пример того, что знаменитый эпический сюжет воспроизводится в группе круглых фигур, а также первый пример изображения эпических героев нагими. Так как и то и другое мы находим и в известных фронтонных группах Эгинского храма Афины (см. рис. 279), хранящихся в Мюнхенской глиптотеке, то полагают, что эти мраморные изваяния – произведения Оната. В обеих эгинских группах расположение фигур почти одно и то же, но обработка группы восточного фронтона несколько лучше, чем группы западного. Поэтому считают, что Онат исполнил только эту последнюю, восточная же группа окончена его сыном и учеником Каллителем. Вполне установленным надо признать лишь то, что оба этих произведения дают приблизительное понятие о стиле Оната. Пятнадцать фигур этих фронтонных украшений, найденных в виде обломков (10 принадлежат западному, 5 – восточному фронтону), были в начале прошедшего столетия реставрированы в Мюнхене под руководством Торвальдсена. Однако теперь известно, что и на западном фронтоне находилось по меньшей мере 12 фигур, в том числе две – исполненные по образцу и в духе подобных фигур восточного фронтона. Конрад Ланге предполагал даже, что фигур на каждом фронтоне было 14, но, по нашему убеждению, 12 фигур было достаточно, чтобы заполнить фронтон наиболее соответственно условиям строгой симметричности и ритмичности, которые все еще соблюдало искусство того времени. На том и другом фронтонах были представлены битвы под Троей, какие, по рассказам героических поэм, происходили из-за трупов павших воинов. И здесь и там на стороне греков изображен впереди всех эгинец. На западном фронтоне, и здесь мы настаиваем на этом мнении вопреки другим авторам, представлена битва из-за трупа Патрокла, причем передовым бойцом является Аякс, сын эгинского героя Теламона. На восточном фронтоне – бой вооруженного луком Геракла и его эгинского соратника Теламона, игравшего здесь роль передового бойца, с троянцем Лаомедоном. Афина Паллада, изображенная en face, но с ногами, повернутыми в профиль, в окоченелой архаичной позе, в двух плотно облегающих тело одеяниях со складками, в шлеме и с эгидой на плечах, стояла в середине каждого фронтона, подобно древнему ксоану; у ног ее на том и другом фронтоне лежало по сраженному воину, а два нагибающихся невооруженных человека, помещенные справа и слева, пытались поднять его. Позади этих фигур, справа и слева, ближе к углам фронтона, находились воины, мечущие копья и пускающие из лука стрелы, передние стоя, а задние припав на одно колено, и в каждом из четырех углов – фигура павшего воина, корчащегося в предсмертной агонии. Относительно частностей этого размещения (рис. 293, а) мнения разделились; во всяком случае, оно было не такое, как в мюнхенской реставрации. Тем не менее размещение фигур, представленное на нашем рисунке, наглядно передает, как греческая пластика, изображая по правилам древнего военного искусства борьбу из-за трупа павшего воина, соблюдала симметрию и ритм.
Рис. 293. Фронтонные фигуры Эгинского храма Афины: а – реставрация западного фронтона; б – средняя часть западного фронтона так, как она установлена в Мюнхене; в – угловая фигура восточного фронтона. По Максу Циммерманну (а) и фотографиям (б, в)
Кроме Афины Паллады и лучников, все остальные фигуры, исполненные приблизительно в размере трех четвертей натуры, – обнаженные: на них надеты только оборонительные и наступательные доспехи; их тело смоделировано все еще несколько жестко и сухо, но вообще прочувствовано так хорошо, как никогда раньше. Гимнастические состязания нагих юношей открыли художникам глаза для полного понятия внешнего сложения и движений человека и вместе с тем настолько приучили их к наготе, что с тех пор они стали чувствовать потребность изображать обнаженными даже исторические лица. За исключением позы Афины, изображенной умышленно в архаическом духе, фронтальность отдельных фигур уже совершенно исчезла (б). Художник испытывает свои силы в передаче всяческих изгибов и движений, хотя в отношении анатомической правильности поворотов туловища оставляет еще желать лучшего. При этом лица, лишенные всякого выражения, имеют по-прежнему резкие черты; глаза поставлены слишком высоко, губы сжаты и как бы улыбаются, подбородок короток, волосы обработаны схематически, по-старинному. Во всех этих отношениях отдельные фигуры восточного фронтона, в которых, как доказано Калькманном, соблюдены несколько иные правила пропорциональности, исполнены более свободно и искусно, чем фигуры западного. Чрезвычайно любопытно видеть успех, достигнутый художником в естественности воспроизведения тела, в изображении мышц, волос и глаз. Этот прогресс особенно заметен в повороте туловища и выражении лица раненого воина, лежащего на восточном фронтоне (в). Такой смелый поворот хотя и начинается анатомически неверно, на уровне пупка, все-таки явление до тех пор неслыханное в искусстве; небывалым явлением надо также признать выражение лица этого воина: попытка передать настоящее выражение боли согнала с лица раненого "эгинскую улыбку".
Рис. 294. Аттическо-ионическая женская статуя архаического стиля. С фотографии
Многочисленные бронзовые околичности, на существование которых указывают высверленные отверстия, и раскраска, отсутствовавшая, по всей вероятности, только на нагих частях тела фигур, за исключением губ и глаз, дополняли внешний вид эгинских фронтонных групп. Эти группы хотя и представляются архаическими по своим схематическим движениям и недостатку связи между отдельными фигурами, производящими (по выражению Юлия Ланге) впечатление "фигур самих по себе", однако во многих отношениях ясно выказывают переход от старых художественных воззрений к новым.
Количество таких аттических скульпторов рассматриваемого времени, имена которых были известны древним писателям, все еще ничтожно в сравнении с числом подписей, принадлежащих чужестранным мастерам и найденных при раскопках в Афинах. Со времени исследования "персидского мусора" на Акрополе мы ознакомились с аттическим искусством переходной к V в. поры при помощи сохранившихся от нее произведений, и притом ознакомились лучше, чем с одновременным ему искусством какой-либо другой местности. В этих произведениях отражается вся аттическая подвижность, глубокий ум и грация. По сравнению с пелопоннесскими и эгинскими художниками аттические были свободнее от гнета школы и, говоря словами Брунна, "смотрели на тело не с архитектонической или механической стороны по преимуществу", а как на организм, одаренный своей собственной жизнью. Мы уже видели выше, что Афины были наводнены ионической культурой. После разъяснений Винтера произведениями ионических и в особенности хиосских мастеров считают прежде всего целый ряд богато одетых женских фигур, бюстов, торсов и статуй, занимающих в Афинском акропольском музее особый зал. Вероятно, это изображения не богинь или жриц, а просто дев, изваяния которых были посвящены в качестве подруг девственной богине Афине (рис. 294). Позы этих фигур торжественны; на губах грациозная улыбка. Нижнее одеяние, спускающееся вниз со множеством складок, слегка приподнято левой рукой.
Рис. 295. Женская статуя работы Антенора. С фотографии
Верхняя одежда, также изобилующая складками, проходит под левым плечом и закинута на правое; отсюда она ниспадает длинным шлейфом. Продолговато-овальные головы индивидуальны. Глаза с приподнятыми наружными углами поставлены поразительно косо, углы рта оттянуты также кверху; но прекрасные очертания губ, складки возле углов улыбающегося рта и обработка подбородка превосходят все, что было достигнуто более древними греками при изображении лиц. Волосы обыкновенно спускаются на лоб прядями или локонами без пробора и падают в виде длинных кудрей на грудь и плечи. Лишь в позднейших фигурах этого рода на голове появляется пробор. На большинстве их сохранились следы многоцветной раскраски. Хотя главные краски этой эпохи были, по-видимому, зеленая и красная, однако зеленая составляла только оттенок синей. Орнаменты, которыми украшена одежда, представляют шаг вперед главным образом благодаря введению в них растительных элементов и мотивов листа, на которые нами было уже указано как на отличительные особенности греческой орнаментики в ту эпоху.
Одна из этих статуй, как показала сделанная Студничкой ее реставрация, подписана именем Антенора, "сына Эвмара", вероятно аттического живописца. По сравнению с другими статуями она исполнена проще и грубее; волосы выделаны в архаическом роде, выражение лица суровое (рис. 295). При этом аттический художник пренебрег косой постановкой глаз своих ионических образцов. Это произведение Антенора любопытно потому, что ясно показывает нам, каким образом внешнее воспринималось и преобразовывалось в духе национального развития.
Рис. 296. Аттическая статуя мальчика. С фотографии
Антенор – известный также из письменных источников, высоко ценившийся художник. Ему принадлежала бронзовая группа "Тирано-убийцы Гармодий и Аристогитон", отлитая по заказу освобожденных Афин вскоре после низвержения Писистратидов. Когда Ксеркс в 480 г. до н. э. увез эту знаменитую группу, возвращенную назад лишь при Александре Македонском, двум другим аттическим мастерам, Критию и Несиоту, было поручено воспроизвести ее. Мраморная копия этой группы Крития и Несиота находится в Неаполитанском музее. Группа Антенора, по нашему убеждению, должна была иметь более строгий и древний характер, и потому нам кажется вполне возможным считать Антенора, исполнителя архаических женских фигур Акрополя, творцом и первоначальной группы "тираноубийц".
После Антенора наряду с Критием и Несиотом главным мастером Аттики эпохи персидских войн называют Гегия. Он прославился в особенности тем, что был учителем Фидия. Фуртвенглер полагал, что Гегий был учеником Агелада и создал тот тип Аполлона, который дошел до нас в статуях, хранящихся в Неаполе и Мантуе (см. рис. 292). В числе его произведений, равно как и произведений Канаха, упоминаются "мальчики на скаковых лошадях". Что надо разуметь под этими словами, дают нам понять статуи юных всадников, отрытые в "персидском мусоре" Акрополя. Очевидно, у знатных молодых афинян было в обычае ставить в Акрополе свои изображения верхом на коне; разница в стиле дошедших до нас обломков таких конных статуй свидетельствует, что этот обычай возник еще во времена Писистрата.
Критий и Несиот, работавшие после персидских войн, по всей вероятности, трудились и раньше этих войн. По крайней мере, Овербек, Фуртвенглер и другие согласны в том, что мраморная статуя юноши из Акропольского музея, отрытая в "персидском мусоре" и голова которой, найденная лишь впоследствии, сильно напоминает голову Гармодия, имеет некоторое отношение к названным мастерам (рис. 296). В противоположность вышеупомянутым фигурам юношей, изваянным по аргивскому канону, эта аттическая фигура мальчика отличается неподвижностью туловища, которое лишь слегка опирается на правую, несколько выставленную вперед ногу. Руки свешиваются вдоль тела, довольно плотно прилегая к нему. Но волосы, подвязанные спереди ремешком, как и в означенных фигурах, уложены длинными, зачесанными вперед прядями; лепка тела отличается чистотой и нежностью, не оставляющими желать ничего лучшего. "Тирано-убийцы", Неаполитанский музей, – произведение того же мастера, исполненное, по меньшей мере, лет десять спустя. Рис. 297 представляет эту группу после ее реставрации и заимствован из "Истории греческой пластики" Овербека. В Неаполитанском музее голова Аристогитона, старшего из двух друзей, более позднего стиля; по нашему мнению, на ее месте должна была находиться голова архаичная, с короткими волосами и короткой бородой, какой и наделена эта фигура в гипсовом слепке дрезденского Альбертинума. На вытянутую левую руку Аристогитона накинута драпировка, а в опущенной правой руке он держит короткий меч и как бы защищает Гармодия, высоко занесшего правую руку, вооруженную более длинным мечом, дабы нанести смертельный удар. В обеих фигурах прекрасно передано их общее наступательное движение, прекрасно выражено также распределение между ними ролей. Обработка волос и моделировка голов имеют еще в значительной степени архаический характер. Формы широкоплечего туловища еще грубоваты, но вылеплены с полным пониманием натуры. Мотивы движения, совершенно переросшие фронтальность, еще величаво сдержанны, но уже проникнуты такой выразительной свободой, какая была невозможна для всего искусства до персидских войн и даже во время их.
Рис. 297. Тираноубийцы Гармодий и Аристогитон. По Овербеку
Краткий дополнительный обзор сохранившихся произведений последней поры архаизма уяснит нам весь ход развития греческой скульптуры.
Прежде всего, остановимся на фронтальном украшении писистратовского храма Афины в афинском Акрополе, на так называемом Гекатомпедоне. Фронтонная группа этого здания, относящегося ко второй половине VI столетия, собрана и выставлена в Акропольском музее лишь в 1895 г. Она изображает битву гигантов. Афина Паллада стояла не в принужденной, оцепенелой позе, как на эгинских фронтонах, а находясь в центре группы, принимала в битве живое участие и низвергала одного из гигантов. Голова ее, по счастью, сохранилась (рис. 298). Ее выразительное лицо несколько напоминает собой головы вышеупомянутых ионических женских фигур Акропольского музея. По объяснению фрагментов группы, сделанному Гансом Шрадером, богиня сильно выступала вперед, поворачиваясь влево к падающему перед ней гиганту, "крепко хватая его за шлем и вонзая ему в грудь копье". Слева и справа от этих двух фигур находились два бога, одолевавшие других гигантов. Умирающие, упавшие на колени гиганты занимали собой углы фронтона. По сравнению с древними фронтонами из известняка с их сплошной раскраской этот мраморный фронтон представляет новизну и в отношении окраски. Мрамор сохранял свой естественный цвет или был подкрашен одним ровным тоном. Нагое тело оставалось неиллюминированным, как и главная масса одежд. Раскрашены были только губы, глаза, волосы, края и кромки одеяний, оружие и предметы украшения. Вообще вся группа выступала светлой из темного, вероятно синего фона. По сравнению с древними изображениями гигантов, о которых мы упоминали, говоря о скульптурах сокровищницы мегарцев в Олимпии и храма в Селинуте, поразительный шаг вперед составляет то обстоятельство, что гиганты являются в этой группе уже не одетыми, как раньше, а почти совершенно нагими. Судя по этим изменениям, афинская "битва с гигантами" относится, очевидно, к той же ступени развития, что и экинский фронтон. Но оцепенелость отдельных фигур этого фронтона сменилась здесь более оживленным делением композиции на три части. Несомненно, аттическое изображение превосходило эгинское широтой замысла и монументальностью. В обработке его частностей обнаруживается аттический глубокий, здравый смысл. Уже сама голова Паллады, с ее большими, свободно, хотя еще чуть-чуть косо поставленными глазами, полна своеобразной жизни; улыбка богини также не похожа уже на "эгинскую": она выражает радостное чувство непобедимости, присущее девственной Афине.
Рис. 298. Голова Афины. Фронтонные изваяния писистратовского храма. С фотографии
Для истории греческого искусства очень важны пластические произведения сокровищниц сифносцев и афинян в Дельфах – памятников, время сооружения которых нам известно. Гоммель доказал, что первый из них построен между 525 и 510 гг., а второй – между 490 и 480 гг. до н. э. От сокровищницы острова Сифнос сохранились обломки фронтонных групп (например, "Похищение треножника") и рельефы фриза. Гиганты на фризе еще без одежд, как на фронтоне храма Афины в афинском Акрополе; но битва в отдельных группах представлена гораздо оживленнее, чем на эгинском фронтоне. Напротив того, в сонме богов, сидящих на тронах, господствует торжественный покой, причем их одежды представляют такую свободу и ширину расположения складок, какие, казалось бы, нельзя было ожидать от искусства рассматриваемой эпохи (рис. 299). От скульптур сокровищницы афинян в Дельфах сохранились, сверх нескольких частей фронтонных фигур, обломки 16 метопов, на которых были изображены частью подвиги Геракла, частью подвиги Тезея. Стилем своим они живо напоминают аттические чернофигурные вазы строгого стиля. По сравнению со скульптурами сокровищницы сифносцев в них сразу поражает успех, достигнутый в обработке тела даже там, где оно прикрыто одеждой (рис. 300).Необходимо указать на весьма многочисленные плоские рельефы, в которых мы видим дальнейшее развитие сурового стиля стелы Аристокла (см. рис. 289). Какие успехи были сделаны в течение приблизительно полувека, лучше всего показывает нам надгробная стела Афинского музея, относящаяся ко времени, непосредственно следовавшему за персидскими войнами. Она была найдена в Орхомене, в Беотии, но, как свидетельствует надпись на ней, исполнена мастером с острова Наксос, Алксенором (рис. 301). Эта стела, как и стела Аристокла, изображает бородатого человека. Но здесь он уже стоит, не касаясь земли всей подошвой, а весьма свободным движением заложил левую ногу на правую, на которую опирается и стопа которой повернута в сторону почти под прямым углом. Голова изображенного красиво поникла, руки лежат свободно. Правой рукой, повернутой несколько неловко, он ласкает собаку, столь же неловко повернувшую к нему голову и смотрящую ему в лицо. В этих неправильностях, так же как и в постановке глаз, в изображении волос и складок одежды, сказывается архаизм древней эпохи. Но от этой ступени развития культуры до полной свободы, как она проявляется в стеле Анаксимандра, находящейся в музее Софии, оставалось сделать лишь один шаг. К прекраснейшим и известнейшим из древнеаттических плоских рельефов поры более свободного архаизма принадлежит хранящееся в акропольской коллекции изображение возничего, которого прежде считали женщиной, всходящей на колесницу. Складки на одежде здесь расположены сообразно движению тела, и от всего изображения веет аттической прелестью. К числу наиболее свободных созданий, все еще не выходящих за пределы древнего стиля, относится также рельеф с острова Фазос, Луврский музей. Но особенно замечателен рельеф "Памятника гарпии", Британский музей. Рельеф этот тянулся в виде фриза под карнизом на всех четырех сторонах монолитной надгробной башни в Ксанфе, в Ликии. На нем представлены крылатые богини с человеческими руками и птичьими когтями, уносящие души умерших, и родственники умерших, умилостивляющие этих богинь дарами. Богини жизни и смерти сидят друг против друга, и богато одетые женщины поклоняются богине жизни. В главных чертах стиль этого любопытного ликийского памятника вполне сходен с греческим архаическим стилем, но формы тела здесь менее хорошо поняты, более вялы и расплывчаты, чем в настоящих греческих произведениях рассматриваемой нами ступени развития искусства. Во всем рельефе как бы чувствуется азиатское веяние.
Рис. 299. Фигуры богов. Скульптура сокровищницы сифносцев в Дельфах. По Гоммелю
Рис. 300. Метоп сокровищницы афинян в Дельфах. По Гоммелю
Рис. 301. Надгробная стела работы Алксенора. С фотографии
В данном случае будет уместно возвратиться к рельефам на архитраве Ассосского храма в Малой Азии, хранящимся в Лувре. Колиньон полагал, что эти рельефы исполнены не раньше 540 г. до н. э.; другие считают их еще более древними. На них изображены битвы зверей, скачущие кентавры, пир возлежащих мужей, борьба Геракла с Тритоном (рис. 302). И здесь формы, несмотря на архаичность поз и движений, более мягки, чем прежние. Но одно то, что кентавры движутся уже на четырех лошадиных ногах, показывает, что эти рельефы совсем не так древни, как думали раньше. Они показательны особенно в том отношении, что представляют нам во всей его строгости закон помещения голов на одинаковой высоте (изокефалии), господствовавший в греческих изображениях на фризах. Для соблюдения этого закона приходилось стоящие фигуры изображать в меньшем размере, чем сидящие, нагнувшиеся или лежащие, и эта задача удачно разрешалась таким образом, что слуги изображались поменьше, чем господа, простые смертные – меньше, чем боги. Раскраска штукатурки, некогда покрывавшей эти серые известняковые рельефы, должна была сообщать им большую жизненность в отношении форм.
Обращаемся теперь к круглым пластическим фигурам. Постепенные успехи разработки форм всего заметнее в женских статуях, а именно в более свободном расположении складок на одеждах и в более натуральном виде волос. У фигур, представленных идущими, как, например, у Артемиды из Неаполитанского музея, которую прежде считали архаичной, то есть исполненной умышленно в древнем духе, приподнятая нога касается земли уже не всей подошвой, а только кончиками пальцев. Мужские статуи последних времен архаизма уже отмечены признаками того же прогресса, как, например, и "Тираноубийцы" работы Крития и Несиота. Особенно любопытно проследить эти успехи на спокойно стоящих нагих мужских фигурах, чуть-чуть уклоняющихся от фронтального положения, причем нога, на которую не опирается тело, все еще прикасается к земле подошвой, а длинные волосы, ниспадающие с середины головы по всем ее сторонам и оканчивающиеся спереди небольшими кудрями, изображаются расположенными все еще строго правильно. Но руки, прежде инертно свешивавшиеся, начинают постепенно подниматься, то одна, то другая, то обе разом. Однако дальше подъема обоих предплечий для выражения какого-либо действия рук или несения ими чего-либо статуи этого рода почти не идут. Важнее всего то, что моделировка тела становится чище и вообще правдивее, мягче и естественнее. К числу прекраснейших и строгих по стилю юношеских фигур принадлежит бронзовая статуя Луврского музея, изданная Калькманном. В ней сильно обозначены ребра, паховые складки и мышцы (рис. 303). Затем надо указать на хранящуюся также в Лувре бронзовую статую Аполлона из Пьомбино, пелопоннесское происхождение которой подтверждается диалектом надписи на ней (рис. 304). Отметим также Странгфордского Аполлона из Британского музея в Лондоне – мраморную статую, которую следует поставить скорее во главе позднейшего, чем в конце древнейшего ряда атлетических фигур, если только согласиться с Юлием Ланге, усматривавшим в этом изваянии шаг вперед в развитии форм. Бронзовая статуя Эфеба в Палаццо Шьярра в Риме оживлена гораздо более свободным движением. По сравнению со всеми этими изваяниями существенный шаг вперед к большей свободе мы видим в обеих вышеупомянутых статуях Аполлона, оригинал которых Фуртвенглер предполагал относящимся в одно и то же время к аргивской школе Агелада и произведениям аттического мастера Гегия; мы говорим о бронзовом Аполлоне из Помпеи, находящемся в Неаполитанском музее (рис. 305), и мраморном Аполлоне из Мантуанского музея. Оба они, как и прочие фигуры, представляют описанные выше отличительные черты архаических статуй этого рода. Но у них формы тела во всех отношениях так зрело и свежо смоделированы, волосы, ниспадающие свободными прядями, так натуральны и мягки, движения так свободны и непринужденны, что эти произведения не могли быть исполнены до персидских войн; однако их совсем древний характер выказывается уже в одном том, что их ступни прилегают к земле всей подошвой. Ко времени, следовавшему непосредственно за персидскими войнами, должно отнести также бронзовую статую возницы в натуральную величину, в длинном одеянии, найденную в 1896 г. при французских раскопках в Дельфах. Этот возница – лучшая из всех дошедших до нас античных бронзовых фигур такой величины. Характер ее строгий, но в ней нет ни скованности, ни тяжеловесности, и потому она может считаться образцом зрелого архаического искусства.
Рис. 302. Битва Геракла с Тритоном. Рельеф на архитраве Ассосского храма. С фотографии Жиродона
Рис. 303. Мальчик. По Калькманну
Рис. 305. Аполлон, найденный в Помпее. С фотографии
Рис. 304. Аполлон, найденный в Пьомбино. С фотографии Жиродона
Итак, мы видим, что греческое искусство ко времени персидских войн достигло повсюду почти одной и той же ступени развития. Местные различия, как они ни были значительны вообще, держались на одной и той же высоте стремления к свободе. Время внешних влияний уже миновало; та ступень развития, до которой дошло искусство великих монархий старого Востока, давно уже осталась позади; искусство и художники различных частей Греции стремились к взаимному обмену между собой личными благоприобретениями и к дружественному равенству. Во всех эллинских городах искусство сделалось национально греческим. Претворив в себе древние влияния Востока, оно стало всюду органически и быстро развиваться своими собственными силами. Греческое искусство времени персидских войн относится к великому искусству ближайшего последующего поколения, можно сказать, так же, как предвесенние дни к поре цветения роз, как прохладная утренняя заря к жаркому полдню. Не было ни одной такой области – область литоорганического развития архитектурных форм, или область согласного с натурой воспроизведения человеческого тела и ясной передачи подмеченного в натуре движения, – где бы греческое искусство не ушло далеко вперед от всего, что было создано до него искусством других стран. Одно только удавалось в это время греческому искусству лишь в умеренной степени: отражение духовной жизни и душевных переживаний. Оно выражало страсти преимущественно телесными движениями, то тем не менее они изображались, и древнегреческое искусство, с которым мы ознакомились, было настоящим, чистым, возвышенным. Искусство было в крови у греков. Они начали влагать свою жизнь в художественное творчество еще тогда, когда их руки не умели воспроизводить то, что видел глаз, и все-таки греческое искусство развивалось непосредственно из самой жизни. Общая художественная жизнь греков, выражавшаяся в одинаковых верованиях и играх, была объединяющим звеном, благодаря которому раздробленные в политическом отношении племена были в состоянии отразить натиск на них нестройных восточных полчищ.
II. Искусство от начала Персидских войн до эпохи Диадохов (около 475-275 гг. до н. э.)
1. Искусство V столетия (475-400 гг. до н. э.)
Решительные победы, одержанные греческой нацией над персидской мировой монархией в первые десятилетия V столетия до н. э., раз и навсегда обеспечили европейским народам обладание занятой ими частью света, и вслед за своими блестящими воинскими подвигами греки совершили великие деяния в области преобразования человеческого духа.
Уже более 100 лет греческое искусство в своем органическом развитии стремилось к одной великой цели. В пределах тех идеальных задач, которым служило искусство греков, данная цель состояла в овладении природой посредством возможно точной передачи ее форм и вместе с тем в очистке этих форм от всего случайного и выработке, таким образом, художественного стиля, соответствующего внутренней и внешней сущности каждой задачи. Вся тайна убедительной силы зрелого греческого искусства заключается именно в том, что оно всегда старалось объединять природу и стиль, а не ставить их рядом. К этой цели оно постепенно приближалось еще до персидских войн. Если последние шаги в том направлении были сделаны именно в момент национального воодушевления, ярко разгоревшегося после персидских войн, то это только послужило на пользу духовному содержанию искусства, и если в то время Афины решительно встали во главе движения как в области литературы и театрального искусства, так и в области образных искусств, то это было прежде всего естественным последствием политического первенства, выпавшего на долю города Афины Паллады благодаря его предводительству в победоносных битвах. Но не следует упускать из виду и другой причины этого главенства. "Варвары" Суз и Персеполя перед своим отступлением ни в одном городе не вели себя так жестоко, как в Афинах. Здания Акрополя превратились в развалины; даже в нижнем городе не осталось камня на камне, а то, что осталось от разрушенного персами, послужило Фемистоклу, победителю при Саламине, материалом для постройки укрепленных стен вокруг города и его гавани. Таким образом, новая эпоха задала Афинам обширные, величайшие архитектурные и художественные задачи. Величие этих задач усиливалось общественной важностью, их духовное значение усиливалось богатством средств, которыми могли располагать победители; иначе говоря, все обстоятельства сложились так, что благоприятствовали достижению аттическим искусством после персидских войн такого внутреннего величия и такого внешнего блеска, до каких оно никогда не доходило ни раньше, ни позже.
Наряду с аттическим искусством пелопоннесское по-прежнему выказывало свою своеобразную силу. Главными центрами искусства в Пелопоннесе были Аргос и Сикион, связанные между собой некоторыми преданиями; по сравнению с афинским монументальным и идеальным искусством чисто общественного характера их искусство было ограниченное в гражданском смысле, коренившееся в жизни отдельных личностей, искавшее и вырабатывавшее для себя незыблемые правила. Олимпия, главный укрепленный город Греции, могла гордиться не столько собственной художественной деятельностью, сколько количеством находившихся в ней произведений искусства. Что касается Спарты, то она была бедна в художественном отношении. Этот суровый по нравам город на берегу Эврота, выступивший соперником Афин в политической жизни и под конец даже одержавший над ними победу, казалось, после Гитиада утратил свое художественное значение. Даже после пелопоннесской войны (431-404 гг. до н. э.), доставившей Спарте на некоторое время политическое господство в Греции, Афины немедленно снова встали во главе художественного движения нового столетия. Аргос и Сикион в Пелопоннесе не оставляли своих прежних стремлений, и с ними сравнились разве только Фивы, главный город Беотии, во время своей кратковременной политической гегемонии (371-361 гг. до н. э.) достигший самостоятельного, хотя и кратковременного расцвета в области образных искусств.
Западные греки Сицилии и Южной Италии, так же как и восточные греки островов и Малой Азии, нисколько не уклонялись от участия в дальнейшем развитии греческого искусства, и, быть может, надо считать отнюдь не случайным то обстоятельство, что величайшие из греческих художников, главная деятельность которых происходила в эпоху самой пелопоннесской войны, были, за исключением скульптора Поликлета, живописцами из Малой Азии и Южной Италии.
После того как Греция растерзала сама себя и снова распалась на мелкие государства, ею могли бы овладеть ослабевшие азиатские противники, собравшись для этого с силами, если бы, на счастье для европейской культуры, на сцену не выступили македонцы, родственные грекам по происхождению и давно уже заимствовавшие их культуру. В 338 г. Филипп Македонский положил конец греческой свободе, а его сын Александр в 330 г. покончил с монархией персов. Но Филипп и Александр чувствовали себя греками. Поощрять греческое искусство было одной из задач их жизни. Конечно, под крыльями единодержавия искусство должно было вскоре вступить на новые пути, направление которых заметно уже у великих художников, современных Александру. Однако эти художники, которых отыскивали и приковывали к себе македонские государи, воспитались еще в эпоху политической и художественной свободы. Поэтому они принадлежат, собственно говоря, поре расцвета греческого искусства, которая и оканчивается вместе с ними.
200-летний период процветания греческого искусства можно разделить на этапы. Предварительный расцвет до известной степени совпадает с правлением в Афинах Кимона, изгнанного оттуда в 461 г. до н. э. Первый пышный расцвет был временем владычества Перикла, умершего в 429 г. Эпоха пелопоннесской войны не составляет особой главы в истории искусства, имея во многих отношениях характер переходный. Второй период расцвета начинается с IV столетия и, после смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.), продолжается в течение жизни по меньшей мере одного поколения.
Рис. 306. Реставрация одного из древнейших греческих театров. По Дёрпфельду и Рейшу
В V в. зодчество, с произведениями которого создания ваяния и живописи были органически связаны или строго согласовались, оставалось у греков если не руководящим, то в полном смысле слова основным искусством. В развитии художественной стороны строительного дела, которая одна интересна для нас, теперь, как и прежде, стоит на первом плане храмозодчество. Однако мы, намереваясь держаться восходящего порядка, на этот раз начинаем свой обзор с гражданской архитектуры, в произведениях которой, впрочем, обнаруживается уже вся многосторонность, творческая сила и вдумчивость греческих зодчих. Места, предназначенные для всякого рода общественных торжеств, особенно показательны. Вначале это были естественные, лишь выровненные пространства под открытым небом. Только в течение веков превратились они в настоящие художественные постройки, удовлетворявшие возросшим требованиям защиты от непогоды, разных удобств, необходимых для помещения людей, и пышности убранства.
После исследований Дёрпфельда и Рейша наше понятие о греческом театре коренным образом изменилось. Теперь мы знаем, что возвышенные подмостки – принадлежность только римских театров, что в греческом театре актеры, равно как и хор, выступали на круглом "месте для пляски" (orchestra), в центре которого стоял жертвенник (thymele). Орхестру с трех сторон окружали места для зрителей. На четвертой стороне, напротив мест для зрителей, находился шатер (skene), из которого появлялись на плоской арене актеры. На рис. 306 – реставрация Дёрпфельда древнегреческого театра с видом на скену, являющуюся здесь уже постоянным сооружением. Места для зрителей, где это было возможно, устраивались на склоне горы для того, чтобы посетители театра могли стоять или сидеть одни выше других; такого устройства продолжали держаться и после того, как места для зрителей превратились в художественную, хотя все еще находившуюся под открытым небом постройку, в которой ряды сидений шли один выше другого и каждый верхний ряд был длиннее непосредственно лежавшего ниже его. Скена, перед которой вскоре появилась деревянная подвижная перегородка (proskenion) для навешивания на нее писанных красками декораций, постепенно развивалась в сооружение, украшенное полуколоннами и имевшее с обеих сторон по выступавшему вперед флигелю (paraskenion).
Рис. 307. План олимпийского булевтерия. По Дёрпфельду
Из сохранившихся театров V столетия театр Диониса, на южном склоне акропольской горы в Афинах, первоначально был построен до персидских войн, но от него дошли до нас только остатки круглой орхестры, отрытые под фундаментом театра римской постройки. От других театров V в., каковы, например, театры в Сиракузах и Оропе, остались только высеченные в скале уступы, служившие местами для зрителей.
Здания, в которых происходили музыкальные состязания, содержали в себе закрытые помещения и назывались одеонами (odeion). Еще Перикл построил в Афинах постоянный одеон, от которого не сохранилось никаких следов, имеются только краткие его описания. По Плутарху, в этом здании находилось множество мест для слушателей и много колонн, а его наклонная шатрообразная крыша оканчивалась шпицом, который был сделан наподобие шпица палатки Ксеркса. Ристалище для состязания юношей в беге называлось стадионом (stadion), потому что длина его арены равнялась стадии (около 196,8 метра). На одной из узких сторон ристалища, имевшей форму полукруга, а также на обеих длинных его сторонах устраивались места для зрителей, расположенные в виде уступов. Ипподромы, здания для скачек на лошадях и колесницах, имели такой же план, но гораздо большие размеры. Все сохранившиеся до нашего времени сооружения этого рода принадлежат, однако, позднейшим столетиям и представляют мало интереса для истории искусства. В V в. они производили впечатление скорее естественных, расчищенных человеческими руками и приспособленных к данной цели площадей, чем построек. Точно так же места, где юноши подготавливались к состязаниям, гимназии и палестры, превратившиеся потом в великолепные сооружения с колоннадами, дворами, залами, в рассматриваемую пору еще не представляли особой архитектурной обработки.
Более значительные остатки уцелели от зданий, предназначенных для общественных собраний и совещаний. Мы можем себе составить понятие о булевтериях, в некотором роде ратушах, с тех пор, как снова явился на свет булевтерий Олимпии (рис. 307). Он состоял из трех больших отдельных залов, которые с восточной стороны были соединены одним общим дорическим портиком. Средний зал был квадратным в плане. Северный и южный залы были длиннее среднего; их восточная, короткая сторона имела форму полукруга, а на западной передней стороне зал открывался портиком с пролетом и колоннами, поставленными между антами; по всей длине в середине каждого зала шел ряд колонн, разделявший его на два корабля. Северный зал, как заключил Дёрпфельд по капители одного из его антов, был построен в VI в., а южный, в котором дорические капители сходны с капителями Олимпийского храма Зевса, в V в. Средний зал и портик сооружены при позднейшей перестройке здания. Раскопки в Олимпии привели также к открытию плана одного из пританеев – государственных дворцов Греции, в которых помещался священный очаг Гестии. Полная перестройка в римскую эпоху, разумеется, погребла под собой первоначальное здание и перерезала его во многих направлениях. Видно, однако, что его форма была квадратной, по 100 греческих футов (один плефрон = 32,8 метра) в каждой стороне. По-видимому, в это здание вел портик с двумя колоннами. К квадратному залу, в котором, вероятно, и стоял алтарь Гестии, примыкали симметрично расположенные залы, галереи и дворы.
Во многих значительных городах существовали общественные здания для мирных бесед, "говорильни", как мы назвали бы их теперь, или лесхе, как называли их греки. Они были нередко украшены картинами, а по своей конструкции, наверное, походили на стои, которые служили и для прогулок, и для публичных чтений. Обычно они состояли из стены и двух рядов колонн перед ней, из которых наружный выходил на площадь или улицу. В Олимпии сохранились остатки дорической, украшенной живописью "stoa poikile" и находившейся позади галереи Эхо большой стои, которая в IV столетии замыкала собой восточную сторону Алтиса, священной акропольской твердыни. Греческие рынки также бывали нередко окружены портиками с колоннами. Такие же портики тянулись и позади театров. Сохранившиеся остатки этих двоякого рода портиков принадлежат почти исключительно позднейшим столетиям. Но, во всяком случае, они явились еще в V столетии вместе с искусственными, имевшими определенный, правильный план городскими гульбищами. После того как Фемистокл обнес стеной афинскую гавань Пирей, а Перикл соединил ее с городом длинными стенами, надо было перестроить сам Пирей, дабы превратить его в образцовое, правильно расположенное место прогулок. План этой перестройки был составлен Гипподамом Милетским, которым было распланировано также новое гульбище колониального города Фурий в Нижней Италии (в 441 г.), которое пересекалось по длине четырьмя, по ширине тремя улицами под прямыми углами. Третье главное гульбище, устроенное по плану Гипподама, находилось в городе Родосе (407 г.); оно опоясывало его гавань полукругом, как театральный зал.
Рис. 308. Сокровищница сикионцев в Олимпии. По Дёрпфельду
Жилые дома на улицах таких "искусственных" городов имели общие разграничивавшие стены, но с лицевой стороны у них, как правило, не было художественно разработанных фасадов. В противоположность греческим храмам в жилом доме галереи с колоннами были всегда обращены не кнаружи, а вовнутрь; ни один дом, сколько-нибудь претендовавший на то, чтобы быть жилищем знатного человека, не обходился без внутреннего двора, обставленного колоннами. Но если, как это кажется вероятным по исследованиям Бие, позднейший греческий дом произошел по прямой линии от микенского царского дворца через развитие его двора и ослабление его значения как мегарона, то греческие дома классического V в. следует считать определенной промежуточной стадией этого преобразования жилищ.
Середину между гражданскими постройками и храмами занимают так называемые сокровищницы, которые воздвигались различными городами, как, например, в Дельфах и Олимпии. Мы уже ознакомились (см. рис. 254, 255) с древнейшими сооружениями этого рода в Олимпии; сокровищница сикионцев, которую можно было восстановить лучше всех других, относится, по Дёрпфельду, к середине V столетия (рис. 308). Она имела вид храма in antis, с простым портиком на двух дорических колоннах, стоявших между выступами продольных стен. Изящный, благородный по форме, но уже не очень скошенный профиль подушки капителей колонн этого здания указывает на время его сооружения.
Но самым важным для изучения дальнейшего развития архитектурных форм остается по-прежнему храм. В отношении плана и конструкции греческий храм в рассматриваемое время уже пережил главную пору своей эволюции. Существенные отступления от установившихся норм встречались лишь настолько, насколько того требовали местные условия почвы или особенности того или другого поклонения божеству. Небольшие различия, каковы, например, изменения в пропорциях, числе и расположении колонн, происходили чаще всего от прихоти архитектора или его заказчика. Собственно говоря, ни один из греческих храмов не походит вполне на другой. Развитие касалось лишь отдельных форм и пропорций, как, например, представляет нам это в дорическом ордене переход от значительного утончения стержня колонны и выноса подушки капители посредством благородного эластичного размаха к сухой прямолинейности (см. рис. 249), а в ионическом ордене переход от сложной составной формы капители к позднейшей, нормальной, постепенно становившейся все более тонкой. Иногда наряду с этим являлись отклонения местного характера, каковы, например, сделанные в Афинах попытки сближения между собой ионического и дорического стилей.
Рис. 309. Естественные прилистники аканфа. По Мейреру
Рис. 310. Естественные прицветники аканфа. По Мейреру
Важнейшем событием в истории греческого зодчества V и VI вв. до н. э. было введение в употребление третьего, коринфского ордена колонн. Рука об руку с развитием коринфского стиля шло введение в греческую орнаментику аканфового листа. Что в этом случае речь идет действительно о растении "медвежья лапа", как это и кажется с первого взгляда, и притом именно о его прицветнике, блистательно доказал Мейрер наперекор теории, которая принимала аканф лишь за измененную форму египетского цветка лотоса. Нельзя не считать прогрессом то, что греки с некоторых пор стремились обогатить свои заимствованные извне, довольно скудные орнаментные мотивы, ограничивавшиеся меандром, плетением, волнообразными линиями, лотосом и пальметтами, введением в орнаментику своих родных, естественных форм растительного царства. Введение аканфа было наиболее счастливой и плодотворной попыткой этого рода. Аканф стал всюду заменять собой пальметту, от которой он по внешнему очертанию отличается тем, что выемки между зубцами его листьев закругленнее, не так остры, как у пальметты. Раньше всего эта форма появилась на вершине надгробных стел, как действительных, так и изображенных на вазах, в последнем случае, кроме того, – у стержня и подножия стелы, которые аканфовое украшение охватывает "наподобие прицветника". Очень рано аканф стал также заменять пальметту на коньке крыши храмов, как, например, в Олимпии; вскоре он проник, один или в соединении с пальметтами, в цветочные пояса; спиральные усики ясно показывают нам, как "явления прорастания на стебле растения" переходят в аканфовый орнамент (рис. 309312). Наиболее важное применение аканфового листа мы видим в орнаментации коринфской капители, изобретение которой приписывается скульптору Каллимаху. Потребность в капители, которая была бы роскошнее и полнее дорической и в то же время не столь односторонняя, как ионическая, рассчитанная лишь на то, чтобы на нее смотрели спереди, становилась во второй половине V столетия настоятельной, тем более что тогдашний вкус склонялся в сторону более мягких и свободных форм. Основная чашевидная форма коринфской капители имела свои первообразы в многочисленных протокоринфских капителях Древнего Египта. Венец листьев, стоящих вертикально вокруг чаши, встречается еще на египетских капителях, и на фиванских капителях нового периода Египетского государства появились уже четыре листа, поднимающиеся из нижнего венца листьев до краев чаши и закручивающиеся вверх в виде узких завитков (рис. 313). Замена египетских листьев, которые в нижнем венце были только рисованными, пластическим изображением аканфа придала коринфской капители оригинальный характер. Четырехугольная верхняя плита (абака), к которой поднимаются четыре закручивающихся вверх, подобно раковине улитки, стебля, окончательно сообщает развитой коринфской капители впечатление оригинальности (рис. 314). Толстое кольцо, нередко имеющее форму полосы перлов, отделяет чашу от стержня. Венец аканфовых листьев удваивается. Восемь верхних листьев выходят из промежутков между восемью нижними. В пространстве между каждыми двумя верхними листьями поднимается от них по стеблю, похожему на камышовый; он нагибается, закручивается и, образуя вверху завиток, прикасается им к завитку соседнего стебля; кроме того, между этими короткими стеблями и краем вогнутой внутрь абаки помещается украшение в виде веерообразного цветка или розетки (рис. 315). Во всем остальном главное отличие коринфского стиля от близкого к нему ионического заключается только в консолях волнистого профиля, которые иногда помещались вместо дентикулов под венчающим карнизом как бы для его поддержки. Вследствие самого характера своих более высоких, стремящихся кверху капителей, коринфские колоннады, которые отличались бультттим расстоянием между колоннами, казались более высокими, открытыми и легкими, чем ионические.
Рис. 311. Воспроизведения аканфа в греческой росписи ваз и на надгробных стелах. По Мейреру
Рис. 312. Декоративностилизованный прицветник аканфа в Эрехтейоне. По Мейреру
Рис. 313. Египетская чашевидная капитель времен Нового царства. По Дурму
Рис. 314. Коринфская капитель храма Аполлона в Фигалии. По Дурму
Рис. 315. Развитая коринфская капитель из Эпидавра. По Мейреру
Первым большим храмом, воздвигнутым в Греции после персидских войн и законченным в духе нового времени, был дорический храм Зевса в Олимпии (рис. 316 и 317). Развалины этого храма и его описание Павсанием дают нам возможность довольно ясно представить себе все его былое великолепие. Он имеет для нас особенно важное значение как типичный дорический храм первой цветущей поры греческого искусства. Строителем Олимпийского храма считают Либона из Элиды, художника местного в противоположность другим, работавшим в Олимпии.
Целла храма была разделена на 3 нефа двумя рядами колонн по 7 в каждом.
Пронаос и описфодом имели по 2 колонны между антами и открывались в окружавшую храм галерею, в которой на коротких сторонах было 6, а на длинных 13 колонн. В довольно сильной утонченности колонн и в ширине их абак выказывается еще остаток архаизма; подушки капителей высоки, но мягкой и чистой формы. Принадлежность этого храма эпохе предварительного расцвета греческого искусства выражается больше в его скульптурных украшениях, о которых мы будем говорить впоследствии, чем в его архитектурных формах. Рядом с ним, как пелопоннесским сооружением последней четверти V столетия, должен быть поставлен перестроенный в дорическом стиле первоначальный храм Геры в Аргосе, который был воздвигнут после большого пожара в 423 г. архитектором-аргосцем Эвполемом по тому же плану, но, как показали раскопки, с более изящными формами отдельных частей.
Рис. 316. Храм Зевса в Олимпии. По реставрации Дёрпфельда: а – фасад; б – поперечный разрез. По Дёрпфельду и Адлеру
Рис. 317. План храма Зевса в Олимпии. По Дёрпфельду
Целый ряд дорических храмов Южной Италии и Сицилии довольно схожи по формам с вышеупомянутыми. Из них укажем, прежде всего, на храм Посейдона в Пестуме (Посейдонию; рис. 318), который, во всяком случае, если даже придавать значение мнению Кольдевея и Пухштейна, считающих, что он сооружен позже афинского Парфенона, был воздвигнут уже после персидских войн. Храм этот имел 6 колонн в коротких и 14 в длинных сторонах, а внутри был разделен на 3 нефа двумя рядами колонн, над которыми находилось по второму ряду. Это единственный из храмов древнего мира, от которого сохранились верхние ярусы колонн. Выветрившийся известняк, из которого он построен, от времени лишившийся своей раскрашенной штукатурки; характер мрачной силы тесно расставленных колонн с 24 каннелюрами каждая; массивность его капителей, еще отличающихся большим выносом вперед, и венчающего карниза; простота и ясность распределения тяжести – все сообщает этому храму своеобразное величие. Большой храм Зевса в Акраганте (Агридженто; рис. 319) дает нам наглядное представление о том, что греки называли псевдопериптером. Он окружен не колоннадой, как периптерические храмы, а массивными полуколоннами, прислоненными к стенам целлы со всех четырех ее сторон, по 7 в каждой из коротких сторон и по 14 в каждой из длинных, с промежутками достаточной величины для того, чтобы в них мог поместиться взрослый человек. Крышу храма подпирали изнутри солидные пилястры с приставленными к ним нагими мужскими фигурами – атлантами или теламонами (рис. 320). Один из таких атлантов, высотой около 8 метров, в формах которого выказывается зрелый архаизм, поставлен снова на свое прежнее место. Из дорических храмов в Акраганте надо отметить храм Юноны Лацинии и храм Конкордии: они имеют по 6 колонн в коротких и по 13 в длинных сторонах. Храм Конкордии и неоконченный храм на краю ложбины в Сегесте принадлежат к числу наиболее сохранившихся древних святилищ. Храм Афины на острове Ортигии, в Сиракузах, имевший по 6 колонн на коротких и по 14 на длинных сторонах, может считаться одним их памятников вполне выработанного дорического стиля; колонны его сильно утончены и имеют по 20 каннелюр. В Селинунте к V в. относятся храмы обоих южных холмов; храм Геры Е на восточном холме, судя по стилю скульптуры его метопов, должно признать ровесником храма Зевса в Олимпии.
Рис. 318. Храм Посейдона в Пестуме. С фотографии Зоммера
Рис. 319. План храма Зевса в Акраганте. По Дурму
На ионическом берегу Малой Азии вскоре после персидских войн также началась кипучая строительная деятельность. Большой ионический храм Артемиды в Эфесе (см. рис. 227), пощаженный персами, был в эту эпоху закончен в своем первоначальном виде архитектором Пэонием и руководителем работ Деметрием. Большой ионический храм дидимского Аполлона в Милете, разрушенный персами, пришлось сооружать снова. Эту постройку производил тот же Пэоний при помощи Дафниса, управлявшего работами. Однако большая часть архитектурных остатков этого огромного блестящего храма, имевшего вокруг себя двойную колоннаду, а следовательно, принадлежавшего к диптерам, носит на себе характер послеалександровского времени. По-видимому, здание это осталось недостроенным. Из прочих ионических сооружений можно указать на Памятник нереид в Ксанфе, в Ликии, хотя о времени его постройки идут еще споры. Насколько можно судить по развалинам, это был небольшой храм, стоявший на высоком фундаменте, с четырьмя широко расставленными ионическими колоннами на коротких сторонах и с шестью на длинных. В антаблементе его не имелось фриза, так что тут, как и в Ассосе, один лишь архитрав, украшенный пластическими изображениями, отделял колонны от дентикульного карниза. От Памятника нереид в Ксанфе сохранился только голый фундамент. Его богатые скульптурные украшения находятся в Лондоне, в Британском музее.
Рис. 320. Атлант из храма Зевса в Акраганте. По Михаэлису-Шпрингеру
Самой чистой атмосферой искусства V в. веет от аттического зодчества – того искусства, в котором сила соединяется с грацией, строгая правильность – со свободой, стройность – с пышностью. Искусство уже успело совершенно созреть и сбросить с себя последние оковы, когда Афинам понадобились его услуги для важных сооружений. Трудно поверить, чтобы афиняне после пожара, опустошившего их Акрополь в 480 г., в течение 10 лет оставляли его храмы в развалинах. Прежде всего было необходимо восстановить старый писистратовский храм, находившийся на северном краю Акропольской горы и посвященный защитнице города Афине Палладе и вместе с тем Посейдону Эрехтею. Еще при Кимоне, если только не при Фемистокле, была начата постройка, дальше к югу, на вершине горы, нового храма Афины Паллады, Парфенон; мы говорим о древнем Парфеноне, который был длиннее, чем второй храм с этим названием, получивший всемирную известность. Он так и не был достроен, его снесли, когда Перикл по совету великого скульптора Фидия поручил архитекторам Иктину и Калликрату воздвигнуть на его месте новый храм из пентелийского мрамора. К этой постройке было приступлено в 447 г.; в 434 г. храм был готов и представлял собой чудо благородной красоты и спокойного величия. Он простоял 2 тыс. лет не утратившим своих существенных черт, хотя его и обезображивали пристройками и надстройками, превращая то в храм, то в церковь, то в мечеть и, наконец, в пороховой магазин, пока в 1687 г. не сокрушила его венецианская бомба. Но Парфенон и теперь стоит еще целым наполовину, и его развалины все еще гласят о славе Перикла, Иктина и Фидия (рис. 321). Он не принадлежал к числу самых больших храмов древнего мира; длина его – приблизительно 70, ширина – 31 метр; но он производил чарующее впечатление соразмерностью своих частей. С целой, окруженной только одним рядом колонн, по 8 на каждой из коротких сторон и по 17 на каждой из длинных, он представлял собой дорический храм, отличавшийся чрезвычайным благородством пропорций. Большие фронтонные группы удачно заполняли собой треугольные пространства фронтонов. Метопы на всех его четырех сторонах были украшены рельефами. Триглифы темно-синего цвета выгодно выделялись из красного фона метопов. Ионической особенностью его был шнур перлов (астрагал), который отделял венчающий карниз от триглифного фриза. Капители слегка утончавшихся кверху и припухших (entasis) колонн имели эхин чуть криволинейным, почти прямым профилем и лишь немного выступающей вперед абакой. Целла уже снаружи представляла бросавшиеся в глаза особенности. Она стояла двумя ступенями выше окружной галереи, которая помещалась на ступенчатом основании; ее пронаос и описфодом открывались в эту галерею каждый рядом свободно стоящих колонн. Фриз над этими колоннами, подобно ионическому зофору, был украшен скульптурными изображениями и продолжался на всех сторонах целлы, выходивших в окружную галерею, имея, таким образом, протяжение в 159,45 метра. Здание самого храма состояло из целлы, обращенной входом, как всегда, на восток и разделенной в этом храме двумя рядами дорических колонн, по 9 в каждом, на 3 корабля, и заднего помещения, в котором потолок с его кассетами поддерживали 4 колонны ионического характера. Парфенон отличался от большинства прежних и позднейших греческих храмов гармоничностью своих частей, изяществом размеров, легким размахом с виду прямых линий – качествами, которые скорее чувствуются глазом, чем поддаются описанию. Благодаря именно этим качествам Парфенон, к пластическим украшениям которого мы еще вернемся, считается самым классическим из всех классических зданий.
Рис. 321. Развалины афинского Парфенона. С фотографии
Рис. 322. План храма Аполлона близ Фигалии, в Аркадии. По Дурму
Рис. 323. Капитель колонн и фриз храма Аполлона близ Фигалии, в Аркадии. По Дурму
Главный строитель Парфенона Иктин наделил и другие города важными сооружениями, из которых два, храм в Элевзисе и храм Аполлона в Бассах, сохранили за собой славу до наших дней. Храм на берегу голубой бухты Эливзиса, так называемый Телестерион, еще исстари отличался оригинальностью своей формы: это был квадратный в плане зал с колоннами, напоминавший собой подобного рода здания египтян и персов. После того как он был разрушен персами, Иктин получил в 440 г. поручение воздвигнуть его вновь в большем, сравнительно с прежним, масштабе, и с этого времени его внутреннее помещение представляло собой рощу из 42 (687) колонн. Дорический портик с восточной его стороны был пристроен только в конце IV столетия Филоном. План храма Аполлона близ Фигалии, в Аркадии (рис. 322) был придуман Иктином вскоре после 430 г. Здесь первоначально находился небольшой простенький храм. Иктин в благодарность за прекращение чумы, свирепствовавшей в этой здоровой, свежей, лесистой местности, окружил старый храм новой постройкой с колоннадой. Замечательно, что новый храм был построен под прямым углом к старому, так что своей короткой лицевой стороной он был обращен не на восток, как этот последний, а на север. Вследствие этого целла старого храма вошла в заднюю часть целлы, но так, что, когда ее северная стена была снесена, получился особый вход на восточной длинной стороне нового храма. Этот новый храм представлял собой продолговатый периптер с 6 колоннами в каждой из коротких и 15 в каждой из длинных сторон. Колонны были в нем еще более прямолинейного профиля, чем в Парфеноне. Развитие стиля в этом отношении происходило с ненарушаемой последовательностью. Внутри новой целлы было по 5 боковых капелл с каждой длинной стороны. Выступы стены, отделявшие капеллу от капеллы, оканчивались каждый неполной колонной ионического ордена, а именно 3/4 колонны. Капителям этих неполных колонн со всех трех их сторон была дана форма лицевой стороны ионической капители, для того чтобы при взгляде на них сбоку они не представляли свесившихся и свернутых подушек. По своим огромным волютам и двучленным киматиям без всякого валика эти капители считаются представительницами первоначального, западного типа ионического ордена (рис. 323, внизу). Но в том месте, где новая постройка открывалась в старую небольшую целлу, находилась колонна с коринфской капителью – быть может, самой старой коринфской капителью, какая нам известна (рис. 323, вверху). Ее чашеобразная форма еще не совсем замаскирована лиственным венцом. Нижний двойной ряд аканфовых листьев окружает только нижнюю часть чаши, из которой по углам поднимаются вверх стебли, сопровождаемые до некоторой высоты более длинными аканфовыми листьями. Внутри храм был обильно украшен пластическими произведениями. По антаблементу ионических неполных колонн целлы тянулся знаменитый скульптурный фриз, находящийся теперь в Британском музее. В совокупности всех частей этого храма был виден большой шаг вперед в отношении большей свободы и большего разнообразия всех деталей. Это был, вероятно, первый храм, в котором одновременно применили колонны всех трех орденов.
Рис. 324. Храм на Рыночной площади в Афинах (Фезейон). С фотографии
К древнейшим дорическим храмам второй половины V столетия в Аттике принадлежат кроме рассмотренных нами храм Немезиды в Рамне, храм Афины на предгорье Суния и сооруженный из пентелийского мрамора храм на Рыночном холме в Афинах, который памятен всякому, кто его видел, как сохранившийся лучше всех других греческих храмов (рис. 324). Первоначальное название его храмом Тесея (Фезейон) оказалось неосновательным; предположение, будто он был посвящен Гефесту, также вызвало возражения, хотя Зауер в своем сочинении и отстаивал это мнение. По своей конструкции это здание с окружной галереей, имеющей 6 колонн в коротких сторонах и 13 в длинных, не представляет ничего особенного, если не считать большей против обыкновенного глубины передней стороны окружной галереи, а также отступления от обычного размещения скульптурных украшений. Пластическими изображениями украшены только метопы передней стороны и четыре первых метопа каждой длинной стороны храма, а на фризе целлы они находились только на обеих коротких сторонах, немного заходя, однако, и на длинные стороны. В остальном этот храм отличался правильностью размеров и солидностью. Вместе с В. Гурлиттом и Дёрпфельдом мы полагаем, что он построен несколько позже Парфенона.
Рис. 325. План пропилеев Мнезикла в афинском Акрополе. По Дурму
Рис. 326. Капитель колонны в пропилеях Мнезикла. По Пухштейну
Когда Парфенон был уже почти окончен, Перикл поручил архитектору Мнезиклу обратить в роскошное, величественное здание входные ворота на западной стороне Акропольской горы (рис. 325). Эти так называемые пропилеи, сооружение которых продолжалось приблизительно с 437 по 432 г., принадлежат, даже в своем настоящем, разрушенном состоянии, к знаменитейшим постройкам в мире. План их, в общем, такой же, как и пропилеев тиринфского Акрополя: к стене, в которой находятся ворота, примыкает с внутренней и внешней сторон по галерее с колоннами; только план всей постройки расширен, усложнен и с удивительным искусством сообразован с условиями местности. В стене устроено 5 пролетов для входов, из которых средний – самый широкий, а два крайних – самые узкие. Внутрь, к площади Акрополя, был обращен портик на 6 дорических колоннах с фронтоном; с обеих сторон этого выдвигавшегося вперед, среднего портика были спроектированы, как это было доказано, две широкие и глубокие галереи с колоннами. Снаружи, в сторону крутого подъема на Акрополь, выходил другой, более глубокий портик с фронтоном, также на 6 дорических колоннах, которые отстояли от стены с воротами настолько, что средний проход между ними к главным воротам был с обеих сторон ограничен тремя ионическими колоннами. Флигеля на выступающих утесах на высоте этого наружного портика были окончены, по крайней мере отчасти. Флигель, находившийся слева от идущего в Акрополь посетителя, был украшен картинами и потому назывался Пинакотекой. Шесть ионических колонн внутри западного портика отличались благородной простотой (рис. 326). Киматий их капителей, покрытый со всех сторон очень выпуклыми овами, сильно выдается вперед. Клинообразные пальметты в углах волют помещаются на гладкой вставке, отделяющей подушку с волютами от киматия и не переходящей на эту последнюю. Пухштейн говорил: "Мнезикл, дав снова сильное развитие киматию, грозившему захиреть, возвратился к образцам VI столетия, положил новые основы для всего развития ионической капители и открыл для него определенный путь". Все формы этой роскошной постройки отличались силой и грацией.
Рис. 327. Капитель колонны храма Бескрылой Победы в Афинах. По Пухштейну
Рис. 328. План Эрехтейона в афинском Акрополе. По Михаэлису-Шпрингеру
По смерти Перикла (в 429 г. до н. э.) противная ему партия, ставшая во главе правления, соорудила, не обратив внимания на вред для общего впечатления от пропилеев Мнезикла, в косом положении относительно их на западном выступе Акропольской горы небольшой храм богини победы, капеллу Афины Нике. Храм Нике Аптерос, Бескрылой Победы, как его обычно называют, был восстановлен немецкими учеными и архитекторами в 1835-1836 гг. и теперь высится, как и прежде, на бастионе над подъемом на Акрополь. Он состоит лишь из небольшой целлы с западным и восточным портиками, на 4 ионических колоннах каждый, без антов. Следовательно, он образец того, что на языке архитекторов называется тетрастильным простилем. Капители его колонн похожи на капители колонн Мнезикла, но представляют дальнейшее развитие в том отношении, что клиновидные пальметты отчасти переходят на овы киматия (рис. 327). Роскошное рельефное украшение тянулось вокруг всего этого небольшого храма, производившего впечатление как бы нарядной шкатулки времен тонкого вкуса.
После Никиева мира, который на короткое время прервал пелопоннесскую войну, свирепствовавшую перед тем 10 лет, старый, по необходимости восстановленный писистратовский храм Афины Паллады и Посейдона Эрехтея был снова сломан, для того, как мы полагаем вместе с Фуртвенглером, чтобы дать место великолепному мраморному сооружению, простиравшемуся до наружного северного края Акрополя. Это новое здание, постройка которого продолжалась с перерывами, вероятно, до 407 г., получило всемирную известность под названием Эрехтейона (рис. 328). Редко бывало, чтобы необходимость становилась выгодным условием в такой степени, как при пользовании неровностью почвы, на которой воздвигнут этот прелестный храм. У него не было окружной колоннады, но он был украшен со всех сторон колоннами или портиками (рис. 329). Восточная целла, посвященная Афине Палладе, имела портик на 6 ионических колоннах, без антов. Западная короткая стена более глубоко лежавшей западной целлы, посвященной трем древнеаттическим божествам земли, была с наружной стороны расчленена четырьмя великолепными ионическими полуколоннами между антами и в пространствах между этими полуколоннами прорезана тремя высокими окнами. К этой западной целле примыкали 2 портика, один с северной, другой с южной стороны; в северный портик, имевший 6 ионических колонн и увенчанный фронтоном, выходила обрамленная главная дверь целлы; южный портик не имел фриза, и его архитрав, состоявший из трех частей, подпирали 6 мраморных фигур молодых женщин (кор или кариатид), стоявших на высоком парапете. Женские фигуры афинского Эрехтейона, таким образом, служили, как и мужские фигуры в храме Зевса в Акраганте, подпорами балок. В этом значении и те, и другие фигуры перешли во всемирное искусство под названием кариатид и атлантов. Все отдельные части Эрехтейона отличаются чистой красотой пропорций, тонким изяществом и роскошью форм. Базы его колонн имеют, сравнительно с многосложными подножиями колонн Малой Азии, более простую форму, которую мы находим уже в колоннах пропилеев и храма Бескрылой Победы. Эти базы состоят из двух валов, отделенных один от другого выкружкой, причем верхний вал у колонн северного портика украшен узором в виде плетения (рис. 330). Соответственно этому и в капители над полосой рельефных ов киматия находится также валик (рис. 331), составлявший, по Пухштейну, необходимую принадлежность древнейшей ионической капители; он также украшен плетением. Пышный венец из вертикально стоящих пальметт образует как бы особую шейку под капителью колонн Эрехтейона; в таком же пальметтном венке на капителях антов является аканфовый прилистник. На роскошном обрамлении северной двери западной целлы, образующем несколько уступов и увенчанном карнизом на консолях, вместе с известными греческими мотивами орнамента снова получает место древняя восточная розетка. Ни одно из произведений греческого зодчества не было так свободно и живописно по расположению и так изящно и грациозно по отдельным своим формам, как двойной храм Эрехтейона. Но сооружения поры великого первого расцвета греческого искусства только тогда явятся нам во всем своем блеске, когда мы мысленно дополним их имевшимися там произведениями.
Рис. 329. Вид развалин Эрехтейона с южной стороны. С фотографии
Рис. 330. База колонны северного портика Эрехтейона. По Баумейстеру
Рис. 331. Капитель колонны северного портика Эрехтейона. По Пухштейну
Первый художник, наделенный, по мнению таких греческих знатоков, как Аристотель, великим дарованием, был живописцем, а именно представителем монументальной стенной живописи возвышенного стиля. Его звали Полигнотом. Он был иониец, родом с Фазоса, самого северного из крупных островов Эгейского моря. Но художественный талант увлек его в центры эллинской жизни. В Афинах, где были дарованы ему права гражданства, он стал при Кимоне во главе кружка художников, из числа которых известны Микон, его соперник в дружественном соревновании, и Панэн, более молодой его современник, стремившийся сравняться с ним.
В соседней Беотии, в Платее, он работал одновременно с Оназием и, по мнению Роберта, с которым согласны и мы, написал в 540 г. до н. э. величественные стенные картины, в которых его талант выказался во всей своей силе.
Самыми ранними произведениями Полигнота в Афинах были 3 картины на стенах храма Тесея, возвеличивавшие этого древнеаттического национального героя: его битва с амазонками, укрощение им кентавров на свадебном пиршестве лапитов и его бегство в морскую пучину к своей матери, Фетиде. Последняя из этих картин была написана собственно Миконом, а обе первые мы считаем себя, вместе с Робертом, вправе по-прежнему причислять к созданиям самого Полигнота. Почти одновременно с этим в Анакейоне, храме Диоскуров, Полигнот изобразил похищение дочерей Левкиппа божественными близнецами, а Микон написал отъезд аргонавтов в Колхиду. После того Полигнот был приглашен в Платею, в Беотии. "Умерщвление Одиссеем женихов" в портике храма Афины Арейи в этом городе принадлежало к числу самых замечательных его работ. Возвратившись в Афины, он в сотрудничестве с Миконом, а может быть при помощи и Папэна, украсил портик Пейсианакса, который в то время назывался "stoa poikile", то есть Пестрой галереей, четырьмя стенными картинами, из которых две находились на сплошной стене длинной стороны здания, а две другие – на выступавших коротких стенах; здесь Полигнот изобразил взятие Трои, Микон – битву афинян с амазонками, Панэн, как надо полагать, вместе с Миконом – марафонскую битву с портретами участвовавших в ней вождей.
Во всяком случае, Полигнот достиг уже полного развития своей творческой силы, когда жители Книда пригласили его в Дельфы, с тем чтобы он украсил их галерею для собраний, лесхе, двумя большими стенными картинами. В отделении справа от входа, в Илиуперсисе, были представлены последние сцены взятия Трои и отъезд из нее победоносных греков, а в левом отделении, в Некийе – Одиссей у ясновидца Тирезия в подземном царстве и вся жизнь теней в Гадесе.
Эти картины, как предполагали еще Жирар, Видузекер и другие и как основательно доказывал Шрейбер, красовались на главной стене галереи по обеим сторонам среднего входа и были самыми известными и высоко ценимыми из стенных картин древности. Ни одной другой картины не описал так подробно Павсаний; он не упустил из виду, как кажется, ни одной из фигур. Своим сухим перечислением фигур, хотя и по группам, и в их последовательности, он вызвал ряд литературных и художественных попыток восстановить эти картины целиком; однако все эти попытки вследствие бесчисленности допустимых предположений будут сменяться новыми и новыми до тех пор, пока академические задачи не перестанут возбуждать остроумие ученых. Невозможность достижения неоспоримых результатов по этой части лучше всех следовавших за ним писателей понимал Гёте. Старое предположение, будто фигуры были расположены в два или три ряда, один над другим, окончательно опровергнуто Робертом указанием на рисунки аттических краснофигурных ваз, очевидно представлявших подражание приемам и мотивам Полигнота в расположении фигур несвязными рядами и наполовину или совершенно одни над другими. Впрочем, лучшее, что было написано о стенных картинах Полигнота, принадлежит Шёне и Шрейберу. Реставрация Шрейбера, строго держась описания, данного Павсанием, тщательно следует закону "приспособления к пространству и заполнения пространства", закону "соответствия между фигурами и группами" и закону "духовной конструкции, связанной с каждым отдельным расположением". На самом деле, мы не можем представить себе стенной живописи Полигнота и его сотрудников лишенной строгой, величественной и понятной монументальности в духе этих законов. Из всего, что сообщают литературные источники и что заставляют нас предполагать немногие сохранившиеся остатки античной живописи, с очевидностью вытекает, что картины фазосской школы еще далеко не дошли до действительного перспективного воспроизведения явлений природы. Заднего пространственно замкнутого плана в них, наверное, не было. Отдельные деревья и кусты, как, например, ива, под которой сидел Орфей, отдельные корабли, палатки, дома и части стен, как, например, части троянской стены, из-за которой виднелся деревянный конь, полосы на переднем плане в обеих картинах, море в Илиуперсисе, через которые просвечивали камни, Ахерон с подобными теням рыбами в Некийе – все намеки этого рода казались достаточными для передачи ландшафта. Об игре света и теней еще не было и помина: все изображенное выступало на фоне стены в виде благородных, простых очерков, плоско иллюминированных сравнительно немногими красками. Фигуры были натуральной величины, фон стены светлый. Положение предметов в пространстве, один позади другого, обозначалось через помещение их один над другим, хотя это и не мешало отдельным фигурам частью пересекать и покрывать друг друга; даже о том, чтобы изображать отдаленные предметы, то есть находящиеся выше, в меньшем масштабе, еще не приходило художникам в голову. Но именно этому простому способу трактования темы, подходящему к плоскостному характеру поверхности стен, в высокой степени было свойственно производить сильное монументально-декоративное впечатление. Отдельные эпизоды, которые Полигнот заимствовал, связывая их между собой, из разных эпических поэм, пояснялись именами, выставленными над каждой фигурой. Но фигуры, по нашему представлению, были изображены уже не исключительно в профильном положении и являлись до некоторой степени в ракурсах; глаза у них, наверное, были поставлены правильно, губы очерчены свободно: греческий профиль этих фигур был уже выработан, и, что всего важнее, пропорции частей тела были верны, хотя еще слишком строги. Во всех указанных отношениях Полигнот должен был продвинуть непрерывно развивавшуюся в одном и том же направлении живопись далеко дальше того, до чего довел ее Кимон Клеонский. По словам Плиния Старшего, Полигнот первым стал изображать женщин в просвечивающей одежде и с многоцветными головными уборами, первым стал писать лица с открытым ртом, в котором виднеются зубы, первым начал обращать внимание на мимику. Аристотель отмечал идеальность форм Полигнота и говорил, что этот мастер возвысил человека над природой, тогда как другие изображали его согласно с природой или даже ниже ее; внутреннее величие и внутреннюю правду полигнотовских характеристик он определяет словом "ethos", которое в то время выражало лишь моральное качество, но вскоре получило значение самодовлеющего уравновешенного образа мыслей, противоположного страстному возбуждению, пафосу.
Вопрос, были ли стенные картины Полигнота собственно фрески на известковом грунте или же они были исполнены темперой на мраморе или на деревянных досках, сильно занимал ученых XIX в. и, после того как многие десятки лет подряд его решали в пользу фресковой живописи, снова с некоторого времени стал спорным и выдвинулся на первый план. На основании одного места в позднейшей литературе думают, что картины Пестрой галереи в Афинах были написаны на деревянной облицовке стен, но это следует считать не больше как предположением. Так как все сохранившиеся стенные картины древности, начиная с египетских и микенских и заканчивая помпейскими и римскими позднейшей эпохи, исполнены на камне или на известковой штукатурке, то нет оснований предполагать, чтобы большинство стенных картин фазосской школы было написано на дереве; и мы вместе с Отто Доннером фон Рихтером полагаем, что они исполнялись по сырой извести, а следовательно, были настоящими фресками. Хотя Плиний Старший сообщил, что Полигнот был уже знаком с восковой живописью, о которой мы будем говорить впоследствии, однако, судя по всему, что нам известно о ней, знаменитый греческий живописец прибегал к ней не для стенных картин, а только для менее крупных работ в ином роде.
О впечатлении от стенной живописи Полигнота мы приблизительно составим себе понятие, во-первых, по некоторым этрусским стенным картинам V столетия, исполненным красками по белому фону, с ними мы встретимся попозже, а во-вторых, по так называемым полигнотовским вазам Роберта, Дюммлера, Мильхгёфера и др. К их числу принадлежат кратер с изображением Аталанты, Museo Civico, в Болонье, знаменитый лекиф с битвой амазонок, Неаполитанский музей, и драгоценный сосуд с танцующими менадами, Берлинский музей. Действительно, изображение Тесея в морской пучине на кратере болонского Museo Civico, так же как и изображение отъезда аргонавтов на кратере парижского Лувра (рис. 332), особенно характерное по строгости стиля, вызывают в нашем уме представление о вышеупомянутых картинах Микона в Анакейоне. Но подобные подражания едва ли могут дать нам понятие о благородстве форм и духовном величии произведений Полигнота. Служить для этого скорее могли бы дошедшие до нас работы современных Полигноту или живших несколько позже его аттических скульпторов; что же касается ваз, то, например, прелестный сосуд для молока с изображением Орфея, находящийся в Берлинском музее (рис. 333), или прекрасные рисунки красками по белому фону аттических лекифов позволяют нам, по крайней мере, до некоторой степени догадываться о том, каков был язык форм полигнотовского искусства.
Рис. 332. Отъезд аргонавтов. Рисунок на древнегреческой вазе в стиле Полигнота. По "Monumenti dell’ Instituto", XI
Мы почти не в состоянии представить себе, как велико было влияние живописи Полигнота и его товарищей на все греческое искусство, скульптуру и живопись V в. до н. э. Быть может, не будет преувеличением, если на основании описания Павсания, мы придем к заключению, что отдельные мотивы, например мотив сидящего человека, охватившего руками свое левое колено, или юноши, поставившего свою ногу на утес, и т. п., всюду, где бы они ни повторялись в искусстве V столетия, были заимствованы из картин Полигнота; не будет также преувеличением находить мотивы Полигнота даже в фидиевских рельефах Парфенона. Действительно, наиболее выдающиеся авторы древности осыпают фазосского живописца похвалами, которые были бы непонятны, если бы он не принадлежал к гениям своего времени.
Рис. 333. Орфей. Рисунок на древнегреческой вазе в стиле Полигнота. По Фуртвенглеру
Великая монументальная живопись, по-видимому, угасла в Греции вместе с отпрысками искусства Полигнота. Наследием этого искусства явилась станковая живопись, которая по-прежнему исполнялась еще темперой при помощи кисти, не обратилась в восковую живопись, пользовавшуюся шпателем. Относительно вопросов техники мы, вопреки разноречивым доводам Бергера и Кремера, придерживаемся результатов, к которым привели исследования Доннера. Приемницей новорожденной станковой живописи можно считать сценическую живопись. Агафарх Самосский получил, как театральный живописец, прозвище Скенограф и исполнял декорации как для последних трагедий Эсхила, так и для произведений Софокла. Аполлодор Афинский считается первым скиаграфом, то есть тенеписцем, и вместе с тем первым станковым живописцем, введшим в технику "смешивание красок между собой и их градации сообразно свету и теням". В древности термины "скенография" и "скиаграфия" часто употреблялись в одном и том же значении. Связь между Аполлодором и Агафархом тем более кажется вероятной, что мы не можем представить себе живопись декораций без градаций света и теней. Точно так же мы не можем представить себе театральных декораций, написанных без соблюдения перспективы; и действительно, Витрувий сообщал, что Агафарх даже написал сочинение о театральной живописи и что этот пример побудил Демокрита и Анаксагора выпустить в свет дальнейшие исследования о том, как при помощи проведения линий от известного дальнего пункта достигается в театральных декорациях подобие действительности. Эти древние понятия о перспективе можно считать крайне элементарными, но отрицать их нельзя. Во всяком случае, прежде всего научились изображать предметы так, как они представляются с пункта, лежащего прямо впереди них, сокращать и сближать между собой параллельные линии, уходящие в глубь картинной плоскости. Автор настоящего труда еще в 80-е гг. XIX в. пришел к заключению, что зачатки пейзажной живописи следует искать также в театральной живописи, хотя, конечно, нельзя думать, чтобы картины рассматриваемой эпохи имели уже настоящий ландшафтный задний план. Ландшафтная живопись приобрела самостоятельное значение лишь спустя века, но станковая живопись Аполлодора и его преемников переняла от театральной живописи Агафарха искусство писать так, чтобы фигуры с моделированными формами тела, падающим на них светом и тенями, а быть может, и уже отбрасывавшие от себя тени, выступали вперед на более или менее обработанном заднем плане, который постепенно стал заменять собой одноцветный фон картин. В этом именно, главным образом в моделировке тела светом и тенями, состояли те громадные нововведения, за которые Плиний Старший называет Аполлодора привратником, открывшим двери искусства и первым создавшим себе кистью вполне заслуженную славу. На самом деле, направление Аполлодора было величайшим из переворотов, какие только испытала живопись с древнейших времен своего существования: плоскость и стильность уступили место телесной, пространственной глубине. Как на произведения Аполлодора литературные источники указывают, например, на молящегося жреца и Аякса, пораженного молнией.
Так как нововведения Аполлодора отмечают собой границу, за которую высокохудожественная роскошь ваз уже не могла переступить, оставаясь верной законам своего стиля, то начиная с этого времени рисунки на вазах дают еще меньшее понятие об общем впечатлении образцовых произведений станковой живописи. Однако надо заметить, что некоторые из аттических лекифов этой эпохи, расписанных красками по белому фону, тем не менее представляют попытки моделировать обнаженные части фигур посредством их оттенения. Примером подобной попытки может служить описанный Винклером лекиф из Берлинского музея, на котором изображено оплакивание покойника, лежащего на носилках (рис. 334). Но такую моделировку в этом рисунке имеют только коричневые мужские фигуры; головы же, руки и ноги женщин еще светлее, чем светлый глиняный фон, написаны без теней, совершенно плоско. Изображения этого рода имеют важное значение для характеристики переходной ступени развития греческой живописи.
Рис. 334. Плач над умершим. Аттический лекиф. По Винтеру
Для суждения об общем впечатлении станковых картин рассматриваемого периода могут служить, как показали исследования Роберта, прежде всего некоторые из подражаний этим произведениям в числе стенных украшений римской эпохи: сцены из жизни женщин, написанные на досках и находящиеся в Музее терм в Риме, где они среди фресок дома Фарнезе, отличающихся более свободным стилем, представляются древними и простыми; найденные в Геркулануме и хранящиеся в Неаполитанском музее картины, писанные на мраморных досках, которые были вмазаны в штукатурку стен, в особенности картина с подписью афинянина Александра, изображающая на белом фоне пятерых женщин, в грациозных оживленных позах играющих в кости. Так как оригинальных картин Аполлодора не сохранилось, то ввиду возможного сомнения лучше основывать свое понятие о его стиле на свидетельстве литературных источников, чем на позднейших подражаниях ему, умышленно подделанных под его старинный стиль.
Первым преемником Аполлодора был Зевксис, которого сам мастер в одной из сочиненных им эпиграмм называл похитителем своего искусства. За Зевксисом следовали Парразий и Тиманф. Их обычно называют главными представителями ионической школы времен пелопоннесской войны в противоположность древнеаттической школе, о которой мы говорили до сего времени. Сравнительно с мастерами VI столетия, следовавшими за ними, эти художники отличались еще простотой в передаче цветовых оттенков и, во всяком случае, еще не ушли далеко в живописном изображении заднего плана. Но зато они щеголяли верной натуре моделировкой фигур, поразительными эффектами света и теней, необыкновенной подвижностью фигур и групп. Эфосу искусства Полигнота они противопоставляли более живописную прелесть свежей, хотя все еще идеализированной естественности. Аристотель сказал прямо: "Живопись Зевксиса не обладает эфосом". Но именно новизна и правдивость живописи упомянутых художников и натуральность их произведений оказывали на их современников огромное впечатление и привлекали к ним общую симпатию. Анекдоты о том, как Зевксис изобразил виноград до такой степени правдоподобно, что птицы прилетали клевать его, а Парразий так верно написал в своей картине занавеску, что сам Зевксис просил художника отдернуть ее, достаточно характеризуют те качества этих мастеров, которые приводили в удивление весь древний мир. Если в конце XIX в. для суждения об этой школе обращались к рисункам на некоторых вазах, то лишь для изучения собственно мотивов фигур, так как станковая живопись шла уже своим путем. Об общем впечатлении произведений названных мастеров дают понятие, с одной стороны, картины вроде вышеупомянутой "Игры в кости" Александра, относящейся, быть может, даже к более поздней поре, а еще лучше – и в этом мы твердо настаиваем вопреки другим – римские и помпейские стенные картины того более строгого характера, который отличается простой группировкой на гладком одноцветном заднем плане. Ведь и у некоторых великих живописцев XVI столетия н. э. мы находим то ровный черный фон, то сочиненный соответственно сюжету задний план.
Зевксис был родом из Гераклеи, вероятно города в Южной Италии. По-видимому, он был учеником Аполлодора в Афинах, но большую часть своей жизни провел в Эфесе, вследствие чего его причисляют к ионической школе. Картина его, изображавшая Зевса на троне, окруженного богами, была великолепна. Прочие произведения Зевксиса на мифологические сюжеты, судя по преданию, имели более или менее жанровый характер: "Семейство кентавров, забавляющихся на зеленой мураве", "Пенелопа", славившаяся приданной ей скромностью, "Увенчанный розами Эрот", написанный для храма Афродиты в Афинах, знаменитая "Елена" в храме Геры Лакинии, близ Кротона, в Южной Италии. Для этой картины, как гласит предание, позировали перед художником красивейшие девушки города, чтобы он мог соединить в одной фигуре совершенства их всех.
Парразий был родом из Эфеса, следовательно, иониец, но работал, хотя и временно, в Афинах, где получил права гражданства. Один перечень его произведений свидетельствует о том, что в изображении душевных состояний он превзошел Зевксиса. Такие его картины, как "Скованный Прометей", ради которого, по словам позднейших риторов, он замучил до смерти старика раба, или его "Одиссей", в которого он вложил выражение притворного безумия, или его "Филоктет, терзаемый страданиями на острове Лемнос", – произведения, выходившие за пределы той области, в которой вращалось творчество Зевксиса. В них видимо отражалось влияние трагедии. До какой степени Парразий любил и умел воспроизводить самые сложные душевные переживания, о том свидетельствует его картина, изображавшая демос, афинскую чернь; представив ее всего в одной фигуре, он выразил в ней, однако, все свойства, которые приписывали демосу, изобразил его запальчивым, несправедливым, непостоянным и вместе с тем уступчивым, кротким и милосердным; "…и все это выражено в одном и том же образе одновременно", – заметил Плиний Старший. Но и самим способом изображения Парразий, по мнению всех древних знатоков искусства, превосходил Зевксиса. Плиний Старший, ссылаясь на положительные показания греческих писателей по части искусства, говорил, что мастер применил к живописи учение о соотношениях, начал придавать лицу красноречивое выражение, волосам на голове – красивую укладку, очертаниям рта – кроткую прелесть и, по признанию художников, стяжал пальму первенства в обработке контуров. Что в этой оценке творчества Парразия идет речь, как указал на то еще Брунн, о совершенстве моделировки тела, следует из дальнейших слов Плиния Старшего: "…ибо оконечность должна округляться сама собой и представляться таким образом, как будто было нечто позади нее и будто она сама выказывает то, что скрывается за ней". Заключить по этим словам, что Парразий, в противоположность Зевксису, был живописцем только очерков, вполне противоречило бы положению этого художника в истории искусства.
Третий мастер ионической школы, Тиманф, родился, вероятно, на ионическом острове Кифносе. Впоследствии он жил, по-видимому, в Сикионе. В некоторых отношениях его ценили даже выше Парразия. Как последний одержал победу над Зевксисом в упомянутом выше состязании по живописи, так Тиманф превзошел Парразия в состязании с ним на острове Самос при исполнении картин, изображавших "Спор между Одиссеем и Аяксом из-за вооружения Ахиллеса". Картина Тиманфа "Жертвоприношение Ифигении" была в древности одной из самых знаменитых и наиболее нравившихся любителям искусства. Он представил жреца Калхаса стоящим у алтаря, на котором Ифигения должна быть принесена в жертву, и объятым печалью; еще более печальным изображен был Одиссей, а в лице Менелая, как говорят, было выражено столько горя, сколько до той поры не удавалось выражать ни одному художнику. Что касается Агамемнона, отца Ифигении, то он был изображен с головой, закрытой плащом, потому что художник не чувствовал себя в силах выразить в ней великую скорбь. На известной помпейской стенной картине того же сюжета Агамемнон представлен так же, – с накинутым на голову плащом. Нельзя предполагать, чтобы эта картина, хранящаяся в Неаполитанском музее, была во всех своих частях точной копией произведения Тиманфа: в ней Ифигению несут к жертвеннику, тогда как у Тиманфа, по описанию Плиния Старшего, она стояла возле алтаря. По общей композиции эта картина, по-видимому, ближе походит на рельеф круглого жертвенника, хранящегося в музее Уффици во Флоренции (рис. 335). Как бы то ни было, в помпейской картине выражение скорби в четырех мужских фигурах идет в возрастающей степени, и это подражание Тиманфу объясняет нам, что разумел Плиний Старший, говоря, что только произведения этого мастера давали зрителю больше того, что они изображали, и что как ни высоко было его искусство, идеи его были еще выше.
Рис. 335. Жертвоприношение Ифигении. Помпейская фреска. С фотографии Алинари
Подобно тому как искусство Полигнота отражается в скульптуре цветущей поры V столетия, так отголосками живописи Зевксиса, Парразия и Тиманфа отзывается скульптура цветущей поры IV в., к которому, собственно, и относятся позднейшие из произведений этих художников. Живопись шла впереди скульптуры в отношении тонкой передачи душевных переживаний. Названные художники, в сущности, принадлежат V в., в котором развился их талант, и если мы бросим взгляд на развитие вообще живописи в том веке, от Полигнота до Тиманфа, то не останется у нас никакого сомнения в том, что в этом развитии отразился переход греческой поэзии от эпоса к драме.
Оригинальные произведения греческой живописи V столетия сохранились главным образом на глиняных сосудах. Уцелевшие остатки оригинальной живописи той эпохи на глиняных досках и мраморе довольно ничтожны; напротив того, удивительной красотой отличаются вырезанные и некогда заполненные красками рисунки на обломках пластинок из слоновой кости, находящихся в Эрмитаже в С. Петербурге, – суд Париса, квадриги, различные фигуры и группы, исполненные с тем благородством и с той чарующей прелестью, которых достигло искусство в конце того столетия. Однако эти рисунки только немного приближаются в отношении стиля к живописи на вазах, которая одна дает нам возможность проследить ход постепенных успехов вообще живописи той поры. Теперь рассмотрим дальнейшее развитие краснофигурной живописи по черному фону ваз, которая, достигнув совершенства, отказывается от всякого добавления красок и после временного упадка уступает место более пестрой, богатой красками росписи.
Рис. 336. Битва Геракла с Герионеем. Рисунок Эвфрония на вазе. По "Wiener Vorlegebldtter"
Даровитые аттические художники, расписывавшие чаши в первом десятилетии V в., непосредственно примыкают к мастерам Эпиктетова круга, но плоскому эпиктетовскому стилю они противопоставили – разумеется, в границах общего греческого направления – свежий возросший натурализм. Наши сведения об этих художниках, украшавших живописью преимущественно чаши для питья, расширяются год от года. Клейн в 1887 г. довел свое исследование о вазовой живописи только до предварительных заключений, но благодаря большому труду Гартвига (1893) она является перед нами во многом в новом освещении. Рисунки на вазах художников, которые здесь прежде всего заслуживают быть упомянутыми, исполнены еще в строгом стиле, хотя в них и выказывается новое чувство натуры; но они, так сказать, уже находятся на дороге к тому, чтобы сбросить с себя путы и затем быстро поблекнуть. Весь этот процесс развития завершается в первой половине V в. и представляется, в сущности, дополигнотовским. Головы в данных рисунках изображаются почти всегда в профильном повороте.
Во главе этих аттических ремесленников-художников должен быть поставлен Эвфроний, индивидуальность которого ярко выразилась вскоре после того, как угасли в нем отголоски эпиктетовского цикла. Ранние из его произведений – кратер с изображением единоборства Геракла с Антеем, Луврский музей, и чаша с изображением победы над Герионеем, мюнхенская коллекция (рис. 336), – еще грубо и угловато натуралистичны. В них на лицах, представленных в профиль, зрачок по большей части помещен в середине глаза, нарисованного как бы видимым спереди. Следующие вазы этого мастера – чаши Эврисфея и Тесея в Лувре – выказывают уже большую свободу манеры, более округлую моделировку нагого тела и более внятную передачу душевного состояния. Правда, глаз еще не соответствует профильному положению, но постепенно приближается к правильному профилю, сдвигаясь к носу. Руки получают выразительное движение; ноги изображаются хотя и en face, но в правильном сокращении. В Берлинском музее находится позднейшая из известных чаш с подписью Эвфрония. Наружные рисунки на ней, изображающие юношей на конских скачках, исполнены красной краской по черному фону, внутренний же рисунок, в котором представлена женщина, стоящая перед сидящим юношей, считается самым древним из дошедших до нас образцов цветной живописи по белому фону (рис. 337).
Рис. 337. Головы на одной из чаш работы Эвфрония. По Клейну
Рис. 338. Чаша работы Созия. По "Antike Denkmdler"
При современниках и преемниках Эвфрония мифологические сюжеты воспроизводятся все реже и реже, и их место начинают занимать физические упражнения, любимые занятия на палестре, веселые группы из процессий Вакха и Кома, даже непристойные сцены.
Выдающимся талантом еще строгого направления был Пейфин, которому Фуртвенглер и Гартвиг приписывали берлинскую чашу с подписью художника Созия (рис. 338). Снаружи на этой чаше изображено собрание богов, а внутри представлен Ахилл, перевязывающий рану своему другу Патроклу. При полной строгости рисунка глаза у фигур поставлены правильно.
К наиболее известным художникам принадлежит также Гиерон. Гартвигу известны 28 сосудов, преимущественно кубков, помеченных именем этого мастера. Главную роль в его композициях играют "вино, женщины и песни". Сцен палестры у него не встречается. Наружная сторона одной из его чаш представляет вакханок перед гермой Диониса, Берлинский музей. Нагое тело он изображает более схематично, более эскизно, чем Эвфроний, но зато старательно передает ткани одежды. Вриг отличался большим вниманием к внутреннему содержанию, чем Гиерон, будучи близок к нему в некоторых отношениях. Старейшим из дошедших до нас произведений этого мастера Клейн признал чашу вюрцбургской коллекции с изображением на внутренней стороне сцены "У гетеры", а с внешней – игры на лире и флейтах, плясок и шуток. Как на позднейшее произведение Врига Клейн указывал на чашу из Британского музея, на которой снаружи представлена игра сатиров, а внутри – попойка. Эта чаша украшена во многих местах позолотой и по формам легче и изящнее, чем прочие. Техника Врига, отмечал Клейн, в последних его работах отличается изумительным совершенством. Стремление к живописности выказывается у него в предпочтительном изображении волос красными, в накладке красных бликов на волосы темного цвета и в употреблении золота. Рисунок внутри нагих фигур отчетлив и подробен; коричневые линии соединяются в нем с нежными светлыми чертами.
Наконец, надо упомянуть о Дурисе, развитие мастерства которого мы можем проследить также дальше половины V столетия. Мифологические темы у этого мастера отступают на задний план. Чаши с его подписью находятся главным образом в коллекциях Луврского, Британского, Австрийского и Берлинского музеев. Сначала он является как бы учеником Эвфрония, а потом подвергается влиянию Гиерона, как свидетельствуют о том, например, чаши Луврского музея с группами юношей и зрелых мужчин. Но весь он выразился в чаше, внутренний рисунок которой изображает юношу, подвязывающего себе сандалии, Берлинский музей. Самостоятельная манера Дуриса, которую мы находим здесь уже свободной и плавной, все еще несколько впадает в схематизм. Его отрешение от приемов Эвфрония при том сильном влиянии, какое он оказывает на других, было гибельно для вазовой живописи. Гартвиг назвал его злым роком этой отрасли искусства. Натурализм, соединенный с чувством стиля, снова выродился в манерность.
После середины V столетия греческая роспись ваз прокладывает себе новые пути. Сюжеты ее, разумеется, остаются те же самые. Строгий стиль, который в руках великих живописцев на вазах был полон реалистически индивидуальной человечности, уступает теперь свое место так называемому красивому стилю, отличающемуся большими чистотой и мягкостью контуров и большими свободой и гибкостью в передаче движений, но вместе с тем и снова рутинно-типичными изображениями человеческого тела. Вместо чаш и амфор являются гидрии, сосуды для смешивания жидкостей, и высокие кувшины для благовонных мазей (лекифы). Подписи художников встречаются все реже и реже. Тем не менее можно назвать нескольких расписывателей чаш, позднейших последователей красивого стиля, например Аристофана, чаша которого с изображением гигантов, образец весьма чистого и мягкого языка форм, хранится в Берлинском музее, и Эпигена, рисунок которого на чаше в Парижском кабинете медалей, изображающий прощание Ахилла, может в отношении изящества и красоты выдержать сравнение с росписью чаши Кодроса, часто упоминаемой, но известной только по снимкам.
В то время особенно были в ходу большие рисунки, окружавшие вазу сплошной полосой с массой фигур, расположенных на одном уровне, или с немногими главными фигурами ("Юноши с мантиями"). При этом снова входит в употребление расположение рисунков полосами в виде фризов, одной над другой, но только с постепенным пропусканием горизонтальной линии, разграничивающей полосы; нижняя полоса вступает в связь с верхней, которая, в свою очередь, входит отчасти в нее. Таким образом, являются пространные картины, в которых фигуры, находящиеся на разной высоте, свободно размещены одни над другими, причем для того, чтобы верхние фигуры не казались висящими в воздухе и составляли одну общую сцену, линии земли под ними то приподняты, то опущены.
Рис. 339. Развитие изображения положения ног и стоп в греческой живописи на вазах. По Винтеру
Рис. 340. Развитие изображения одежд в греческой живописи на вазах. По Винтеру
Рис. 341. Праздник Вакха. Древнегреческая живопись на вазе. По Фуртвенглеру
Старейшие из картин этого рода, в которых фигуры расположены в ряд на одном и том же уровне, представляют нам очень часто образы, отражающие в себе манеру Полигнота, тогда как, напротив, на изображения с фигурами в несколько рядов, отличающиеся более мягкими и свободными формами, обычно указывают как на дающие понятие о расположении фигур в полигнотовских стенных картинах. Это указание едва ли основательно, так как встречающаяся иногда на вазах рассматриваемого рода "разбросанность фигур" нелегко вяжется с характером монументальной живописи. Постепенное развитие изображения положения ног и стоп у фигур в греческой вазовой живописи, по Винтеру, см. на рис. 339. Рис. 340, вероятно более поздний, чем предыдущий рисунок, дает представление о развитии изображения одежды. Последняя из этих трех фигур – Мелита на вазе Кодроса.
Ученые склонны к предположению, что греческая вазовая живопись к концу V в. уже пережила все стадии строгого и красивого стиля.
Рис. 342. Омфал-Аполлон. С фотографии
Рисунок красивого стиля с равной линией земли мы видим, например, на вазе, украшенной изображением празднества Вакха, Берлинский музей (рис. 341). К старейшим рисункам на вазах с фигурами, помещенными не на одном уровне, а в два ряда, один над другим, принадлежит вышеупомянутый кратер с аргонавтами, относящийся еще к первой половине столетия. Как на более позднее произведение можно указать на прекрасную вазу с изображением амазонок, найденную в Кумах и хранящуюся в Неаполитанском музее; но самыми изящными образцами свободного красивого стиля можно признать две гидрии с изображениями суда Париса и битвы Кадма с драконом, Берлинский музей.
Рядом с этими краснофигурными вазами появились вазы с белым фоном, по ним можно проследить переход от строгого стиля к свободному красивому. Уже на некоторых сосудах с черными фигурами белый фон заменяет собой красный. Затем следуют сосуды с белым фоном и светлыми, едва заполненными контурами рисунками на нем. Но белый фон стал удовлетворять своему назначению лишь после того, как на нем появились рисунки, исполненные несколькими красками, и, наконец, в росписи этого рода ваз, как мы уже видели, возникло стремление к оттенению изображенного, вошедшему в употребление в большой живописи со времен Аполлодора. Чаши с цветными внутренними рисунками на белом фоне встречаются нередко. Гартвиг в 1893 г. насчитывал их 24. Наиболее известные – чаша Британского музея с изображением Афродиты на лебеде, две чаши Мюнхенской пинакотеки, из которых на одной представлена Гера, царица неба, а на другой – Европа на быке. На более высоких сосудах, которые внутри не расписаны, белый фон с цветными рисунками перенесен на наружную поверхность, например кратер с изображением младенца Вакха на руках Гермеса, Грегорианский музей в Ватикане. Подобная техника чаще всего встречается на аттических могильных лекифах. Рисунки на них относятся по своему содержанию почти исключительно к погребальным обрядам; их основные сюжеты – плач над умершим, погребение покойника двумя крылатыми фигурами, одна из которых "Смерть", а другая – "Сон", возложение венка на надгробный камень, на котором иногда сидит сам покойник, как бы ожив, переправа в царство теней в ладье угрюмого Харона. Там, где представлены сцены туалета, они, по мнению Вейсгёпля, – не что иное, как приготовления к погребальной процессии; сама процессия является предшествующей плачу над могилой или возложению на нее венка. Краски на рисунках этого рода сохранились только отчасти. Так, например, синяя краска, первоначально игравшая на некоторых из этих ваз вместе с красной важную роль, почти совершенно исчезла. Сосудов подобного рода особенно много в афинских коллекциях. Отличные аттические лекифы находятся также в Берлинском музее и в Лувре. К известнейшим сосудам принадлежит описанный Бенндорфом лекиф с изображением плача над умершим, Австрийский музей в Вене. Части тела, не прикрытые одеждой, исполнены в одних контурах на фоне трубчатой глины. Некоторые из рисунков на вазах берлинской коллекции, изображающие украшение надгробных стел, отличаются более полной и роскошной раскраской. Концу эпохи развития аттической живописи на вазах принадлежат некоторые из лекифов Берлинского музея с художественно исполненной моделировкой тела; один из них, лучше других сохранившийся и представляющий также плач над умершим, издан Винтером (см. рис. 334).
Рис. 343. Аполлон Кассельский. С фотографии
Персидские войны не остановили дальнейшего развития форм греческой скульптуры: она продолжала совершенствоваться и во время них. Стилистические успехи развития скульптуры от описанных выше зрелых архаических статуй Аполлона (см. рис. 271, 272) к ближайшим к ним произведениям, каковы, например, Омфал-Аполлон, Афинский музей (рис. 342), Аполлон Кассельский, Лувр (рис. 343), и бронзовая фигура мальчика, Капитолийский музей, в Риме (рис. 344), почти незаметны для неопытного глаза. Греческий профиль, в котором линии лба и носа образуют одну линию, является здесь уже вполне выработавшимся; облегчение ноги от тяжести поддерживаемого ею туловища, несмотря на то что ступня все еще не сразу отделяется от земли, все яснее и яснее влияет на позы стоящих статуй. Эта степень развития особенно важна: отличаясь бесконечной прелестью целомудренного, строгого языка форм, она характеризует собой тот же последний, самый зрелый предварительный период расцвета искусства, который в области живописи связан с именем Полигнота. Здесь прежде других должны быть упомянуты три скульптора: Пифагор из Регия в Южной Италии, Каламис из Афин и Мирон из Элевферий в Беотии.
Пифагор, уроженец, вероятно, Самоса, учился, по-видимому, у Клеарха в Регии и работал преимущественно для Дельф и Олимпии. Основные его произведения – бронзовые статуи победителей в состязаниях. Однако к числу знаменитейших его работ, находившихся в Сицилии и Южной Италии, принадлежат два мифологических изваяния, а именно "Раненый Филоктет", в Сиракузах, и "Европа на быке", в Таренте. Художественным направлением этого мастера занимались еще древние писатели. "Он первый, – писал Плиний Старший, – стал изображать мускулы и жилы и обрабатывать волосы с большой тщательностью". В отношении воспроизведения мускулов и вен, которые мы находим еще в фигуре умирающего воина на восточном фронтоне Эгинского храма (см. рис. 293, в), Пифагор, можно сказать, достиг совершенства в оживлении поверхности членов человеческого тела. Но такой же успех приписывается ему и в соблюдении пропорций и в ритмичности движений. Полагают, что "Филоктет" Пифагора дошел до нас в копиях на некоторых резных камнях. В них, выражаясь словами Брунна, "мы находим прежде всего скрещивание членов таким образом, что движение правой руки соответствует движению левой ноги, и наоборот". К произведениям Пифагора, по Фуртвенглеру, относятся "Кулачный боец", Лувр, и "Голова юноши" из Перинфа, дрезденский Альбертинум. Стиль этого художника Фуртвенглер усматривал также в знаменитом бронзовом "Мальчике" – победителе в беге. Но эта спокойная, тонко прочувствованная фигура если и представляет сходство со стилем Пифагора, то лишь отдаленное.
Рис. 344. Мальчик, вынимающий у себя из ноги занозу. С фотографии
Каламис был главным афинским мастером в период правления Кимона, но слава его, не ограничиваясь одними Афинами, быстро распространилась по всему греческому миру. Мы знаем, что он состязался с пелопоннесскими мастерами в Сикионе, Дельфах и Олимпии. Для Аполлонии на Черном море он отлил из бронзы колоссальную статую Аполлона, высотой в 30 локтей; статуя безбородого бога врачевания, Асклепия, в храме, посвященном ему в Сикионе, была исполнена Каламисом из золота и слоновой кости. В противоположность Пифагору этот художник был главным образом скульптором богов и женщин. К наиболее ценившимся его произведениям принадлежала статуя жрицы Сосандры, из статуй богов славилось изваяние Аполлона; а его статуя Гермеса, несущего на плечах овна, была чем-то особенным. О Сосандре и Гермесе Каламиса, быть может, дают приблизительно верное понятие рельефные фигуры степенной женщины и посланца богов с овном на плечах, изваянные на боковых сторонах одного небольшого алтаря в Афинах. По крайней мере, эти фигуры изящны и грациозны, хотя от них еще веет архаизмом; изящество же и грация – именно те качества, которыми древние восхищались в произведениях Каламиса. За его тип Аполлона признают вышеупомянутую статую "Омфал-Аполлон" (см. рис. 342), представляющую собой дальнейшее развитие бронзового Аполлона, найденного в Помпее (см. рис. 305). В этой статуе плечи менее широки в сравнении с бедрами, на лобке изображены волосы, которых нет у помпейского Аполлона; правая нога, менее другой обремененная тяжестью туловища, несколько выдвинута вперед; тело вылеплено полнее и сочнее, голова – что всего важнее – не поникла в задумчивости, а бодро смотрит вперед. Еще римские писатели Цицерон и Квинтилиан довольно точно определяли ступень развития, на которой стоял Каламис, указывая на то, что его произведения еще "грубы", но все-таки "мягче" произведений Канаха (см. рис. 292), хотя и грубее работ Мирона.
Мирон – художник со всемирной славой. Его "Медная корова" воспета несчетное множество раз. Она была так реалистична, что казалась поэтам дышащей, слышащей и мычащей. Искусство Мирона – последняя ступень перед полной свободой обладания формами. Учителем его считают аргосца Агелада (см. рис. 291), и действительно, творчество Мирона держалось на древнеаргосской почве, по крайней мере, несколькими корнями. Однако главным местом его деятельности были Афины, и Афинам же принадлежала его школа. В числе его произведений, которые все были литые из бронзы, если не считать нескольких работ из серебра, основное место занимали опять-таки статуи победителей на Олимпийских играх. Особенно прославлен и воспет его "победитель на бегах" Лад. Казалось, "из его полуоткрытых уст готово вылететь последнее дыхание". Не менее славился и его "Дискобол", метатель диска, юноша, держащий в правой руке тяжелый металлический кружок и готовый бросить его как можно дальше. Считали делом неслыханным, что Мирон осмелился передать в этой фигуре момент высшего движения, момент перед самым полетом диска, когда правая рука делает большой размах, причем все тело опирается на правую ногу, пальцы которой судорожно сжимаются, левая же нога едва касается земли пальцами, а левая рука, вследствие внезапного изгиба всего тела, перевешивается для сохранения равновесия вправо. Кроме фигур атлетов Мирон производил статуи героев и богов. Одна из его наиболее известных групп изображала Афину и Марсия: сатир Марсий изумлен, увидев флейту, которую Афина Паллада, изобретя ее, бросила на землю; движимый любопытством, он хотел бы поднять новый музыкальный инструмент, но страх удерживает его.
Рис. 345. Мирон. Дискобол. Копия. По Овербеку
"Дискобол" дошел до нас в различных мраморных копиях, из которых лучшая и наиболее цельная – статуя, перешедшая из Палаццо Массими в Палаццо Ланчелотти в Риме (рис. 345); известнейшая же из этих копий, у которой, к сожалению, голова новейшей работы, находится в Ватикане. Восхитительный при своей грубоватости остаток архаизма, присущей Мирону, яснее всего выказался здесь в обработке волос, которые спускаются вниз короткими прямыми прядями и лежат на темени в виде курчавых кудрей. Студничка основательнее других описал различные из сохранившихся голов, приписываемых "Дискоболу" Мирона. О приеме обработки волос этим мастером лучше всего дает понятие голова, находящаяся в Берлинском музее.
С группой Афины и Марсия знакомят нас монета, рельеф и рисунок на краснофигурной вазе. Марсий, один, без Афины, дошел до нас в бронзовой фигуре несколько меньшей величины, чем натура, Британский музей, и в мраморной не совсем правильно пополненной фигуре натуральной величины, Латеранский музей (рис. 346). Жизни в сатире не меньше, чем в дискоболе, но по своим позам и сложению они совершенно различны. "Здесь, – отмечал Фуртвенглер, – мы видим выхоленного юношу хорошего семейства, а там – одичавшего, жилистого, худощавого лесного человека; здесь тело хорошо упитанное, тщательно развитое упражнениями палестры, с сильным размахом, красиво и правильно исполняет заученное движение, а там грубый, дикий мужчина, привыкший лишь к беспорядочным прыжкам и скачкам, обуреваемый необузданными страстями, в данный момент объят одновременно любопытством и страхом".
Отнесение ряда сохранившихся статуй с более спокойными позами к произведениям Мирона, упоминаемым в письменных источниках, не столь основательно. Нас не вполне убеждают доводы Фуртвенглера относительно связи с этими произведениями и так называемого Аполлона Кассельского, другой, гораздо лучший экземпляр которого находится в Лувре (см. рис. 343). Обе стопы этой фигуры еще стоят на земле, но ступня ноги, на которую перенесена тяжесть туловища, выдвинута вперед значительнее, чем у более древних статуй. Сильно развитая нижняя часть лица с полуоткрытым ртом, в котором видны зубы, несколько выпуклый в середине лоб, сильно выдающиеся вперед дуги бровей и резко очерченные веки сообщают голове своеобразную жизненность, полную привлекательности. Во всяком случае, характер этих скульптурных произведений лишь отчасти соответствует тем качествам, которые Плиний Старший приписывал Мирону, говоря, что он заимствовал от действительности разнообразные ее стороны, соблюдал соразмерность более тщательно, чем прежние художники, но изображал при этом волосы на голове и лобке еще в старинном "строгом стиле" и, совершенно углубляясь в физическую сторону изображения, не умел выразительно передавать чувства.
Рис. 347. Скульптурные группы фронтонов Олимпийского храма Зевса. С фотографий
Рис. 346. Латеранский Марсий. С фотографии
Важнейшими произведениями монументальной скульптуры в рассматриваемую нами эпоху должно признать изваяния, украшавшие собой храм Зевса в Олимпии, – фронтонные группы и метопы, высеченные как те, так и другие из паросского мрамора (рис. 347). Изображения на восточном и западном фронтонах удалось восстановить при помощи многочисленных вновь найденных обломков, вполне согласно с описанием, которое Павсаний набросал спустя 600 лет после того, как эти фронтоны были исполнены. Оригинальные куски их находятся в музее Олимпии. С их открытием, пополнением и расположением в треугольных пространствах фронтонов неразрывно связано имя Георга Трея. Сделанная им реставрация пополненных фронтонных групп в дрезденской коллекции хотя еще оспаривается в отношении постановки отдельных фигур, однако представляется убедительной потому, что только она без натяжек согласуется с описанием Павсания и вместе с тем непринужденно наполняет фронтонные треугольники фигурами. На восточном фронтоне изображен момент перед началом гибельного состязания между Пелопсом и Ойномаем. Победитель Ойномая в состязании на колесницах должен был жениться на его единственной дочери, Гипподамии, но тот, кто оказывался побежденным, предавался смерти. Таким образом погиб уже целый ряд женихов, когда Пелопс, сын Тантала, явился на состязание и одержал победу благодаря тому, что подкупил Миртила, возницу Ойномая. В середине группы, под самым коньком фронтона, стоит Зевс, превосходящий своими размерами фигуры прочих действующих лиц, простых смертных. Справа от него стоят Пелопс и Гипподамия, слева – Ойномай и его жена, Стеропа. Затем следуют, слева и справа, обращенные к центру группы две колесницы, запряженные четырьмя конями; перед каждой на них сидит на земле возница, а сзади к постепенно суживающемуся пространству фронтона приспособляются, одни сидя, другие стоя на коленях, второстепенные фигуры; наконец, оба угла треугольника, левый и правый, заполнены фигурами, лежащими на земле и опирающимися на локоть. Павсаний называл эти лежащие фигуры речными богами Олимпии, Алфеем и Кладеем. Существовало мнение, что в середине V столетия речных богов еще не изображали в лежачем положении, что Павсаний смотрел на означенные фигуры глазами своего, более позднего времени и что в действительности это простые безымянные зрители происшествия. Тем не менее Курциус и Овербек опирались на Павсания, и по нашему мнению, вопрос этот разъяснен еще далеко не достаточно. Положение всех фигур восточного фронтона отличается спокойствием, совершенно соответствующим характеру представленного сюжета. Полагают, что художник хотел изобразить "затишье перед бурей", но скорее всего он просто не умел в большей степени оживить несколько неблагодарную для пластики сцену. Симметрия соблюдена в ней не так строго, как в эгинских фронтонных группах, но строже, чем в скульптурах фронтонов, выполненных позднее. Отдельные фигуры характеризованы недурно; в положении их ног, которые еще прикасаются к земле всей стопой, но уже выдвинуты вперед, отражается последняя фаза архаизма столь же очевидно, как и в первобытном способе обработки волос и одеяний, хотя складки последних кажутся уже менее окаменелыми. Одежда на Стеропе поразительно напоминает одежду на так называемой Гестии Джустиниани, музей Торлония в Риме.
На западном фронтоне изображена битва кентавров и лапифов на свадьбе Перифоя. Лапифы пригласили дикарей-кентавров, живших в горах, на свадьбу своего героя, Перифоя, с прекрасной Дидамейей. Кентавр Эврит, в опьянении, хотел завладеть невестой. По этому поводу между хозяевами и их гостями полузвериного облика произошла схватка, окончившаяся победой лапифов, благодаря задушевному другу Перифоя Тесею. В центре фронтона помещается Аполлон, защитник людей, изображенный в большем сравнительно с ними размере и протянувший в сторону руку с повелительным жестом. Справа от него Тесей под его защитой нападает на кентавра, который охватил передними ногами и одной рукой похищаемую им женщину; вырываясь от него, она рвет ему волосы и бороду; слева – Перифой сражается с Эвритом, схватившим Дидамейю. За этими фигурами, с той и другой стороны, по кентавру; один кусает руку лапифа, который его душит, а другой пытается овладеть прекрасным юношей-виночерпием. Еще более влево и вправо – группы, в которых кентавры уже повержены на землю лапифами, припавшими на колени. Фигуры молодых зрительниц в углах фронтона некоторые признают за нимф Пелиона. В противоположность оцепенелому спокойствию группы восточного фронтона группа западного полна необузданного движения. В первой – позы подчинены законам строгой симметрии, а во второй – нисколько не сообразованы с эстетическими требованиями. Язык форм в обеих группах почти одинаков; роскошная раскраска, вместе с бронзовыми аксессуарами, помогала эффектности этих скульптур в отношении как их реалистичности, так и декоративности. По своей композиции и более тесной внутренней и внешней связи между отдельными фигурами они представляют очевидный шаг вперед по сравнению с эгинскими фронтонными группами.
Исполнителем скульптур восточного фронтона Павсаний называл некоего Пэония из Менде во Фракии, а скульптур западного – Алкамена, ученика Фидия. Но господствующее мнение ученых и в этом случае несогласно со свидетельством греческого путешественника. Судя по одному сохранившемуся произведению Пэония, на котором стоит его имя и с которым мы вскоре познакомимся, полагают, что это был другой, более зрелый мастер, чем исполнитель группы восточного фронтона, а все, что нам известно об Алкамене, не согласуется со стилем группы западного фронтона. Конечно, в истории новейшего искусства мы встречаем случаи еще более резкого отступления от стиля, которое позволяли себе известные мастера; тем не менее принадлежность западного фронтона Алкамену очень невероятна. Фронтонные группы Олимпийского храма, несомненно, находятся еще на последней ступени архаического стиля; несомненно также, что в сравнении с афинским и аргосско-сикионским искусством, стремившимся к определенной цели, в них заметна некоторая провинциальная отсталость.
Рис. 348. Геракл, Атлас и нимфа. Метоп храма Зевса в Олимпии. С фотографии
Метопы Олимпийского храма Зевса носят на себе отпечаток той же ступени развития скульптуры, как и его фронтонные группы, и кажутся более совершенными только вследствие большей тщательности своего исполнения. На 12 плитах, украшавших собой обе длинные стороны колоннады вокруг целлы, были изображены 12 главных подвигов Геракла: на западной стороне – укрощение немейского льва, умерщвление лернейской гидры, истребление стимфалийских птиц, поимка критского быка и керинейской лани и победа над понтийскими амазонками; на восточной стороне – охота на эриманфского вепря, приобретение коней Диомеда, победа над трехголовым исполином Герионом, приключение с Атласом и яблоками из сада Гесперид, похищение адского пса Цербера и очищение Авгиевых конюшен. Значительные фрагменты этих рельефов, сделавшихся известными со времени французских раскопок 1849 г., например лев из первого метопа, Афина – из третьего, большая часть четвертого и девятого, находятся в Луврском музее в Париже. Из метопов, найденных при немецких раскопках, лучше других сохранился десятый (рис. 348), изображающий Геракла с бременем Атласа на плечах. По своим чистым, соразмеренным формам он принадлежит к числу лучших украшений музея Олимпии. Волосы на головах в этом рельефе, как и в прочих, исполнены не пластически, а были обозначены раскраской.
Рис. 349. Зевс и Гера. Селинунтский метоп. С фотографии Алинари
Рядом с метопами храма Зевса в Олимпии надо поставить метопы храма Геры F на восточном холме Селинунта, Палермский музей. Лучше всего сохранились четыре рельефа, изображающие победу Афины над гигантом Энкеладом, Актеона, растерзываемого собаками Артемиды, Геракла, убивающего царицу амазонок, и брак Зевса с Герой (рис. 349). В этих метопах обнаженные части женских фигур исполнены из мрамора и вставлены в рельеф более грубого известняка; это доказывает, что обнаженные части тела в подобных скульптурных произведениях рассматриваемой эпохи уже не покрывались слоем краски наравне с одеяниями, но сохраняли естественный светлый цвет материала, из которого сделаны, лишь слегка подцвеченного. Волосы обработаны пластически согласно строгим формам древнего стиля. Мотивы движений весьма выразительны. Фигура Геракла, одолевающего царицу амазонок и схватившего ее левой рукой за волосы, а левой ногой наступившего ей на правую ногу, вполне ясно и в то же время нисколько не преувеличенно выражает минуту победы.
Гера, стоящая в позе смущенной невесты перед сидящим царем неба, который берет правой рукой ее за кисть и принуждает снять с себя покрывало, изображена с поразительной натуральностью и вместе с тем проникнута удивительно чистым целеустремленным чувством. Указывают, что в этих фигурах еще до некоторой степени заметна архаичная принужденность; но не надо забывать, что именно в строгости этих изображений заключается своего рода прелесть. Бутон цветка, готовый раскрыться, нередко очаровывает нас больше, чем совершенно раскрывшийся цветок, уже напоминающий о том, то он вскоре рассыплется.
Своего полного расцвета искусство достигло только в созданиях друга Перикла Фидия. Произведения этого художника являются в греческом искусстве, подчинявшем индивидуальное типичному, выражением совершенства, какого когда-либо оно достигало. Полнейшая выработанность благородных форм соединяется в них с самой строгой закономерностью расположения, чистейшее чувство натуры сливается неразрывно с величайшей возвышенностью духовного чувства.
Рис. 350. Мраморное воспроизведение Афины Парфенос работы Фидия. С фотографии
Фидий (Pheidias) был афинянин, так же как и его учитель Гегий. Благодаря Гегию, обязанному своим образованием Маргосцу Агеладу, он подвергся влиянию традиций аргосской школы. Вся жизнь его протекла в V столетии до н. э. Созданы ли им какие-либо значительные произведения еще при Кимоне – вопрос, на который отвечают отрицательно, в особенности Фуртвенглер. Колоссальную бронзовую статую Афины Промахос, стоявшую в афинском Акрополе между Парфеноном и Эрехтейоном, признают памятником не битве при Марафоне и Саламине, а происшедшему около 445 г. перерыву персидской войны. Конец деятельности Фидия возбуждает сомнения, так же как и ее начало. Не подлежит, по-видимому, сомнению, что, будучи ложно обвинен в растрате, он умер в темнице; предание, что смерть его последовала в Афинах, более вероятно, чем то, которое гласит, что он скончался в Элиде. Но из этого не следует заключать, что художественная фигура Зевса, которой он украсил по поручению элидцев Олимпийский храм, была исполнена раньше величественной Афины Парфенос, красовавшейся в афинском Парфеноне. Во всяком случае, невероятно, чтобы его пригласили в Олимпию прежде, чем он прославился у себя на родине статуей Афины, тем более что следы основания его статуи Зевса в Олимпийском храме доказывают, что она была воздвигнута много лет спустя после постройки этого храма.
Колоссальная статуя стоящей девственной богини Афины Паллады в афинском Парфеноне и колоссальная статуя Зевса, сидящего на троне, в Олимпийском храме – два главных светила на художественном небосклоне Фидия. Парфенонская статуя, имевшая около 12 метров в высоту, исполнена им, вероятно, между 447 и 438 гг. до н. э. Составить себе понятие об этом произведении мы можем по описаниям древних авторов, а также по аттическим монетам и греческим и римским мраморным статуям. Из сохранившихся статуй мраморная Афина высотой 1 метр, откопанная близ Варвакейона в Афинах и находящаяся в зале Афины в местном Национальном музее, имеет для нас огромное значение, как непосредственная копия с парфенонской статуи, хотя и римской работы (рис. 350). Богиня стоит в торжественной, спокойной, полной достоинства позе, устремив свой взор вперед, перенеся центр тяжести тела на правую ногу и несколько отставив назад левую, стопа которой касается земли кончиком большого пальца. На Афине длинное, обильное складками золотое одеяние (пеплум), отворот которого перевязан поясом в виде змеи; на голове – золотой шлем, богато украшенный изображениями крылатых коней, грифов и сфинкса, а на груди – эгида с головой Медузы, вырезанной из слоновой кости. На ладони протянутой вперед правой руки она держит статуэтку крылатой богини победы. По условиям техники данной скульптуры, в которой подкрашенные пластинки слоновой кости и эмалированные листы золота набивались на деревянную основу, имевшую, вероятно, вид вполне готового изваяния, и при величине протянутой руки и тяжести стоящей на ней Нике эта рука нуждалась в подпоре; действительно, такую подпору мы видим не только у статуи, найденной в Варвакейоне, но и в изображении на одной аттической гирьке. Опущенная вниз левая рука Афины покоится на стоящем у ее ног щите, под которым извивается змея Эрихтоний – символическое олицетворение сынов аттической земли. Щит с наружной стороны украшен изображением битвы греков с амазонками. Приблизительное понятие об этом изображении можно составить себе по мраморному щиту, Британский музей. На нем мы видим такой же прием расположения фигур в два неразрывных между собой ряда, как и на вазах полигнотовского стиля. В одном из сражающихся считают возможным, вследствие индивидуальности черт его лица, признать самого Фидия, который, как говорят древние писатели, поместил на этом щите свой портрет. О благородстве форм, красоте позы и высокой одушевленности чистых, тонких черт лица, которые мы должны предполагать у Афины Парфенос, конечно, трудно судить по описаниям, даже по копии – неправильно реставрированной большой статуи Афины Антиоха, музей Буонкомпаньи в Риме.
Рис. 351. Элидские монеты с изображением олимпийского Зевса работы Фидия: а – голова на парижской монете; б – вся фигура на флорентийской монете. По Овербеку
О статуе Зевса, восседающего на троне, имевшей 13 метров в высоту, мы знаем в некоторых отношениях еще меньше, чем об Афине Парфенос.
Одни лишь элидские монеты (рис. 351) могут дать некоторое понятие о позе и голове этой статуи. Из монет особенно любопытна та, на которой представлена только голова "отца богов и людей", украшенная масличным венком, Лувр, Париж. Правильные черты его лица выражают величие и кротость; волосы на голове и бороде ниспадают свободными, естественными, еще не вьющимися живописно-волнистыми прядями. Сохранившиеся описания Зевса еще более подробны, чем описания Афины. Он также держал на ладони правой руки крылатую богиню победы; в левой руке у него был скипетр, на который он слегка опирался. Трон Зевса был в своем роде чудом искусства. На поперечной перекладине, связывавшей между собой ножки трона посредине высоты, стояло 8 статуй победителей на Олимпийских играх в натуральную величину. Ножки трона были окружены богинями победы. Ручки его опирались на сфинксов, под лапами которых лежали человеческие жертвы. Верх спинки украшен фигурами ор и харит. Брат Фидия, Панэн, живописец полигнотовского стиля, украсил загородки, отделявшие статую Зевса с трех сторон от целлы, изображениями из героических сказаний. Всюду в этих произведениях олицетворялись могущество богов, бессилие безбожников, победы богопочитателей; эти символические изображения вместе с божественным величием лица и позы Зевса производили захватывающее, неизгладимое впечатление. Описания древних авторов, которые видели эту статую, проникнутые благоговейным страхом и благочестием, доказывают, что Фидий был первым из художников, вполне овладевшим передачей духовного выражения; или Зевс сходил с небес и являлся Фидию, гласят они, или художник поднимался на Олимп, чтобы узреть этого бога. Один римский писатель сказал, что величие этого произведения было столь богоподобно, что красота его прибавила нечто к религии, установленной преданием. Зевс сидел с таким мирным и кротким видом, писал другой греческий автор, что самый несчастный, самый удрученный горем и заботами, не находящий покоя даже в сладком сне смертный при взгляде на эту статую мог забыть все, что приходится переносить страшного и тяжелого в человеческой жизни.
Более ранним произведением Фидия из золота и слоновой кости (этими материалами он пользовался чаще, чем кто-либо другой) считается Афина в старинном городе ахейцев Пеллене; рядом с ней можно поставить Афину Арейю в Платее – статую, в которой обнаженные части тела были сделаны не из слоновой кости, а из пентелийского мрамора. К позднейшим работам Фидия принадлежала Афродита Урания, богиня небесной любви, в Элиде. Его единственное произведение из мрамора, по греческим источникам, – статуя Афины в храме в ее честь, построенном при Перикле. Зато многочисленны бронзовые произведения великого художника. И в них он является скульптором почти исключительно богов. Павсаний полагал, что вообще из рук Фидия вышла только одна статуя, изображающая человека, а именно победителя на Олимпийских играх, надевающего себе на голову повязку. Древнейшей медной Афиной работы Фидия была, вероятно, статуя, отлитая по заказу лемносцев и получившая поэтому название Афины Лемнии; она находилась в афинском Акрополе и считалась образцовым изображением благородной женской красоты. Исполнение ее относится приблизительно к 450 г. Колоссальная бронзовая статуя Афины Промахос, стоявшая в Акрополе, которую мы, вместе с Фуртвенглером, считаем изготовленной пятью годами позже, была, по мнению этого исследователя, только проектирована Фидием, а выполнена Праксителем (не славным художником с этим именем, а другим, жившим раньше него), которому один древний литературный источник приписывает это произведение целиком; однако мы зашли бы чересчур далеко, если бы стали расследовать все такого рода предположения, по которым, пожалуй, даже и подписи "Пракситель" и "Фидий" на колоссальных Диоскурах на Монте-Кавалло в Риме пришлось бы снова признать за подлинные. Наконец, из бронзы был отлит также и оригинал статуи амазонки, которую Фидий исполнил для Эфеса около 440 г. до н. э. по конкурсу с Поликлетом, Крезилом и Фрадмоном.
Ход развития Фидия, быть может, уясняют нам сохранившиеся работы, считающиеся копиями с принадлежавших ему бронзовых фигур. Фуртвенглер сделал им сравнение, не лишенное остроумия, но отнюдь не получившее общего одобрения. Прежде всего надо упомянуть о статуе Аполлона, найденной в 1891 г. в Тибре, музей Терм в Риме (рис. 352). Сразу видно, что она представляет собой дальнейшее развитие вышеупомянутого типа Аполлона Помпейского. Эту статую можно поставить в один ряд с Аполлоном Кассельским (см. рис. 343). Ширина плеч у нее больше, чем стройных бедер; левая нога еще служит опорой туловища, а свободная от его тяжести нога стоит на земле еще всей ступней; плоско лежащие волосы, ниспадающие на плечи вьющимися прядями и покрывающие лоб в виде коротких локонов, еще со всех сторон кажутся нераздельной массой. Но правая нога уже сильно отставлена в сторону, голова слегка наклонена и обращена влево, красивый рот закрыт, удивительно тонкое выражение оживляет своеобразные черты лица. При этом сквозь посредственную работу римского резца проглядывает мастерская пластика телесных форм. Предполагаемая связь этой статуи с копиями созданий Фидия основывается единственно на нашем представлении о его начальном языке форм.
Рис. 352. Мраморный Аполлон. С фотографии
Рис. 353. Мраморная Афина. С фотографии
На том же основании Фидий представляется вполне самим собой в статуе Афины, дошедшей до нас в двух мраморных копиях, дрезденский Альбертинум. У одной из них сохранилась собственная, но, к сожалению, реставрированная голова (рис. 353); голова у другой лучше, но находится в Болонском музее, в Дрездене же вместо нее приставлен к статуе гипсовый слепок. Оригинальным произведением Фидия, воспроизведенным в этих копиях, могла быть только Афина Лемния афинского Акрополя. Девственная богиня стоит без шлема, с одной повязкой на голове. На ней нет также и старинного полотняного хитона ионического покроя; его заменяет дорический шерстяной пеплум, подпоясанный вместе с его фалдами. Чешуйчатая эгида косо свесилась на правую грудь. Складки расположены натурально, просто, величественно. Левой рукой богиня, по-видимому, опиралась на копье, а в правой держала шлем. Груз тела выносит на себе правая нога; левая, еще не отставленная назад, как у Парфенос, стоит, касаясь земли кончиком большого пальца, но пятка еще едва приподнята. Волосы уже не свешиваются на все стороны равномерными прядями, но и не разделены лишь спереди, как на женских головах только что минувшего времени: они расчесаны на две стороны, образуя пробор, и их волнистость передана естественно и мягко. Овальная голова вылеплена удивительно нежно, черты лица дышат осмысленной духовной жизнью. Недоступная, почти мужская девственность богини прекрасно выражена и в ее стройных формах, и в строгом выражении лица.
Если судить по вышеупомянутым копиям, Афина Парфенос представляла собой дальнейшую стадию развития творчества Фидия, а именно в позе со значительным приподнятием одной пятки, в более свободной обработке одежды, в намеренной торжественности всего произведения и в более плотном прилегании ткани к телу. Имеют ли отношение к Фидию сохранившиеся статуи амазонок, находящиеся в Капитолийском музее, а также другие, представляющие одинаковый с ними тип, равно как амазонка, прежде принадлежавшая Маттеи, а теперь Ватикану, – вопрос еще спорный. Коль скоро мы, вместе с Фуртвенглером и предшествовавшими ему исследователями, признаем сочинение Фидия в ватиканской статуе амазонки (рис. 354), которая, если реставрировать ее правильно, опирается на копье, чтобы вскочить на коня, то должны будем признать в этом произведении также успех в отношении передачи мотива движения, выраженного, согласно с задуманной композицией, эластично и красноречиво.
Рис. 354. Амазонка Маттеи. С фотографии
Подобного рода произведения хотя и слабо отражают в себе искусство Фидия, но доказывают, что он даже в начале своей деятельности отличался от своих предшественников более свободными и возвышенными взглядами, что выработанные им типы и мотивы постепенно развивал дальше в духе своего направления и, таким образом, весь совершавшийся в течение времени процесс развития довел от некоторой еще легкой неясности языка форм через стремление к чистой и целомудренной законченности до предела, за которым композиция производит чарующее впечатление, делающееся само собой все более и более возвышенным и чистым. Даже и тот, кто счел бы все эти "догадки в области греческого искусства", как их называл Студничка, преждевременными, все-таки должен признать, что ход развития, насколько мы видим его в перечисленных статуях, окончательно завершился в Афинах во времена Фидия и что именно этот мастер был пионером и вершителем в области высокого религиозного искусства. Со времен Фидия человечество узнало, что искусство может производить на восприимчивого зрителя благоговейное, пленительное впечатление не только своим сюжетом, но и способом его изображения, не исключая передачи выражения лица.
Само собой разумеется, что возвышенный стиль Фидия должен был оказать громадное влияние на все аттическое искусство V в. Доказательством самобытности и жизненной силы этого искусства лучше всего может служить то обстоятельство, что оно отнюдь не ограничивалось подражанием одному мастеру, но одновременно с Фидием и после него породило во второй половине века целый ряд художников, шедших своими собственными и, во всяком случае, иными путями, чем Фидий. В мастерских аттических скульпторов аргосское влияние уже не играло никакой роли. Напротив, в Афинах господствовали одновременно направления Каламиса, Мирона и Фидия до той поры, пока в момент, когда влияние Фидия, казалось, сделалось преобладающим, не возникло двух противоположных ему течений: прежде всего направление, умышленно подражавшее древнему стилю, нашло себе замечательного представителя, а затем выступил на сцену реализм, в котором греки той эпохи видели не более как своеобразную манеру одного отдельно стоявшего художника.
Рис. 355. Амазонка. С фотографии Алинари
Преемником Каламиса является Праксий, скульптор фронтонных групп храма Аполлона в Дельфах. Мнение Фуртвенглера, что ему принадлежит известная статуя Афины Виллы Альбани, не столь убедительно, как предположение этого ученого, что мраморное изваяние юного героя в Британском музее, в котором признают дальнейшее развитие типа Омфала-Аполлона (см. рис. 342), быть может, выказывает художественные приемы Праксия.
Рис. 356. Перикл. С фотографии
К числу последователей Мирона принадлежал его сын и ученик Ликий, который в своем "Мальчике, раздувающем огонь" ушел дальше отца в искусстве изображать исходящее из уст глубокое грудное дыхание. Принадлежит ли этому художнику статуя атлета, натирающегося маслом, находящаяся в Мюнхенской глиптотеке и, во всяком случае, представляющая дальнейшее развитие мироновских приемов, – вопрос нерешенный. К последователям Мирона может быть причислен также Стронгилион, выдающийся скульптор животных, которому приписывают амазонку, дошедшую до нас в копии, а именно в бронзовой статуэтке амазонки верхом на коне, найденной в Геркулануме, Неаполитанский музей (рис. 355). К направлению Мирона, по-видимому, примкнул в Афинах Крезил из Кидонии на Крите, скульптор, работавший с бронзой. Его подпись сохранилась на некоторых пьедесталах. Древние авторы приписывают ему целый ряд знаменитых произведений: портрет Перикла, дошедший до нас в копиях, а именно в известных идеализированных бюстах-гермах, из которых один находится в Британском музее (рис. 356), а другой – в ватиканской коллекции; "Умирающий раненый", последнее дыхание которого передано совершенно в манере Мирона; наконец, "Раненая амазонка", за которую, согласно старинному определению, снова признают знаменитую статую Капитолийского музея (рис. 357) и другие ей подобные. Голова Перикла с надетым шлемом, с широкими полными губами, глазами узкого и продолговатого разреза, толстыми веками, с коротко подстриженными густыми и вьющимися волосами на ней и на бороде, выражает спокойное внутреннее величие, каким и отличался великий государственный деятель Аттики. Смелое соединение мотивов, взятых из жизни, с глубиной внутреннего содержания составляло, по-видимому, отличительное качество искусства Крезила.
Рис. 357. Раненая амазонка капитолийского типа. Мраморная копия в Ватиканском музее. С фотографии
Важнейшие из скульпторов школы Фидия, имена которых дошли до отдаленных поколений, были Алкамен, Агоракрит и Колот.
Алкамен, афинянин по рождению, был, как и его учитель, изобразителем исключительно богов. Исследователи, которые, придерживаясь мнения Брунна, твердо стоят на том, что Павсаний с полным правом приписывал этому художнику группы восточного фронтона храма Зевса в Олимпии, допускают существование юношеского периода деятельности Алкамена – поры, предшествовавшей влиянию на него Фидия; однако мы оставляем это на их ответственности. Значение Алкамена в дальнейшем ходе развития аттического искусства заключается, с одной стороны, в его предпочтении мраморной пластики и разработки ее в духе нового искусства, а с другой – создании целого ряда идеальных образов богов, которые были пропущены Фидием, например бог войны Арес, бог вина Дионис, бог врачевания Асклепий, бог огня Гефест. Предположение, будто Алкаменом были изваяны статуи Гефеста и Афины для храма на Рыночном холме в Афинах, называвшемся прежде Фезейоном, и будто лучшая копия Афины этой группы сохранилась в "Торсе Шершеля" (в Тунисе), относится опять-таки к тем "догадкам в области греческого искусства", которые наводнили фактический материал археологии. Но самой знаменитой из статуй Алкамена была "Афродита в садах" в Афинах – произведение, которое, как говорят, было перед его окончанием доработано самим Фидием. Полагают, что грациозная "Провансская Венера" Луврского музея – копия этого произведения. Богиня изображена в пышном, плотно облегающем тело одеянии, которое она слегка приподнимает у себя за спиной правой рукой. Равным образом нет поводов к тому, чтобы не признать плотно сложенную, нагую, имеющую только шлем на голове фигуру Ареса Боргезе, находящуюся также в Лувре, за копию Ареса Алкамена (рис. 358). Эти мраморные изваяния походят одно на другое позами, выражающими движение вперед, и индивидуальностью голов с волнистыми волосами, несколько тяжелыми веками и как бы говорящим ртом. К этим статуям следует присоединить изваяние юноши, готовящегося бросить диск ("Дискобола"), Ватиканский музей (рис. 359), которое уже давно признают единственной статуей атлета работы Алкамена, упоминаемой в литературных источниках.
Рис. 358. Арес Боргезе. С фотографии
Агоракрит Паросский, по-видимому ближе всех других стоявший к Фидию, был известен в особенности как автор мраморного изваяния "Мать богов" в Метрооне в Афинах и Немезиды в ее храме в Рамнусе в Аттике. От рельефа с подножия второй из этих статуй дошли до нас обломки, в которых чувствуется несомненное влияние Фидия; основываясь на них, Пауль Германн приписывает Афину знаменитого "Торсо Медичи" Луврского музея также Агоракриту.
Рис. 359. Метатель диска. Мраморная статуя. С фотографии
О Колоте известно только, что он помогал Фидию в его трудах над статуей олимпийского Зевса.
Представителем архаистической реакции против направления Фидия был, по выводам Фуртвенглера, Каллимах, считающийся изобретателем коринфской капители. Его направление шло рука об руку с утонченностью декоративного стиля его времени. Из сообщений древних писателей, давших ему прозвище Katatexitechnos, видно, что никакая тщательность и тонкость работы не казались ему достаточными. Его золотая лампа под медной пальмой в афинском Эрехтейоне пользовалась большой известностью; славились также его "Танцующие лаконянки", о них Плиний Старший сказал: "Тщательно выполненная вещь, но которую прилежный труд над ней лишил всякой привлекательности". Если общее направление этого художника было действительно таково, то нельзя считать невозможным, что впадающий в архаизм рельеф Капитолийского музея с подписью греческими буквами имени Каллимаха имеет на деле отношение к этому мастеру, о котором в таком случае нам приходится, вместе с Фуртвенглером, думать по поводу еще целого ряда дошедших до нас рельефных работ. Алтарь четырех богов в афинском Акрополе Фуртвенглер считал даже оригинальным произведением Каллимаха. Роскошно орнаментированное в свободном стиле мраморное подножие треножника или канделябра, находящееся в дрезденском Альбертинуме (рис. 360), с изображением на одной из сторон похищения треножника Аполлона, может быть признано за копию бронзового оригинала Каллимаха; то же самое надо сказать и об известном архаистическом торсе Афины дрезденского Альбертинума; передняя часть одежды богини украшена как бы вышитым изображением битвы гигантов, отличающимся свободой стиля, тогда как в расположении складок видно подражание строгому стилю древнего времени. Не надо, однако, забывать, что причисление этих и им подобных произведений к только что рассмотренной категории – произведений, на которые прежде смотрели как на исполненные в позднейшие времена умышленно в древнем духе (архаистически), все-таки дает повод к сомнениям, нуждающимся в разъяснении.
Рис. 360. Пьедестал треножника или канделябра. С фотографии
Наконец, реалистом времен пелопоннесской войны является Деметрий, славившийся как скульптор-портретист. Древние порицали его реализм. То, что до него считалось в Греции портретной скульптурой, не исключая изображений победителей на играх, было на самом деле воспроизведением не индивидуальных черт тех или других личностей, а их типов. Деметрий же, по свидетельству Квинтилиана, заботился больше о сходстве, чем о красоте. Его изображения греческой жрицы Лизимахи и коринфского полководца Пелиха, большой живот, плешь и развевающиеся на ветру волосы которого описывает Лукиан, производили сильное впечатление. И если головы вроде голов полководца Архидама (рис. 361) и трагического поэта Эврипида (рис. 362), находящихся в Неаполитанском музее, представляют нам направление Деметрия, то древние, привыкшие к типичному, разумеется, несколько преувеличивали реализм этого мастера.
Рис. 361. Архидам. Мраморный бюст. С фотографии
Рис. 362. Эврипид. Мраморный бюст. С фотографии
Во второй половине V столетия до н. э. рядом с аттическим искусством существовало пелопоннесское, а именно аргосское искусство в своем дальнейшем самостоятельном развитии. Великим представителем этого искусства явился Поликлет, имя которого пользуется почти таким же почетом, как и имя Фидия. Поликлет родился, вероятно, в Сикионе, но жил и трудился в Аргосе. Что он был ученик старика Агелада, как о том сообщают, трудно поверить на слово. Он резко отличается от соименного ему художника, жившего позже, наверное, его племянника, Поликлета VI столетия. Великий Поликлет Старший, держась традиций своей школы, работал главным образом с бронзой и изображал людей, преимущественно возмужавших юношей. Однако он исполнял изваяния и другого рода. Его статуя, изображавшая Геру на троне и находившаяся в ее храме в Аргосе, была божеством и вместе с тем женщиной. Его бронзовый Гермес, в Лизимахии, представлял только божество, тогда как бронзовая амазонка, исполненная им в состязании с Фидием, Крезилом и Фрадмоном, изображала только женщину. По словам Плиния Старшего, на этом конкурсе Поликлет получил первый приз, Фидий – второй, а Крезил – третий. "Геру" Поликлета потомство причислило к знаменитейшим скульптурным произведениям Греции и в отношении техники даже предпочитало эту статую работам Фидия; по части литейного дела Поликлет был также высоко ценим не только как мастер, усовершенствовавший технику этого дела, но и как установитель "канона" нормальных пропорций человеческого тела – правил, в которых уже нуждалось искусство того времени. Воплощением канона Поликлета был, вероятно, его бронзовый Дорифор ("Копьеносец"), фигура нагого юноши с копьем на левом плече и с опущенной правой рукой (рис. 363). Однако до своего классического образца фигуры крепкого нагого юноши Поликлет дошел не реалистическим, а идеалистическим путем. Пособием ему служило вычисление, то есть в своих произведениях он соблюдал вычисленные им отношения, о которых написал целую книгу. О содержании этой книги мы знаем лишь очень немногое по выдержкам из нее у древних писателей, отмечавших, что Поликлет "вычислил отношения пальцев между собой, всех пальцев к кисти руки, кисти к предплечью, предплечья к плечевой части руки и вообще всех членов одного к другому". Канон пропорций человеческого тела, оставленный Витрувием, не Поликлетов, а позднейшего происхождения. Наши сведения о чистом поликлетовом типе разъяснил Калькманн своими измерениями, произведенными на некоторых из мраморных статуй, считающихся копиями с бронзовых работ Поликлета. Относительно хода развития пропорций между частями лица в греческом искусстве до Поликлета он говорил: "Вначале мы находим деление лица на три части".
Лоб, нос и нижняя часть лица были одинаковой длины. Затем лоб стал укорачиваться, а нижние части лица – удлиняться, пока, наконец, при Поликлете не возвратились к делению на три части. Глаз помещен всего более книзу у "Нике" Архерма (см. рис. 286), несколько выше он у олимпийской Геры (см. рис. 270).
По мере укорочения лба и удлинения нижней части лица глаз все больше и больше передвигается вверх, то есть приближается к границе волос: у Поликлета, увеличившего лоб, глаз снова отодвигается от этой границы, но далеко не в такой степени, как в древнейшие времена, и одновременно с этим средняя часть лица – расстояние от глаза до носа (до кончика носа) – увеличивается. Высота головы, то есть расстояние от подбородка до темени, равняющееся по вышеупомянутому канону Витрувия 1/8 части всей высоты фигуры, у Поликлета, по исследованиям Калькманна, составляет лишь 1/7, тогда как расстояние от глаза до подбородка составляет 1/16, а высота лица – 1/10 высоты всей фигуры. По канону бронзового Дорифора были исполнены Поликлетом и его бронзовые статуи Диадумена, юноши, надевающего себе на лоб повязку победителя, и Апоксиомена, молодого атлета, счищающего с себя пыль скребницей. Поликлет довел до совершенства и так называемую contraposto, внутреннюю подвижность стоящей фигуры, заключающуюся в резко выраженном налегании ее корпуса только на одну ногу. Позднейшие древние знатоки (Плиний Старший) находили фигуры Поликлета несколько квадратичными; да и нам, при всем удивительном равновесии, которым они отличаются, кажутся они несколько коренастыми и приземистыми.
Рис. 363. Копьеносец. Мраморная статуя. С фотографии
Три статуи Поликлета дошли до нас в мраморных воспроизведениях: "Копьеносец", "Амазонка" и "Диадумен". Важнейшее из воспроизведений Дорифора, находящихся в разных коллекциях, – мраморная статуя Неаполитанского музея (см. рис. 363). Новые находки – торс Пурталеса, Берлинский музей, и торс из зеленого базальта, флорентийская галерея Уффици; но самой близкой к оригиналу надо признать голову бронзового герма Аполлония, Неаполитанский музей (рис. 364). Эти копии свидетельствуют, что статуя Поликлета представляла очень крепко сложенного молодого человека с короткими, хорошо расчесанными, прилегавшими к черепу волосами, твердо стоявшего на правой ноге и отставившего назад, почти как при ходьбе, левую ногу, прикасающуюся к земле только кончиками пальцев. Мы уже знаем, как этот мотив движения постепенно развивался. Последнюю аргосскую фазу этого развития мы вместе с Фуртвенглером видим в статуе бога или царя, нагого, с короткими волосами на голове и бороде, из Мюнхенской глиптотеки; Брунн приписывает ее Поликлету. Плотности "Дорифора" соответствуют сильно и твердо очерченные планы, посредством которых соединяются между собой главные части его тела. Конечно, подобного телосложения никто не видывал в натуре, но никому не может оно показаться ненатуральным. За копии бронзовой "Амазонки" Поликлета признают совершенно схожие между собой статуи Берлинского музея (рис. 365), коллекции Лансдоуна в Лувре и Браччо-Нуово Ватикана. Произведение Поликлета изображало раненую и утомленную амазонку, закинувшую себе на голову правую руку, опирающуюся левой рукой на высокий постамент и отставившую, подобно Дорифору, левую ногу назад; по своему типу это наиболее стройная и по-мужски сложенная из всех сохранившихся мраморных амазонок. Наконец, копиями "Диадумена" Поликлета считают мраморную статую из Вэзона (в Провансе), Британский музей, прекрасную статую Мадридского музея (рис. 366), фигуру, найденную на Делосе, и несколько торсов в других коллекциях; из относящихся сюда отдельных голов особенно замечательны находящиеся в дрезденском Альбертинуме и в Кассельском музее. Диадумен своим видом, движением, пропорциями и головой, собственно говоря, похож на Дорифора, но, в противоположность академической стройности этой фигуры, он представляет собой изображение настоящего победителя хотя и исполненное по тому же образцу, но более близкое к натуре и потому отличающееся во всех своих частях большей подвижностью, мягкостью, легкостью и эластичностью. Рядом с вышеупомянутыми статуями можно указать, как на имеющую поликлетовские тип и позу, на статую мальчика в дрезденском Альбертинуме.
Рис. 364. Аполлоний. Бронзовый бюст. С фотографии
Рис. 365. Амазонка. Мраморная статуя. С фотографии
Рис. 366. Диадумен. Мраморная статуя. С фотографии
Рис. 367. Идолино. С фотографии
Сколь значительно было влияние Поликлета на греческую скульптуру, видно и в других произведениях, каковы, например, прелестный бронзовый "Идолино" (рис. 367) Флорентийского археологического музея, молодой Пан Парижской национальной библиотеки и прекрасный маленький бронзовый Арес Британского музея. Вообще Поликлет должен быть поставлен во главе художников, пытавшихся когда бы то ни было воспроизводить нормальное человеческое тело.
Поликлет собрал вокруг себя в Аргосе многочисленных учеников и товарищей. Патрокл был, вероятно, его брат. Сыновьями Патрокла считают Навкида, "Геба" которого стояла в Аргосском храме рядом с "Герой" Поликлета, Дедала, которому приписывается стремление выражать характер богов, и, наконец, на основании показания некоторых авторов, Поликлета Младшего, которого, однако, другие считают гораздо более поздним мастером. В одной из своих надписей Дедал именует себя сикионцем. Если он и не родился в Сикионе, то, во всяком случае, жил в этом городе. Ученик Поликлета Старшего Канах Младший и ученик Навкида Алип были уроженцами Сикиона. В конце V в. вся школа Поликлета перебралась из Аргоса в Сикион, где и процветала в IV в. наряду со знаменитой школой живописи и вместе с ней считалась приютом всякого рода хороших школьных преданий – местом, в котором можно было изучить все правила искусства.
Рис. 368. Крылатая Нике. С фотографии
Пэоний из Менде, которому Павсаний приписывает скульптурное украшение восточного фронтона Олимпийского храма (см. рис. 347) и который сам в своей надписи признает себя творцом сохранившейся мраморной Нике, стоявшей поблизости от этого храма, и другой, вероятно бронзовой, статуи той же богини, увенчивавшей собой вершину его фронтона, был фракиец по происхождению, но принадлежал по своему образованию пелопоннесской школе. Крылатая мраморная Нике Пэония, по мнению специалистов, оспариваемому только немногими, исполнена, как это видно по ее фактуре, не раньше пелопоннесской войны (рис. 368); она была воздвигнута, наверное, мессенцами и навпактийцами как дар богам в благодарность за поражение спартанцев при Сфактерии (в 428 г.). Постановка ее произошла, вероятно, после Никиева мира (в 421 г.). Во всяком случае, эта статуя, находящаяся в музее Олимпии, принадлежит к числу замечательнейших из сохранившихся произведений античного искусства: она интересна, как единственная дошедшая до нас круглая фигура несомненно подлинной работы знаменитого мастера V столетия, так как он снабдил ее своей подписью; она любопытна, кроме того, как одно из самых ранних произведений, в котором художник осмелился изваять из мрамора круглую фигуру низлетевшего с небес крылатого божества; наконец, она поучительна по смелости и уверенности, с которыми скульптор разрешил свою трудную задачу. От ее крыльев, рук и головы сохранились только обломки. Отношение данной скульптуры к статуе, которая находится в частном владении в Риме и в которой, пожалуй, можно признать копию ее головы, не настолько доказано, чтобы выводить отсюда какие-либо стилистические или исторические заключения. Но и того, что сохранилось, достаточно, чтобы составить себе понятие о характере этого художественного произведения, о наглядной передаче в нем мотива полета и чудной его красоте с передней стороны. На рисунке "Крылатая Нике" представлена в реставрации Рюма, дрезденский Альбертинум. Одежда богини, вследствие ее полета развевающаяся назад и образующая мягкие складки, плотно прилегает к передней поверхности ее тела и прекрасно обрисовывает его великолепные, чистые и свободные формы. Кроме обеих рук совершенно не прикрыты одеждой левая грудь и несколько выставленная левая нога с опущенными пальцами. Если сравнить это произведение с крылатой Нике, приписываемой Архерму (см. рис. 286), то поразишься огромным шагом вперед, который греческое искусство сделало в течение полутора столетий. Таких успехов искусства, перешедшего от скованности к свободе в столь короткий промежуток времени, никогда не наблюдалось за пределами Европы, а в Европе подобное явление имело место лишь однажды, в эпоху 1350-1500 гг. н. э.
В ряду сохранившихся отдельных изваяний второй, классической половины V столетия, с которыми мы ознакомились, особенно любопытны остатки греческой монументальной пластики, как произведения по большей части оригинальные. Если лишь в редких случаях оказывается возможным с уверенностью приписать их тому или другому из известных мастеров, то все-таки удается сближать их с этими художниками и таким образом пользоваться ими для подтверждения выводов, полученных доныне из наших исследований исторического хода искусства.
Из этих остатков на первом плане должны быть поставлены скульптурные украшения Парфенона (см. рис. 321), сохранившиеся части которых, к сожалению, не только разъединены, но и рассеяны по разным музеям. В самом храме из 92 метопов остался только 41; уцелела также большая часть фриза на стене задней, западной, короткой стороны целлы и несколько его обломков на южной, длинной стороне; в углах восточной стороны видны еще две лошадиные головы, уцелевшие от фронтонной группы, и остатки нескольких человеческих фигур находятся в углах западной стороны. Акропольский музей в Афинах обладает кроме других, менее значительных обломков 22 плитами фриза и двумя фрагментами группы восточного фронтона. Отдельные обломки находятся в Париже и Копенгагене. Все остальное из того, что сохранилось, принадлежит Британскому музею, который приобрел эти древности в 1816 г. от лорда Эльджина. Почтенный лорд в 1801 и 1802 гг. с разрешения султана выломил эти изваяния, прославившиеся под названием Elgin-Marbles, и увез их в Англию. Кое-что из разрушенных частей сохранилось в древних копиях и особенно в рисунках, сделанных французским художником Жаком Кареем в Афинах в 1674 г. Пользуясь всеми этими пособиями, мы в состоянии довольно точно представить себе все пластическое убранство знаменитого храма.
Так как Парфенон был посвящен Афине, покровительнице Аттики и ее населения, и главное помещение этого храма было украшено ее статуей, мастерски исполненной Фидием из золота и слоновой кости, то и все наружное скульптурное убранство здания гласило о величии девственной богини. На восточном фронтоне было представлено ее рождение из головы Зевса, на западном – ее победа над Посейдоном, богом морей, состязавшимся с ней из-за преобладания в любимой ею стране. На метопах, начиная с восточной стороны, были изображены эпизоды борьбы богов с гигантами, из которой первые вышли победителями благодаря вмешательству Афины; на прочих сторонах были представлены победы, одержанные при ее содействии греками над грубой силой варваров: на западной стороне – битва греков с амазонками, на южной и северной сторонах, сверх других не совсем понятных событий, – битвы лапифов с кентаврами. Фриз изображал чествование Афины жителями Аттики. Большие Панафинеи, празднество, происходившее каждый год олимпиады, заканчивались громадной процессией, которая направлялась в Парфенон; главной целью этой процессии было принесение богине в дар роскошного одеяния (пеплума), которое ткали и расшивали благороднейшие женщины и девушки Афин и которое руководители процессии вручали жрецу богини. Это вручение, совершающееся под покровительством 12 главных богов Аттики, изображено на передней (восточной) стороне целлы; выезд всадников, участвующих в процессии, изображен на фризе западной, короткой стороны, а на фризе обеих длинных сторон, разделенном на две параллельные части, изображена сама процессия, направляющаяся, как на верхней, так и на нижней части, с запада к востоку. Более всего бросаются в глаза юноши на конях; но и шествие жертвенных животных, сопровождаемых вожаками, шествие дароносцев с чашами и кувшинами в руках или на плечах, колесниц, запряженных четырьмя конями, группа музыкантов с флейтами и кифарами, спокойно выступающий сановник, – все это прочно врезается в память зрителя. Вообще мы видим тут возвеличение аттического народа, его благородства, культуры, свободы и красоты. Наиболее старые из скульптур Парфенона – метопы; в их ряду с художественной точки зрения особенно важны украшавшие собой южную сторону храма и представляющие сцены единоборства между греками и кентаврами. Большинство этих метопов находится в Британском музее. Среди них можно различить древнейшие от более поздних; очевидно также, что над ними работали разные художники. Нельзя не удивляться разнообразию этих рельефов, несмотря на повторение в них одного и того же главного мотива и на несколько схематичные повторения частностей. Хотя полные движения сцены хорошо сочинены для заполнения отведенных для них четырехугольных пространств, однако кое-где нет недостатка и в пробелах на этих пространствах или в неестественных сокращениях там, где недоставало места для композиции. Одни из групп исполнены совершенно в формах школы Фидия, но в других заметна еще борьба с архаичными угловатостью и сухостью, а в третьих стремление к новизне расположения доходит до нарушения простоты и естественности. Так, например, древней скованностью отличается метоп, где грек изображен побежденным и опустившимся на колено и наскочивший на него кентавр, прижимая его голову левой рукой, не дает ему подняться (рис. 369, а). Напротив, пластически зрелой и оживленной является нам группа, в которой торжествующий кентавр, с львиной шкурой, наброшенной на его простертую руку, в гордом упоении победой перескакивает через лежащего на спине умирающего грека (б-д). Но группа, в которой победителем представлен грек, схвативший кентавра, тщетно выбивающегося из его рук, уже не чужда изысканности, особенно вследствие более живописного, чем натурального, изображения плаща, развернувшегося от смелого размаха руки и распростертого за спиной греческого юноши (е). Исполнителями этих метопов называли почти всех аттических мастеров; пытались также распознать направление Мирона в более древних, а направление Фидия – в более поздних метопах. Но мы считаем достаточным отметить различие их по стилю, свидетельствующее об успехе, которого достигла аттическая школа около 440 г. Больше единства, чем метопы, представляет нам фриз Парфенона (рис. 370). Удивительно спокойный при всей своей величайшей жизненности, удивительно стильный при всей своей величайшей натуральности, этот фриз принадлежит к самым замечательным созданиям искусства всех времен и народов. Он раз и навсегда доказал, что для непрерывно тянущегося фриза нет темы более подходящей, как изображение многосложного шествия людей и животных, движущихся в одном и том же направлении; что изокефалии, правила располагать головы всех фигур на одном уровне, необходимо строго держаться в интересах заполнения длинной полосы фриза, но держаться только приблизительно, без педантичной строгости; что сам стиль плоского рельефа, в котором исполнено изображение процессии, вынуждает представлять фигуры профильно, причем, однако, в свободном стиле более зрелой эпохи это правило может и должно нарушаться случайными поворотами отдельных фигур; что смена фигур животных и людей, одетых и неодетых фигур, даже сама смена отдельных телодвижений и расположения складок одежды могут, при постоянном повторении главных мотивов, сообщать всему изображению большое разнообразие и жизненность – все это художественные истины, подтверждаемые фризом Парфенона с такой очевидностью, что всякого рода задачи находят в нем для себя готовое решение. Краски и бронзовые аксессуары, теперь утраченные, еще более усиливали и возвышали впечатление, которое этот фриз производил в своем первоначальном виде. Как на успех искусства рассматриваемой эпохи можно указать на то, что боги на передней стороне фриза, в числе которых тотчас же узнаешь Зевса и Геру, посланницу богов Ириду, Афину Палладу, Гефеста, Посейдона, Гермеса и скромно одетую небесную Афродиту с ее сыном Эросом, охарактеризованы не столько своим одеянием и атрибутами, сколько своими типами и позами (рис. 370). Вместе с тем превосходство богов перед людьми еще по-старинному выражено большим размером их фигур, которые только одни представлены сидящими так, что их головы приходятся, согласно указанному выше правилу, на одной высоте с головами прочих фигур.
Рис. 369. Сцены борьбы лапифов с кентаврами. Метопы афинского Парфенона. С фотографии
Рис. 370. Части Парфенонского рельефного фриза (Панафинейское торжественное шествие). Северная сторона: а – юноши с жертвенными быками; б – юноши с жертвенными сосудами. Западная сторона: в – приготовление всадников к участию в процессии; г – часть процессии всадников. С фотографии
Рис. 371. Посейдон, Аполлон и Артемида. Рельефная группа восточной части Парфенонского фриза. С фотографии
К сожалению, от фронтонных групп Парфенона до нас дошли только очень неполные обломки. На каждом фронтоне действующие лица – только центральные фигуры, между тем как боковые, образующие собой красивые группы, выражают свое участие лишь внутренним образом (рис. 371). Именно от обеих центральных групп не сохранилось почти ничего. Тем не менее мы в состоянии дополнить группу восточного фронтона на основании рельефа, украшающего жерло одного цилиндрического фонтана, хранящегося в Мадридском музее. Судя по этому рельефу, в центре группы сидел на троне Зевс, повернувшись направо. Перед ним стояла в полном вооружении только что рожденная им дочь Афина Паллада, к которой слетела богиня победы; позади Зевса стоял Гефест или Прометей с молотом, которым он произвел мистическое рождение богини из головы вечного отца. Центральные группы западного фронтона могут быть восстановлены еще легче по сохранившимся обломкам и рисунку Карея. Слева стояла Афина, справа – Посейдон; оба в позах, полных жизни и движения, наделяли Аттику залогами ее благоденствия: Посейдон заставлял бить у своих ног соленый ключ, Афина возвращала священное масличное дерево. Последнее, изображенное в своем естественном виде, находилось в самой середине фронтона, через что обозначало собой победу богини. Оба божества, позади которых помещались их квадриги, совершив свои чудеса, отступали друг от друга как бы в испуге. Но кого представляли лежавшие по обеим сторонам от них фигуры, более спокойные на восточном и более подвижные на западном фронтоне (рис. 372)? Для ответа на этот вопрос приходится выбирать между божественным и человеческим, между вымыслом и историей. Одни видят в этих фигурах олицетворения сил природы и местностей, относящиеся к монументальному, проникнутому поэзией способу антропоморфически изображать ландшафт; другие признают боковые фигуры восточного фронтона за мифических первобытных обитателей Аттики. Не подлежит сомнению только одно, а именно – что в углах восточного фронтона были помещены слева Гелиос, бог солнца, поднимающийся со своими огненными конями из моря, справа – Селена, или Никс, богиня ночи, опускающаяся со своими уставшими конями во всемирный океан, тогда как лежащие угловые фигуры западного фронтона, по объяснению некоторых исследователей, не усматривающих в прочих фигурах никаких олицетворений ландшафта, представляли собой речных богов Кефиса, Илисса и Каллироя. Во всех этих вопросах для произвола толкователей открыт самый широкий простор. Что касается нас, то мы предпочитаем просто любоваться этими неземными образами, не спрашивая себя об их именах, наслаждаться их формами, чистыми и мощными даже в полуразрушенном виде, идеальной и вместе с тем натуралистической моделировкой их наготы, роскошью, плавностью и простотой укладки на них драпировок, спокойствием и достоинством их положения в монументальных группах. Здесь впервые – в противоположность фронтонным скульптурам Эгинского и Олимпийского храмов – достигнута полная анатомическая правильность поворотов, здесь отдельные фигуры впервые соединены в группы, составляющие одно неразрывное целое. Имя исполнителя (или имена) этих законченных произведений декоративной мраморной пластики нельзя определить вполне точно, так как древние писатели не приводят их. Что фронтонные скульптуры проникнуты духом Фидия, о том не может быть никакого спора, но представляется маловероятным, чтобы великий мастер лично участвовал в исполнении этих мраморных работ. Если же назвать вместо него Алкамена или Агоракрита и задать себе вопросы, насколько проекты фронтонов принадлежат самому Фидию и насколько можно приписать исполнение этих проектов его ученикам, то снова не выберешься из заколдованного круга предположений. Мы должны довольствоваться убеждением, что дух Фидия и направление его школы ясно выразились в этом единственном в своем роде художественном памятнике Греции.
Рис. 372. Фигуры, входившие в состав группы восточного фронтона Парфенона, ныне – в Британском музее: а – женщины; б – юноша. С фотографий
Скульптурные украшения лучше других сохранившегося храма в Афинах, называвшегося прежде Фезейоном, а теперь известного под названием Гефестейон, насколько они уцелели, остались на своих первоначальных местах. По выражению Зауера в начале его большого сочинения об этом храме, от его фронтонных групп "не сохранилось ни куска". Если этот ученый, несмотря на свое заявление, пытался восстановить означенные группы на основании лишь следов от них в тех местах, где они находились, и затем из этого фантастического построения вывести заключение об изображениях на восточном фризе и о тех божествах, которым был посвящен храм, то это является лишь апогеем того современного нам спиритически-археологического направления, которое не может и не должно примешиваться к истории искусства. Из 18 метопов Гефестейона, украшенных горельефами, 10, находящихся на передней стороне, изображают подвиги Геракла, а 8 смежных с ними метопов северной и южной стороны – деяния Тесея, которые здесь впервые образуют целую серию. Из двух фризов целлы, исполненных из паросского мрамора гораздо более возвышенным рельефом, чем фриз Парфенона, западный изображает битву лапифов с кентаврами, а восточный, отчасти переходящий своими концами на длинные стороны, – объясняемую различным образом битву в присутствии шести богов, восседающих на тронах. Единоборства на восточном фризе – довольно точные повторения некоторых из изображений на метопах Парфенона. Рукопашная схватка бокового фриза восточной стороны благодаря тому, что в ней фигуры как бы стремятся к середине, и тому, что она на каждой стороне прерывается тремя сидящими на тронах богами, которые находятся на выступах антов, образует правильно расчлененный фриз, который не тянется непрерывной полосой, а составляет украшение лишь одной стороны, в чем совершенно верно усматривают прототип аттической монументальной живописи. Живописный ракурс, в котором на восточном фризе представлен один из павших, уже выходит за пределы пластического стиля Парфенонского фриза.
В отношении древности в ряду с этими скульптурами должен быть поставлен фриз внутри целлы храма Аполлона близ Фигалии (см. рис. 322), Британский музей в Лондоне. Здесь снова мы видим битвы греков с амазонками и лапифов с кентаврами. Соответственно назначению этого храма, богами-покровителями являются здесь Аполлон и Артемида. Они стоят на колеснице, влекомой двумя оленями, и, так как битва с амазонками почти уже склонилась в пользу греков, несутся в битву с кентаврами. Спокойствие фриза Парфенона здесь уступает место сильному движению. Страстный пыл битвы вызывает целый ряд неожиданных эпизодов и поз. Надо видеть грека, который, схватив амазонку за руку и за ногу, стаскивает ее с коня, упавшего на колени (рис. 373)! Здесь кентавр, перескакивая через труп павшего товарища, кусает затылок лапифа и в то же время лягает копытами другого лапифа, который преследует его. Там амазонка спешит на помощь к своей подруге, которая упала навзничь и поднимает правую руку к своему противнику, как бы моля о пощаде. Далее Тесей ловко вскакивает на спину кентавра, нападающего на женщин у статуи богини. И при этом выражены заботы о раненых, страх на лицах похищаемых и молящих о помощи женщин, надменность победителей. Везде кроме мощных движений тела передано и душевное волнение, а это большой успех искусства. Самые смелые и пластически красивые повороты, но также и часто повторяющиеся не свойственные скульптуре ракурсы местами заставляют подозревать, что образцом для этого произведения служил живописный оригинал. Отдельные формы не лишены благородства, но видно, что исполнитель фриза стремился не столько к красоте, сколько к выражению жизни, силы и страсти.
Рис. 373. Битва греков с амазонками, часть мраморного рельефного фриза, украшавшего собой храм Аполлона в Фигалии. С фотографии
Фризы небольшого храма Афины Нике в афинском Акрополе (см. рис. 327) были исполнены, вероятно, позже 425 г. Собственно фриз храма, который, за исключением четырех плит, находящихся в собрании мраморов Эльджина, установлен опять на прежнее место, имеет всего 0,45 метра в высоту. В его сравнительно небольших фигурах почти столько же движения, как и во фризе Фигалийского храма, но они более стройны, более элегантны в аттическом духе, а драпировки на них разработаны более подробно.
Рис. 374. Женщина, подвязывающая сандалию. Мраморный рельеф балюстрады храма Нике Аптерос в Афинах. С фотографии
Если этот фриз, как предполагал еще Кекуле, изображает решительную битву при Платее, в которой беотийские фиванцы сражались на стороне персов и были побеждены, то, по всей вероятности, это был первый случай пластического рельефного изображения исторического события, еще свежего в памяти у всех. Успех выработки стиля выказывается здесь в расположении действия, которое становится все более и более живописным и оживляется перспективными удалениями и сокращениями. Фриз мраморных загородок, окружавших рассматриваемый храм, был украшен рельефными фигурами более значительного размера. Богиня победы, следующая за Афиной всюду как тень, является здесь во множественном числе. Эти богини поднимают трофеи, приводят жертвенных быков, приносят жертвы. Сохранившиеся обломки этого фриза находятся в зале Нике Акропольского музея в Афинах. Из них наиболее известен рельеф, называющийся "Женщина, подвязывающая сандалию" (рис. 374), которую было бы правильнее назвать женщиной, развязывающей сандалию, так как она делает что-то на приподнятой правой ноге лишь одной рукой. Широкая одежда прилегает к ее просвечивающему повсюду нагому телу свободными складками, расположенными с большей оригинальностью и изяществом, чем в скульптурах предшествовавшего времени. Стиль этого фриза уже далеко отошел от простоты Парфенонского фриза. Но приписывать его из-за этого Каллимаху, как приходит на мысль Фуртвенглеру, было бы вдвойне смело, если в то же время, подобно этому ученому, относить к числу произведений Каллимаха целый ряд архаистических рельефов. Обломки фриза Эрехтейона в Акропольском музее дышат такой же жизнью, как и последние из означенных произведений. Более строги по стилю кариатиды, или коры (девы), о которых мы уже упоминали как о подпорах антаблемента южного портика Эрехтейона (см. рис. 329). Одна из них, замененная в Афинах терракотовой копией, находится в коллекции Elgin-Marbles, Британский музей. Это крепкие эластичные фигуры девушек в одеждах, ниспадающих спокойными складками; одна нога у них, выносящая на себе тяжесть тела, покрыта складками, как бы каннелюрами, и плотно прилегает к другой ноге, слегка согнутой и выдающейся вперед.
Должно быть, на храм Нике походил Герэон в Гьёльбаши-Тризе, между Мирой и Антифеллом в Ликии, фризы которого, открытые и описанные Бенндорфом, хранятся в придворном музее в Вене. Фризы украшали собой стену, огораживавшую большой четырехугольник, в котором стоял осененный деревьями высокий саркофаг неизвестного принца греческого происхождения. С южной стороны, в которой находился вход, стена была украшена фризами снаружи и внутри, а на остальных трех сторонах они находились только на внутренней поверхности стен и увенчивали их верх, будучи расположены большей частью в два ряда, один над другим. На этих фризах изображен значительный отрывок греческой героической саги. Здесь являются снова, но один подле другого без всякой внутренней связи, почти все уже знакомые нам мотивы. Четыре крылатых быка полной пластической работы, выступающие передней частью тела из стены над входными воротами, напоминают о близости Востока, но фризы, исполненные невысоким рельефом, по своему стилю и содержанию совершенно греческие. Преобладание совсем профильных положений и сухость форм фигур свидетельствуют о провинциальном пристрастии к архаической строгости. Но благодаря некоторой живописной свободе стиля эти фризы нельзя считать относящимися дальше, чем к последней четверти V в. Намеки на перспективу в расположении фигур сражающихся и в изображении зданий, сокращения и сжатый вид колесниц и других предметов заставляют предполагать, что эти скульптуры исполнены с живописных оригиналов; действительно, в них повторяется ряд мотивов, встречающихся в аттической вазовой живописи и, судя по древним описаниям картин Полигнота и его учеников, заимствованных косвенным образом из их произведений. Поэтому гьёльбаши-тризские фризы составляют главную опору теории влияния живописи на греческую пластику. Дальнейшее развитие этого рельефного стиля на ликийской почве мы видим в скульптурных украшениях так называемого Памятника нереид в Ксанфе. Сохранились остатки различных фризов, украшавших массивное, высокое, сложенное из плитняка основание этого небольшого храма и сам этот храм, обломки фронтонных групп, фигуры акротериев и несколько искалеченных, но очень оживленных движением женских фигур в волнующейся и развевающейся одежде с обильными складками. Эти женские фигуры (рис. 375), помещавшиеся, вероятно, в промежутках между колоннами (intercolumniae) галереи, окружавшей храм, принято считать нереидами, так как у их ног изображены рыбы и другие морские животные. Иоганн Сикс, напротив, держится мнения, что это – aurae, олицетворения прохладных ветерков, веющих над морем; однако такое толкование может быть принято лишь в том случае, если отнести эти фризы к IV в., как это и делали прежде. На нижнем фризе цоколя находился плоский рельеф, изображающий битву греков с варварами. Некоторые его частности кажутся заимствованными прямо из аттических фризов, с которыми мы уже знакомы. Прочие подробности – реалистичнее всего прежнего. Верхний фриз цоколя изображает высоким рельефом взятие города; это первый пример пластического изображения многолюдных битв. Город с его стенами и воротами напоминает подобные изображения на ассирийских рельефах, и в нем предвосхищены римские приемы позднейшей эпохи. Фриз архитрава представляет, кроме эпизодов охоты и битв, несущих дары данников, имеющих почти персидский характер. Весьма вероятно, что исполнители всех этих скульптур уже были знакомы с аттическим искусством второй половины V в.; тем не менее в них ясно виден восточно-греческий самобытный стиль, борющийся с местными традициями.
Рис. 375. Нереида. Мраморная фигура Памятника нереид в Ксанфе. С фотографии
Во всех произведениях общественной скульптуры, изображавшей преимущественно сцены битв, греки V столетия являются народом воинственным и в то же время богобоязненным в полном смысле слова; в произведениях же их неофициальной пластики мы видим обильное проявление кротких и нежных сторон их характера, мирного образа жизни и верной любви до гроба. В произведениях подобного рода нет также недостатка в указаниях на рыцарские упражнения и мужские добродетели греков. Это справедливо главным образом относительно вотивных, документальных и надгробных рельефов, так же как и рельефов на самих саркофагах. Аттические рельефы этого времени, рассмотренные в прекрасном сочинении Шёна, совершенно пропитаны духом искусства Фидия. Как спокойны и величественны на рельефе, найденном в Элевзисе, Деметра и Кора, эти великие элевзинские богини, изображенные вместе с Триптолемом, первобытным обитателем Элевзиса, которому они расточают дары земледелия, Афинский музей! Сколько глубокой трогательности, сколько тихой скорби в прощании Орфея с его супругой Эвридикой, которую Гермес уводит обратно в подземный мир, – сцене, изображенной на рельефе, наиболее известные копии которого находятся в Неаполитанском музее (рис. 376) и в музее Виллы Альбани в Риме! Какой внушительной и вместе с тем соразмерной представляется фигура Медеи на рельефе Латеранского музея в Риме, изображающем, как она убеждает Пелиадов рассечь на куски их отца! Замечательны также надгробные рельефы – простые картины из жизни, искренней привязанности, сердечного прощания, отличающиеся разнообразием исполнения и достойные великих мастеров. Большинство надгробных камней этого рода, сохранившихся в Афинах, относится к IV столетию, но некоторые из них, например памятник Гегезо (рис. 377), изображающий идеализированную фигуру умершей и ее служанку, еще отличаются спокойными, величественными формами V в.
Рис. 376. Гермес, Эвридика и Орфей. С фотографии
Рис. 377. Гегезо со своей служанкой. Аттический надгробный камень. С фотографии
Интересны саркофаги, отрытые Гамди-беем в Сидоне, Константинопольский музей. Два из них, наиболее древние, "Ликийский саркофаг" и "Саркофаг сатрапа", по мнению Студнички, принадлежат V столетию. "Анкийский саркофаг" имеет крышу дугообразно-стрельчатого профиля и фронтоны, украшенные группами сфинксов и грифов. Наружная поверхность его стен, на которых сохранились следы синего фона, украшена рельефами, представляющими, так сказать, отголосок парфенонских скульптур, – изображениями битв с амазонками и кентаврами, а на одной из длинных сторон, кроме того, охоты на вепря. Еще любопытнее более древний "Саркофаг сатрапа"; подобно вышеупомянутым памятникам города Ксанфа он переносит нас, по крайней мере содержанием своего рельефа, в более восточный мир. На одной из его длинных сторон – умерший, сидя на троне, со скипетром в руке и с остроконечной персидской тиарой на голове, смотрит на юношей, приготовляющихся к езде верхом и на четырехконных колесницах. На другой продольной стороне мы видим его на охоте, а на одной из узких сторон – покоящимся на ложе (рис. 378). Все эти изображения исполнены низким рельефом в чисто греческом вкусе, на смелом, ясном, хорошо выработанном греческом языке форм, в некоторых особенностях которого нельзя, однако, не признать восточно-греческого художественного направления.
Рис. 378. Вельможа, возлежащий за обедом. Рельеф на короткой стороне "Саркофага сатрапа". С фотографии
2. Искусство в IV в. (400-275 гг. до н. э.)
В IV в. развитие греческого искусства шло по проложенному пути, поначалу независимо от событий мировой истории. Путь к художественной правде, направляясь от строгости и возвышенности как от исходных точек, шел в V в. по нивам самой чистой и совершенной красоты; теперь он поворачивает сам собой в цветущие области миловидного и чувственно-прелестного. Насколько это допускает наклонность к типичному, которая теперь, как и прежде, еще господствует в греческом искусстве, всюду начинают прорываться более свободные и индивидуальные черты. Рядом с искусством, служащим определенным религиозным или общественным целям, благочестивому воспоминанию об умерших или облегчению душевной скорби посредством жертв и посвящений, возникает почти совсем неизвестное прежней поре искусство для искусства, постепенно, почти незаметно все более и более выдвигающееся на передний план.
Зодчество IV в. всюду создает более роскошные, своеобразные сооружения и более свободные формы. Дорический стиль поступается своей руководящей ролью, но не угасает и не останавливается на одном месте, а продолжает развиваться в указанном выше направлении, все более и более отклоняясь от своего коренного, упрямо мужественного характера. Храм Матери богов (Метроон) на холме Кроноса в Олимпии принадлежит еще первой половине IV столетия. Капители его дорических колонн с 20 каннелюрами имеют под эхином вместо кольца выемку, в которой, быть может, помещалась металлическая полоса. Маленький храм Асклепия в целебном месте Эпидавра относится также к первой половине IV в. Его целла, необычным образом оканчивавшаяся сзади гладкой стеной, стояла внутри колоннады, образованной дорическими колоннами также с 20 каннелюрами. Знаменитый храм Афины Алеи в Тегее, проект которого приписывается великому скульптору Скопасу, был дорический периптер только с внешней стороны; его целла была разделена на 3 корабля ионическими колоннами, а портик украшен, по-видимому, коринфскими колоннами. В середине IV столетия сооружены большой храм Аполлона на Делосе, бывший общим святилищем всех эллинов, и храм Зевса в Немее, считавшийся святилищем пелопоннесцев. Эти храмы, как и 3 вышеперечисленных, принадлежали к дорическим и имели в коротких сторонах по 6 колонн. Относительно отдельных форм всех этих зданий можно сказать то, что говорил Р. Боррманн о деталях Леонидэона в Олимпии: "Прямолинейная форма эхина, незначительная высота капители (треть диаметра верхнего разреза колонны), низкий антаблемент, архитрав которого меньше фриза, узкие пластинки с каплями, – все это признаки упадка дорического стиля". Леонидэон – здание, воздвигнутое во второй половине IV в. наксосцем Леонидом, по всей вероятности, для помещения в нем почетных гостей и праздничных посольств, принадлежал к числу самых значительных частных построек Древней Греции. Колонны галерей, окружавших большой квадратный внутренний двор этого здания, были дорические; снаружи оно было украшено колоннадой ионического стиля. Сочетание дорического и ионического стилей мы находим также в одном пелопоннесском здании своеобразной формы; это Фолос в Эпидавре – круглый зал, строителем которого считают Поликлета Младшего (рис. 379) По Дёрпфельду, Фолос был окружен снаружи 26 дорическими колоннами, а внутри содержал 14 коринфских с весьма развитыми капителями (см. рис. 315). Здание это построено в конце IV столетия. Дорический стиль и вне Пелопоннеса находил себе случайное применение даже в Малой Азии, как, например, в храме Афины Полиас в Пергаме; но областью его распространения сделался теперь преимущественно Пелопоннесский полуостров.
Рис. 379. План Фолоса в Эпидавре. По Дёрпфельду
Ионический стиль в IV в. одержал новые победы, тогда как коринфский еще не смел являться в наружной колоннаде храмов, за исключением небольших зданий этого рода, и находил себе применение только внутри. Наиболее разнообразные формы ионического стиля сохранились в фасадах высеченных в скалах ликийских гробниц, относящихся к рассматриваемой эпохе, как, например, в Тельмессе, в Антифеллосе, в Мире. Древнеликийский плотничий стиль, с которым мы ознакомились (см. рис. 231), уступает здесь место простому ионическому фронтонному фасаду, обычно лишь с двумя колоннами (рис. 380); эти фасады особенно важны для нас потому, что в них мы находим различные ионические формы, на которые следует смотреть и как на пережитки более древних ступеней развития, и как на дальнейшее развитие стиля окольными путями. Фриза здесь по большой части не существует, так что ряд дентикулов помещается прямо над архитравом, состоящим постоянно из трех полос. Базы колонн, зачастую совершенно гладких, нередко имеют простой желоб между двумя валами, которые принято называть аттическими. Капители представляют архаистические или свободно скомпонованные формы.
Рис. 380. Ионический фасад одной из ликийских горных усыпальниц. По фон Зибелю
В собственно ионической Малой Азии все еще продолжалась постройка святилища Бранхидов, большого роскошного храма в Дидиме, близ Милета. Вновь сооружен был храм Афины Полиас в Приене, освященный, как гласит предание, Александром Македонским в 340 г. до н. э. Его строителя Пифия Витрувий считал одним из самых отъявленных противников дорического стиля. На колонны этого храма, дошедшего до нас в виде груды развалин, нередко указывают как на традиционные развитого ионического стиля (см. рис. 258). Пифий вместе с Сатиром считается также строителем Галикарнаского мавзолея, величественной гробницы царя Мавсола, умершего в 351 г. Мавзолей, сделавшийся нарицательным именем роскошных царских усыпальниц, – дальнейшее развитие Памятника нереид и вместе с тем идеальное преобразование древних надгробных башен, встречающихся в этой местности. Он имел в плане почти квадрат; на его низком уступчатом основании возвышалось массивное сооружение из плит, наверху которого стоял надгробный храм, окруженный колоннадой (9411 ионических колонн) с капителями с небольшими волютами. Крыша его состояла из усеченной мраморной пирамиды в 24 уступа, на верхнем основании которой была помещена квадрига с колоссальными изваяниями царя и царицы. С постройкой нового храма Артемиды в Эфесе на месте сожженного в 356 г. Геростратом связано имя Дейнократа, греческого зодчего времен Александра Великого. Храм этот был сооружен по тому же плану, что и старый храм Херсифрона, но его формы, соответственно новому времени, отличались большей свободой. Стройные колонны были опять "columnae caelatae"; их нижняя часть над многосоставной базой была одета облицовкой, украшенной пластическими произведениями; но эта дорогая скульптура (рис. 381), изображающая возвращение Алкесты из подземного мира, сравнительно со скульптурой прежнего храма исполнена в более свободном стиле IV столетия. Вообще Дейнократ занимался преимущественно составлением планов городов. Ему принадлежал план города Александрии в Нижнем Египте. Глубокий ум и смелость фантазии Дейнократа выказались особенно в его проекте превращения горы Афон (1935 метров) в фигуру исполина, держащего в одной руке весь город, а в другой сосуд, из которого все воды горы изливались бы в море. Гермоген, причисляемый также к решительным противникам дорического стиля, жил несколько позже. Его храм Артемиды Левкофрины в Магнезии на Меандре Страбон называл святилищем, "которое по обилию и богатству обетных даров хотя и близко подходило к Эфесскому храму, но далеко превосходило его соразмерностью и искусством расположения частей". Раскопки доказали, что это был псевдодиптер, стоявший на пятиступенчатой платформе. Украшавший его фриз находится в Луврском музее в Париже.
Рис. 381. Рельеф одной из колонн храма Артемиды в Эфесе. С фотографии
Наряду с этими ионическими храмами надо упомянуть о круглом сооружении того же стиля, о Филиппейоне в Олимпии (рис. 382). Он был воздвигнут царем Филиппом между 337 и 334 гг. и представлял собой, по выражению Адлера, "истинное детище своего века". Круглое здание, стоявшее на трехступенчатом основании, было окружено 18 ионическими колоннами. Целла была выше этой колоннады; ее стена, разделенная на два этажа, была расчленена 9 коринфскими колоннами. Другое круглое здание, поменьше, – самое древнее из украшенных снаружи коринфскими колоннами или, вернее, колоннами, четверть которых уходит в стену; собственно говоря, это не более как монументальное подножие для треножника в афинской "Улице триподов", украшенных обетными приношениями победителей на драматических состязаниях, так называемый хорагический памятник Лизикрата, освященный в 334 г. (рис. 383). На шести неполных колоннах, прислоненных к круглому каменному цилиндру, лежит обыкновенный антаблемент: трехполосный архитрав, фриз, украшенный скульптурными изображениями, венец с дентикулами и карниз, на котором покоится чешуйчатая крыша в форме шатра, состоящая из монолита. Аканфовая надставка на вершине крыши, служившая подножием для треножника, исполнена совершенно в духе коринфского стиля. Коринфские капители с их нижними рядами листьев, подобных камышовым, имеют еще более свободный характер, чем позднейшие коринфские капители (рис. 384).
Рис. 382. Олимпийский Филиппейон в разрезе. По реставрации Адлера
Дальнейшее развитие греческой театральной архитектуры выразилось в IV столетии сооружением повсеместно каменных помещений для зрителей и каменных сцен. Обычно круглая орхестра, к которой примыкала по тангенсу сцена, отделялась от помещения для зрителей проходом, в котором проводили или дорогу, или канал с водой. По бокам передней стены театра шли в виде флигелей параскении, между которыми помещалась подвижная стена проскения, служившая для навешивания на нее декораций. К этой ступени развития принадлежал Афинский театр Диониса в том виде, в каком он был закончен в правление Ликурга (338-326 гг.). От этого театра сохранились до некоторой степени места для зрителей с их тремя рядами сидений (рис. 385), с тринадцатью проходами и мраморными тронами для почетных посетителей; трон для жреца Диониса, украшенный рельефами, был чудом греческого прикладного искусства. Далее, образцовым сооружением считался театр в Эпидавре (рис. 386) – произведение, как и вышеупомянутый Фолос, Поликлета Младшего. По Дёрпфельду, признающему поэтому существование еще второго, младшего Поликлета, Эпидаврский театр был построен позже 330 г., быть может, даже только в начале III в. Места для зрителей были устроены всего в два ряда, причем нижний ряд был разделен проходами на 12 клиньев, а верхний – на 22. Впереди большого зала скены, разделенного внутри на два нефа, мы находим здесь впервые каменную стену проскения, украшенную ионическими полуколоннами. Подле проскения сохранились отверстия для установки вращающихся трехсторонних декораций, периактов. IV столетию принадлежит также главная часть самого обширного из театров Греции – театра в Мегалополе в Аркадии. Его зал, имевший 66 метров в длину и 52 в ширину, Ферсилион Павсания, открывался в назначенное для зрителей помещение портиком; это помещение представляло собой соединенный с театром зал, в котором находились с боков места для стоящей публики и шли лучеобразно ряды стройных колонн.
Рис. 383. Хорагический памятник Лизикрата в Афинах. С фотографии Ромаидеса
Греческая живопись IV столетия проложила себе в некотором отношении новые пути.
Только теперь она достигла той высоты, которая возможна при полном обладании техническими средствами, при овладении всякого рода положениями и мотивами, при умении передавать любого рода душевные движения. То, что удавалось выражать пластике ближайших последующих столетий, в значительной степени было подготовлено живописью IV столетия; но одна, по крайней мере, из школ этой последней, в свою очередь, находилась под влиянием шедшей впереди нее скульптуры, а именно сикионская, ставшая во главе нового направления.
Рис. 384. Коринфская капитель памятника Лизикрата. По Михаэлису
Рис. 385. Мраморные сиденья театра Диониса в Афинах. По Дёрпфельду и Рейшу
Как мы уже видели (см. рис. 366), сикионская школа главное значение придавала соотношениям, поддающимся вычислению, – доктринам, способным развиваться дальше, чистоте и правильности форм. Первый живописец этого направления (хрестографии) был Эвпомп. Одна из античных фресок в Палаццо Роспильози в Риме, "Победитель с пальмовой ветвью в руке", быть может, является отражением произведения этого художника. Ученик Эвпомпа Памфил, глава сикионского направления, отстаивал в литературе учения этой школы и ввел в греческие школы обучение рисованию. О его педагогической деятельности мы знаем больше, чем о его художественных произведениях. За свой курс учения, продолжавшийся 12 лет, он брал по одному таланту (4000 марок). Профаны и художники стекались в его школу. Сам великий Апеллес окончил в ней свое образование. Одну из важнейших заслуг Памфила составляет усовершенствование техники энкаустической восковой живописи. Со времен исследований Доннера фон Рихтера нам известно, что в этом роде живописи разноцветные восковые пасты накладывались на пластинки из дерева или слоновой кости при помощи кестрона, металлического инструмента, похожего на шпатель, и затем обрабатывались, по окончании же картины по ее поверхности проходили нагретым железным стержнем; это нагревание (kausis) действовало как легкая лакировка, причем благодаря слабому таянию воска отдельные краски нежно сливались по своим краям одна с другой. По сравнению с общеупотребительной тогда живописью a tempera энкаустическая восковая достигала большей яркости колорита, но была трудоемка, требовала кропотливой работы, а потому употреблялась только для исполнения небольших картин.
Ученик Памфила Павзий первым составил себе имя по части техники этого рода картин. Написанное им изображение его возлюбленной цветочницы Гликеры пользовалось громкой известностью; еще более было известно его "Жертвоприношение быка", в котором бык был представлен видимым спереди, в полном ракурсе; но наибольшей славой пользовалась картина в круглом здании в Эпидавре, изображавшая бога любви и рядом с ним "Опьянение" в виде фигуры, пьющей из стеклянного сосуда. Лицо этой фигуры было видно сквозь прозрачный сосуд. Все это было ново для той эпохи и свидетельствовало об успехах техники, зависевших от свойств энкаустической восковой живописи.
Рис. 386. План театра в Эпидавре. По Дёрпфельду и Рейшу
Педагогическую деятельность Памфила продолжал его ученик Меланфий, написавший тирана Аристрата с его квадригой. Рассказывают, что великий товарищ этого мастера по учению у Памфила Апеллес добровольно уступил ему право на приз при конкурсе на исполнение этой картины.
Вторую греческую школу IV столетия называют фиванской, потому что она возникла в Фивах в эпоху кратковременного процветания этого города, или фиванско-аттической, потому что она вскоре переселилась из Фив в Афины, или, наконец, без всякого основания, младшей аттической. По-видимому, эта школа поставила себе задачей, в противоположность несколько оцепенелому идеализму форм сикионцев, более непринужденную их обработку и большую жизненность передачи ощущений. Во главе этой школы обычно ставят или Аристида, или Никомаха, смотря по тому, кого из них считают ее основателем. По нашему мнению, признать им всего скорее можно Аристида. Фиванец Никомах, по-видимому, писал преимущественно мифологические сюжеты и славился легкостью и опрятностью своей кисти. Напротив того, Плиний Старший восхваляет Аристида как мастера изображать сильные ощущения, особенно патетические душевные страдания. На одной из его картин, представлявшей взятие города, была написана умирающая женщина, ребенок которой, к великому ее отчаянию, просит у нее груди. В числе его произведений были "Больной", заслуживший бесконечные похвалы, "Умоляющий", написанный так правдиво, что казалось, будто слышится его голос, и фигура женщины, повесившейся из-за любви к своему брату. Третьим наиболее замечательным художником школы, о которой идет речь, был Эвфранор из Коринфа, учившийся в Фивах у Аристида Старшего, которого мы считаем скульптором, а не живописцем; по-видимому, он трудился в Афинах. Эвфранор был столько же знаменит как скульптор, сколько и как живописец. Три важнейшие его картины украшали собой Стою в Керамике в Афинах. Средняя картина изображала битву конницы при Мантинее, а картины на узких стенах представляли одна 12 богов, другая – символический сюжет: героя Тесея, который подводит "Демократию" в образе женщины к "Демосу", олицетворению аттического народа. Насколько направление Эвфранора считалось даже в древности более натуралистическим, чем направление Парразия, о том можно судить по остроумному замечанию Плиния Старшего: "Тесей Эвфранора питался мясом, а Тесей Параззия – розами".
Местом деятельности учеников Эвфранора были Афины. Никий, так сказать, его художественный внук, был в рассматриваемое время главным аттическим мастером. Великий скульптор Пракситель особенно ценил те из своих статуй, которые Никий снабжал circumlitio (по выражению Плиния), то есть раскраской. По словам Плиния, Никий тщательно наблюдал эффекты света и теней и больше всего заботился о том, чтобы его фигуры имели рельефность. Он писал большие картины темперой, а менее крупные – энкаустическим способом и высказывался против изображения мелких предметов вроде цветов, плодов и т. п., бывшего при нем в большом ходу, причем, видимо, намекал на Павзия. Сам он считал достойными искусства только важные сюжеты. Его картина, изображавшая Ио, которую стережет Аргус и освобождает Гермес, как полагают, скопирована, разумеется лишь приблизительно, некоторыми древними стенными картинами, сохранившимися в Италии; замечательнейшая из них находится на Палатине в Риме (рис. 387). В числе произведений Никия Плиний Старший называл портрет Александра Великого. Так имя Александра впервые появляется в истории искусств. Даровитейшие люди смотрели на него не только как на завоевателя, но и как на объединителя греков, который вел их к новым победам; художники прославляли его и отдавали себя в его распоряжение.
Рис. 387. Ио, Аргус и Меркурий. Фреска, найденная на Палатинском холме в Риме; работы, вероятно, Никия. С фотографии
Рис. 388. Битва Александра Македонского с Дарием. Мозаика. С фотографии Алинари
Впрочем, портрет Александра упоминается в числе произведений еще другого мастера фиванско-аттической школы. Мастер этот – Филоксен, ученик того Никомаха, которого мы поставили во главе этой школы. Плиний Старший причислял к его произведениям не имевшее подобных себе – написанное при царе Кассандре (около 300 г. до н. э.) изображение битвы Александра с Дарием, другими словами – битвы при Иссе. Это произведение имеет для нас важное значение, так как мы, вместе с Михаэлисом, видим в нем, а не в "Битве при Иссе" сомнительной позднейшей египетской художницы Елены, оригинал большой мозаичной картины, найденной в "Casa del Fauno" в Помпее и перенесенной оттуда в Неаполитанский музей (рис. 388). Среди уцелевших произведений античного искусства этой мозаике принадлежит весьма видное место как баталической картине с фигурами в натуральную величину. На ней изображен исторический момент, когда Дарий чуть было не попал в руки македонцев, предводимых Александром, он спасся благодаря тому, что один из его приближенных уступил ему своего коня. В самой середине картины, на переднем плане, перс уже держит наготове коня, который представлен задом к зрителю, в смелом ракурсе. Царь еще стоит на своей колеснице, думая не столько о своем спасении, сколько о своих людях, он с жестом отчаяния обратился к персидскому вождю, который, уже настигнутый копьем Александра, падает на землю вместе с конем. По счастью, именно верхняя часть фигуры Александра с ее величавой энергичной головой, утратившей шлем, сохранилась довольно хорошо. Вообще в этой картине, вследствие необходимости изобразить разгар схватки, нет и помина о каком бы то ни было соблюдении условий распределения фигур в глубине пространства. Некоторая жесткость и неправильность рисунка, быть может, произошли от переделки картины в мозаичное изображение, но вообще это произведение остается образцом передачи конной битвы с бросающимся в глаза центральным драматическим эпизодом; выражение глубокой скорби и страдания на лицах побежденных и спокойное, победоносное величие лица Александра нагляднее, чем все, что сохранилось от живописи далекой эпохи, свидетельствуют о том, какие успехи сделала она около 330 г. до н. э.
Рис. 389. Одиссей узнает Ахилла. Быть может, копия с картины Афениона. С фотографии Алинари
Наконец, к фиванско-афинской школе принадлежал еще один мастер, работавший в Афинах, хотя и бывший уроженцем Фракии, – Афенион из Маронеи. Плиний Старший говорил, что его столько же уважали, как и Никия, а иногда ставили даже выше. Он имеет для нас важное значение, так как в числе его произведений находилась картина, изображавшая Ахиллеса в женской одежде, узнанного Одиссеем среди дочерей царя Ликомеда; различные повторения этого сюжета, оригинал которого мог принадлежать Афениону, сохранились в числе помпейской стенной живописи (рис. 389).
Здесь мы можем отвести место также Тимомаху из Византии, принадлежащему к числу выдающихся древних живописцев. По Плинию, он жил во времена Юлия Цезаря, и исследователь Роберт поддерживал это предание. Однако еще Велькер и Брунн доказывали, что Плиний в этом случае ошибся, что Юлий Цезарь только купил два главных произведения Тимомаха, "Медею" и "Аякса", и перевез их в храм Венеры Генетрикс и что во время Цицерона они находились в Кизике. Брунн уже потому не считал возможным отнести деятельность Тимомаха дальше, чем к эпохе Никомаха, Апеллеса и Аристида, что позднейшие писатели говорили о нем вместе с этими мастерами. Лёшке отнес его даже не к концу, а к началу IV в. Однако доводы Брунна нам кажутся наиболее убедительными. Главными произведениями Тимомаха считаются "Медуза Горгона", "Неистовство Ореста", "Медея перед умерщвлением своих детей" и "Аякс после своего неистовства". Многочисленные эпиграммы, прославлявшие эти произведения, отмечали в них передачу колеблющихся душевных настроений. Изображение Медеи нашло себе отголосок, быть может, в некоторых кампанских стенных картинах. Таким образом, Тимомах – мастер, воодушевлявшийся сюжетами, почерпнутыми из афинской трагедии, и у него, быть может, больше, чем у кого бы то ни было из греческих живописцев, главную роль играл духовный пафос, противоположный физическому пафосу Аристида.
За упомянутыми художниками следуют великие мастера IV в., которых принято соединять в одну ионическую школу и которых, во всяком случае, можно считать представителями заморской школы рассматриваемого времени, так как все они были уроженцы стран, лежащих по другую сторону Эгейского моря. Во главе этих мастеров должен быть поставлен Апеллес, признанный величайшим живописцем в мире не только всей позднейшей древней историей, не только средневековым христианством, но и эпохой европейского Возрождения. На языке любителей и знатоков искусства быть Апеллесом какого-либо народа до последнего времени значило быть величайшим живописцем этого народа. Апеллес был истый малоазийский иониец. Он родился, вероятно, в Колофоне, но получил права гражданства в Эфесе, а потому считается эфесцем. Стремясь соединить свою врожденную ионическую легкость с дорической основательностью, он посещал школу Памфила в Сикионе. С самого начала своей самостоятельной деятельности он вступил в близость с македонским царским двором. Еще царь Филипп пригласил его в свою столицу, Пеллу, где уже начинал формироваться кружок придворных художников; поручения, которые приходилось исполнять этим художникам, были чисто монархического свойства: требовалось возвеличивать личность и деяния царя, его полководцев и сановников. Поэтому картины, исполненные Апеллесом в первое время его деятельности, преимущественно портреты, принадлежали к этому реалистически придворному направлению и имели историческое значение, конечно, благодаря важности изображенных лиц. Плиний Старший говорил, что трудно исчислить, сколько раз Апеллес писал портреты Александра в образе Зевса, с перунами в руке (в Эфесском храме Артемиды), Александра-миротворца на триумфальной колеснице, за которой следует Война в оковах, Александра-полководца верхом на коне, написанном так натурально, что лошади ржали при его виде. В этого рода картинах Апеллеса мы впервые встречаемся с настоящей портретной живописью высокого исторического стиля.
Когда Александр покинул Пеллу, выступив в поход против исконных врагов Греции, персов, Апеллес, по-видимому, переселился в Эфес. После смерти Александра он совершил путешествие в Александрию ко двору царя Птолемея, которое соперники художника истолковали в дурную сторону, что подало ему повод написать аллегорическую картину "Клевета". Она до такой степени была расхвалена Лукианом, что художники Возрождения Боттичелли и Дюрер пытались, основываясь на ее описании, восстановить ее своей кистью. Без сомнения, такое символическое изображение, представлявшее собой воплощение отвлеченного понятия в человеческих образах и проникнутое внешней и внутренней жизнью, было немыслимо на более ранних ступенях развития греческого искусства. Знаменитые мифологические картины Апеллеса относятся по большей части к позднейшей поре его деятельности. Поэты воспевали их, писатели об искусстве прославляли их. Всего более славилась его Афродита Анадиомена, богиня любви, выходящая из моря и выжимающая из своих волос соленую влагу. Картина эта, написанная для острова Кос, была впоследствии перевезена в Рим; она пользовалась громкой известностью как одно из превосходнейших произведений искусства. Мотив ее дошел до нас во многих скульптурных работах. Последнее произведение Апеллеса, его вторая Афродита, находившаяся на Косе и оставшаяся неоконченной, по свидетельству древних авторов, была столь прекрасна, что никто не решался ее дописывать. Можно полагать, что Апеллес и умер на Косе. Новизна его мифологических картин заключалась в их замысле. По словам современников художника, они отличались неподражаемой легкостью исполнения и грацией – качествами, которые вообще ценились в них главным образом. Живопись Апеллеса была вполне детищем своего времени; она уже не поражала зрителя своей строгостью и величием, а приковывала к себе натуральностью и свежестью, очаровывала своей прелестью и своеобразностью. В техническом отношении живопись Апеллеса, вероятно, достигла совершенства, какое только было возможно для греческого искусства. Из технических нововведений этого мастера указывают на изобретение им ласировки; быть может, отчасти от ее употребления зависело ослепительное впечатление, которое производили в картинах Апеллеса эффекты освещения и красок. Но, по мнению многих, главное его достоинство состояло в том, что он умел вовремя прекращать работу над картиной. Его любимой поговоркой было: "Manum de tabula".
Важнейшим из соперников Апеллеса, а вместе с тем и его другом, и протеже, был Протоген, устроивший себе мастерскую на острове Родос. С легкостью кисти Апеллеса он соединял неутомимую старательность исполнения. Ряд его картин, из которых в особенности пользовалась известностью изображавшая родоначальника родосского племени героя Ялиса, был посвящен, по-видимому, воспроизведению местных легенд острова. Ялис был изображен охотником, а его собака с пеной у рта и куропатка были написаны так правдоподобно, что приводили в восторг даже людей, несведущих в искусстве.
Другой соперник Апеллеса, но его враг и завистник, Антифил, жил в Александрии при дворе Птолемея. Кроме больших картин исторического и мифологического содержания, писанных темперой, он исполнял восковыми красками картины повседневной жизни. Такие его произведения, как, например, "Мальчик, раздувающий огонь" или "Женщины, приготовляющие шерсть", могли бы, по-видимому, служить доказательством дальнейшего развития бытовой живописи. Но прославился он новым видом живописи – карикатурами. Он изобразил в смешном ракурсе некоего Грилла с весьма прозрачным намеком на его имя, означающее поросенка, и таким образом дал название целому роду произведений (гриллов) в позднейшем греческом мире.
В отношении пластической моделировки и обработки фигур на плоскости картины дальше всех ушел Феон Самосский. Он изобразил на доске тяжеловооруженного воина в позе нападающего с такой рельефностью, что, казалось, он готов вырваться из картины. Занавес, отдергивавшийся при звуках военной музыки, содействовал обману зрения. "Обман сам по себе составлял цель, художник являлся базарным крикуном".
Другой художник конца IV в., Аэцион, уже принадлежит отчасти эпохе диадохов. Лукиан подробно описал его картину: ""Брак Александра с Роксаной" – изобиловавшее фигурами амурчиков произведение, в сравнении с которым древнеримская картина "Альдобрандинская свадьба", которую обычно признают копией с оригинала, относящегося к рассматриваемому времени, исполнена в целомудренном, простом духе более ранней эпохи". Описание картины Аэциона, сделанное Лукианом, побуждало некоторых великих художников Возрождения, даже Рафаэля, подражать ей. Наиболее известное из таких подражаний – великолепная картина Соддомы на Вилле Фарнезе в Риме. По-видимому, с означенной поры маленькие боги любви начинают делаться обычным предметом трактования в искусстве.
Направление Антифила превратилось в особый род живописи в произведениях Пеирэйка. Плиний Старший говорил, что этот художник громко славился своими изображениями ничтожных предметов и за свои цирюльни, сапожные мастерские, ослов, съестные припасы и тому подобные сюжеты получал больше похвал, чем иные за свои крупные картины. Разумеется, художники мстили ему за это, называя его рипарографом, то есть живописцем грязи. Как бы то ни было, Пеирэйк придал значение особым произведениям живописи – не только изображениям народного быта, но и картинам неодушевленной природы.
Таким образом, к 300 г. до н. э. греческая живопись овладела почти всеми сюжетами. Один только ландшафт оставался для нее еще недоступным. Если в некоторых картинах с фигурами он иногда и являлся в значении заднего плана, то был все-таки очень простым и бессвязным. Дать ландшафту важное и самостоятельное значение суждено было дальнейшему времени эллинизма. Вообще же между 450-301 гг. до н. э. греческая живопись самой первой в мире перешла пределы, отделявшие контурную, плоскую живопись от живописи настоящей, передающей свет и тени, воспроизводящей глубину пространства. В течение нескольких веков живописцы использовали эти приобретения и потом, в начале эпохи Возрождения, снова обратились к ним.
По открытым в Италии стенным картинам, исполненным более или менее ремесленно, но проникнутым греческим духом, можно отчетливо проследить историю развития внешних приемов греческой живописи, начиная с неперспективной, плоской живописи Полигнота и заканчивая передачей округлости предметов или, по крайней мере, некоторым подобием глубины пространства, характеризующим развитое искусство Апеллеса и его последователей, проследить даже дальше – до ландшафта, введенного в живопись эпохой эллинизма. Мы уже указали на отдельные произведения этого рода, по-видимому, обязанные своим происхождением оригиналам славной поры греческой живописи. Настоящие же греческие стенные картины, само исполнение которых могло бы быть отнесено к IV в., сохранились разве только в некогда греческой Южной Италии.
Пестумские стенные картины изображают возвращение победоносных воинов, пеших и конных (рис. 390), Неаполитанский музей. Их встречают жители; женщины подносят воинам подкрепительные напитки. Мотивы изображенных движений свидетельствуют здесь о значительно зрелом искусстве, но размещение фигур в один ряд, в профиль, одна подле другой на белом фоне еще не выказывает тех приемов, которые мы должны предполагать в полигнотовских картинах. Если эти произведения относят к IV столетию, то единственно на основании исторических данных. Греческий Пестум был завоеван в IV в. луканцами, и одежды на этих картинах – луканские, а не греческие, вследствие чего смотреть на эти картины как на произведения чисто греческого искусства едва ли возможно. Во всяком случае, как они ни стильны в своем роде, в них еще совсем не заметно тех успехов, которые сделала греческая живопись в IV в.
Рис. 390. Пестумская фреска. По Гельбигу в "Monumenti dell’Instituto", VIII
В Афинах, если не принимать в расчет живописи на вазах, сохранилась лишь одна картина, которую можно отнести к означенному веку. Это картина на надгробной стеле Афинского национального музея, описанная Конце и изображающая сцену прощания. На ней видны мягкие контуры групп и остатки синей и красной красок. Но для того чтобы дать нам точное представление о моделировке фигур, эта картина, очевидно, лишь исключение, заменившее собой употреблявшийся для надгробных стел рельеф, сохранилась слишком плохо.
Относительно греческой живописи на вазах IV столетия, которая оставалась верной плоскому стилю, также нельзя сказать, чтобы она была отражением художественной живописи этого времени. Дальнейшее ее развитие сказывается только в более свободной плавности контурных линий и разнообразности, смелости и ловкости пересечения фигур и групп. В Афинах вазовая живопись, которая, как мы уже видели, прошла главные стадии своего развития еще в V в., в IV в. дала лишь немногие внешне изящные, но уже лишенные благоухания, запоздалые цветы. Уже одно то обстоятельство, что ни гончары, ни живописцы не считали тогда нужным помечать своим именем выходившие из их рук сосуды, свидетельствует о малом интересе к этим изделиям. Предпочтение отдается теперь роскошным одеяниям, фигурам с венками на головах, позам подвижным, но красивым. Выпуклости из золота сочетаются с выпуклостями из красок, которые становятся все роскошнее; иногда цветной рельеф соединяется с краснофигурной живописью. Расположение свободными рядами, один над другим, остается общим правилом. Как много движения у сражающихся богов и гигантов на одной амфоре Луврского музея, найденной на острове Милос! Как свободны и гибки формы нагого тела на богато украшенном золотом и красками сосуде Британского музея, найденном на острове Родос и изображающем брак Пелея с богиней моря Фетидой (рис. 391)! Какими яркими тонами блестит гидрия в музее Карлсруе, изображающая суд Париса! Аттическими вазами рассматриваемой эпохи с самыми разнообразными украшениями, исполненными золотом и краской по черному фону, особенно богата коллекция С. Петербургского Эрмитажа. Они происходят по большей части из Керчи в Крыму. Вообще Афины во времена Александра Великого вывозили свои вазы чуть ли не исключительно в центры эллинской культуры на северо-восточных побережьях и в Южной Италии. Этрурия в эту пору, по-видимому, уже завязала торговые сношения с Афинами, и вероятно, вскоре затем аттическое производство ваз угасло.
Рис. 391. Брак Пелея с Фетидой. Греческая вазовая живопись. По Рейе и Колиньону
Последний период развития греческой вазовой живописи протекал в Южной Италии. По мере того как керамика в Греции приходила в упадок, она прививалась в греческих городах Апулии и Лукании. Центром производства ваз в Апулии стал Тарент. Большие великолепные сосуды сделались чрезмерно разукрашенными. Там, где нет изображений с фигурами, их место занимают все виды уже знакомой нам греческой орнаментики. Роскошные гирлянды пальметт вьются вокруг горла и под ручками сосудов. К полосам орнаментов старого времени (меандрам, схемам волн, зубчатым зигзагам, усикам растений, овам и т. д.) присоединяются ветки с листьями и плодами. Появляются даже розетки древнейшей эпохи. Главные рисунки иногда бывают расположены по-прежнему в виде полос, но фигуры, свободно размещенные одни над другими, как правило, покрывают весь сосуд. Размещение фигур впереди и позади друг друга все заметнее переходит в расположение их выше или ниже одна другой. Линии почвы под отдельными фигурами обычно превращаются в белый или желтый пунктир, который прерывают изображения камней, утесов, растений, цветов и травы. Нередко центром рисунка является строение, aedicula; упрощенное изображение храма или дворца, и перед ним разыгрывается какая-либо сцена, нередко заимствованная из трагедии; на вазах из гробниц место этого строения занимает памятник умершему. Рисунок человеческих фигур свободен, отличается передачей подробностей. Раскраска, за немногими исключениями, ограничивается оттенками белого, желтого, коричневато- и красновато-коричневого цветов, гармонично переходящих один в другой. Общее впечатление от такого изделия – чрезвычайно роскошной красоты. Из массы ваз подобного рода во всех больших коллекциях, особенно из множества хранящихся в Неаполитанском музее, мы можем указать только на некоторые. Особенно великолепны две большие вазы мюнхенской коллекции, на одной из которых изображено подземное царство, а на другой – миф об аргонавтах; не менее прекрасны большие амфоры Берлинского музея с изображениями суда Париса, битвы амазонок и похищения Европы. Луканские вазы – ближе к современным им аттическим, нежели к апулийским; только на них встречаются подписи мастеров – Асстея, Ласима и Пифона. Подпись Асстея находится на пяти сосудах, найденных большей частью в Пестуме. Из трех его ваз, Неаполитанский музей, любопытна одна, украшенная изображением Фрикса и Геллы на овне (рис. 392). На вазе того же художника в Берлинском музее представлена сцена из комедии, а на принадлежащей Мадридскому музею – неистовствующий Геракл. Различие между позднейшими и более древними краснофигурными вазами свидетельствует о перевороте, совершившемся во всем греческом искусстве. Ослабление и поверхностность художественного чувства и вместе с тем легкое владение формами всего яснее обнаруживаются в пустой пышности художественно-ремесленной росписи ваз.
Рис. 392. Фрикс и Гелла на златорунном баране; слева – их мать богиня Нефела. Живопись Асстея на вазе. По "Wiener Vorlegebluttern"
Греческая скульптура IV столетия следовала по стопам живописи, только медленно. Храмовая пластика, задачей которой было создавать олицетворения богов, в первой половине этого столетия все еще привлекала к себе лучшие художественные силы. Но изображения богов, исполненные талантливыми скульпторами, являются теперь чаще как свободные приношения в храмы, чем как собственно предметы поклонения, и сами боги, которым софисты и философы давно уже объявили войну, получают новые облики: они становятся более человекоподобными и приветливыми, но вместе с тем и более страстными и чувственными. Наряду с главными богами появляются в самостоятельной роли лукавые второстепенные божества, которых перед тем оставляли в стороне, но которые имели близкое отношение к жизни природы. Группы и статуи богов и полубогов, назначенные уже не для храмов, а для украшения гражданских построек, общественных площадей, царских дворцов и частных жилищ, встречаются все чаще, вследствие чего эти изваяния принимают все более и более светский, жанровый характер. Религиозное искусство обращается в мифологическое; едва заметным путем оно переходит от мифологических олицетворений природы и отвлеченных понятий к чисто литературным и художественным сюжетам. Но теперь к чисто мифологическому искусству реже, чем в V в., примешивается искусство историческое, и чаще – искусство, черпающее свое содержание из жизни; портретная скульптура, которая, как мы уже видели, еще на рубеже IV столетия благодаря Деметрию (см. рис. 361, 362) от создания типов перешла к передаче индивидуальных особенностей, во второй половине того же столетия получила новый толчок со стороны придворных требований к ней, предъявляемых македонско-греческой монархией.
Рис. 393. Эйрена с младенцем Плутосом. Мраморная копия с работы Кефисодота. С фотографии
В Афинах в полном блеске новой эпохи является перед нами один художник, искусство которого порождено гением Фидия; это Кефисодот, которого одни считают отцом, другие старшим братом Праксителя. "Кефисодот, – писал Павсаний, – изваял для афинян статую богини Эйрены, несущей Плутоса на своих руках". По изображению на одной дошедшей до нас аттической монете видно, что богиня мира была представлена как мать Богатства; она держала в правой руке скипетр, а на левой – маленького Плутоса с рогом изобилия. Точная мраморная копия этого произведения находится в Мюнхенской глиптотеке (рис. 393). По своей позе и одеянию эта статуя походит на работы Фидия; но мотив ребенка на руках Эйрены одинаков с мотивом IV в., который мы видим в статуе Праксителя, изображающей Гермеса с младенцем Дионисом на руках.
К старейшим аттическим мастерам IV в. можно причислить в качестве преемника Деметрия Силаниона. Его бронзовая статуя Иокасты производила своим реализмом такое впечатление, что уверяли, будто художник достиг смертельной бледности ее лица через примесь к меди серебра. По-видимому, Силанион дошел в области портретной пластики до совершенства, какое только было возможно в его пору. Большой известностью пользовалась его статуя скульптора Аполлодора, славившегося своей вспыльчивостью, – произведение, которое казалось "самой вспыльчивостью". Из работ Силаниона известна еще статуя Платона, копию которой, по-видимому, представляет хранящийся в Ватикане бюст великого философа, отличающийся жизненной правдой и множеством морщин на лбу (рис. 394); но всего знаменитее был изваянный Силанионом портрет лесбосской поэтессы Сапфо. Великий римский оратор Цицерон считал эту статую особенно совершенным произведением искусства. В ряду натуралистических, хотя все еще обнаруживавших наклонность к изображению типичного портретов Силаниона скульптура "Сапфо" занимала видное место как идеалистический исторический портрет. К этому направлению ваяния стало примыкать все большее число именитых художников.
Рис. 394. Платон. Вероятно, копия с работы Силаниона. По Овербеку
В эпоху высшего вторичного расцвета греческой скульптуры мы встречаемся со Скопасом и Праксителем – двумя великими мастерами, которые вместе с Фидием и Поликлетом признаны величайшими греческими ваятелями. Старший из них, Скопас, был афинянин. Он родился на острове Парос, знаменитом своим мрамором, учился, по-видимому, в Пелепоннесе под влиянием школы Поликлета, а затем – в Афинах, где его ожидало много работы. Из него получился настоящий аттический художник. Позднее он переселился в Малую Азию и участвовал в предпринятых там важных работах. Деятельность Скопаса относится главным образом к первой половине IV в. Из работ, оставленных этим художником в Пелопоннесе, прежде всего нужно упомянуть о фронтонных группах храма Афины Алеи в Тегее, им же, по словам Павсания, построенном. На фронтоне лицевой стороны храма была изображена охота на калидонского вепря Мелеагра и Атланты, а на фронтоне противоположной стороны – битва Ахиллеса с Телефом. Довольно характерно, что в Элиде Скопас противопоставил небесной Афродите Фидия, исполненной из золота и слоновой кости, бронзовую Афродиту, посвященную всему народу (пандемосскую), едущую на козле. К числу произведений аттического периода деятельности Скопаса принадлежали две Эринии, по словам Павсания, не страшного вида, стоявшие в Ареопаге, затем вакханка, неоднократно описанная и воспетая, изображенная в экстазе вакхического увлечения, с закинутой назад головой, в развевающейся одежде и с растерзанным жертвенным козленком в руках. В Афинах же исполнены Скопасом статуи Эроса, Химеры и Пафоса, украшавшие собой театр Афродиты. Еще в древности удивлялись тонкости, с какой знаменитому мастеру удалось выразить в этих произведениях различие таких родственных между собой чувств, как любовь, страстное желание и увлечение. Наконец, к последнему периоду деятельности Скопаса в Афинах относится мраморный Аполлон в длинном одеянии, играющий на кифаре, – статуя, перевезенная Августом в Рим на Палатинский холм, где ее чтили под названием Аполлона Палатинского. Как на произведения малоазийского периода деятельности Скопаса следует указать на его работы на восточной стене Галикарнасского мавзолея, а затем на статуи Диониса и Афины на Книде, Аполлона Сминфея, попирающего ногой мышь, в Хризе.
Среди произведений Скопаса, впоследствии перевезенных в Рим и прославивших там его имя, были особенно знамениты мраморная Афродита, колоссальная статуя отдыхающего бога войны и громадная группа, изображавшая Посейдона, Фетиду и Ахиллеса в сопровождении целой свиты нереид, тритонов и других низших морских божеств. Плиний Старший говорил об этой группе, что она стала бы произведением выдающимся, даже если бы для ее исполнения была употреблена целая жизнь. Справедливо заметили, что в этой работе Скопас явился настоящим создателем пластических изображений морского царства. Что касается находившейся в Риме, в храме Аполлона Созиана, группы Ниобы и ее детей, сражаемых стрелами Аполлона и Артемиды, то еще древнеримские знатоки сомневались, кому она принадлежит: Скопасу или Праксителю.
Рис. 395. Головы из фронтонной группы храма Афины Алеи в Тегее, работы, вероятно, Скопаса. С фотографии
Уже в литературных преданиях Скопас представляется скульптором идеалистического направления, в высшей степени искусным техником, творцом целого ряда новых, неизвестных до него мотивов, художником одухотворенной чувственности, но в то же время и художником экстатических порывов и тончайших душевных движений. Обращаясь к тем из дошедших до нас памятникам античной скульптуры, которые давали бы понятие об искусстве Скопаса, мы прежде всего встречаемся со множеством предположений, в подтверждении или опровержении которых принимали участие кроме Л. Ульриха, автора старинного сочинения, такие исследователи, как Г. Трей, Бото-Греф, Вейль, Л. фон Зибель и Фуртвенглер. Элидские монеты времен римских императоров дают нам представление об Афродите Пандемос, едущей верхом на козле. На монетах императоров Августа и Нерона мы видим, хотя отчасти и в различных видоизменениях, Аполлона Палатинского в длинной одежде, а на александрийско-троасских монетах времен Коммода и Каракаллы – Аполлона Сминфея, стоящего одной ногой на возвышении и держащего в правой руке лавровый венок.
Рис. 396. Мавсол. Статуя работы Пифия. С фотографии
Далее мы встречаемся с некоторыми произведениями греческой скульптуры, в которых с большей или меньшей вероятностью видят оригинальные работы Скопаса.
При их оценке мы присоединяемся к мнению Трея. Прежде всего остановимся на обломках фронтонных групп храма Афины Алеи в Тегее, найденных при немецких раскопках 1879 г., а именно на фрагментах охоты Мелеагра, украшавшей собой восточный фронтон, на голове вепря и на двух мужских головах, из которых одна в шлеме, а другая – простоволосая (рис. 395). В выражении их лиц можно сразу узнать работу Скопаса; приемы, посредством которых он достигал этого выражения, применялись только им одним: нижняя часть лба сильно выдается вперед, вследствие чего глаза кажутся впалыми, с узкими веками, хотя сами по себе велики и широко раскрыты. Полуотверстые уста одной из этих голов выражают то "дыхание жизни", которым отличались работы Скопаса. Получается общее впечатление такой духовной жизненности, какой искусство раньше никогда не достигало; но мы видим тут же и выражение болезненных ощущений: это пафос, присоединяющийся к эфосу или даже сменяющий его.
Затем мы переходим к обломкам, сохранившимся от восточной стены Галикарнасского мавзолея. Все, что уцелело от роскошных скульптурных украшений этого здания, находится в Британском музее в Лондоне. Колоссальные статуи царя и царицы (рис. 396), изваянные самим строителем храма Пифием и украшавшие собой пирамидальную крышу, – фигуры, полные благородства, важности и жизненной правды; переход от геометрических форм здания к этим парящим над ним фигурам производил выгодное впечатление в архитектоническом отношении. Среди остатков пластических украшений, покрывавших низ и верх здания, можно различить фриз, изображающий состязание на колесницах, другой – битву кентавров, третий – битвы амазонок. По словам Плиния Старшего, все эти изваяния – произведения Скопаса и трех других известных скульпторов; на восточной стене работал Скопас, на северной – Бриаксис, на южной – Тимофей, на западной – Леохарес. Из сохранившихся фризов – кусок с восточной стены, представляющий битву амазонок, описан в отчете о раскопках. Нет причин не приписывать его самому Скопасу, как это делают Ньютон, Трей, Михаэлис и другие, если только принять в соображение, что при подобных работах у главного мастера обычно бывают помощники. В отношении страстности и естественности движений, понимания наготы и укладки драпировок эти сцены борьбы греков с амазонками не оставляют желать ничего лучшего (рис. 397). Скачущий конь с сидящей на нем задом наперед амазонкой – лучшая часть всего фриза. Греки изображены совершенно нагими, но со щитами в руках и некоторые – в шлемах. Одежда амазонок, для придачи им чувственной прелести, местами снабжена боковыми прорезами. Трей усмотрел и здесь некоторые отличительные особенности тегейских голов: "Широкие плоские щеки, выдающиеся вперед лобные бугры, большие глаза с узким разрезом и глубоко вдающиеся внутренние углы глаз".
Рис. 397. Фрагмент фриза восточной стороны Галикарнасского мавзолея. С фотографии
Рис. 398. Женская голова в стиле Скопаса. С фотографии
На основании тегейского типа голов некоторые другие оригинальные произведения в греческих коллекциях приписываются Скопасу уже с полной уверенностью; таковы, например, прекрасная женская голова (рис. 398), найденная на склоне Акрополя, и голова атлета – в Олимпии. Равным образом за работу Скопаса теперь всеми признан происходящий из Илисса великолепный надгробный рельеф, в котором главная фигура – сидящий нагой юноша с тоскливо-задумчивым выражением широко раскрытых глаз.
Дело станет более трудным, коль скоро мы, вместе с Фуртвенглером, пустимся разыскивать фигуры Скопаса среди работ позднейших копиистов. Фуртвенглеру удалось найти много доводов в пользу того, что копии с юношеских произведений Скопаса, еще напоминавших собой поликлетовскую лепку тела, сохранились в Геракле Лансдоунского собрания в Лондоне, в красивых бронзовых статуях юноши Асклепия – в Карлсруэ и Гермеса Палатинского – в музее Терм в Риме. В противоположность телам головы этих статуй исполнены уже в аттическом духе. Предположения, что из позднейших произведений Скопаса его палатинский Аполлон послужил оригиналом для ватиканского Аполлона Кифареда, с его длинным и пышным одеянием (рис. 399), а колоссальная статуя сидящего Ареса – для отдыхающего Ареса Людовизи, охватившего руками свое левое колено, статуи, находящейся в музее Буонкомпаньи в Риме (рис. 400), – ученые столь же часто поддерживают, сколько и оспаривают. Хотя мы, со своей стороны, и не признаем эти произведения точными копиями и считаем Амура у ног Ареса добавкой копировальщика, однако все-таки соглашаемся с Фуртвенглером и Михаэлисом, полагающими, что по этим известным музейным произведениям можно составить себе понятие о позднейшей поре творчества Скопаса. То же самое мы должны сказать и об Афине музея Уффици, наделенной мечтательным взглядом, и о знаменитом ватиканском Мелеагре, полном воодушевления. "Здесь, – говорил Фуртвенглер, – виден огромный переворот. Вместо ясно очерченных плоскостей все сливается в округлой великолепной моделировке". К этому достоинству в означенных статуях присоединяется выражение задумчивости или душевных переживаний в глазах, отражение в них настроения, являющееся характерной особенностью Скопаса.
Рис. 399. Аполлон Кифаред. С фотографии
Рис. 400. Арес Людовизи. С фотографии
Еще яснее, чем Скопаса, письменные источники обрисовывают Праксителя, его современника, хотя и более юного. Этот художник является в них главным мастером последних десятилетий царствования Александра Великого (370-330 гг.). Людвиг фон Зибель называл "эпохой Праксителя" все поколение, к которому он принадлежал.
Пракситель был афинянин. Его искусство вначале, как и искусство Скопаса, довольствовавшееся полигнотовскими находками, очень быстро вошло в родной ему фарватер аттической красоты, грации, мягкости и подвижности. Но цветущая пора Афин уже миновала. Только очень немногие произведения этого мастера остались в его родном городе. Они были рассеяны по разным городам Греции, островам, малоазийскому континенту, и повсюду распространили славу аттического искусства.
В литературных источниках Пракситель является также изобразителем преимущественно богов, и притом юных и прекрасных, в душевном или чувственном возбуждении. Аполлон и Артемида с их матерью Латоной, Дионис (Вакх) с целым рядом жизнерадостных божеств, Афродита, богиня плотской любви, и Эрос, крылатый мальчик, выросший в юношу, – вот любимцы Праксителя, мраморными и бронзовыми статуями которых он, на удивление современному ему миру и потомству, украшал храмы и площади городов, населенных греками. За изображение смертных брался он лишь изредка: известны две статуи знаменитой гетеры Фрины и всего только одно изваяние победителя на Олимпийских играх. Выработка типичного атлетического тела уже перестала быть задачей аттического искусства в рассматриваемую эпоху: в нем на первом плане стояло индивидуализирование богов согласно их сущности, то есть более точное, чем прежде, характеризирование типа тех или других определенных божеств. К самым ранним из праксителевских трехфигурных изваяний богов, вероятно, принадлежала группа, украшавшая собой двойной храм Асклепия и Латоны в Мантинее. Она изображала Латону с ее детьми, Аполлоном и Артемидой, а на пьедестале группы были представлены в рельефных фигурах музы и Марсий. Позднее в Риме общее внимание привлекла к себе праксителевская группа Диониса с сатиром Стафилом (олицетворением виноделия) и менадой Мефе (олицетворением пьянства).
Из олицетворений отдельных богов, изваянных Праксителем, статуя нагой Афродиты, находившаяся в Книде, была в древности самой знаменитой. Богиня любви была изображена входящей в воду; правой рукой она прикрывала свою наготу, а левой опускала снятую с себя одежду на стоявшую подле нее вазу. Плиний Старший рассказывал, что многие ездили в Книд специально для того, чтобы полюбоваться этой статуей. Одновременно с ней Пракситель изваял другую Афродиту, в одежде, проданную на остров Кос. Знаменитейшие из праксителевских статуй Эроса находились в Феспиях и Парионе на Пропонтиде. К высокочтимым изваяниям богов этого художника принадлежали также мраморный Гермес с младенцем Дионисом на руках, стоявший в храме Геры в Олимпии, Аполлон, убивающий ящерицу (Сауроктон), бронзовая Артемида Браурония в афинском Акрополе и различные изваяния сатиров, в том числе одно, которое сам скульптор считал лучшим из своих созданий.
Довольно ясное понятие о книдской Афродите и парионском мощнокрылом Эросе мы можем составить себе по их изображениям на монетах. Но сами по себе эти маленькие изображения передают великие произведения лишь в общих чертах и неточном виде. И в настоящем случае пополнить наше знакомство с исчезнувшими оригинальными скульптурами могут сохранившиеся мраморные статуи.
Обращаясь прежде всего к подлинным произведениям Праксителя, мы должны снова сказать, что имеем счастье владеть обломком одного юношеского, известного по письменным источникам, произведения этого мастера и еще большее счастье – обладать одним, почти совсем целым, собственноручным, как это удостоверено, произведением Праксителя, относящимся к поре его полной зрелости. Юношеское произведение – пьедестал вышеупомянутой мантинейской группы, рельеф которого изображает состязание Аполлона с Марсием. Обломки этого пьедестала находятся в Национальном музее в Афинах. Аполлон, представленный в одежде, с лирой в руках, сидит слева на утесе, в позе "олимпийского спокойствия". Справа Марсий, совершенно нагой, пытается извлекать на своей двойной флейте победоносные звуки. Но его поражение уже решено бесповоротно. Раб, изображенный в середине между обеими фигурами, уже приближается к нему с ножом в руке, чтобы содрать с него кожу. Все остальные плиты пьедестала заняты музами, характеристика которых еще ограничивается снабжением их музыкальными инструментами или свитками рукописей (рис. 401). Мастерство Праксителя видно в этих стройных, благородных фигурах, которые все, кроме Марсия, полны спокойствия и самодовольства. Конечно, нигде прямо не говорится, что великий мастер собственноручно исполнил рельефы данного пьедестала; довольно эскизная их обработка действительно дает повод предполагать, что они только вышли из мастерской Праксителя.
Рис. 401. Три музы. Мантинейский рельеф, исполненный в мастерской Праксителя
Относительно произведения зрелой поры этого мастера – оно найдено при раскопках в Олимпии – не может быть никаких сомнений. Трей доказал, что эта находка – сравнительно хорошо сохранившееся, оригинальное, мастерское создание Праксителя, упоминаемое Павсанием. Мы говорим о статуе Гермеса с младенцем Дионисом на руках, стоявшей в храме Геры в Олимпии. На рис. 402 это произведение представлено в том виде, как оно реставрировано Рюмом. Пополнены правая рука и левая голень с левой стопой. Правая нога и левая рука – древние. Бог ристалищ, юный красавец Гермес, стоит совершенно нагим в спокойной, непринужденной позе. Левой рукой, на которой сидит новорожденный бог вина, он облокотился на древесный ствол, с него живописными складками свешивается накинутый короткий плащ. Держа в поднятой высоко правой руке кисть винограда и устремив свой взор на бога-малютку, Гермес показывает ему как игрушку этот будущий его атрибут и знак власти. Видно, что, маня Диониса виноградом, Гермес, посланник богов, забавляется, но его душа замкнута и не участвует в возложенной на него воспитательной задаче. Трудно вообразить себе что-либо более совершенное, чем юная безбородая голова этой фигуры с короткими кудрями, правильными чертами лица, и что-либо более изящное, чем это крепкое и упругое как сталь, благородно красивое и вместе с тем естественно-соразмерное во всех своих частях тело. Никогда не было изваяно из мрамора ничего более прекрасного, мягкого и жизненного, нежели эта скульптура. Никогда душа и тело не сливались так неразрывно, как в этих чистых формах, в этих тонких чертах.
Фуртвенглер признал за собственноручную работу Праксителя еще одно произведение – голову Афродиты, полную выражения и соединяющую в себе красоту человеческую с красотой божественной; она находилась в коллекции лорда Леконфильда в Лондоне (рис. 403); наконец, такие ученые, как Фуртвенглер и Михаэлис, считали подлинным произведением Праксителя юношескую длиннокудрую голову элевзинского бога подземного мира Эвбулея (рис. 404), Афинский национальный музей. Она также превосходна, но, по нашему мнению, относится к более позднему времени, как о том можно заключить по особенной мягкости ее лепки.
Рис. 402. Пракситель. Гермес с младенцем Дионисом. С фотографии
Рис. 404. Голова Эвбулея. С фотографии
Рис. 403. Голова Афродиты. С фотографии
Многочисленные мраморные статуи большей частью римской работы воспроизводят утраченные оригиналы Праксителя. Вышеупомянутые книдские монеты (рис. 405) дают возможность узнавать в дошедших до нас статуях подражания и переделки его знаменитой книдской Афродиты. Самой близкой к ней копией мы считаем прекрасную, проникнутую божественным бесстрастием ватиканскую Афродиту, правая рука которой, так же как и вся одежда, прикрывающая нижнюю часть тела и придерживаемая этой рукой, составляют, очевидно, новейшие варварские прибавки (рис. 406, д). Но самой лучшей переделкой книдской Афродиты надо признать известную мюнхенскую Афродиту, взгляд которой более устремлен вдаль.
Точно так же мы можем с уверенностью признать воспроизведениями праксителевского Аполлона Стауроктона прелестные статуи Лувра и Ватиканского музея, изображающие юного бога, который левой рукой опирается на ствол дерева, а правой намеревается поразить ползущую по этому стволу ящерицу. Однако правая рука дополнена неверно: первоначально в ней находилась стрела, которой Аполлон метился приколоть пресмыкающееся. В подобных изваяниях как нельзя лучше выказывается переворот, происшедший во взгляде на статуи богов: из предметов религиозного культа они превратились в милые изображения природы и жизни.
Данных для распознания статуй Эроса и сатиров работы Праксителя имеется уже гораздо меньше. Быть может, мы еще вправе, основываясь на стилистических особенностях, приписывать этому мастеру очаровательного длиннокрылого Эроса (з), Неаполитанский музей, послужившего оригиналом для ватиканского Эроса Ченточелле (рис. 407), а также сатира, дрезденский Альбертинум, сильно напоминающего пелопоннесскую школу (рис. 406, ж), так же, как и повторения этой статуи. Но продолжать розыски в том же направлении было бы трудно. Даже отдыхающий сатир, сохранившийся во множестве копий, из которых лучшей считается статуя Капитолийского музея (г), кажется нам, вследствие мягкости форм головы, относящимся к более позднему времени, чем праксителевское, равно как и Эвбулей (см. рис. 404), напоминающий собой эти статуи. Остается также недоказанным, что Артемида Браурония Праксителя скопирована в превосходной луврской "Диане из Габий", застегивающей тунику у себя на плече, косская Афродита – в торсе нагой "Венеры", принадлежащем также Лувру, и Латона – в великолепном бюсте Юноны Людовизи, хранящемся в музее Буонкомпаньи в Риме (рис. 406, б). Можно только допустить, что оригиналы этих произведений принадлежали праксителевскому циклу и только в этом смысле имеют отношение к Праксителю такие статуи, как "Венера Арльская" Луврского музея (а), "Венера из Остии" Британского музея и прекрасный "Гермес Антиной" ватиканского Бельведера. Но мы не считаем возможным признать, как это сделал Фуртвенглер, за Праксителевскую переделку творения Мирона известный бюст Зевса Ортиколи, в ватиканской Ротонде (в), полный выразительности, но исполненный еще в чисто аттическом духе.
Рис. 405. Книдская монета с изображением Афродиты Праксителя. С фотографии
Рис. 406. Мраморные воспроизведения греческих скульптур эпохи Праксителя и следовавшего за ней времени. С фотографий
Рис. 407. Эрос Ченточелле. С фотографии
Как бы то ни было, по сравнению с фигурами Скопаса, в наружности которых выказывается внутреннее возбуждение, статуи Праксителя отличаются спокойствием, самодовлением, сознанием своей божественности. Никто из художников не передавал душевный мир обоготворенного человечества, или очеловеченного божества, столь великолепно и не облекал его в столь чистые формы, как Пракситель.
Замечательная, некогда восхищавшая Рим группа Ниобид дошла до нас в скромных воспроизведениях главных ее частей и отдельных фигур; большинство этих воспроизведений, собранное теперь в зале Ниобид Флорентийского музея Уффици, найдено еще в 1583 г. и принадлежит к числу самых известных и давно описанных "древностей". Фиванская царица Ниоба, счастливая мать семи сыновей и семи дочерей, хвасталась, и притом в непочтительных выражениях, своими детьми перед Латоной, божественной матерью Аполлона и Артемиды. В наказание за это все ее дети были перебиты смертоносными стрелами детей Латоны. Младший сын Ниобы прибегает под защиту своего дядьки, который тщетно пытается прикрыть его. Младшая дочь, спасаясь, прижимается к матери, которая напрасно защищает ее правой рукой (рис. 408). Ниоба стоит среди своих детей, гордо выпрямив стан, повернув вправо царственную голову с лицом, на котором выражаются и гордость, и гнев, и скорбь. Предсмертные муки детей, представленных в самых разнообразных позах, переданы очень красноречиво. Семь фигур сыновей разысканы, но из дочерей еще недостает трех. Как были первоначально сгруппированы эти фигуры – неизвестно. Копии некоторых из флорентийских Ниобид сохранились в других местах: самая прекрасная голова Ниобы находилась у лорда Ярборо, в Брокльсби-Парке в Англии; лучшая из фигур одной из двух стоящих дочерей Ниобы, облеченных в одежду, принадлежит музею Кьярамонти, копия распростертого нагого мальчика – Мюнхенской глиптотеке. При разнообразии поз энергичной самозащиты и беспомощной гибели, данных отдельным фигурам, в которых так или иначе было выражено одно и то же страдание, группа должна была производить цельное, поразительное впечатление. Решать в настоящее время на основании одних только копий вопрос о том, кто творец этого великолепного произведения, Скопас или Пракситель, было бы чересчур смело, когда древние ценители, имевшие перед собой оригиналы, сами не знали этого. Клейн толковал описание Плиния Старшего слишком буквально, выражая мнение, что римские знатоки единогласно приписывали Праксителю главную фигуру группы. Разумеется, взгляды исследователей разделились. По нашему мнению, группа принадлежит неизвестному аттическому художнику, находившемуся под влиянием не столько Праксителя, сколько Скопаса. По крайней мере, голова Ниобы – совсем в духе Скопаса. Некоторые из других мраморных скульптур в наших коллекциях, приписываемые одними Скопасу, другими – Праксителю, могут быть отнесены только вообще к аттической школе IV столетия. К числу таких скульптур принадлежит прежде всего капуанская Венера Неаполитанского музея (рис. 409), получившая важное значение с тех пор, как стали смотреть на нее не как на одну из переделок знаменитой Венеры Милосской, а как на ее прототип. Как видно из изображений на монетах, оригинальная Афродита стояла в афинском Акрополе. Полуодетая, она держала перед собой щит Ареса и смотрелась в него как в зеркало. Этим объясняется ее поза – несколько приподнятая левая нога и наклонившееся вправо туловище, полуспустившаяся с ее стана драпировка и направленный книзу взгляд. Далее, к той же категории принадлежат прелестный торс "Психеи Капуанской" Неаполитанского музея и дивно прекрасный мечтательный бог сна Гипнос (рис. 410), дошедший до нас в мраморной статуе Мадридского музея и в небольшой бронзовой статуэтке Венского, но всего лучше, с особенно внятным выражением душевного состояния, в бронзовой голове, находящейся в Британском музее. Быть может, сюда же нужно отнести знаменитую группу борцов во Флорентийском музее Уффици (рис. 411), которая по воззрению, обоснованному Бото-Грефом, будучи несколько более позднего происхождения, тем не менее носит на себе не эллинистический, а аттический отпечаток.
Рис. 408. Ниоба и ее младшая дочь. С фотографии
Рис. 409. Венера Капуанская. С фотографии
Рис. 410. Бог сна Гипнос. По Михаэлису-Шпрингеру
Затем как красивое аттическое монументальное произведение рассматриваемого времени следует поставить наряду с перечисленными скульптурами круглый фриз, украшавший собой памятник Лизикрата в Афинах (см. рис. 383). На нем изображено наказание Дионисом тирренских морских разбойников. Схватив бога на берегу, они намеревались увезти его, но его свита, сатиры, явилась на помощь и напала на разбойников. Последние обратились в бегство, были превращены в дельфинов и кинулись в море. Эта мифологическая сцена составляет сюжет изображения на фризе памятника. Юноша Дионис, узы которого порвались сами собой, сидит на скале в позе "олимпийского спокойствия" и кормит из чаши своих львов; противников своих он не удостаивает даже взглядом. Памятник сооружен в 334 г. Имена Скопаса и Праксителя были тогда у всех на устах, и действительно этот очаровательный скульптурный фриз, с его красиво расположенной композицией и замечательно чистыми формами, проникнут духом названных художников. В фигурах преследуемых и преследователей одинаково много движения. Свежий морской ветер развевает их одежды и несется над всем изображением.
Рис. 411. Группа борцов. С фотографии
Мы должны еще вернуться к галикарнасским товарищам Скопаса, Тимофею, Бриаксису и Леохаресу. Тимофей известен, по надписи, как участник исполнения фронтонных групп храма Асклепия в Эпидавре. Вероятно, ему принадлежат некоторые из сохранившихся частей восточной группы: торс амазонки, сидящей по-мужски на коне и одетой в короткий хитон, и торсы двух нереид в длинной одежде, едущих по волнам на морских конях, но сидящих на них боком. Эти фрагменты, находящиеся в Афинском национальном музее, отличаются крайне тщательной выделкой складок на одеждах. От южного фасада Галикарнасского мавзолея, над которым Тимофей также работал, сохранился только один – сильно поврежденный женский торс. Судя по литературным источникам, Бриаксис был силен в изображении богов. Аполлон, изваянный им для Данфы, близ Антиохии, насколько можно заключить по одной из монет этого города, был, подобно Аполлону Кифареду Скопаса, представлен в длинной одежде и также держал в левой руке кифару. Из работ его на северной стороне Галикарнасского мавзолея сохранился превосходный торс всадника (или всадницы?), хранящийся в Британском музее. Широкие штаны на этой фигуре заставляют предполагать, что она изображала скорее перса, чем амазонку. Тщательная выделка подробностей в фигурах всадниц у Тимофея здесь уступает свое место обработке более широкой и свободной. Но нам известно и оригинальное произведение Бриаксиса, помеченное его именем, а именно подножие треножника с фигурами всадников, в цветущем стиле середины IV столетия; оно найдено в Афинах и хранится в Национальном музее. Основываясь на стиле этого памятника, Студничка приписывает Бриаксису знаменитый "Саркофаг с плакальщицами", Константинопольский музей (рис. 412). Он принадлежит к числу сидонских саркофагов, открытых Гамди-беем, а Бриаксис работал именно на востоке эллинского мира. Разумеется, предположение Студнички, само по себе важное, лишь приблизительно обрисовывает художественно-историческое значение этого быстро прославившегося произведения. Саркофаг этот имеет вид ионического псевдопериптерического храма с 447 колоннами. Угловатые колонны превращены в пилястры. На цоколе изображены сцены охоты. В каждом из 18 интервалов между колоннами изображено по плакальщице. Фигуры эти облечены в пышные одеяния, драпирующиеся различным образом, причем у некоторых из фигур верхняя часть одежды накинута на голову.
Рис. 412. Саркофаг с плакальщицами. С фотографии
Одна из плакальщиц, в глубокой скорби, закрывает мантией себе лицо. Все степени печали выражены в этих фигурах с поразительной ясностью. От этого произведения действительно веет аттическим изяществом, а именно – манерой Скопаса. Наконец, если основываться на сведении, что Бриаксис изваял портрет царя Селевка, то следует признать его одним из позднейших мастеров Скопасовского цикла и вместе с тем одним из немногих аттических художников, не гнушавшихся браться за изображения поработителей свободной Греции.
Рис. 413. Аполлон Бельведерский. С фотографии
К числу таких художников принадлежал и Леохарес, наиболее выдающийся из трех художников. Он украсил Филиппейон в Олимпии статуями Александра Великого, его родителей, Филиппа и Олимпии, и его деда и бабки, Аминта и Эвридики. Вместе с Лисиппом он работал над большой бронзовой группой, изображавшей Александра охотящимся на львов. В Филиппейоне Леохарес представил Александра Великого и его предков богоподобными, и, по записям древних писателей, он являлся скульптором преимущественно богов. Он изваял Зевса три раза, и если его Зевс Полиевс, стоявший в афинском Акрополе, правильно воспроизведен на аттических бронзовых монетах, что очень вероятно, то этого мастера надо признать первым художником, дерзнувшим изображать отца богов и людей совершенно нагим. Фидий изображал одетой даже богиню любви; новая эпоха желала видеть обнаженным даже самого Зевса. Леохарес изваял трижды также Аполлона; сведение об этом имеет для нас весьма важное значение, так как после исследований Винтера почти не подлежит сомнению, что знаменитая статуя "Аполлон Бельведерский", находящаяся в Ватиканском музее в Риме (рис. 413), представляет собой воспроизведение одного из Аполлонов Леохареса. Раньше предполагали, что небольшой бронзовый Аполлон, принадлежащий гр. Строганову в С. Петербурге, с чем-то вроде шкуры в руке, – позднейшее подражание, но отнюдь не первообраз Аполлона Бельведерского, будто бог, держа в левой руке эгиду Зевса, потрясал ею в устрашение вражеского войска. Скорее всего, Аполлон Бельведерский первоначально имел в протянутой левой руке лук, а в правой – лавровую ветвь. Колчан висит у него за спиной, короткая хламида живописно ниспадает с его плеч на левую руку. Волосы его зачесаны вверх. На ногах – сандалии. Он энергично выступает вперед. На лице – выражение сознания собственного достоинства, величавая голова быстрым движением повернулась на стройной шее как бы с негодованием влево. Нагое юношеское тело стройно, но недостаточно упруго и гибко, вылеплено так, как свойственно работе скорее из бронзы, чем из мрамора. Оригиналом для этого изваяния, очевидно, служила бронзовая статуя. С еще большей вероятностью можно приписать Леохаресу оригинал одного их хранящихся в Ватиканском музее памятников пластики, родственного по стилю этому изваянию, а именно известную группу юного Ганимеда, уносимого орлом Зевса (рис. 414). Орел бережно подхватил когтями юношу сзади и со смелым взмахом крыльев несет его на небеса. Древесный ствол связывает фигуры группы. Собака увлекаемого юноши смотрит на него, оглашая воздух своим воем. Обе фигуры стремятся кверху. "Леохарес, – говорил Плиний Старший, – изваял орла, который кажется понимающим, кого похищает он в лице Ганимеда и кому его несет, и который поэтому держит его в своих когтях осторожно, несмотря на то что его тело защищено одеждой". Описанная группа характеризует жанровое направление мифологической поэзии в рассматриваемое время и тот реализм, с каким темы подобного рода были трактуемы даже знаменитыми мастерами. Вместе с тем она характеризует также легкость, с какой художники стали теперь справляться с такими темами, как парение в воздухе, а также тот противоположный фактуре Нике Пеэония прием, посредством которого необходимые в пластике подпорки обращаются в существенную составную часть изображения. Некоторые исследователи приписывают Леохаресу также статую Александра, находящуюся в Мюнхенской глиптотеке, и Артемиду-охотницу (Диану Версальскую) Луврского музея, указывая при этом на родственную связь последней с "Аполлоном Бельведерским" (рис 415). По нашему мнению, достаточно было бы признать только, что это грациозное произведение принадлежит аттической школе IV столетия.
Рис. 414. Ганимед и орел Зевса. С фотографии
Рис. 415. Диана Версальская. С фотографии
Рис. 416. Менандр. Мраморная статуя. С фотографии
Ближайшими последователями Праксителя можно считать лишь его сыновей Кефисодота Младшего и Тимарха. Первого из них Плиний называл скульптором философов. Другие авторы указывают на портреты, над которыми работали оба брата. Одна из надписей в Афинском театре удостоверяет, что они сообща изваяли стоявшую в нем статую сочинителя комедий Менандра. Прекрасное мраморное изваяние поэта хранится в "галерее статуй" в Ватикане (рис. 416). По описанию Гельбига, поэт сидит "в кресле с непринужденной грацией светского человека; на его лице рисуются проницательный ум и острая наблюдательность; ироническая улыбка играет на его устах". Однако по некоторым причинам нельзя допустить, чтобы эта статуя была на самом деле произведением сыновей Праксителя. Против этого свидетельствует менее привлекательный ее пандан, сидящая статуя позднейшего комического поэта Посидиппа, первое сочинение которого было поставлено на сцене лишь в 288 г. до н. э. Но как мастерское произведение аттической портретной пластики статуя Менандра заслуживает полного внимания.
Как скульптора-портретиста рядом с сыновьями Праксителя надо, наверное, поставить Полиэвкта, знаменитое создание которого, статуя оратора Демосфена, было выставлено в 280 г. до н. э. Конечно, можно допустить существование связи между этим произведением Полиэвкта и прекрасными статуями названного великого оратора, сохранившимися в Ватикане и у лорда Саквилля в Кенте, но, по Плутарху, у полиэвктовского Демосфена пальцы обеих рук были сложены вместе, тогда как у сохранившихся статуй Демосфена в каждой руке по свитку, причем у кентского Демосфена сами руки нисколько не дополнены.
Две другие аттические портретные статуи возвращают нас назад, в цветущую пору IV в. Обе они принадлежат к числу превосходнейших в мире: одна, находящаяся в Латеранском музее и изображающая Софокла, отличается отчетливостью и величественностью драпировки, благородством короткобородой головы, уверенностью и свободой всей позы (рис. 417); другая, хранящаяся в Неаполитанском музее, представляет оратора Эсхина. Без сомнения, эти статуи – еще идеализированные портреты с обобщенными чертами лиц.
Рис. 417. Софокл. Мраморная статуя. С фотографии
От аттических портретных скульптур перейдем к надгробным рельефам, описание которых отлично издал Конце. Надгробные камни откопаны сотнями и ныне снова расставлены в прежнем порядке на главном афинском Некрополе у Дипилонских ворот. Сравнительно немногие из них попали в музеи. Значительнейшая и лучшая часть этих памятников пластики относится к IV столетию, в конце которого украшать надгробные камни скульптурными изображениями уже вышло из обыкновения. Изображения эти по большей части имели скорбно-бытовой характер. Обычные их сюжеты – сцены мирной домашней жизни, повседневного времяпрепровождения, грустного прощания. Редко можно встретить сюжеты, отличающиеся большим движением, каковы, например, геройские подвиги умершего. Замечательнейшим из этих памятников IV в. нужно признать надгробный камень Дексилея (рис. 418), погибшего в 394 г. геройской смертью в кавалерийской схватке под Коринфом. Отважный юноша изображен на коне, который, поднявшись на дыбы, валит его противника на землю. Характерные для IV в. надгробные памятники вроде поставленного Деметрии и Памфиле (рис. 419). Одна из этих одинаково одетых, полузакутанных в покрывала женщин сидит, а другая стоит возле нее. На камне внизу представлена сцена прощания. Все в ней типично идеализировано, все отражает в себе высокое искусство великих художников IV в., уклонившееся в сторону ремесла. Но в памятниках подобного рода мы имеем, по крайней мере, несомненно оригинальные греческие произведения, и лучшие из них, наиболее нас восхищающие, действительно вышли из рук настоящих художников.
Рис. 418. Надгробный камень Дексилея в Афинах. С фотографии
Рис. 419. Афинский надгробный рельеф. С фотографии
Надгробные рельефы подводят нас к произведениям художественной промышленности. Влияние Праксителя заметно главным образом в изящных изделиях так называемого малого искусства, а именно в раскрашенных терракотовых статуэтках, которые находили в различных местностях Греции, а с 1873 г. они особенно часто попадались в гробницах беотийского города Танагры и поступали дюжинами в европейские коллекции. Все это, заметил Михаэлис, "художественно-ремесленные произведения, порождения провинциального искусства, питавшегося за счет аттического художественного капитала". Выдавленные из глины по шаблонным формам, эти фигурки выходили из мастерских иногда во множестве экземпляров. Основными красками, которыми их расписывали после предварительного обжигания, были нежно-розовая и голубая. Изображают они по большей части фигуры, взятые из народной жизни; самыми любимыми были, по-видимому, фигуры женщин и девушек в разных костюмах и позах, но встречаются также фигуры ремесленников, учителей с учениками, праздношатающихся и уличных мальчишек. Большинство сохранившихся статуэток принадлежит IV столетию, но некоторые из них – гораздо более позднего времени, даже эпохи эллинизма. Все они с такой наглядностью отражают в себе и художественное чувство, которым была проникнута вся греческая жизнь, и саму эту жизнь, что их открытие было в свое время встречено учеными как величайшее событие. Рис. 420 и 421 воспроизводят два таких терракотовых изделия, находящихся в Эрмитаже в С. Петербурге: одно, изображающее двух молодых женщин, найдено в Коринфе; другое, представляющее девушку с амуром на коленях, – в Танагре.
Рис. 420. Две женщины. Коринфская терракотовая группа. По Фуртвенглеру
Рис. 421. Девушка с амуром. Танагрская терракотовая фигура. По Фуртвенглеру
Пелопоннесская скульптура, в противоположность аттической, и в IV столетии не отрекалась от своей самобытности. Она по-прежнему предпочитала литье из бронзы и изображение мужского тела, по-прежнему придавала большее значение изображению физических качеств, чем передаче душевного настроения, по-прежнему старалась держаться, как на основе тайн искусства, "на разумении разумных существ".
К числу известных пелопоннесских современников Праксителя принадлежал Эвфранор, с которым мы уже познакомились как с живописцем. В области скульптуры он был столько же знаменит, сколько и в области живописи. Различные его статуи богов были перевезены в Рим. Так было с его "Bonus Eventus" (изваянием бога произрастания полевых плодов), первоначально изображавшим греческого Триптолема с чашей в правой руке, с колосом и цветами мака в левой; так было с Латоной Эвфранора, держащей своих детей, Артемиду и Аполлона, на руках. Римские монеты и геммы дают нам понятие о статуе "Bonus Eventus", а по малоазийским монетам можно судить о Латоне, которая, с ребенком на каждой руке, спасается бегством от дракона Пифона. Этому рисунку на малоазийских монетах вполне соответствует небольшая статуя в музее Торлониа в Риме. Эвфранор был родом из Коринфа. Воспроизведение его "Bonus Eventus", на которое мы только что указали, несмотря на их миниатюрный размер, свидетельствует, что фигуры этого мастера имели в отношении своих поз и линий родственное сходство с Идолино (см. рис. 367) Поликлетовского цикла, хотя и принадлежали пелопоннесской школе. Самостоятельность Эвфранор выказал в том, что даже при своем пристрастии к пелопоннесскому искусству, основанному на вычислениях, пытался дать дальнейшее развитие системе пропорций, выработанной Поликлетом. Плотный, несколько квадратичный идеал Поликлета, очевидно, не мог остаться навсегда неизменным. Эвфранор первым сделал попытку сообщить телу более стройные и гибкие формы. Однако он остановился на полпути. Еще древние упрекали его за то, что головы и все члены его фигур слишком велики и массивны сравнительно с их тощими торсами. Тем не менее стиль Эвфранора составляет важную переходную ступень в развитии греческого искусства. Она приводит нас к стилю Лисиппа, величайшего мастера пелопоннесской школы в эпоху вторичного расцвета греческого искусства.
Лисипп, уроженец Сикиона, работал только с бронзой; он изображал почти исключительно одни лишь мужские фигуры и пренебрегал выражением нежных и мечтательных душевных настроений. Тем не менее он влил новую жизнь в жилы пелопоннесского искусства, в которых кровообращение уже начинало застаиваться. Происшедшее благодаря Лисиппу превращение "квадратичных" пропорций Поликлета в более вытянутые, стройные, благообразные массы, которых требовало новое время, было событием; он стал делать головы менее крупными, ноги и живот более длинными, руки более стройными. Аттические мастера отчасти уже стремились к этому, хотя и не столь теоретично, но и Лисипп, со своей стороны, не был чужд новому аттическому направлению. В телесную жизнь его фигур проникла даже некоторая доля страстности Скопаса, и в их подвижности нередко чувствуется как бы электрический ток. Вообще Скопас разрабатывал больше подвижность, чем настоящее движение, и вместе с тем заботился о полной передаче телесности, которую и довел в круглых фигурах до такой высоты, какой она никогда не достигала во всей истории искусства. Даже "Дискобол" Мирона, даже "Гермес" Праксителя кажутся задуманными для плоского заднего плана, с тем чтобы выступать из него главным образом при взгляде на них с одной стороны; Лисипп же помещал свои фигуры в свободном пространстве и одинаково отделывал их со всех сторон.
Рис. 422. Апоксиомен. Мраморная статуя. С фотографии
Он был скульптор прежде всего божеств мужского пола. Из четырех исполненных им статуй Зевса наиболее внушительной по своей величине была бронзовая статуя высотой в 20 метров, стоявшая на Рыночной площади в Таренте; это была самая колоссальная из всех статуй древнего мира до тех пор, пока ее не превзошла размером родосская статуя ученика Лисиппа, Хареса. В противоположность феспийскому "Эросу" Праксителя, исполненному из мрамора, Лисипп изваял Эроса из бронзы. В Кайросе, боге случайности, он создал для своего родного города, Сикиона, олицетворение одного из божеств позднейшей эпохи, порожденных первоначально умом, но вскоре занявших определенное место и значение в религии. Что касается героев, то Лисипп произвел четыре изваяния своего любимца Геракла. Изображая простых смертных, он, разумеется, предпочитал победителей на Олимпийских играх. Его статуя Апоксиомена, юноши, счищающего с себя скребком масло, пот и пыль палестры, не имеет названия. Однако сикионский мастер вскоре перешел от произведений этого рода к портретной скульптуре. Идеализированными портретами его работы считаются статуи философа Сократа и баснописца Эзопа. Настоящим портретистом-реалистом он сделался тогда, когда, достигнув на своем поприще апогея, состоял придворным скульптором македонского царя. Говорят, что Александр не хотел, чтобы его изображал кто-либо из скульпторов, кроме Лисиппа, кто-либо из живописцев, кроме Апеллеса, кто-либо из граверов на камне, кроме Пирготела. Принимать это в буквальном смысле, конечно, не следует, но, быть может, Александр позировал только для трех названных мастеров. Лисипп произвел огромное количество портретов македонского завоевателя; наиболее знаменитой была статуя, изображавшая его с копьем, а самой грандиозной, по всей вероятности, была группа, выставленная сначала в Дионе, а потом в Риме и в которой Александр был изображен верхом на коне, в сопровождении 25 всадников, представлявших собой портреты юношей, павших в битве при Гранике; но особенно оживленной, по-видимому, была большая группа, которой восхищались в Дельфах; над ней кроме Лисиппа работал и Леохарес. Она представляла Александра с его сподвижниками на львиной охоте.
Рис. 423. Геркулес Фарнезский. С фотографии Алинари
Таковы сведения, доставляемые нам письменными источниками. Из всех прославляемых ими произведений Лисиппа не сохранилось ни одного. Из позднейших копий с них следует указать прежде всего на знаменитую мраморную статую Апоксиомена в Ватиканском музее (рис. 422). Поза изображенного юноши, который начинает счищать пыль скребком со своей вытянутой вперед правой руки, неподражаема; более стройные пропорции тела, голова более индивидуализированная, чем в прежних статуях атлетов, более свободная обработка волос, еще Плинием названная лисипповской, и – что особенно замечательно – подвижность всей фигуры этого юноши-красавца вполне соответствуют описаниям художественной манеры Лисиппа. В Палаццо Питти, во Флоренции, находится отличающаяся мощностью форм и лисипповскими пропорциями статуя отдыхающего Геракла. На подножии этой великолепной статуи имеется надпись "Лисипп". Не доверять этой надписи нет основания. Позже стало известно, что и давно прославленный "Геркулес Фарнезский" Неаполитанского музея (рис. 423), очень похожий на флорентийского, несмотря на надпись на нем: "Гликон Афинский", есть копия с утраченного бронзового оригинала Лисиппа. Копия эта, на которой вышеупомянутый афинянин впоследствии вырезал свое имя, в отношении исполнения – более мастерская, чем флорентийская. Точно так же обломком статуи отдыхающего Геракла в лисипповском духе можно признать "Бельведерский торс", находящийся в Ватикане, некогда пользовавшийся громкой известностью, как образец энергичной лепки мышц, прославленный Винкельманом и принадлежащий, как значится на нем, афинянину Аполлонию. Наконец полагают, что Лисиппу следует приписать также восхитительную бронзовую фигуру Неаполитанского музея, изображающую посланника богов Гермеса с крылатыми сандалиями на ногах, отдыхающего на каменной глыбе и готового подняться с нее (рис. 424). По нашему мнению, к произведениям Лисиппа еще более приближается своим характером мюнхенская мраморная статуя, изображающая вестника богов, поставившим правую ногу на камень и привязывающим к ней сандалию. "Гибкость и быстрота движения, – писал Фуртвенглер об этом произведении, которое прежде называлось "Ясоном", – очень характерны для стиля Лисиппа".
Рис. 424. Гермес, бронзовая статуя. С фотографии
Из произведений Лисиппа-портретиста прежде всего следует остановиться на идеалистической статуе баснописца Эзопа, от которой сохранилась только верхняя часть, находящаяся в музее Виллы Альбани (рис. 425). Умная голова баснописца на его горбатом туловище чрезвычайно выразительна.
Рис. 425. Эзоп. С фотографии
Бюст Сократа с морщинистым лбом, хранящийся в том же музее, – мастерское произведение по характерности черт лица некрасивого, но проникнутого одушевлением. О портретах Александра работы Лисиппа наиболее ясное, быть может, понятие дает нам луврский бюст (рис. 426), с его морщинами на лбу, с твердым и все-таки "влажным" взглядом, с его несколько сокращенными на одной стороне шейными мускулами. Такой же реалистический бюст, находящийся в Капитолийском музее, с головой, покрытой кудрями, обработанными более свободно, и также несколько склонившейся немного набок, но со взором, обращенным к небу, несмотря на лучезарный венец, из-за которого этот портрет был некогда превращен в изображение бога-солнца, содержит в себе так много признаков манеры Лисиппа и так сильно подходит к типу Александра Великого, что мы не можем не признать его за переделку одного из изображений этого государя, исполненных сикионским мастером. Прекраснейшая и лучше других сохранившаяся статуя этого царя находится в Мюнхенской глиптотеке. "Он изображен молодым человеком. Туловище его коротко и тяжеловато, но голова блещет огнем и энергией. Он смотрит вдаль, как полководец" (Фуртвенглер). Основываясь на общем характере этой статуи, можно предполагать, что оригинал ее принадлежал к лисипповскому кругу скульптурных произведений.
К циклу, или к школе, Лисиппа можно отнести также знаменитый "Саркофаг Александра", самый большой из греческих саркофагов, найденных Гамди-беем в Сидоне (рис. 427), Константинопольский музей. Мы считаем его прототипом всех позднейших, даже римских саркофагов. Он важен еще и потому, что краски на нем каким-то чудом почти сохранились. Мнение, что это на самом деле гробница Александра, теперь уже отброшено; различие во взглядах сводится только к тому, покоился ли в ней какой-либо македонский вельможа из приближенных к Александру, или один из поставленных им восточных повелителей. Как бы то ни было, охотничьи и военные сцены, украшающие собой обе длинные и обе короткие стороны саркофага, равно как оба фронтона его крышки, – в полном смысле слова исторические картины, и притом мастерские произведения греческого резца. На одной из длинных сторон саркофага представлена конная схватка, исход которой решает, прискакав на нее, сам Александр, помещенный у левого края. На противоположной длинной стороне изображена охота на львов, в которой можно признать произведение, исполненное сообща Лисиппом и Леохаресом. Художники здесь вполне владеют всеми положениями и средствами выражения. Пылкая реальная жизнь бьет ключом в обоих этих рельефах. Краски, со своей стороны, придают им идеальную ясность.
Рис. 426. Александр Великий. Мраморный бюст. С фотографии
Рис. 427. Саркофаг Александра. По Гамди-бею
Рис. 428. Нике Самофракийская. Мраморная статуя. С фотографии
Обнаженные части тела сияют теплой белизной пентелийского мрамора, какую они имели вначале. Все прочие части иллюминированы сильными, яркими красками: желтой, фиолетовой, пурпурной, красной и синей. Фриз крышки украшен желтыми виноградными лозами на фиолетовом фоне.
Здесь мы снова находим подтверждение того, что все новое, принятое позднейшей греческой орнаментикой, состояло почти исключительно из заимствованных у натуры листьев, усиков и ветвей.
К работам последователей Лисиппа можно причислить одно оригинальное греческое до известной степени сохранившееся произведение, а именно большую мраморную Нике Самофракийскую, которая, несмотря на то что ее голова утрачена, составляет одно из главных украшений Луврского музея (рис. 428). Для ее дополнения пробовали – что, конечно, не обошлось без возражений – воспользоваться монетами Димитрия Полиоркета, чеканенными не раньше 294 г. и передающими фигуру этой богини. Крылатая богиня стоит на носу греческого корабля. Готовая сделать уверенный шаг вперед, она трубит в победный рог (salpinx). Ветер развевает за ее спиной двойную одежду, прилегающую спереди к ее телу и образующую художественно-красивые складки. Исследователи, не признающие этой реставрации, полагают, что рассматриваемая статуя была исполнена более чем сотней лет позже. Во всяком случае, это произведение зрелого искусства, вполне сознающего свои цели и эффекты.
Теперь попробуем поближе рассмотреть произведения школы Лисиппа, даже рискуя при этом вернуться в III столетие. Но тут все дело – не в летосчислении, изобретенном впоследствии, а в исторической связи между фактами.
Брат Лисиппа Лисистрат считается изобретателем отливки гипсовых слепков с частей человеческого тела, даже с голов. Очевидно, эта отливка должна была содействовать реалистическому направлению искусства соответственно требованиям времени. Именно поэтому, и только поэтому, о Лисистрате вспоминают по поводу одной косматоволосой и косматобородой бронзовой головы победителя на Олимпийских играх, хотя она, без сомнения, несколько более позднего происхождения; ее отвратительное, но очень характерное своеобразие производит впечатление почти ужасающей натуральности. Она хранится в музее Олимпии.
Рис. 429. Александр Великий. Геркуланумская статуэтка. С фотографии
Из сыновей Лисиппа Даипп, по-видимому, только следовал по стопам этого художника; он также, например, изваял "Апоксиомена". Второй сын сикионского мастера, Боэд, известен только как исполнитель статуи "Молящегося", за которую признают известную грациозную бронзовую фигуру "Молящегося мальчика", Берлинский музей. Для этого, без сомнения, нет никаких других оснований, кроме очевидно лисипповской стройности, малого размера головы и чистоты форм этого мальчика, руки которого, воздетые к небу, впрочем, дополнены при реставрации. Однако указанные выше особенности достаточны для того, чтобы относить эту фигуру, по крайней мере, к школе Лисиппа. Самым даровитым из сыновей Лисиппа, по-видимому, был Эвфикрат, о котором Плиний Старший сообщал, что, подражая не столько "elegantiae", сколько "constantiae" своего отца, он предпочитал "блистать больше строгостью, чем грациозностью стиля". Полагают, что одна из фигур из его "Стычки всадников" воспроизведена в геркуланумской статуэтке, находящейся в Неаполитанском музее (рис. 429); она изображает Александра верхом на скачущем коне: без шлема, повернувшись всем корпусом вправо, он замахивается мечом на своего противника. По преданию, Эвфикрат изваял Александра также в виде охотника. Так как на вышеупомянутом саркофаге Александр изображен не только в конной стычке, но и охотником на львов, то предположение, приписывающее этот саркофаг Эвфикрату, представляется более вероятным, чем то, которое приписывает его Эвтихиду.
Кроме сыновей Лисиппа мы должны указать как на его учеников на Хареса из Линда и Эвтихида. Харес известен как творец Колосса Родосского, считавшегося одним из семи чудес света. Относительно этого гигантского изваяния, воздвигнутого в Родосе в 284 г. до н. э. и изображавшего бога солнца Гелиоса, мы ничего не знаем, кроме того, что это была статуя высотой в 32 метра и считалась величайшей во всем мире. Своими размерами она превосходила колоссального тарентского Зевса работы Лисиппа. Таким образом мы встречаемся здесь с дальнейшим развитием существовавшей еще у египтян наклонности выражать духовное превосходство божества сверхчеловеческой громадностью размеров; Колосс Родосский был именно не столько религиозным, сколько художественным порождением этой наклонности, последним проявлением ее в древнем мире.
Рис. 430. Богиня города Антиохии. Копия с произведения Эвтихида, мраморная группа. С фотографии
Эвтихид, считающийся исполнителем сидонского саркофага Александра и Нике Самофракийской, прославился главным образом своим пластическим изображением богини-покровительницы города Антиохии на Оронте (Тихе, счастья города, как говорили греки). Эта группа дошла до нас в небольших мраморных копиях, из которых самая лучшая находится в Ватикане (рис. 430). Богиня в длинной одежде, образующей мягкие складки, с короной на голове, с пучком колосьев в правой руке сидит, усталая, облокотившись этой рукой на колено, подвернув под себя ногу и положив на нее левую руку. Ее правая нога покоится на плече бога реки Оронта, изображенного юношей, который с распростертыми руками выступает из воды, омывающей утес. Географическое положение богатой столицы Новой Сирии на скале, над рекой, точно выражено в этой группе. В ней антропоморфическая ландшафтная пластика еще вполне заменяет собой реалистическое изображение города. В этой группе мы имеем не только самый характерный из всех образцов антропоморфического пластического олицетворения местности, какие только дошли до нас с античных времен, но и последний пример приема, взамен которого искусство ближайшей эпохи постаралось найти другой художественный, более реалистичный способ изображения ландшафтов.
III. Искусство в государствах Диадохов и Греции (около 275-27 гг. до н. э.)
1. Искусство на Ниле, Оронте и Тигре
Прошло полвека после смерти Александра Македонского, прежде чем диадохи, то есть преемники смелого завоевателя, основали собственные династии в различных государствах, на которые распалось его царство, и устроились в своих новых столицах на берегах Нила, Тигра и Оронта и в Малой Азии. Только с этого времени, под влиянием нового порядка вещей, вырабатываются культура и искусство эллинизма, сделавшегося международным, которые принято называть эллинистическими. Основа новой культуры и нового искусства осталась греческой не только в государствах, бывших греческими еще за тысячу и более лет перед тем, но и в принадлежавших диадохам городах Египта, Месопотамии и Сирии. При этом границы между эллинством и варварством стушевались. Греческое искусство стало вторично воспринимать азиатские и египетские течения. В него проникли чужеземные боги. Оно пустилось воспроизводить типы чужестранных народов и отражать в себе жизнь и обычаи африканского и азиатского побережий.
Но еще более, чем дух иноземщины, сделался ощутимым в эллинистическом искусстве дух крупных городских центров – тот международный дух, который, исходя из Александрии, города диадохов, развившегося при Птолемеях раньше всех других и раньше всех пришедшего в упадок, быстро распространился по всему цивилизованному миру. Потребности новых больших городов выразились прежде всего в эллинистическом зодчестве. Прагматизм населения таких городов направил и все прочие отрасли искусства в сторону постоянно усиливавшегося реализма. Столичная впечатлительность, стремившаяся к "потерянному раю" природы, повела как в живописи, так и в скульптуре к развитию пейзажа. Со своей стороны, теория, любившая играть словами и понятиями, побуждала искусство олицетворять отвлеченные предметы, а сильно развивавшаяся чувственность стремилась справлять свои оргии не только в жизни, но и в искусстве.
Пристрастие к игривому уже не могло обходиться без изображения Эроса на каждом шагу в виде дитяти и населяло мир множеством крылатых божков любви. И тем не менее дальнейшее развитие греческого искусства под влиянием всех этих новых течений было такое органичное и естественное, что невольно задаешь себе вопрос: не шло ли бы развитие искусства тем же самым путем даже и в том случае, если бы события всемирной истории, превратившие эллинский мир в эллинистический, не совершились?
Архитектура возникших в это время новых великолепных городов, каковы Александрия на Ниле, Антиохия на Оронте, Селевкия на Тигре, собственно говоря, известна нам лишь по рассказам позднейших писателей. Эти рассказы не оставляют никакого сомнения в том, что общественные здания в данных городах были роскошны и что планы их отличались чрезвычайной правильностью, которая нередко живописно приспособлялась к условиям местности. Среди зданий особенно выделялись царские дворцы, разросшиеся до размеров целых частей города. В Александрии были соединены с ними такие постройки, как музей, в котором нашла приют себе целая республика ученых, общественная библиотека и главные святилища. Все бульшие размеры принимали также здания, назначенные для народных игр, – театры, ристалища, заведения для физических упражнений, превратившиеся из простых арен в пространные палестры, и обширные гимназии, соединенные с банями (термами).
Эллинистический жилой дом сохранил древнеэллинское разделение на мужское и женское отделения. Преобразование эллинистического жилого дома в перистильную постройку, описанную Витрувием, в эту пору закончилось. Художественно отделанный центр дома составлял двор с колоннадой, причем, в случае надобности, таких дворов могло быть несколько; ко двору примыкали залы и горницы, обычно получавшие свет через него. Стены облицовывались металлическими листами или каменными плитами или же штукатурились. Поверхность стен разделялась на части в вертикальном направлении полуколоннами или пилястрами, а в горизонтальном – явственным делением на цоколь, главное поле, фриз и карниз.
При всем том основным художественным элементом архитектуры оставалась колонна. Галереи с колоннами, дворы с колоннами, ворота с колоннами в эллинистических городах играли еще более видную роль, чем где-либо. Кроме построек с колоннами и балочным антаблементом, воздвигавшихся в несколько этажей, теперь получил право гражданства и стал все сильнее укореняться другой род построек – сводчатый. Мнение, будто сводчатые и купольные постройки во всем европейском зодчестве ведут свое начало от подобных построек Сервистана и Фирузабада в Персии, как это полагал Делафуа, без сомнения, не может быть принято хотя бы и с той оговоркой, что происхождение их следует приписывать не временам Сасанидов, но еще более ранней эпохе Арсакидов. Уже в Вавилоне не было недостатка в образцах сводов, а из Вавилона лежал прямой путь в Селевкию и оттуда в Антиохию и Александрию. Древние писатели сообщали, что храм Сераписа, египетского бога греков, в Александрии, был в своих нижних частях со сводами. Еще в 1871 г. Фр. Адлер настаивал на том, что свод следует признать принадлежностью эллинистической архитектуры, и с того времени к этому мнению присоединились знаменитейшие из археологов и ученых архитекторов.
К сожалению, от всех восточных больших эллинистических городов, которые современное им зодчество наделило своеобразными и великолепными храмами, хотя и построенными, вероятно, по большей части из непрочного материала, например из кирпича, не сохранилось решительно ничего. При раскопках Теодора Шрейбера в Александрии извлечены на свет Божий александрийские капители колонн, отличающиеся редкой свободой смешения стилей и столь же редким изяществом исполнения. До сих пор история архитектуры на Ниле, Оронте и Тигре остается страницей, заполненной догадками и предположениями.
История греческих художников, даже по Плинию Старшему, совершенно иссякает в первые десятилетия IV в. до н. э., и только приблизительно в середине II в. снова появляются имена мастеров, имевших значение, хотя и далеко не такое, как у древних художников. Раскрыть частицу истины, могущей лежать в основе этого показания, очень трудно. Во всяком случае, начиная со II столетия, в древнем мире всплывают лишь имена отдельных художников или отдельных групп художников, и многие из этих имен известны нам только по надписям на сохранившихся произведениях искусства. Таким образом, в истории развития искусства теперь снова выдвигаются на первый план художественные произведения, а не художники.
Искусство Александрии, этого центра интеллектуальной, научной и литературной жизни рассматриваемой эпохи, лишь едва связано с именами местных художников. Только со времени исследований Гельбига, Михаэлиса, Мау и Шрейбера мы получили возможность составить себе до некоторой степени ясное представление о непосредственном александрийском искусстве.
Как на известного греко-египетского живописца письменные источники указывают на Деметрия, который работал в Риме в 180-150 гг. до н. э. по части пейзажной живописи. Автор настоящей книги говорил о нем более подробно в юношеском сочинении "Пейзаж в искусстве древних народов". Как это доказано еще Гельбигом, было бы несогласно с общим положением вещей считать Деметрия не более как живописцем ландшафтообразных ландкарт. Уже это одно подтверждает предположение, что родиной эллинистической пейзажной живописи была Александрия. Кто не желает согласиться, что греческая живопись еще со времен Зевкиса изображала фигуры, когда было нужно, на пейзажном заднем плане, все-таки не может отрицать того, что она сделала этот шаг вперед вскоре после эпохи Александра Великого. На изображение, в котором действие происходит среди естественной ограниченной местности, особенно ясно указывается в описании "Брака Перифоя", картины Гипписа Региумского. Но теперь живопись ушла еще дальше в этом направлении: она стала уменьшать размер фигур, так что они служат только аксессуаром в пейзажных картинах, открытых на Эсквилине и хранящихся в Ватикане, и даже в конце концов живопись совсем освободила пейзаж от исторических и мифологических сюжетов, как это доказывают многочисленные пейзажные картины, найденные в городах Кампании, засыпанных пеплом Везувия. Что эта эволюция произошла впервые не на римской почве, видно из того, что латинский язык для обозначения пейзажа пользовался греческим словом "topia". Поэтому мы, как и раньше, считаем вероятным, что именно на эллинистическом Востоке следует искать первообразы римских одиссейских пейзажей, которые, как это доказано Авг. Мау и Ф. Винтером, нельзя относить к эпохе Траяна, как пытались в недавнее время, и что на том же Востоке надо искать прототипы большинства стенных картин, найденных при раскопках городов, засыпанных Везувием, искать главным образом в Александрии, на которую указывают по крайней мере открытые в Помпее многочисленные, написанные в египетском вкусе, изображения с пигмеями, крокодилами и пальмами.
Одиссейские пейзажи, открытые на Эсквилинском холме, представляются настоящими стенными картинами, несмотря на то, что они разделены друг от друга рядом как бы находящихся впереди них пилястр, написанных ярко-красной краской. Такого рода стенные картины, найденные в Риме, Помпее и Геркулануме, нетрудно выделить из массы других, ограниченных со всех четырех сторон определенными рамами, указывающими на то, что это написанные на стене копии станковых картин. Некоторые из картин в рамах можно ясно различить среди больших стенных изображений уже потому, что они помещены наподобие досок, прикрепленных к стене или вставленных, как в ниши, в интервалах между колоннами; при некоторых из них написаны даже деревянные дверцы, которыми можно было бы их закрывать.
Каким образом явились в стенной живописи подражания станковым картинам видно из истории эллинистических стенных украшений. Мы можем допустить, что в греческих домах еще в IV столетии станковые картины известных мастеров либо прикреплялись в середине свободного поля стены, либо вешались на нем, либо вставлялись в него. Эти обычаи нисколько не изменились от того, что в эллинистическую эпоху распространилось обыкновение одевать стены мрамором или металлическими досками, хотя такая облицовка иногда вела к тому, что картина, превращаясь в мозаичную, помещалась на полу, а иногда заменялась металлическим или мраморным рельефом. Разумеется, далеко не каждый домовладелец эллинистической эпохи был в состоянии украшать стены столь дорогим способом; когда писанные на досках картины хороших мастеров стали встречаться все реже, а отделка стен под мрамор сначала посредством штукатурки, а потом при помощи живописи по штукатурке стала практиковаться все чаще, то было естественно, что писанные на досках картины, вместе со всем декоративным убранством стены, с ее делением на цоколь, колонны, фриз и карниз, стали изображаться фресковой живописью. Это обыкновение удержалось и впоследствии, когда архитектура стен, однажды прибегнув к подделкам при помощи кисти и красок, стала все более и более отказываться от законов архитектонического убранства и постепенно превратилась в фантастическую фальшивую архитектуру.
В литературе на этот ход развития декоративной стенной живописи указывал Витрувий; он имел в виду прежде всего декоративную живопись в Риме; мы же воочию наблюдаем ее в городах у подножия Везувия, особенно после раскопок, произведенных в XIX столетии, и все доказывает с очевидностью, что такая эволюция стенной живописи должна была произойти в городах эллинистического Востока раньше, чем на итальянской почве. К подробному рассмотрению римских и кампанийских стенных картин мы можем, однако, перейти не теперь, а при обзоре эллинистического искусства в Италии.
Относительно сохранивших греческих станковых картин той эпохи мы вообще не могли бы сообщить ничего, если бы в XIX в. не было открыто значительное количество портретов, написанных на тонких деревянных дощечках. Некоторые из этих портретов, служивших масками мумий, относятся, по-видимому, к времени Птолемеев. Такие портреты умерших исполнены широким взмахом кисти, накладывавшей штрихи и не стушевывавшей их, который достигал передачи самой натуры и был выработан, вероятно, только в эпоху Апеллеса, как потом, 18 веков спустя, он снова появился после Рафаэля и Корреджо. Эти дощечки крайне любопытны потому, что дают нам понятие об утраченном способе энкаустической восковой живописи древних и дышат выразительной, своеобразной жизнью, совершенно чуждой типичному искусству более древних греков. Но так как большинство дошедших до нас портретов этого рода принадлежит эпохе римских императоров, то мы вернемся к ним впоследствии.
Переход от александрийской живописи к александрийской пластике составляют эллинистические рельефы, собиранием и исследованием которых мы обязаны Теодору Шрейберу. Мнение Викгоффа, что большинство сохранившихся произведений этого рода исполнено в Риме не раньше времени императора Августа, не изменяет существенно главных выводов Шрейбера, тем более что и сам Викгофф признал эти произведения вышедшими из рук греческих мастеров и исполненными по эллинистическим образцам.
Родоначальницей эллинистической пластики рельефов была, по мнению Шрейбера, торевтика – искусство заканчивать чеканкой литые или выбивные металлические работы и доводить их таким образом до степени художественных произведений; от нее ведет свое происхождение и новый живописный рельефный стиль той эпохи. Ваятель из камня иссекает рельеф с передней поверхности, идя вглубь; наоборот, работающий из металла выбивает рельеф с задней стороны листа, начиная с фона и заканчивая возвышениями, причем в одних местах делает выпуклости большие, в других меньшие. Произведения торевтики сохранились главным образом в виде металлических сосудов. Так, например, подобными выбивными рельефами украшены серебряные кубки с изображением кентавров, найденные в Помпее и хранящиеся в Неаполитанском музее, сосуды хильдесхеймского серебряного клада в Берлинском музее, бернейского клада на Парижском монетном дворе и серебряного клада из Боскореале в Лувре и многие другие античные металлические сосуды, найденные порознь. Целый мир красот открывается для нас в сосудах этого рода, на которые часто смотрят, как на римские изделия. Но настоящие римские изделия можно различить между ними. Шрейбер доказывал, что многие, и притом прекраснейшие из этих сосудов, вероятно, не только эллинистического, но даже именно александрийского происхождения.
Недаром одна серебряная чаша, найденная в Боскореале в 1895 г., представляет золоченое поясное изображение "Alexandreia" (рис. 431). Нельзя не признать принадлежащими, очевидно, эллинистической эпохе драгоценные серебряные чаши из Гермополя, описанные Пернисом, чашу с изображением Геракла и другую, с изображением менад, в Берлинском музее, тем более что они найдены в Египте. Подобные сосуды являются произведениями именно того направления торевтики, которое Шрейбер называл "александрийским придворным искусством".
Рис. 431. Боскореальская серебряная чаша. По Энгельману
Рис. 432. Хильдесхеймский серебряный кратер
При помощи этих сосудов нам всего удобнее проследить развитие греческой орнаментики в эллинистическую эпоху. Как доказывал Ригль, это развитие состояло сначала в расширении области применения орнамента. У некоторых сосудов, как, например, хильдесхеймского серебряного кратера в Берлинском музее (рис. 432) и у серебряной никопольской вазы в С. Петербургском Эрмитаже, вся поверхность покрыта орнаментом в виде усиков, в которых мотивы пальметт и аканфа соединены с различного рода цветочными чашечками, приближающимися по формам к натуре и изображенными с соблюдением перспективы. Затем в эту сеть усиков все чаще начинают вплетаться фигуры животных и человека. Легкие детские фигурки, рассеянные по изгибам орнамента из усиков на вышеупомянутом серебряном хильдесхеймском кратере, имеют чисто эллинистический, быть может, даже чисто александрийский характер. Наконец мы встречаем как предвестие послеклассического искусства отступление от природы, а именно листья и цветы, увенчивающие собой только стебель. В заключение аканфовый лист, все более вытесняемый плоско стилизованной пальметтой и усиком, который явственно принимает характер стебля, превращается и сам в усик.
Близкое родство с рельефами александрийских металлических сосудов имеют "преобразованные в духе живописи" эллинистические мраморные рельефы, служившие, по всей вероятности, для украшения стен. Характерные их особенности – неодинаковая возвышенность изображения и архитектонический, или пейзажный характер заднего плана, нередко превращающегося в настоящий рельефный пейзаж.
Рис. 433. Парис, Ойнона и речной бог. Мраморный рельеф. С фотографии Андерсона
Это мы видим, например, в 12 рельефах Палаццо Спада в Риме, представляющих собой большие выпуклые картины на темы греческих героических сказаний, очевидно, скопированные с живописных произведений. Как грациозно, красиво и вместе с тем совершенно по-гречески сочинено изображение Беллерофонта, дающего пить Пегасу! В каком чисто пейзажном характере исполнен рельеф, представляющий прощание Париса с нимфой Ойноной (рис. 433)! До какой степени очевидно, что в рельефе "Персей освобождает Андромеду" воспроизведена картина того же содержания! Из прочих "роскошных рельефов" надо упомянуть о двух хранящихся в Венском музее, изображающих очень живо зверей и служивших, как полагают, украшениями колодца. Еще более многочисленны небольшие "кабинетные вещи" подобного рода. Мифологические сюжеты, как, например, "Вакхическая сцена" в музее Буонкомпаньи или "Полифем и Эрос" в музее Виллы Альбани в Риме, встречаются в этих произведениях реже, чем заимствованные из деревенской жизни и пейзажи вроде изображенного на ватиканском рельефе, на котором селянин, неся на спине пару гусей, гонит в город корову и теленка, или вроде двух подобных скульптур в Мюнхенской глиптотеке и символического пейзажа с пинией в Британском музее. Такие произведения вводят нас в действительно совершенно новый мир искусства.
Монеты диадохов представляют собой тонко прочувствованные небольшие рельефные портреты. Египетские монеты Птолемеев соперничают с сирийскими монетами Антиохидов в отношении жизненности и сходства царских портретов. Кроме того, в эту эпоху были распространены небольшие изображения, гравированные вглубь или выпукло на благородных камнях. Пирготель, знаменитый резчик на камнях времен Александра Великого, породил целую школу подобных себе художников. Камни с выпуклым изображением (камеи) принимали в Александрии нередко очень крупные размеры: самые значительные по величине и драгоценные произведения этого рода, великолепные камеи С. Петербургского Эрмитажа и Венского музея, с двойными изображениями Птолемея II и Арсинои (рис. 434), необыкновенно мастерски вырезанными из различных по цвету слоев камня, уже по самим именам изображенных на них лиц указывают на свое александрийское происхождение. Фуртвенглер также отмечал своеобразную маленькую отрасль искусства резьбы на твердых камнях. Затем из полудрагоценных камней стали изготовлять целые сосуды с украшениями полувозвышенной работы. Великолепнейшие образцы сосудов этого рода – ониксовая ваза в Брауншвейгском музее (рис. 435) и такая же чаша в Неаполитанском музее (так называемая Tazza Farnesina); по рисунку внутри этой последней, изображающему празднество на Ниле, легко угадать место ее происхождения.
Рис. 434. Птолемей II и Арсиноя. С фотографии
Рис. 435. Александрийская ониксовая ваза. С фотографии
Александрийская круглая скульптура столь же разнообразна, как и александрийские рельефы, но так же, как и она, произвела мало вещей в строго историческом стиле и возвышенном героическом духе. В бюстах и статуях Птолемеев нет недостатка, но нельзя с полной уверенностью определить, кого именно изображают те или другие из них. Напротив того, бюсты некоторых поэтов, в идеалистическом и реалистическом роде, открытые в Александрии, отличаются определенностью характеристики. Прекрасный мраморный бюст слепого певца Гомера, с необычайной выразительностью воспроизводящий физическую слепоту и вместе с тем духовное ясновидение поэта, сохранился в нескольких экземплярах, принадлежащих главным музеям Лондона, Парижа и Неаполя (рис. 436). Обычно полагают, что оригинал этого бюста был исполнен для Гомерейона, святилища Гомера, построенного в Александрии Птолемеем Филадельфом, хотя это изваяние, судя по его характеру, можно признать более древним, как указал Иоганн Сикс. Во всяком случае, оно может считаться прекрасным образцом греческих идеализированных портретов, слегка отзывающихся духом реализма. Лучшим образцом настоящих реалистических греческих портретов, как правило, выставляют бронзовую, чрезвычайно экспрессивную голову какого-то александрийского поэта, которая в прежнее время слыла головой Сенеки. Копии этого произведения находятся в Британском музее и Неаполитанском национальном музее (рис. 437). Все в этой голове – сама натура, проникнутая индивидуальной внутренней жизнью.
Рис. 436. Гомер. Мраморный бюст. С фотографии Алинари
В тех случаях, когда александрийская пластика круглых фигур создавала произведения небольшого размера, они имели вполне реалистический бытовой характер. Таковы, например, хранящиеся в Афинском музее статуэтки из базальта и бронзы, изображающие типичные сюжеты Александрии. Очень натуральна и жизненна бронзовая фигура торговца-нубийца, который с обезьяной на плече сидит на корточках возле продаваемых им фруктов. Не менее реалистична бронзовая фигура уличного певца, Парижский нумизматический кабинет (рис. 438). Маленькая серебряная статуэтка мальчика, которого щиплет за ухо гусь, находящаяся в Британском музее, по-видимому, также из Александрии. Это же происхождение, вероятно, имеют и встречающиеся фигуры-гротески карликов, которые, как мы знаем теперь, в египетских городах встречались нередко, играя роль шутов или зарабатывая себе на пропитание забавными танцами.
Рис. 437. Сенека. С фотографии Алинари
Наряду с небольшими круглыми фигурами появлялись также жанровые фигуры в натуральную величину. Композиция мальчика с гусем сохранилась во многих экземплярах; они находятся, например, в Ватикане, Риме, Луврском музее, в Париже, и Мюнхенской глиптотеке. Группа эта считается воспроизведением бронзового оригинала работы Боэфа, одного из немногих мастеров, имена которых сохранились в истории искусства времен диадохов. Если Боэф, как сообщал Павсаний, был североафриканский грек (из Карфагена), то тем более мы можем считать местом его деятельности Александрию. Этому художнику можно приписать также переделку "Мальчика, вытаскивающего у себя из ноги занозу" (см. рис. 344) из старого стиля в эллинистически реалистическую фигуру, дошедшую до нас в бронзовой статуэтке, принадлежавшей г. Ротшильду, в Париже, и в мраморной статуе, находящейся в Британском музее. В них мы можем ясно заметить во всей его резкости переворот, произошедший в чувстве стиля. Не столь выясненным представляется вопрос, следует ли считать александрийским или пергамским произведением в высшей степени жизненно исполненную "Пьяную старуху" Мюнхенской глиптотеки – фигуру, связь с которой имеет драгоценная мраморная голова в дрезденском Альбертинуме.
Несомненно, из Александрии происходит прекрасное мраморное олицетворение полулежащего бога реки Нила, находящееся в Ватикане, если даже оно только римская копия греческого оригинала. Держа в левой руке рог изобилия и облокотившись ею на сфинкса, старец Нил в правой руке, покоящейся на колене, держит пучок колосьев. Волосы на его голове, мягкие и завивающиеся, как речные волны, ниспадают за его спиной и струятся по всему цоколю. Шестнадцать малюток-гениев, из которых иные возятся с крокодилом и ихневмоном (мангустом), взбираются вверх по фигуре бога, олицетворяя собой 16 локтей периодического повышения воды в Ниле. На задней стороне цоколя изображен настоящий нильский ландшафт. В целом это произведение – один из великолепнейших образцов антропоморфической пейзажной пластики, порожденной греческим искусством, и по этому образцу несчетное множество раз были олицетворяемы речные боги до настоящего времени.
Рис. 438. Нубийский уличный певец. Бронзовая фигура. По Колиньону
Рис. 439. Барберинский Фавн. С фотографии
Значительное количество других скульптурных олицетворений земли и воды принадлежит, наверное, эллинистическому миру, хотя и нет оснований считать их родиной Александрию. К фигурам сатиров и силенов, кроме антропоморфического пейзажного элемента, все еще примешивается мифологическая фабула; но в рассматриваемую эпоху они все более получают пейзажное значение. Достаточно упомянуть лишь о великолепном "Барберинском Фавне", Мюнхенская глиптотека (рис. 439), раскинувшемся на скале и погруженном в глубокий сон под влиянием хмеля. Поза спящего сколь нельзя лучше приспособлена к очертаниям скалы; формы его тела во всех своих частностях согласны с анатомической правдой и вместе с тем отзываются угловатостью дикого, лесного существа; все его положение намекает на грубую тяжеловесность олицетворяемой им земной стихии. В многочисленных фигурах пляшущих фавнов выражается веселая сторона растительной природы. Это мы видим, например, в прелестной большой мраморной статуе музея Виллы Боргезе в Риме, и в грациозных маленьких помпейских бронзах, в Неаполитанском музее. Еще больше, чем в фигурах фавнов и сатиров, мифологическая типичность уступает свое место антропоморфическому олицетворению в эллинистических изваяниях морских божеств. На голове у Нептуна, музей Кьярамонти в Ватикане (рис. 440), волосы как бы слиплись от соленой влаги в плотные пучки, тогда как его глаза смотрят вдаль заботливым взглядом моряка. Еще характернее выражен пейзажный элемент морской стихии в мраморном бюсте "Океана", Пио-Клементинский музей в Ватикане (рис. 441). Рыбья чешуя на щеках, груди и месте бровей еще издали позволяет угадать в нем морское божество; в как бы волнующихся волосах его бороды играют два дельфина.
Рис. 440. Нептун. Мраморный бюст. С фотографии
В связи с александрийским искусством обычно ставят мраморные эллинистические скульптуры сладострастного характера, каковы, например, спящий Гермафродит, встречающийся в различных копиях (например в Лувре), и Афродита Каллипига, Неаполитанский музей; однако эта связь не может быть доказана фактическими данными.
Рис. 441. Океан. Мраморный бюст. С фотографии
Наконец, существует наклонность приписывать александрийскому искусству также дальнейшее развитие рельефной орнаментации саркофагов, с грандиозными зачатками которой мы уже ознакомились, рассматривая сидонские саркофаги (см. рис. 378, 412). Саркофаг Фуггера с рельефом, изображающим битву амазонок, находящийся в императорской коллекции в Вене, выражает собой полный эллинистический расцвет этой отрасли искусства. "Произведения александрийского направления, – говорил Гаузер, – только одни состоят в ближайшем родстве со скульптурой саркофагов". Большинство дошедших до нас мраморных саркофагов, украшенных рельефными изображениями, во всяком случае относится лишь к эпохе римских императоров. К ним мы еще вернемся. В развитии, которого мы коснулись, были и переходные ступени; но на вопрос о них еще не пролито достаточно света.
Искусство Антиохии на Оронте, символическое изображение которой, изваянное Эвтихидом, дошло до нас в упомянутой выше копии (см. рис. 430), не обрисовывается перед нами достаточно ясно в своей общности даже после исследований Р. Фёрстера. Хотя колоссальный рельеф богини смерти, иссеченный по повелению Антиоха Епифана из скалы близ города в память его избавления от чумы, до сей поры мрачно и таинственно смотрит на пытливого путешественника, и хотя в красивой бронзовой группе борцов, найденной в Антиохии и перевезенной в Константинопольский музей, мы имеем настоящее произведение искусства эпохи Селевкидов, попавшее в Европу из-за Босфора, однако по этим единичным остаткам нельзя составить себе понятия о характере этого искусства.
Вообще об эллинистическом искусстве на Ниле, Оронте и Тигре мы знаем меньше, чем об искусстве более отдаленных времен и стран, и это составляет все еще чувствительный пробел в истории художеств.
2. Искусство Древней Греции и греческой Малой Азии
Для древнегреческой метрополии эллинистическая эпоха – век государственного упадка. Уже в 146 г. до н. э. во всей Греции властвовал Рим. Но победители на поле брани тотчас же почувствовали себя побежденными на поприще научного и художественного состязания. Искусства в Древней Греции переживали тогда вторичный расцвет, хотя и под влиянием всемирного эллинистического искусства гигантских городов Востока, но сохраняя свой дух и собственную окраску. В интеллектуальной жизни метрополии руководящая роль принадлежала Афинам и Олимпии. В Малой Азии во главе движения стал в ту пору город Атталидов Пергам. В борьбе с галльскими ордами, надвигавшимися с севера, пергамское государство завоевало себе самостоятельность, пергамские властители приобрели царскую корону. Эпоха двух первых пергамских царей, Аттала II (241-197 гг. до н. э.) и Эвмена II (197-150 гг. до н. э.) – время высшего расцвета этого новогреческого государства, возникшего на древнемизийской почве, давно уже находившейся под ионическим влиянием. По части образования Пергам соперничал с Александрией. Библиотека Эвмена II до такой степени возбуждала зависть Птолемеев, что они даже запретили вывоз папируса из своих владений. Но пергамцы сумели выйти из затруднения: они изобрели пергамент и стали употреблять его вместо папируса.
Если о ходе развития искусства в эллинистическое время на Ниле, Оронте и Тигре мы можем скорее строить только предположения на основании письменных источников, чем составить себе ясное представление при помощи обстоятельных данных, то относительно древнеэллинской почвы в греческой метрополии, на островах и в Малой Азии, мы имеем богатый материал.
Об эллинском зодчестве того времени нам известно многое. Вслед за немецкими раскопками в Олимпии произведены были под руководством Карла Гуманна раскопки в Пергаме, описанные Конце, Гуманном, Боном, Лоллингом, Штиллером и Рашом. Первыми нашими сведениями о Древнем Эфесе мы обязаны англичанину Вуду, а свод всех относящихся сюда данных сделан Г. Вебером. Среди французов, руководивших раскопками на острове Делос, выдающееся место занимает Гомолль. Святилища Самофракии стали известны благодаря Конце, Гаузеру, Ниманну и Бенндорфу.
Рис. 442. Капитель самофракийской колонны. По Конце
На Эгее работали Бон и Шухардт. Немецкие ученые произвели исследования в Приене, над окончанием же раскопок в Милете трудились англичане, немцы и французы.
Останавливаясь прежде всего на употреблении свода в этих древнеэллинских местностях, мы должны сказать, что коробовый свод над входом в ристалище Олимпии, построенное приблизительно в 100 г. до н. э., особенно после исследований Ноака, отнюдь не может по-прежнему считаться древнейшим на греческой почве сводом, сложенным из клинообразных камней. Стал известен целый ряд более поздних арок, из которых самые древние в городских стенах Акарнании, относятся к V столетию до н. э. В эллинистическую эпоху этот способ постройки стал применяться чаще, а именно сначала в нижних этажах. Нижний этаж "Птолемейона" на Самофракии был снабжен входом с прекрасно сложенным сводом, а храм Афины Полиас в Пергаме покоился на правильных коробовых сводах. Что при постройке верхних частей зданий, по крайней мере в Афинах, еще долго опасались сводить арки из клиновидных камней с замком, видно по аркам водопровода так называемой Башни Ветров, высеченным в наслоенных одна на другую горизонтальных балках. Напротив того, главный зал гимназии в Эфесе, принадлежащий эллинистической эпохе, был покрыт тремя крестовыми сводами.
Как бы то ни было, в Греции, на островах и в Малой Азии, до конца существования Римской республики и позже, главную задачу архитектуры составляло возведение зданий с колоннами и каменным балочным антаблементом. В это время достраивались, перестраивались и вновь воздвигались храмы в древнем стиле. Дорический и ионический ордена, как и перед тем, подвергались изменениям, но там, где обработка их не была свободна, принимали все более слабые, сухие формы. Взгляните, какой резкий прямой профиль имеет эхин при своем переходе в абаку в капителях колонн нового дорического храма на Самофракии (рис. 442). Обратите внимание на формы южной дорической колоннады в Олимпии. Посмотрите на ионические колонны пропилеев в Приене, принадлежащие более позднему времени, чем колонны самого храма. Коринфский орден стал теперь смело являться в наружных колоннадах: мы находим его вполне развитым в колоннах исполинского храма Олимпийского Зевса у подножия афинского Акрополя – здания, стоявшего неоконченным со времени Писистратидов; в 174 г. до н. э. постройка его была возобновлена римским архитектором Коссуцием на средства сирийского царя Антиоха IV, и все-таки не была довершена. Мы видим коринфский орден удивительно упрощенным (около 100 г. до н. э.), с остроконечными камышевидными листьями над нижним венцом из листьев аканфа на капителях, в обоих портиках восьмиугольной Башни Ветров в Афинах, и, наконец, обильно украшенным усиками, цветами, ягодами и фигурами химер на капителях антов и колонн небольших пропилеев в Элевзисе, воздвигнутых в 48 г. до н. э. Аппием Клавдием Пульхером (рис. 443).
Рис. 443. Элевзинская капитель с химерами. По фон Зибелю
Рис. 444. Пальмовидная капитель. По Конце
Одним из нововведений, заимствованных у восточного искусства, является, например, пальмовидная капитель (рис. 444), принадлежащая колоннам внутренней стороны колоннады из галереи Аттала II в Пергаме и происходящая, очевидно, от египетской пальмовидной капители. Такое же нововведение составляют консоли в виде бычьих голов в рыночной колоннаде в Эгее и капители с бычьими головами в Эфесе и на острове Делос, внушенные подобными же персидскими капителями (см. рис. 237). На Делосе они находятся в восточной галерее храма Аполлона (Бычья галерея, рис. 445). Здесь капители, снабженные обращенными внутрь здания выдающимися передними частями быков, украшали собой пилястры, к задней стороне которых были приставлены дорические полуколонны.
К особенностям архитектуры рассматриваемого времени относится частое смешение основных составных частей ионического и дорического орденов. В большой двухэтажной галерее в Пергаме на верхнем этаже мы находим триглифный фриз над ионическими колоннами. Каннелюры на дорических колоннах одного здания на Рыночной площади в Приене и довольно древнего храма Деметры и Коры в Эгее отделены друг от друга ионическими ребрами (рис. 446).
Затем как на новообразовавшиеся формы другого рода нужно указать на восьмиугольные базы некоторых из ионических колонн Дидимейского храма Аполлона в Милете, все еще строившегося в рассматриваемую пору, на фриз с бычьими черепами и розетками в Птолемейоне на Самофракии и на фриз с венками и бычьими черепами в Эгее.
Рис. 445. Пилястры с головами быков в здании на острове Делос. По Дурму
Эллинистическая эпоха на греческой почве внесла некоторые особенности и новизну в сам план и конструкцию зданий. На Самофракии в самом начале этой эпохи мы находим изящное круглое здание Арсинои, сходное с олимпийским Филиппейоном и круглым зданием в Эпидавре, но отличающееся от них художественным убранством своих двух ярусов: верхние части стен украшены снаружи дорическими пилястрами, а внутри – коринфскими полуколоннами, тогда как низ украшен бычьими черепами и розетками. Еще своеобразнее мраморный дорический храм (храм Кабиров) на Самофракии (рис. 447). Он имеет портик на колоннах только с передней стороны, и своей целлой, разделенной на три нефа и внутри оканчивающейся у задней стены полукружием, напоминает древнехристианскую базилику.
Рис. 446. Капитель из храма Деметры в Эгее. По Бону
В Пергаме в это время уже существовал большой великолепный алтарь, сооруженный, по всей вероятности, Эвменом II (197-150 гг. до н. э.). Нижняя часть этого здания, в которой с западной стороны была устроена глубоко вдававшаяся внутрь широкая лестница, имела около 30 метров в квадрате. Все четыре стороны этой части и стены лестницы были украшены громадными горельефами, спасение которых прославило германских исследователей. На верхней площади, под открытым небом, стоял алтарь, окруженный красивой, открытой снаружи галереей с ионическими колоннами, в которой оставался перерыв только для лестницы. Стена галереи, обращенная к алтарю, была, по всей вероятности, украшена полосой рельефов меньшего размера, обломки которых найдены тут же. Дальнейшую ступень развития представляет нам двухэтажная галерея с колоннами, построенная Атталом II (в 159-138 гг. до н. э.) на храмовой площади Афины Полиас, в Пергаме. Нижняя галерея, разделенная на два нефа, имела снаружи дорические, а внутри вышеупомянутые гладкоствольные пальмовидные колонны (см. рис. 444). Верхняя галерея состояла из ионических колонн, о которых мы также уже говорили, с дорическим триглифным фризом.
В Олимпии Филиппейон (см. рис. 382) представлял собой переход к постройкам эллинистической эпохи, в числе которых особенно замечательны палестра и гимназия. Палестра была украшена дорическими, ионическими и коринфскими колоннадами. Между ней и гимназией возвышалось особое здание ворот коринфского стиля, с планом пропилеев. Гимназия с восточной стороны оканчивалась галереей с дорическими колоннами, разделенной на два нефа и имевшей в длину более 200 метров.
Рис. 447. План храма Кабиров на Самофракии. По Ниманну
В Афинах, на восточной стороне Керамейка, была построена пергамским царем Атталом II стоя, носившая его имя; она представляла собой род рынка, длиной в 112 метров, в два этажа, из которых нижний имел снаружи дорические, а внутри ионические галереи. Вышеупомянутая Башня Ветров, в действительности "горологий" Андроника Киррского, замечательна по своей восьмиугольной форме; в ней находились водяные и солнечные часы. О коринфских колоннах ее портиков мы уже говорили. Новизна в ней – полукруглая башнеобразная пристройка с южной стороны и барельефы, изображающие восемь главных ветров в виде человеческих фигур в натуральную величину и помещенные вверху, на внешней поверхности восьми стен башни; наконец, своеобразна сама крыша этой постройки, сделанная из мраморных плит и имеющая форму низкой восьмигранной пирамиды; на круглом камне, увенчивавшем крышу, высился флюгер в виде Тритона, который, вращаясь, указывал направление ветра.
Театры, исследованные в XIX столетии, находились в различных пунктах. Вместо подвижной, переменявшейся стены заднего плана вошло теперь в обычай устраивать прочный, неподвижный proskenion, между колоннами которого ставились деревянные pinakes для навешивания декораций. Вследствие этого paraskenion утратил свое значение, и без него можно было обходиться. Однако представление происходило по-прежнему в орхестре, перед проскением. Только в римскую эпоху прибавилась к этому сцена, logeion. К многочисленным театральным зданиям, имевшим эллинистический проскений (в Эретрии, Оропе, Пирее, Сикионе, на Делосе, в Магнезии на Меандре), надо отнести перестроенный в эллинистическом роде театр Диониса в Афинах.
Составить себе понятие об общем блестящем впечатлении, какое производили в эллинистическую эпоху оживленные греческие города с их постройками, изобиловавшими колоннами и фронтонами, с красовавшимися небольшими круглыми зданиями, мы можем по находкам немецких раскопок в Олимпии, Пергаме и Приене. Восстанавливая общий вид этих городов, конечно, мы должны мысленно удалить из них сооружения времен Римской империи, коль скоро хотим представить себе эти города в их эллинистическом величии: так, например, из общей картины Олимпии следует исключить экседру Ирода Аттика, из вида на Пергам – Траянум, высочайший из его храмов; но и того, что останется после этих исключений, достаточно, чтобы вообразить себе архитектурное и живописное великолепие эллинистических городов. Олимпия занимала целую долину и ее склоны роскошными постройками, которые в течение многих веков образовали собой органическое целое; Пергам – горный город, который в короткое время разросся и образовал несколько террас, поднимавшихся одна над другой; Приена – эллинистический, как бы вылитый из одного куска город, расположенный на искусственно выровненном пространстве, поднимавшемся отлогими террасами, она могла гордиться своими улицами, пересекавшимися под прямыми углами; прямоугольной Рыночной площадью, с трех сторон обставленной колоннадами; зданием народных собраний, имевшим вид театра; образцовым ионическим храмом, основанным еще при Александре в честь покровительницы города Афины, при помощи которой он расширялся и украшался.
Эллинистическая живопись в греческой метрополии, со своей стороны, также участвовала в развитии искусств, происходившем в Александрии. Доказательство тому мы находим в стенных картинах гробницы III в., открытой в 1885 г. Фабрициусом в Танагре и подтверждающей наши предположения относительно направления развития искусств на Ниле. В этих картинах легко заметить попытки перспективного изображения и передачи теней; рисунок на одной из длинных стен этой гробницы представлял связный ландшафт, от которого уцелели дом, нарисованный перспективно, с плоской крышей, постройка в виде палатки и пальмовое дерево.
Участие Пергама в дальнейшем развитии живописи выказывается сильнее, чем в зодчестве, это сказывается на украшении внутренних помещений в роскошных зданиях. Мозаичные полы составляли одно из таких украшений, и пергамцы славились как отличнейшие мастера мозаичного дела. Самым знаменитым из них был Соз, по словам Плиния Старшего, исполнивший в Пергаме Ойкос-Асаратос (Невыметенный Дом). Здание получило такое название потому, что на этом мозаичном полу были изображены при помощи маленьких разноцветных кусочков смальты остатки пищи и всякого сора, как будто пол остался неподметенным. "Особенно замечателен голубь, пьющий воду, причем тень от его головки падает на поверхность воды; тут же другие голуби греются на солнце или теснятся на краю сосуда". Сохранилось довольно много вольных подражаний этой пергамской картине. Наибольшей известностью пользуется мозаика, происходящая из виллы Адриана и хранящаяся в Капитолийском музее в Риме (рис. 448). Как был вообще представлен "неподметенный пол", мы можем в некоторой степени составить себе понятие по мозаичному полу, найденному на Авентине и находящемуся в Латеране в Риме. В этого рода изображениях на полах мнимая стильность неожиданно превращается в противоречие со стилем. Но мозаичное изображение голубей прекрасно свидетельствует об успехах живописной техники в эллинистическом искусстве. Скульптура той эпохи в Греции и на древней родине этой отрасли искусства, Малой Азии, представляется нам гораздо более деятельной, нежели живопись. Пластика Пергама вышла на первое место. Пергамская скульптура существенно отличается от александрийской.
Рис. 448. Голуби у воды. Мозаика. С фотографии
Сюжеты своих исторических изображений пергамские скульпторы черпали из победоносных войн Аттала с галлами. Плиний Старший рассказывал, что ваятели из бронзы, Эпигон (вероятно, его звали так, а не Исигон), Пиромах, Стратиник и Антигон, изобразили битвы атталидов с галлами. От Павсания и других писателей мы узнали, что Аттал I приказал выставить на южной стене Акрополя своего любимого города, Афин, как дар богам изображение, с фигурами величиной в полнатуры, побед греков над гигантами, амазонками, персами и галлами. Заслуга Генриха Брунна в том, что он доказал, что значительное число амазонок, персов и галлов, принадлежавших, очевидно, к вышеупомянутому дару Аттала, разбросано теперь по нашим музеям; что сохранившиеся фигуры есть те самые, которыми некогда восхищались в афинском Акрополе. Но есть также основания для предположения, что эти афинские мраморные изваяния – лишь копии с утраченных бронзовых оригиналов и что эти оригиналы, будучи величиной в натуру, вероятно, стояли в Пергаме. Замечательно, что из статуй победителей, входивших в состав этой группы, не сохранилось ни одной, если только не признавать за таковую, вместе с Конрадом Ланге, одну, сильно попорченную конную статую Неаполитанского музея. К мраморным изваяниям уже лежащих мертвыми врагов греков этой группы относятся повалившийся на спину бородатый гигант, упавшие навзничь амазонки и свалившийся на левый бок перс, Неаполитанский музей. К ним же надо причислить вытянувшегося во весь рост на спине благообразного галльского юношу, венецианский Дворец дожей. Из числа только еще падающих и отчасти еще борющихся фигур следует упомянуть о двух персах, опустившихся на левое колено, в Ватикане и музее города Э, а также о статуях галлов, из которых две находятся во Дворце дожей в Венеции (рис. 449) и одна в Луврском музее в Париже. В фигурах галлов сколь нельзя нагляднее выказывается своеобразность пергамского искусства. Грубость форм тела северных воинов, развитого не упражнениями палестры, а в серьезных боях, бросается в глаза. Поверхность обнаженных частей тела дышит силой и своеобразной жизнью. Движения схвачены во всей их точности.
Рис. 449. Раненый галл. Мраморная статуя. С фотографии
Рис. 450. Умирающий воин. Мраморная статуя. С фотографии
Следует упомянуть о нескольких мраморных фигурах разной величины, которые на основании их сходства по характеру и позам с вышеозначенными статуями можно признать современными им произведениями пергамской школы. Сюда относится прежде всего изваянный из мрамора греческих островов знаменитый "Умирающий воин", Капитолийский музей в Риме (рис. 450). По ожерелью на шее, скрученному из золотой проволоки (torques), всклокоченным волосам на голове, растрепанным усам, тяжелым формам тела, сильно развитым лодыжкам, "жесткой, не гладко натянутой коже" нельзя не узнать в этой фигуре галла, а его поза ясно показывает, что это воин, сраженный в бою. Кровь льется из раны на правой стороне его груди; он упал на бок, склонившись вперед, и, опираясь в землю правой рукой, едва удерживает свое тело. Поникнув головой, он ждет прихода освободительницы-смерти; на его лице – упорство, мука и приближающаяся потеря чувств. Сюда же относится известная группа в натуральную величину "Галл и его жена", музей Буонкомпаньи в Риме. Она прекрасно описана Гельбигом: "Галл, преследуемый по пятам неприятелем, только что успел нанести смертельный удар своей жене в левую сторону груди и теперь поражает самого себя, безусловно смертельно, вонзая себе меч в большую артерию. Левой рукой он еще поддерживает свою умирающую подругу жизни. На его лице, обращенном в сторону преследователей, выражается удовлетворение тем, что ему не попасть живым в руки неприятеля".
Рис. 451. Фрагменты пергамского фриза "Борьба богов с гигантами": а – Зевс борется с гигантами; б – Афина сражается с гигантами
Произведения этого рода вводят нас в действительно новый мир искусства. По жизненной правде изображения чужеземцев и своим народно-историческим темам они были бы немыслимы во времена Фидия и даже Праксителя, хотя и воплощают в себе художественные воззрения, постепенно развивавшиеся с тех пор. То же самое направление мы видим в больших пластических произведениях, явившихся в Пергаме при Эвмене II (197-159 гг. до н. э.). Главное из этих произведений, ныне гордость Берлинского музея, – сохранившийся лишь во многих фрагментах большой фриз с изображением битвы с гигантами, украшавший собой со всех четырех сторон нижний этаж алтаря Зевса и стены его лестницы (рис. 451). Фриз этот, первоначально 100 метров в длину и 2,3 метра в высоту, был исполнен разными скульпторами, имена которых неизвестны, но, судя по величественному единству его композиции, можно думать, что он был проектирован, наверное, кем-либо одним. Любимый греческим искусством сюжет – борьба неба с землей, богов с гигантами, еще никогда не был воспроизведен с такой жизненностью и силой, столь грандиозно, как здесь. На этом очень высоком, чрезвычайно стильном рельефе, в котором лишь местами применены элементы живописи, каковы многоплановость, изображение заднего плана, сокращение форм тела, причем, однако, некоторые фигуры совсем отделены от фона, представлена самая страстная, ожесточенная битва, какую только можно себе представить. На стороне главных богов Олимпа сражаются многочисленные второстепенные боги, отчасти даже такие, которыми наделила небо фантазия позднейших греков. На поле битвы мы видим трехликую Гекату с несколькими руками, как у индийского идола. На стороне известных главных гигантов в битве участвуют и другие дети Земли, имена которых, обозначенные в надписях при их фигурах, нигде в других местах не встречаются. Часто человеческий образ, как в древнем греческом искусстве, имеют лишь некоторые из гигантов, и у многих из них змеиное тело, а другие снабжены одной или двумя парами крыльев. Некоторые имеют рога, звериные уши и когти. Везде победа остается на стороне богов. Гиганты, на помощь которым напрасно явилась сама Гея, престарелая мать-Земля, всюду терпят поражение, одни – оглашая воздух криками, другие – падая без чувств. Змеям, составляющим нижнюю часть их тел, удается обвить своими кольцами кого-либо из небожителей или вонзить в него зубы. Зевс левой рукой потрясает эгиду, а правой мечет молнии в царя гигантов Порфириона (а). Афина, схватив четырехкрылого гиганта Алкионея за волосы, влечет его за собой (б). Аполлон и Артемида, перешагнув через своих поверженных на землю противников, готовятся пустить стрелы в других врагов. Сила движений всюду соответствует мощности телесных форм. Преобразование старых типов в духе нового времени видно здесь в фигурах богов, новизна форм выказывается в фигурах гигантов. Старинный идеализм эллинов сказывается в общей композиции, например, в монументальности расположения голов главных фигур под колоннами, которые окружали постройку над рельефом. Реализм рассматриваемого времени проявляется в поразительной естественности движений, чрезвычайной характерности всех форм, теплой жизненной правде поверхности всех обнаженных телесных частей. Местами сохранились следы красок, доказывающие, что греческие мраморные произведения некогда были иллюминированы разными цветами. Здесь краски способствовали сокрытию некоторых слабых мест в переходах и ракурсах. Вообще пергамская "битва с гигантами" свидетельствует о все еще высоком состоянии греческого искусства, а потому нет ничего удивительного в том, что в позднейшую пору античной культуры ее причисляли к чудесам света.
Рис. 452. Женская голова, найденная в Пергаме. По Кекуле
Фриз на внутренней части верхней стены того же сооружения, находящийся в Берлинском музее, посвящен изображениям, заимствованным из пергамских героических легенд, – по мнению Роберта, мифу о Телефе. В этом произведении дух времени сказывается иначе, но так же ясно, как и в "битве с гигантами". Рельеф этого фриза исполнен в живописной манере александрийских рельефов. Задние планы пейзажного характера, различная углубленность впалых частей, разная высота выпуклостей и смелые ракурсы составляют особенности этого фриза.
Из интересных произведений пергамской скульптуры надо прежде всего указать на прекрасную женскую голову, в которой яснее, чем где-либо, выказывается изменение стиля, происшедшее со времен Праксителя (рис. 452). "Отдельные части этой головы, – говорил Кекуле, – совершенны не менее, чем части головы праксителевского "Гермеса", и составляют одно неразрывное целое; в живописном отношении они гармонируют между собой".
Рис. 453. Боргезский боец. С фотографии
Разумеется, пергамское искусство должно было отразиться в искусстве остальных малоазийских городов. Под влиянием пергамского фриза исполнен небольшой фриз с изображением "битвы с гигантами", найденный вблизи храма Афины Полиас в Приене и хранящийся в Берлинском музее. Живописно-пейзажный характер меньшего пергамского фриза является развитым в рельефе, находящемся в Британском музее и представляющем апофеоз Гомера, – в произведении, как удостоверяет надпись на нем, Архелая Приенского. И на этом рельефе, и на статуях последней половины рассматриваемого периода часто встречаются подписи их исполнителей, причем художники иссекают теперь свое имя преимущественно уже не на подножиях произведений, как это делали прежде, а на самих произведениях, рассчитывая вернее обеспечить память о себе. Такие подписи мы находим и на малоазийских мастерских скульптурах. На знаменитом "Боргезском бойце" Луврского музея имя Агасия Эфесского, которому принадлежит эта статуя, выставлено на обрубке дерева под правым бедром фигуры (рис. 453). Это мраморное изваяние, изображающее молодого безбородого нагого атлета, получило название от фамилии Боргезе, которой оно некогда принадлежало.
Смелость и жизненность данного юноше наступательного движения создали славу этой одной из самых экспрессивных мраморный статуй в мире. Юноша сражается, по-видимому, с всадником. Он делает широкий шаг, подавшись всем туловищем вперед и держа в левой руке щит.
Правая его рука, вооруженная мечом, в сильном размахе откинулась назад. Ни в одной из других статуй не найти столь внятно выраженного высшего напряжения сил. Реалистичность этой фигуры свидетельствует о том, что она исполнена позже пергамского фриза. Мы не можем себе представить, чтобы она была изваяна раньше 100 г. до н. э.
Рис. 454. Венера Милосская. С фотографии
К этому же времени мы, вместе с Фуртвенглером, относим другую знаменитую мраморную статую – "Венеру Милосскую", Луврский музей (рис. 454). Она сделалась в XIX столетии общей любимицей благодаря красоте своей фигуры, дошедшей до нас, к сожалению, без рук; душевной теплоте, которой дышат благородные черты ее лица; необыкновенной мягкости рубки мрамора, придающей ее обнаженному торсу естественную полноту и нежность. Статуя была найдена на острове Милос в 1820 г. Исполнена она, как это видно из надписи на отбитом куске цоколя, составляющего одно целое с ней, Александром (или Агесандром), сыном Менида из Антиохии на Меандре. Левая нога "Венеры Милосской" в нынешнем ее виде стоит на возвышении и, по всей вероятности, на самом деле несколько выдавалась над цоколем; теперь она восполнена из гипса. Нижняя часть статуи прикрыта довольно просто уложенной драпировкой, которая, без сомнения, спустилась бы вниз, если бы не удерживала ее правая рука богини. Много было сделано попыток реставрировать эту чудную фигуру. Посвященные ей сочинения составили бы многотомную библиотеку. Предположение, будто подле нее, справа, стоял бог войны, теперь уже неосновательно. Вообще еще далеко не решен вопрос, принадлежали ли этой статуе найденные поблизости от нее обломки левой руки так же, как и кисть руки с яблоком в ней. Мнение, что эта рука – настоящая, находит себе приверженцев все больше и больше, но относительно подлинности кисти руки совершенно справедливо существует сомнение в виду слабости ее исполнения. Мы зашли бы слишком далеко, если бы пустились в ближайшее рассмотрение всех попыток восстановить это изваяние. Ни одна из них не представляется нам убедительной, ни даже наиболее обоснованная попытка Фуртвенглера. По его мнению, левая рука, державшая яблоко, опиралась на подставку, а правая придерживала драпировку. Лучшее, что мы можем делать, восхищаться чистой красотой сохранившихся главных частей изваяния милосской богини. Художественноисторическое значение этой статуи, по Фуртвенглеру, обусловливается преимущественно тем, что скульптор, создавая ее, переделал в эллинистическом духе одно из произведений Скопаса, послужившее образцом не только для нее, но и для "Венеры Капуанской" (см. рис. 409). "Венера Милосская", как идеальный образ божества малоазийского эллинизма, относится к тому же роду олицетворений, как и фигуры богов в пергамской "битве с гигантами". То же самое нужно сказать о торсе Аполлона, найденном в малоазийском городе Траллесе Гуманном и хранящемся в Константинопольском музее. Как в "Венере Милосской" мы признаем переделку одного из произведений Скопаса, так "Аполлона Траллесского" должны считать за переработку одного из типов Праксителя.
Рис. 455. Фарнезский бык. С фотографии
Все малоазийское искусство рассматриваемой поры и более раннего времени отражается в небольших миринских терракотовых группах и фигурах, которые можно увидеть, например, в Луврском музее. Сравнительно с танагрскими статуэтками (см. рис. 421), на которые они походят, они дышат более интенсивной жизнью, придаваемой им отчасти восточными представлениями.
Позднейшие траллесские мастера вводят нас в область трагических сюжетов. Аполлоний и Тавриск сочинили для острова Родос, а быть может и исполнили на нем, монументальную мраморную группу, уже во времена Плиния Старшего перевезенную в Рим, где ее открыли близ терм Каракаллы в XVI столетии, при папе Павле III (Фарнезе). Теперь эта группа с фигурами величиной в натуру, известная под названием "Фарнезский бык", принадлежит к числу знаменитейших скульптур Неаполитанского музея. Сюжет этой группы взят из "Антиопы" Эврипида. Изображен тот момент, когда Цеф и Амфион, намереваясь отомстить за оскорбление, нанесенное их матери Антиопе Диркеей, привязывают ее веревкой к рогам дикого быка, чтобы казнить мучительной смертью. Оба брата, стоя на утесах Киферона, сдерживают быка, рвущегося из их рук; Амфион удерживает его за рога и за морду; Цеф в одной руке держит веревку, уже привязанную к рогам быка, а другой, вероятно, хватал за волосы Диркею, в ужасе упавшую на землю у его ног, и привязывал ее за них к быку. Реставрация этого произведения, в которой Цеф держит веревку обеими руками, по-видимому, неправильна. Антиопа стоит позади быка и спокойно смотрит на происходящее. Спереди сидит на скале мальчик-пастух.
Собака с лаем бросается на быка. Сила движения и горячка страсти выражены в группе удивительно правдиво. Еще Велькер успешно опровергал точку зрения ученых-хулителей "Фарнезского быка". Конечно, в художественных произведениях предшествовавших веков, для которых создать подобное произведение было бы невозможно, можно видеть более зрелое и более благородное творчество, но нельзя не признавать, что именно свобода, составлявшая преимущество греческого искусства перед искусством всех других народов, при естественном ходе развития методов исполнения должна была, наконец, породить такие произведения, в которых искусство в отношении техники превращается почти в фокус, а в отношении внутреннего содержания доходит до передачи всех ощущений в крайней степени напряжения.
Рис. 456. Лаокоон. С фотографии
Подтверждением этого хода развития греческого искусства является также знаменитая группа Лаокоона, Ватиканский музей в Риме (рис. 456). Это произведение, как и "Фарнезский бык", было известно Плинию Старшему; оно стояло в его времена во дворце императора Тита. Исполнителями группы, работавшими над ней в сотрудничестве, Плиний называл родосских художников Агесандра, Атенодора и Полидора. Какое деятельное участие в развитии искусств того времени принимал Родос, видно из того, что, по свидетельству античных писателей, кроме знаменитого Колосса, работы вышеупомянутого Хареса, получившего образование у Лисиппа, на этом острове находилось еще до ста других огромных статуй. Скульпторы Агесандр, Атенодор и Полидор известны нам, кроме того, по надписям на произведениях, которые утрачены. Характер этих надписей, как показывают исследования Гиллера фон Гертрингена, указывает на то, что они относятся к первой половине I столетия до н. э. Мнение, будто группа "Лаокоона" была исполнена лишь во времена Тита, с большой убедительностью опровергнуто еще Овербеком. Во всяком случае, "Лаокоон" более позднего происхождения, чем пергамский фриз с "битвой с гигантами", но исполнен раньше, нежели жил римский поэт Вергилий, так как эта группа не имеет ничего общего с его описанием изображенного в ней происшествия. Своим происхождением она обязана скорее всего греческой трагедии. Лаокоон, троянский жрец Аполлона, провинился перед богами, за что прогневанная Афина послала ему в наказание двух гигантских змей, которые обвили своими кольцами отца и его детей и задушили их. Дошедшая до нас группа, отрытая в 1506 г. близ терм Тита, как видно по всему, есть именно тот оригинал, о котором писал Плиний Старший. Она представляет катастрофу в самый патетический ее момент. Змеи уже обвились вокруг своих жертв. Сам Лаокоон корчится, опустившись на жертвенник, и страшная боль от укуса змеи в левое бедро заставляет его испускать громкие вопли. Монторсоли, восполнивший эту группу таким образом, что Лаокоон, высоко подняв правую руку, старается как бы отвлечь прочь от себя змею, ошибся: права рука Лаокоона, судорожно согнутая в локте, закинута назад, за затылок (рис. 457). Младший сын опустился на алтарь справа от отца; вторая змея впилась ему в правый бок, и он уже падает, лишаясь сознания. Старший сын, стоящий слева от отца, у ступеней жертвенника, еще только слегка обвит кольцами чудовища. У него еще есть достаточно силы для того, чтобы бороться с ними; с проявлением сыновней жалости он оборачивается к отцу. Отчаяние страшной минуты, выраженное в рассматриваемой группе с чрезвычайной силой, возбуждает в нас "ужас и сочувствие". Особенно великолепен сам Лаокоон. Понимание, с каким передана игра мышц его нагого сильного тела, пришедших в судорожное напряжение, и выражение боли в благородных чертах его лица, обрамленного густой бородой и вьющимися волосами, – доказательства высокой ступени, на которой находилась скульптура. Плиний называл "Лаокоона" "произведением, превосходящим все, что только создано живописью и пластикой". В XVIII столетии, когда были известны только немногие настоящие греческие произведения, вызывающие наше удивление, эта группа считалась главным созданием греческого искусства. Теперь мы знаем, что по своей удивительной технике, силе реализма и физическому пафосу группа "Лаокоона" по меньшей мере выражает собой высшую степень развития того эллинистического направления, которое еще никогда не пыталось воспроизводить что бы то ни было, взятое из реальной жизни. Мы знаем те первообразы, которые служили образцами для родосских художников; мы признаем, как ни оспаривали наше мнение по этому предмету, в фигуре Лаокоона дальнейшее развитие фигуры того гиганта из пергамского фриза, которого по божескому повелению громадный змей смертельно ранит в грудь. Во всяком случае, относительно такого произведения, как "Лаокоон", мы чувствуем, что оно стоит на высшей, предельной точке, от которой должен начаться поворот в другую сторону.
Рис. 457. Правильная реставрация руки Лаокоона. По Овербеку
Если укажем на такие произведения, по направлению родственные с "Лаокооном", как "Марсий, повешенный на дерево для того, чтобы содрать с него кожу" (Берлинский музей и Палаццо деи Консерватори в Риме) и "Точильщик, стоящий на корточках и оттачивающий нож" (Флорентийская галерея Уффици), то будем должны представить себе начавшееся вскоре после их появления обратное движение. Это движение, происходившее главным образом в последнем веке до нашей эры и состоявшее в подражании великим произведениям прошедших столетий, распространялось с греческого континента.
О пелопоннесском художнике Дамофоне Мессинском, которого прежде относили к IV в. до н. э., а теперь одни (Роберт Овербек) относят ко времени римского императора Адриана, а другие (Колиньон) – к эллинистической эпохе, нам известно от Павсания, называвшего его скульптором богов в архаическом духе. Мы узнаем от Павсания, что Дамофон исправил статую Зевса в Олимпии и делал статуи из мрамора и золоченого дерева ("акролитная" работа – дешевое подражание работам из золота и слоновой кости), но главным образом был ваятелем из мрамора. Как на одно из его произведений Павсаний указывал на большую группу богов, в которой главными фигурами были Деметра, Кора (Деспойна) и Артемида. Эта группа стояла в храме Деспойны в Ликосуре. При раскопках, предпринятых в 1889 г. Каббадиасом, найдены весьма ценные обломки этих изваяний, отчасти поступившие в Афинский музей, как, например, головы Деметры, Артемиды и титана Анита и кусок мраморного плаща Деметры, покрытый тяжелой рельефной вышивкой. Дамофон представляется нам художником по содержанию своих произведений несколько консервативным, но в разработке голов богов, из которых голова титана напоминает одним голову Лаокоона, другим – ортиколийского Зевса, он является более или менее самостоятельным, даровитым мастером позднего эллинистического времени. Рельефы на плаще из Ликосуры имеют эллинистический характер. На них можно смотреть как на предшественников рельефных украшений на панцире статуи Августа.
Рассматриваемое движение исходило из Афин, и хотя оно относится уже к той поре, когда вся Греция превратилась в провинцию Римской республики и когда его носители, аттические скульпторы из Аттики, работали преимущественно для Рима и очень часто в самом Риме, однако эти художники обычно называли себя афинянами столь настойчиво, что новоаттическую школу, которую они составляли, приходится причислить к греческому, а не к итальянскому эллинизму. Так как Пергам, с которым Афины находились в близких сношениях, был центром художественных доктрин того времени и дал толчок движению искусства, то Фр. Гаузер, быть может, и прав, утверждая, что это движение перешло в Афины из Пергама, хотя и нельзя доказать это на основании сохранившихся художественных памятников.
Рис. 458. Венера Врачующая. С фотографии
Памятники эти свидетельствуют, что новоаттические мастера в сущности были только копировальщиками. Антиох Афинский в своей статуе Афины, находящейся в музее Буонкомпаньи в Риме, лишь воспроизвел Афину Парфенос Фидия. Аполлоний, сын Архия, афинянин, изваял находящуюся в Неаполитанском музее голову, представляющую собой копию головы Дорифора Поликлета. "Фарнезский Геркулес" Гликона Афинского в Неаполитанском музее, вероятно, скопирован непосредственно со статуи Лисиппа. Даже "Торс" ватиканского Бельведера, снабженный надписью Аполлония, сына Нестора, афинянина, признается близким подражанием одного из произведений Лисиппа. Несколько больше независимости выказали в своем творчестве другие художники. Дионисий и Тимархид Афинский в статуе Офеллия, отрытой Гомоллем в Дельфах, произвели слабое подражание "Гермесу" Праксителя; напротив того, Клеомен, сын Клеомена, афинянин, для своего так называемого Германика, находящегося в Лувре, взял известный тип Гермеса, как бога красноречия, и чрезвычайно искусно положил его в основу своей прекрасной нагой статуи неизвестного знатного римлянина. Всемирно знаменитая мраморная Венера дома Медичи, красующаяся в музее Уффици во Флоренции, так называемая Венера Врачующая (рис. 458), может быть с полной уверенностью приписана также новоаттической школе, если только считать надпись на ней подлинной. Родина ее остается неизвестной. Клейн приписывал ее Кефизодоту Младшему (см. рис. 416). Но уже по фигуркам божков любви, едущим верхом на дельфине у ног богини, видно, что статуя эта относится к эллинистической поре. Не подлежит никакому сомнению, что она – переделка знаменитой книдской Афродиты Праксителя, но переделка с примесью жеманства и кокетства, которые уже одни указывают на то, что "Венера Врачующая" – новоаттическое произведение.
Рис. 459. Мраморный кратер. С фотографии
Новоаттическая школа очень охотно украшала рельефами большие мраморные вазы. Из мастеров этой отрасли искусства известны: Сальпион из Афин – ваятель прекрасного мраморного кратера, Неаполитанский музей (рис. 459), с рельефным изображением Гермеса и мальчика Диониса; Сосибий из Афин – скульптор луврской амфоры с рельефом, изображающим в архаистическом духе жертвоприношение богам, и Понтий из Афин – исполнитель вазы с плясками менад, Капитолийский музей в Риме. В противоположность александрийским рельефам новоаттические отличаются отсутствием сколько-нибудь связного заднего плана; в них фигуры отделяются одна от другой поразительно большими промежутками, а отдельные типы, сопоставляемые произвольно, заимствованы из произведений разных времен и различных стилей. Исследования Гаузера пролили свет не только на первообразы этих типов, но и на их многочисленные подражания. В отношении заимствования то архаических, то более поздних типов, нередко из аттических надгробных памятников, в отношении произвольного сопоставления этих типов и совершенно одинаковой, плоской и вялой техники исполнения все эти произведения новоаттической школы отмечены одним и тем же направлением; и мы увидим, что эллинизм, процветавший в Италии, вместе со школой Пазителя направился по той же стезе, по которой шла в это время новоаттическая школа.
Во всяком случае, о дальнейшем развитии искусства в этих школах не может быть и помина; речь может идти только об его повороте назад, который вел не к свободному подражанию, а к точному копированию произведений, считавшихся в последнем столетии перед н. э. и позже классическими. Как бы то ни было, последним периодом существования новоаттического стиля надо считать времена Римской империи.
Книга четвертая Искусство древней Италии и "Священной Римской империи"
I. Искусство Италии до конца Римской республики
1. Искусство Италии до начала эллинистической эпохи (около 900-275 гг. до н. э.)
Италия, вдающаяся в виде длинного полуострова в море и связанная со всем миром торговлей и мореплаванием, была далеко не так щедро наделена задатками художественности, как ее сестра, Греция. Однако в ней еще гораздо раньше, чем в Греции, проснулось объединяющее народное самосознание, и она начала осмысленно воспринимать искусство соседних стран, применять, перерабатывать и отчасти развивать. Мы уже знаем, что с VII в. до н. э. Сицилия и Южная Италия, благодаря эллинской колонизации сделались в духовном отношении неразрывными частями Греции и с самого начала принимали деятельное участие в художественных стремлениях своей метрополии. Среднюю Италию еще за несколько сот лет до этого колонизировало сильное, загадочное в отношении своего происхождения племя этрусков (тусков, тирренов). Этруски поселились к югу и северу от Апеннин; через Тирренское море, которое получило от них свое название и вблизи которого находились их главные города, к ним ввозились и от них распространялись по всей Средней Италии произведения как восточного, так и греческого искусства.
Самосознание итальянского народа пробудилось сначала на почве гражданственности. Оно пробудилось на берегах Тибра, в небольшой территории латинян, которые, будучи теснимы с севера государственным могуществом этрусков, а с юга – духовной силой греков, тем не менее завоевали сперва своих соседей, потом всю Италию и, наконец, весь западный мир. Рим – средоточие этой территории, сделался столицей всего этого мира, и римское искусство приняло в себя все лучи эллинистического мирового искусства, чтобы дать ему новый блеск, прежде чем оно медленно погаснет.
В доэтрусское и догреческое времена мы встречаемся в Италии со следами искусства палеолитического, неолитического и бронзового периодов. Но с микенским искусством Греции нельзя сопоставить в Италии решительно ничего. Только в раннюю пору железной эпохи, начавшейся в Италии с X или IX в. до н. э., мы находим художественное творчество, сколько-нибудь заслуживающее внимания. Исследованием его мы обязаны трудам итальянских археологов, а истолкованием, кроме них, также северным ученым: Гельбигу, Ундсету, Бёлау и Монтелиусу.
Рис. 460. Глиняный сосуд древнейшего виллановского периода. По Ранке
В начале этих доисторических времен итальянского искусства является искусство древнейшей ступени Виллановы, получившее это название от кладбища в имении Вилланова, близ Болоньи. Местные гробницы относятся к разряду так называемых колодезных, колодцеобразных (tombe a pozzo), то есть состоящих из вырытой отвесно вглубь шахты, кончающейся внизу небольшой камерой для урны с пеплом. Погребальные урны были глиняные, формованные от руки и орнаментированные нацарапанными, реже выведенными краской узорами, которые обычно располагались в две полосы, на горле и посередине вазы. Эти узоры – чисто геометрического характера. Основные их элементы – треугольники, четырехугольники и круги, но важную роль играют в них также меандр и свастика; к меандру присоединяется, как и в древнеамериканском искусстве, ступенчатый орнамент, который на греческой почве встречается изредка. Однако сравнительно с тонко почувствованной правильностью греческого дипилонского стиля геометрическая орнаментика Виллановы кажется безобразной и своевольной. На нее надо смотреть как на продукт варварского искусства, развивавшегося параллельно с дипилонским стилем. Соображения, которые Бёлау в трактате об орнаментике Виллановы приводит в доказательство того, что ее стиль произошел от греческой системы украшений, родственной с дипилонским стилем, несомненно, заслуживают внимания, но не вполне убедительны для нас при нашем воззрении, что основные формы геометрической орнаментики, до меандра включительно, – начальное наследие человечества. Впрочем, глиняные сосуды виллановского периода, открытые в Средней Италии, быть может, нужно считать еще более древними, чем найденные в Северной Италии. С ними удобнее всего познакомиться по образцам, находящимся в Болонском музее (рис. 460).
Рис. 461. Бронзовый наконечник копья древнейшего виллановского периода
Нацарапанные украшения глиняных сосудов повторяются в орнаментах, выгравированных на литых бронзовых изделиях, происходящих из гробниц древнейшей виллановской эпохи, тогда как более крупные кованые изделия, как правило, бывают украшены выпуклыми орнаментами. Фигурные мотивы гравировальной и выбивной работы встречаются в виде грубо исполненных голов птиц и змей, помещенных одна против другой на концах кругов. Как на вполне достоверный памятник фигурно-геометрической итальянской гравировки можно указать на бронзовый наконечник копья, дрезденский Альбертинум (рис. 461). Туловища изображенных здесь безруких человечков, подобно тому, как в изображении обезьян у племени ауэтё в Бразилии (см. рис. 63), состоят из двух треугольников, обращенных друг к другу вершинами, а головы – из кружков с точкой в середине.
К несколько более поздней ступени первой железной эпохи Италии относятся предметы, найденные в обыкновенных могилах (tombe a fossa), которые начинают встречаться с того времени, когда вместо сжигания трупы стали хоронить. Это изменение похоронного обряда может быть отнесено к концу VIII в. до н. э. В это время во главе движения стоят этрурские города – Тарквинии (Корнето), Вульчи, Ветулония, Фалерии. Ввоз произведений чужеземного, в особенности греческого, искусства заметно усиливается. Прочие греческие города Южной Италии начинают уже подделывать свои изделия под чисто греческие для сбыта их в Этрурию, и это влияет на изделия местного среднеитальянского производства. На выбивных бронзовых сосудах и щитах из Цере (Черветери), Корнето и Пренесте изображения птиц и лошадей появляются чаще. К фибулам в виде еще безногих всадников или птиц с длинными шеями присоединяются бритвы, которые имеют форму полумесяца и на которых выгравированы люди, охотящиеся за зверями.
Около 600 г. до н. э. простые могилы в Средней Италии заменяются могилами с камерами (tombe a camera). Это было время наивысшего процветания страны этрусков, богатство которых благоприятствовало ввозу к ним произведений искусства из Восточного бассейна Средиземного моря. Средняя Италия наводнилась во сточными и полувосточными формами. Мы уже говорили выше (см. рис. 222) о кипрских щитах и чашах из гробницы Реголини-Галасси в Цере, находящихся теперь в Грегорианском музее в Ватикане. Такой же, как и на них, стиль мы видим на сокровищах из гробницы Бернардини, в Цере, и из гробницы дель-Дуче в Ветулонии. Этруски научились изображать львов и пантер, сфинксов, грифов и других сказочных крылатых существ, а также познакомились с пальметтами, полосами плетения и другими украшениями восточного происхождения. Во многих гробницах встречаются вазы коринфского стиля. Чисто итальянскими произведениями с заметным восточным оттенком являются грубые бронзовые и янтарные фигурки, которые найдены в особенно большом количестве в гробницах Ветулонии. Но и в гробницах Болоньи, еще служивших хранилищами пепла сожженных покойников, попадались вещи, в которых восточное влияние отражается еще сильнее. Украшения на глиняных сосудах прерываются попеременно рядами бесформенных фигур людей или птиц. Рядом со свастикой появились розетки, рядом с рыбами – обезьяны, змеи и сфинксы. Стиль этих глиняных сосудов называют позднейшим виллановским. Другие называют его позднейшим болонским стилем, или стилем Арноальди (по главному месту находок его произведений). Возможно, что он возник, как предполагал Бёлау, под влиянием родосских изделий. В самой Вилланове найдена бронзовая рукоятка в виде схематичной фигуры нагой женщины, на которой сидят птички (рис. 462). Ее голова и кисти рук, симметрично поднятых вверх, имеют шарообразную форму. При всем безобразии этой фигуры в ее художественно-ремесленном исполнении выказывается готовое, самоуверенное мастерство.
Рис. 462. Бронзовая рукоятка позднейшего виллановского периода. По Гёрнесу
Надгробные стелы из некрополя в Новиларе, близ Пезаро, – гораздо более раннего времени, чем начало VI столетия до н. э. На передней их стороне нацарапаны изображения морских битв, почти столь же бесформенные, как и северные рисунки, вырезанные на скалах, а на задней стороне – орнамент, который, согласно мнению фон Дума, можно признать искаженным здесь, на востоке Италии, возрождением частицы микенского стиля.
В то время как в Средней Италии, около 50-х г. VI в. до н. э., доисторическая эпоха сменяется исторической, так что этрурское искусство с 500 г. до н. э. и много позднее вызывает с нашей стороны уже особое отношение к нему, в Северной Италии доисторическая эпоха еще продолжается и создает в области иллирийских венетов другое своеобразное искусство, широко распространяющееся к северу за Альпы и к югу до Апеннинских гор. Центром этого искусства был, по-видимому, Эсте.
Рис. 463. Ситула из Чертозы. По Ранке
По крайней мере, здесь откопано большинство его произведений, найдены главным образом изделия из листовой бронзы, обильно украшенные фигурными рисунками, выбитыми с задней стороны при помощи молотка и пунцы, а с передней обыкновенно законченными, кроме того, гравировкой контуров и внутренних линий. Такие рисунки, расположенные по большей части рядами полос, встречаются на ведрах (situlae), крышках к ним, поясных бляхях и ножнах кинжалов.
Полосы на ситуле Бенвенути в коллекции Барателы, в Эсте, составлены из странных фигур. В верхней полосе изображены люди в широких, низких шапках, сидящие на креслах. В средней полосе существо, имеющее вид не то человека, не то пальметты, ведет на веревке собаку. Остальные ряды наполнены сфинксами, крылатыми львами и другими фантастическими существами. На ситуле из Чертозы, близ Болоньи, ныне находящейся в музее этого города, мы видим фризы с изображениями, расположенными в большем порядке (рис. 463). В верхней полосе представлены пешие и конные воины, идущие и едущие один за другими. Две пальметты чисто восточного вкуса разделяют эту полосу на две части. На второй полосе сверху движется слева направо жертвенная процессия, на третьей – изображены музыканты, охотники, поселяне, на нижней – олени, львы и крылатые звери, идущие один за другим справа налево. Пустые пространства заполнены птицами в первой и третьей полосах, розетками – во второй полосе. С первого взгляда видно, что стиль этих работ произошел вообще от архаического греческого и что некоторые частности выполнены в этом стиле, тогда как другие, как, например, шляпы и шлемы на изображенных фигурах, положительно варварские, в данном случае, иллирийско-венетские; и неуклюжесть форм, представляющих в фигурах зверей пропорции более правильные, чем в фигурах людей, причем человеческие лица отличаются сильно выступающими вперед носами, не оставляют никакого сомнения в том, что перед нами произведение местного искусства ограниченной области Северной Италии.
Изделия из листовой бронзы, украшенные фризами с изображениями только реальных или фантастических животных, гораздо многочисленнее, чем произведения, о которых мы только что говорили. Но тогда как гравировка на вышеупомянутых ситулах, несмотря на всю неумелость рисунка, отличается уверенностью и сознательностью технических приемов, работа на многих из этих вещей ограничивается беглым царапанием или пунктиром.
Мы вернемся к изделиям этого стиля, производившимся тогда в альпийских местностях нынешней Австрии, когда будем говорить о гальштатском стиле. Но необходимо теперь же упомянуть о крышке ведра из Гальштата, Венский придворный музей. На ней изображены четыре четвероногих животных, идущих одно за другим: сфинкс, крылатый лев и два обыкновенных оленя. Согласно часто соблюдавшемуся в этом роде искусства правилу, животные травоядные отмечены тем, что у них во рту ветви, а у плотоядных – части ног животных или человека. На означенном рисунке у оленей во рту – растения в виде пальметт восточного характера, а у крылатого льва – бедро какого-то животного. Все это, как говорил Гёрнес, "изображено так прекрасно и совершенно, как только может быть прекрасно и совершенно произведение рассматриваемой художественной группы". Разумеется, от истинной красоты и совершенства тут так же далеко, как и от вполне варварской примитивности. Во всяком случае, этрурское искусство этой поры представляется более сильным и более способным к развитию.
Подобно тому, как эллинистическое искусство III в. до н. э. покорило Италию и весь мир, этрурское получило господство во всей Средней Италии. До этого времени у Рима еще не было своего собственного искусства. Но сущность и приемы этрурского искусства нелегко определить. Нередко мы воображаем себе, что имеем дело со своеобразными формами ничтожного, грубого, расположенного к реализму народа, между тем как при более внимательном рассмотрении в них можно открыть уже знакомые нам отдельные черты искусства восточного побережья Средиземного моря, между прочим и Греции. Некоторые произведения, считавшиеся прежде главными образцами этрурского ваяния, как, например, знаменитая бронзовая Химера во Флорентийском музее или мифологические и аллегорические рельефы на бронзовых досках в Археологическом кабинете в Перуджи, теперь признаны всеми за греческие, ввезенные в Этрурию. Мы видели, какая масса восточных металлических изделий, щитов и чаш, в которых мы узнаем продукты финикийской художественной ремесленности (см. рис. 461), таилась в древнейших этрурских гробницах с камерами; точно так же нам уже известно, что десятки и сотни тысяч расписных греческих глиняных сосудов сохранились вместе со множеством других вещей греческого происхождения в несколько более поздних гробницах Этрурии. Помимо этого нельзя отрицать, что, наряду с греческим искусством, на развитие этрурского имело влияние и финикийское. Тем не менее все яснее обнаруживается, что именно древнегреческое искусство, находившееся само под влиянием Востока, в особенности древнеионическое, было воспитателем этрурского. Киме (Кумы), наиболее выдвинувшаяся на север ионическая колония в Южной Италии, находилась уже весьма близко от границ среднеитальянской культуры, и южноитальянские великогреки поддерживали торговые сношения между Этрурией и греческой метрополией в гораздо большей степени, чем мы до сих пор предполагали. При всем том этрурское искусство имеет целый ряд собственных характерных особенностей. Оно разрабатывало некоторые представления, совершено чуждые воззрениям греков; в нем встречаются образы, принадлежащие только этрурской мифологии, как, например, демоны преисподней, вооруженные молотами; оно переделывает греческие формы там, где пытается усвоить их, невольно лишая стиль идеалистичности и заменяя его сухой и грубой любовью к действительности, но вместе с тем остается в пеленках архаизма в то время, когда греческое искусство уже успело сбросить с себя последние его узы.
Памятников этрурского зодчества сохранилось немного. В стенах городов древней Этрурии, высившихся на ее горах, мы можем проследить все ступени циклопической и правильной полигональной кладки, неправильного и правильного наслоения горизонтальных рядов плит. Лучшие образцы правильной полигональной кладки представляют городские стены Козы и Пренесте (Палестрины). Неправильное наслоение плит мы находим, например, в стенах Фезул (Фьезоле), Перузии (Перуджа), Волатерр (Вольтерра), Кортоны и Ветулонии. Правильное наслоение плит, отличавшееся в Этрурии обычно тем, что отесанные с четырех сторон плиты обращены кнаружи попеременно своими длинными прямоугольными и короткими квадратными сторонами, встречается в Фалериях и Ардее, а также в древнейших частях стен самого Рима. Ноак высказывал предположение, что этот способ кладки заимствован в Средней Италии от несколько более ранней греческой манеры строить стены и что поэтому ни одна из этрурских стен с горизонтальной кладкой не возведена раньше V столетия до н. э. Особенной заслугой этрусков считалось то, что они прежде всех в Европе стали употреблять настоящий свод, сложенный из клинообразно отесанных камней. Их считали даже изобретателями свода.
Рис. 464. Каменный свод камеры над источником в Тускулуме. По Коенину
Теперь, когда нам известно, что искусство сооружать своды существовало на Дальнем Востоке в течение уже многих веков, остаются только два вопроса: когда именно и каким путем это искусство проникло в Этрурию? Марта, в обстоятельном сочинении об этрурском искусстве предположил, что и в этом случае посредниками были финикийцы. Однако после исследований Ноака становится более вероятным, что греки были учителями этрусков и в отношении сооружения сводов. Мы уже видели (см. рис. 442), что древнейшие греческие своды в городских стенах Акарнании относятся к V столетию до н. э., а к более древней поре нельзя отнести ни один из клиновидных сводов Этрурии. Громадная Cloaca Maxima в Риме с ее прекрасным сводом и триумфальная арка в Вольтерре с тремя головами на ее начальных камнях и замковом камне в нынешнем их виде должны быть отнесены не дальше как к эллинистической эпохе.
Но местное зодчество в Древней Этрурии прибегало к сводам также редко, как и искусство Греции. Кроме сточных каналов, каковы, например, каналы Марты близ Грависк и Cloaca Maxima в Риме, свод, с одной стороны, встречается лишь в позднейших гробницах, какова, например, Пифагорова гробница в Корнето, с другой стороны, в арках ворот, каковы арки в городских стенах в Волатеррах, Фалериях, Тарквиниях, Фелузах, и во входах некоторых гробниц Перузии, Кортоны и Клузиума (Кьюзи). В подготовительных формах и здесь нет недостатка. Ложный свод, образованный выступами верхних плит над нижними, встречается во многих гробницах, например, в гробнице Реголини-Галасси в Цере (Черветери); затем мы находим готически стрельчатый свод в известном сооружении над источником в Тускулуме, в Альбанских горах (рис. 464) и в капитолийской колодезной камере, впоследствии перестроенной, в так называемом Туллиануме, в Риме. Гробница Кампана, в Вейях, крыта ложным сводом другого рода: он вплоть до замыкающего камня образуется выступами плит друг над другом, но этот камень имеет в разрезе клиновидную форму, хотя, конечно, не играет роли настоящего, скрепляющего свод замка.
Об этрурской архитектуре дают нам понятие главным образом кладбища (некрополи), которые, занимая обширные пространства, отмечают собой местонахождения прежних главных центров страны. Ни один народ, кроме египтян, не относился с таким уважением к местам погребения своих покойников, как этруски. Их усыпальницы представляют собой подражания жилищам. Где это было возможно, их высекали в скалах; в других местах их крыли ложными или настоящими коробовыми сводами; нередко то были четырехугольные сооружения из плит, как, например, в Орвието, или земляные насыпи (tumuli) на круглом, просто профилированном основании, как, например, в Монтароцци, близ Корнето; однако там, где они устроены в натуральной скале, как, например, в некрополях близ Витербо, вход в них нередко отделан в виде художественно украшенного фасада, высеченного в скале.
Рис. 465. План погребальной камеры в Черветери. По Коенину
К числу громаднейших из гробниц с земляной насыпью, сохранившихся в Этрурии, принадлежит Кукумелла, неподалеку от Вульчи. По описаниям древних авторов, гробница Порсены состояла из пяти пирамидальных башен на четырехугольном подножии, причем четыре из них находились по углам, а пятая – в середине. Поздним римско-эллинистическим потомком такого устройства может считаться так называемая гробница Горациев и Куриациев в Альбано, с ее пятью конусами на квадратном основании. Из фасадов гробниц, высеченных в скалах, в некрополях близ Витербо, фасады в Кастель-д’Ассо замечательны по своим тяжелым, трехсоставным карнизам, тогда как гробница в Норкии отличается фасадом, похожим на фасад дорического храма (с дентикулами над триглифами).
Внутри этрурские гробницы еще любопытнее, чем снаружи. Камеры в них устраивались по образцу жилых покоев. Умерших, или их саркофаги, или же урны с их пеплом помещали на скамьях у стен, или в нишах вроде альковов, причем в изобилии окружали их разной домашней утварью. Двери, настоящие и ложные, были обрамлены наличниками, имевшими в верхней своей части выступы в сторону, справа и слева (рис. 465). В одной из гробниц в Черветери высечены в скале красивой формы сиденья. Крыша с внутренней стороны представляла собой подражание устройству деревянных крыш этрурских домов, о внешнем виде которых дают нам понятие некоторые урны для пепла. Подпорами потолка служили столбы, как, например, в Черветери, или колонны, как в Бомарцо, причем на нем можно различать вырубленные в скале балки и прочие подробности устройства деревянных потолков. Нередко встречаются также потолки с настоящими кассетами. Одна из гробниц в Корнето дает нам понятие о внутреннем виде описанного Витрувием (VI, 3) этрурского атрия с его отверстием для света в потолке, еще не подпертом колоннами; о наружности же его мы можем составить себе представление по одной урне в виде дома, найденной в Кьюзи и хранящейся во Флорентийском музее (рис. 466). Другая урна в виде дома, в той же коллекции, доказывает, что существовали также дома с фронтоном и без отверстия для света в крыше, которые получали освещение через широкие окна в боковых стенах или через открытые галереи.
Рис. 466. Урна в виде дома. По Марта
Рис. 467. Колонна из Кукумеллы. По Любке
С архитектурой храмов этрусков мы можем познакомиться по их описанию у Витрувия (IV, 7). Замечательно, что этот римский писатель признавал особый этрурский стиль храмов; со своей стороны, наши археологи производят этрурский, то есть древнеиталийский, храм не от жилого дома, как греческий, а от templum, от известной, ограниченной части небесного свода, на которой авгуры наблюдали полет птиц. Вообще этрурский храм существенным образом отличается от греческого. На его высокое основание ведет лестница, устроенная только с одной, лицевой стороны. Поднявшись по этой лестнице, мы вступаем прежде всего в портик с фронтоном, поддерживаемым четырьмя колоннами и имеющим в своей глубине еще две или несколько колонн. Каждый из трех промежутков между колоннами фасада ведет к входной двери в одну из трех целл, расположенных рядом и посвященных каждая одному божеству, а нередко и трем божествам. Средний интервал между колоннами и средняя целла – шире боковых. Задняя стена всего здания – глухая, но лицевая колоннада нередко продолжается и по его бокам. Так как вся верхняя часть храма обычно строилась из дерева и затем богато раскрашивалась, то колонны были тонки и стройны, а промежутки между ними широки. Этрурская колонна, как ее описывал Витрувий, лишь до некоторой степени сходна с найденными, например, в Кукумелле, близ Вульчи (рис. 467). База этих последних состоит из толстой круглой подушки, заключенной между двумя круглыми пластинами. Стержень колонны гладкий. При переходе от него к капители, под сильно стянутой шейкой идут два кольца. Сама капитель состоит из довольно низкого дорического эхина и высокой абаки. Но кроме таких колонн в Этрурии встречаются также свободно обработанные столбы и колонны, смахивающие на дорические, ионические и коринфские; равным образом и этрурские храмы, откопанные, например, в Алатри, Чивита-Кастелане, Фалериях и Марцаботто, свидетельствуют о том, что архитектура древнеиталийских храмов вовсе не так строго держалась определенных форм, как это можно было бы подумать, основываясь на описаниях Витрувия.
Знаменитейшим из храмов этрурского стиля был храм Юпитера на Капитолийском холме в Риме. По реставрации Марта, он отличался от нормального типа храмов колоннадой, окружавшей его с трех сторон и имевшей в лицевой стороне 6 колонн. По Дурму, план этого храма был не столь простой, так как в нем средняя целла выдавалась вперед и имела, так же, как и боковые целлы, свой портик in antis. Средняя целла была посвящена Юпитеру, боковые – одна Юноне, другая Минерве. Остатки основания этого храма сохранились в саду германского посольства на Капитолии. Древние писатели сообщали, что общий план этого храма оставался неизменным при всех позднейших перестройках. Первоначальное его здание, сгоревшее в 83 г. до н. э., сооружено в 509 г. до н. э. То было время, когда Рим сменил монархический образ правления на республиканский.
С этой поры Рим начал быстро расширяться. Храмы воздвигались один за другим. Храм Сатурна на капитолийской стороне форума сооружен в 497 г., храм Кастора на палатинской стороне форума – в 492 г. В 496 г. выстроен храм Цереры, известный единственно по литературным источникам; несмотря на все его живописные и скульптурные украшения работы греков Горгаса и Дамофила, это был, по свидетельству Витрувия, настоящий этрурский храм, "с виду расползшийся, плоский, низкий и широкий". Его греческие скульптурные украшения были большой новизной. Плиний Старший ясно сказал, что до тех пор все в Риме носило этрурский характер.
В 390 г. до н. э. Рим был разрушен галлами. Но, обстроившись снова уже в IV в. из туфа и пеперина и постепенно проникаясь эллинистическим духом, он вообще сохранял все еще древнеиталийский вид. В начале III в. воздвигнуто в Риме много зданий. Только с 302 по 290 г. до н. э. в этом пышно расцветавшем городе появилось 8 новых храмов. Но дошедшие до нас от той пор развалины римских построек слишком ничтожны для каких бы то ни было выводов.
Наиболее внушительные из всех древнеиталийских художественных произведений – остатки этрурской стенной живописи, пережившие целые тысячелетия в тиши и потемках гробниц. Мало того, эта стенная гробничная живопись этрусков, хотя и представляется не более, как ремесленническим подражанием погибшему надземному искусству, принадлежит к самым ценным остаткам всей античной живописи, развитие которой мы можем проследить сколько-нибудь связно только по этим остаткам, начиная с VI в. вплоть до эллинистической эпохи.
Много гробниц, украшенных стенными картинами, находится в некрополе Тарквиний, городах Клузиум, Цере, Вульчи и Орвието. В гробницах других кладбищ стенные картины встречаются лишь изредка. В техническом отношении эти картины представляют собой, если не считать терракотовых плиток из Черветери, настоящие фрески, писанные по сырой извести, хотя местами они несколько подправлены темперой. Фон стен был обычно белый или желтоватый. Краски, в которых картины выступали на этом фоне, были поначалу немногочисленны: темно-коричневая, красная и желтая; затем появились синяя, серая, белая, потом красная различных оттенков и, наконец, зеленая; позднее этрурские живописцы научились получать различные оттенки переходных тонов посредством смешивания основных красок между собой. Поразительна в этой живописи произвольная, а иногда и противоестественная, но приспособленная к искусственному освещению подземных помещений окраска животных и растений.
Живопись в этрурских гробницах древнейшего времени брала для себя сюжеты или из повседневной жизни, или из погребальных обрядов. Иногда картины представляют положение покойника на носилки, иногда погребальное шествие; даже и пиршества, танцы, атлетические игры, изображения которых, встречающиеся очень часто, или заимствованы из похоронных обрядов, или, подобно тому, как мы видели это в Египте, воспроизводят ту жизнь, которую родные покойника желали ему за гробом. Вскоре стали появляться совершенно этрурские крылатые божества смерти, светлые и мрачные. Собственно богом подземного царства являлся этрурский Харон с молотом в руках, крылатый или неокрыленный. Сюжеты, почерпнутые из греческих мифов, начали изображаться только в эллинистическую эпоху.
Рис. 468. Фреска в Grotta Campana. По Марта
Стилистическое развитие этой стенной живописи, очевидно, было взаимосвязано с греческой живописью на вазах. Как мы уже видели, начиная с VI в. до н. э., расписные греческие сосуды ввозились в Этрурию тысячами. Вследствие этого этрурская стенная живопись начинается с подражания живописи на вазах так называемого коринфского греческого стиля, впадающего в восточный. Стенная живопись в Grotta Campana, в Вейях, с ее пегими конями, сфинксами и пантерами, с ее узорами, состоящими из усиков стилизованных цветов, бутонов и стеблей лотоса, с ее отвращением от пустоты угловых пространств, с ее тремя простыми красками на желтовато-сером фоне, произошла именно на этой почве и принадлежит, вероятно, к концу VI в. (рис. 468). Затем вступает в силу влияние древнейшей аттической вазовой живописи. Изображения в одной гробнице в Цере, написанные на глиняных досках, из которых шесть находятся в Луврском музее, в Париже, по внешнему виду приближаются к чернофигурной вазовой живописи более свободного стиля. Они относятся к началу V в. Мужские фигуры написаны, однако, не черной краской по красному фону, но красной по светлому; женское тело и здесь исполнено белой краской, а профильное положение всех фигур, глаза которых нарисованы так, как они представляются en face, стоит по своей технике на одной ступени развития с греческой чернофигурной живописью на вазах; только фигуры с широкими бедрами здесь более округлы и приземисты; так, например, погребальное жертвоприношение с крылатым демоном, несущим умершую женщину на руках, – чисто этрурское, как и костюмы его фигур (рис. 469).
В течение V в. происходит более свободное архаическое развитие. Стиль картин, характеризующий это время, принято называть туско-архаическим. В основе этих изображений, разумеется, лежат также формы стиля греческой чернофигурной вазовой живописи, но содержание и чувство, отчасти также типы лиц и формы тела, остаются национально-этрурскими. Из картин, найденных в Корнето, сюда относятся сцены похоронных обрядов в Grotta del morto, отличающиеся все еще немногочисленностью красок, охотничьи сцены, танцы и игры в Grotta delle iscrizioni с их произвольными многоцветными тонами, сцены раздачи призов в Grotta del barone, блещущие яркими красками, и оживленные изображения воинских игр в Grotta degli auguri. Из картин, открытых в гробницах Кьюзи, сюда можно отнести сцены атлетических игр в Grotta della scimia.
Рис. 469. Фрески из гробницы в Цере, Луврский музей. По Марта
Картины в "гробнице расписных ваз", в Корнето, принадлежат уже к более зрелым произведениям в более выраженном греческом вкусе. На стенах нарисованы греческие вазы с черными фигурами, подобные тем, которые тут же, в этой гробнице были найдены, и те же телодвижения людей в танцах, такие же, как на греческих вазах, кажется, будто сам художник указывает на источник своего искусства.
За туско-архаическим стилем следует туско-греческий. На этрурскую стенную живопись влияет строгий стиль краснофигурной вазовой живописи. В изображениях туско-греческого стиля распознают Эвфрония и Дуриса (см. рис. 337). Но и в отношении содержания национальный этрурский элемент начинает отступать на задний план. Является мысль, что этруски этого времени мало-помалу эллинизируют свои нравы, пиршества, пляски, игры. Картины этих групп, более изобилующие красками (являются красная киноварь и зеленая), еще отличаются архаической скованностью форм. Относятся они к IV столетию. К числу таких картин принадлежат, например, открытые в Корнето изображения танцев и музыки в Grotta del citaredo, с фигурами, все еще отличающимися по-старинному сильным развитием бедер, сцены конских ристалищ с синими, зелеными и красными конями в Grotta del corso delle bighe, пляски и пиршества в Grotta del triclinio, в которых произвольность красок бросается в глаза, но тем не менее, видимо, сообразована с требованиями декоративности. Среди относящихся сюда картин, открытые в 1866 г. в Tomba dei cacciatori, в Корнето, представляют собой нечто особенное: на светлом фоне изображены рыбаки, охотники и купальщики в ландшафтной обстановке с морем и скалами. Море намечено неправильными волнообразными линиями. На скалах растут цветы и травы. В воздухе порхают птицы. Так как рисунок фигур, по-прежнему архаический, не позволяет отнести эти картины, отражающие во всяком случае более древнюю ступень греческого развития, дальше, чем к IV в., то еще Рейш совершенно справедливо приводил их в доказательство того, что со времен Аполлодора и Зевксиса ландшафтный фон не был совершенно чужд греческой живописи. Ряд рассматриваемых произведений заканчивается картинами гробницы Tomba Casuccini, в Кьюзи (рис. 470), древнейшими из этрурских стенных картин, в которых мы видим правильное перспективное изображение глаз. Это доказывает, что на дорогу к полной свободе, проложенную этрурским искусством только в эллинистическом III в., вступила также и стенная живопись..
Рис. 470. Фреска из Tomba Casuccini, в Кьюзи
Народ, наполнявший усыпальницы своих мертвецов картинами, передававшими в красках земное существование, разумеется, украшал произведениями живописи также свои храмы и жилища. Но вместе с жилищами превратились в прах и их стенные картины, и только по рассказам Плиния Старшего мы знаем, что в его время еще существовали в Цере древние храмовые картины и что также в Риме еще в 500 г. до н. э. находилась в храмах древнегреческая живопись. Южноитальянские греки Горгас и Дамофил тогда же украсили своими картинами храм Цереры в Риме. С течением времени даже знатные римские граждане стали посвящать себя живописи. Фабий Пиктор в конце IV в. до н. э. расписал храм богини Салус. Надо полагать, что эта живопись была также проникнута духом древней строгости.
Рис. 471. Саркофаг из Черветери. С фотографии
Этрурское ваяние долго находилось под влиянием греко-ионического архаизма. Около 500 г. до н. э. главным материалом ваяния была глина. Большие терракотовые группы сидящих на тронах статуй в капитолийском храме Юпитера в Риме были приписываемы некоему Волканию (или Вульке) из Вейев. Этрурские большие терракотовые фигуры сохранились главным образом на крышках саркофагов. Знаменитейшие из скульптур этого рода происходят из Черветери и хранятся в Луврском музее в Париже и в Британском музее в Лондоне. Чета супругов, представленных сидящими на ложе, исполнена архаически и неправильна по пропорциям, но очень жизненна (рис. 471). В этой и ей подобных группах, так же как и в отдельных статуях, легко подметить все основные черты древнегреческого стиля, но столь же ясно различаем мы в них свойственное этрускам простое и верное понимание действительности.
Об этрурских бронзовых произведениях дают нам понятие не столько дошедшие до нас образцы, сколько указания, находимые в письменных источниках. Единственным произведением в своем роде остается до сего времени бронзовая волчица во Дворце деи Консерватори римского Капитолия (рис. 472). Волчица, кормящая своим молоком Ромула и Рема, – символ Рима. Но в этом изваянии, о котором было говорено так много, фигуры братьев-близнецов прибавлены в XVI столетии художником Гульельмо делла-Порта. Некоторые признают "Капитолийскую волчицу" чисто греческой работой, другие же видят в ней произведение даже христианских средних веков. Всего вероятнее, она исполнена греком-ионийцем около 500 г. до н. э. в Средней Италии для Рима, и мы, вместе с Петерсеном, полагаем, что это то самое древнее изваяние, которое в 65 г. до н. э. было опрокинуто и повреждено в Капитолийском храме ударом молнии.
Из этрурских каменных изваяний этой древнейшей эпохи прежде всего заслуживают упоминания известняковые надгробные стелы, сверху округленные, украшенные рельефами, встречающиеся поодиночке в Тоскане и находимые в большом количестве в местах этрурской оседлости близ Болоньи. Тосканские стелы этого рода, например, хранящиеся в Палаццо Буонарроти во Флоренции, представляют изображения одиночных сильных приземистых воинов с длинными волосами, широкими бедрами, в строго профильном положении. Надгробные стелы из Чертозы, близ Болоньи, украшены низкорельефными, обрамленными волнистой лентой изображениями воинских игр, сражений, сцен выступления в поход и прощания, в которых отражаются все фазы развития греческого языка форм вплоть до персидских войн, но в исполнении скорее ремесленном, чем художественном. Познакомиться с этими произведениями можно лучше всего в Болонском музее.
Рис. 472. Бронзовая волчица. С фотографии Алинари
О произведениях этрурской художественной промышленности заметим, что благодаря обычаю этрусков помещать в усыпальницах всякого рода предметы домашнего обихода до нас дошло от этого народа огромное количество художественно исполненной утвари. Мы уже видели, что многие из относящихся к ней вещей – финикийского и греческого происхождения, причем большинство сохранившихся глиняных сосудов найдено в этрурских гробницах. Мы ознакомились также с первобытной доисторической местной керамикой. Из нее постепенно развилась национальная этрурская керамика, процветавшая до конца IV столетия наряду с греческой. Цветущий период ваз bucchero nero, которые мы встречаем во Флорентийском музее, падает на VI и V столетия. Глина, из которой они сделаны, – совершенно черная. Рельефные изображения, которыми они сплошь покрыты, сначала имеют восточный характер, а потом постепенно эллинизируются, не выходя, однако, из границ архаизма (рис. 473).
В V в. такие вазы изготавливались главным образом в Клузиуме (Кьюзи). По всему сосуду разбросаны фигуры людей и животных, головы и маски, розетки и кольца соответственно требованиям декоративности, но без всякой внутренней связи. Во многих случаях можно заметить, что прототипами изделий этого рода служили металлические сосуды Востока. Разновидностью ваз bucchero nero являются "изделия Полледрары", которым дал это название Сесиль Смит; они изготовлялись частью из красной глины, но покрывались черным лаком и украшались цветными рельефами; производство их было сосредоточено в Вульчи (Полледраре).
Рис. 473. Ваза bucchero nero. По Марта
Само собой разумеется, что этруски пытались подражать расписным греческим глиняным вазам, которые к ним привозились во множестве. Сосуды этого рода, в которых подражание сказывается появлением среди рисунков этрурских фигур, как, например, крылатого бога с молотом, а также этрурских надписей, относятся однако лишь к последнему времени вазовой живописи.
Изготовление изделий из бронзы получает в Этрурии с VI в. сильное развитие в национальном духе. Тирренские канделябры были известны в V в. даже грекам. Происходящий из Вольтерры канделябр в Этрурском музее во Флоренции имеет три ножки в виде человеческих ног (рис. 474). К его стройной каннелированной колонне приделана взбирающаяся вверх лисица, преследующая петуха, помещенного несколько выше. На краях венчающей канделябр чаши сидят голуби. Разделенная на три части ножка канделябра в Грегорианском музее, в Риме, состоит из трех откинувшихся назад полунагих женских фигур; каннелированная колонка установлена на голове фигуры стоящего юноши и поддерживает фигуру другого юноши, которому дана в поднятую вверх руку чаша канделябра. Великолепная висячая бронзовая лампа в музее Кортоны, рассчитанная на то, чтобы смотреть на нее снизу, имеет вокруг главной своей чаши 16 меньших, добавочных чаш; невзирая на древний характер ее рельефных украшений, некоторые исследователи относят ее к III столетию, но было бы правильнее приписывать ее к еще более раннему времени. Если смотреть на нее снизу, то середину ее занимает голова Медузы, окруженная фризом с фигурами животных и волнообразной лентой. Нижняя поверхность 16 небольших боковых чаш украшена попеременно фигурами крылатых гарпий и бородатых сатиров, выдержанными в строгом стиле. Характер орнаментаций этого канделябра почти не производит впечатления подделки под греческий стиль.
Прекрасный бронзовый треножник из Вульчи, в Грегорианском музее в Риме, относится, наверное, к V в. Ножки его имеют форму львиных лап, опирающихся на лягушек. Бронзовый обруч, охватывающий внизу прямые стержни, украшен тремя фигурами отдыхающих силенов. Средние подпорки вверху, над венчиком, в волютах которого желуди чередуются с пальметтами, украшен тремя парами фигур: божескими, демоническими и человеческими. Во всем произведении этом влияние древнегреческого ионического стиля видно столь же ясно, как и этрурские вкус и приемы исполнения.
Рис. 474. Треножник-канделябр из Вольтерры. По Марта
2. Искусство Италии от начала эллинистической эпохи и до конца Римской республики (около 275-25 гг. до н. э.)
К началу эллинистической эпохи Рим, достигнув значения великой державы, был уже общепризнанным владыкой и столицей Италии. Затем, в течение ближайшей трети столетия, постепенно происходило подпадение под власть Рима всех побережий Средиземного моря и городов как древнегреческой, так и эллинистической культуры. Но в такой же мере, в какой Рим завоевывал греческий мир, греческие искусство и культура покоряли себе этот город. Непрерывным потоком стекались в молодую всемирную столицу, на берега Тибра, художественные сокровища из Сиракуз, Тарента, Коринфа, Афин и многих других покоренных греческих городов, и она уже в то время опередила эти города в отношении постройки улиц и мостов, водопроводов и шлюзов, но в отношении своего украшения художественными произведениями еще училась всему у греков. Сами римляне в такой степени сознавали свою зависимость от греков как в литературе, так и в образных искусствах, что попытки приписать им или этрускам сколько-нибудь важное участие в ходе художественного развития поздней древности возбуждают сильное сомнение.
Художественное творчество Италии в эллинистические века постепенно сосредоточивалось в Риме. При изучении итальянского искусства этой эпохи, наряду с Римом и его ближайшими и отдаленными окрестностями, имеют значение на севере, как раньше, Этрурия, а на юге города Кампании, засыпанные при извержении Везувия в 79 г. н. э. и вновь откапываемые с 1748 г., а между ними – прежде всего Помпея. Нивелировавший эллинизм изгладил все местные различия. Художники Рима, Этрурии и Помпеи в своих произведениях, так сказать, только выражались на различных наречиях одного и того же всемирного языка искусства.
Свою самостоятельность римляне выказали больше всего в зодчестве. В этом отношении их сделала художниками непосредственная надобность. При постройке как храмов, так и жилищ, они сумели сохранить древнеитальянские основные формы, но облекали их в греческое одеяние. Римские зодчие научились прежде всего чувствовать, как эллинистические художники. Если Антиох Эпифан (176-164 гг. до н. э.) пригласил в Афины римского архитектора Коссуция для постройки там храма Зевсу, сооруженного не в итальянском, а в греческом стиле, то это доказывает, что названный римский гражданин был художник с греческим образованием. Гораздо важнее была деятельность греческих архитекторов на берегах Тибра. Уже целым веком позже Метелл, победитель Лжефилиппа, пригласил в Рим грека Гермодора, с тем чтобы он увековечил там память о его победе сооружением греческого, украшенного мраморными колоннами храма Юпитера и соседнего с ним храма Юноны на Марсовом поле. Эти два храма охватывала одна общая колоннада, бывшая первой из окружавших большие мраморные здания в Риме и начальным проявлением эллинизации римской архитектуры.
Итальянские зодчие в это же время переняли от строителей этрурских и древнеитальянских храмов пристрастие к высокому основанию с ведущей на него единственной лестницей с передней стороны и колоннадой только на этой стороне. Принимая все более и более решительно очертание прямоугольника и обращая одну из узких его сторон в сени, они сводили общий план храма все более и более к плану греческого. Дорические, ионические и коринфские ордена колонн употреблялись в эллинистической переработке, но кроме них продолжал применяться к делу четвертый орден, этрурский. На итальянской почве можно проследить самые разнообразные смешанные формы. Подобно вышеупомянутой пергамской галерее (см. рис. 444), саркофаг Л. Корнелия Сципиона Барбата в Ватиканском музее, в Риме, имеет над дорическим фризом с триглифами ионический карниз с дентикулами. Коринфско-дорический храм в Пестуме, при своем общем итальянском характере, представлял дорический антаблемент позднейшей эпохи над колоннами нестрогого коринфского стиля. Вообще дорический и древнеэтрурский стили иной раз смешивались в форме колонн, которые при дорических пропорциях имели гладкий ствол, выступающее кольцо на шейке и базу, то подобную ионическо-аттической, то утонченную до степени низкой плитки. Ионическая капитель, первоначально рассчитанная только на то, чтобы на нее смотрели спереди, нередко бывала украшена, для одинаковости ее вида со всех сторон, угловыми волютами, выступающими по диагоналям горизонтального разреза капители, – переделка, кото рая, как можно полагать, произошла в эллинистическое время прежде всего в Италии (рис. 475). В коринфской капители аканфовые листья становились все более и более мягкими и округленными, но только в эпоху империи, через соединение их с угловы ми, выступающими вперед ионическими волютами, образовалась так называемая композитная капитель (рис. 476). Фризы нередко получали украшение, состоявшее из нескольких пластических лиственных и фруктовых гирлянд, дугообразно свешивавшихся между черепами быков и сопровождавшихся розетками. Что этот важный орнаментальный мотив происходит из эллинистической Греции, доказывается, например, мраморным алтарем театра в Афинах, с которого свешиваются гирлянды, состоящие из масок. Мотив этот получил дальнейшее развитие, по-видимому особенно в Риме, на фризах храмов и гробниц этого времени.
Рис. 475. Южноитальянская ионическая капитель с угловыми волютами. По Дурму
Рис. 476. Римская капитель смешанного стиля из триумфальных ворот Тита. По Баумейстеру
Древнейшие из развалин храмов Рима, развалины храма Великой Матери горы Иды, основанного в 203 г. до н. э., представляют собой лишь ничтожные остатки, по которым, однако, можно видеть, что грубые пепериновые колонны, отдельные частности которых получили надлежащую форму только после их оштукатуривания, были коринфского ордена с итальянским расположением деталей. Храм Аполлона в Помпее стоял среди прямоугольного двора, окруженного первоначально ионическими колоннами (17x9 колонн), на высоком основании, на которое вела открытая лестница в 30 ступеней. Верхняя галерея, окружавшая его целлу, состояла из коринфских колонн (11x6); но эта колоннада окаймляла только заднюю половину храма, так что передняя часть целлы выступала из нее вперед в виде портика итальянского характера. Храм Юпитера в Помпее, относящийся к началу первого столетия до нашей эры, был еще совершенно итальянского характера, и лишь некоторые его детали имели греческий отпечаток. От 8025 гг. сохранились в Средней Италии и Риме различные храмы. Храм в Кори, в Вольских горах, был дорического ордена, но построен по итальянскому плану; колонны его, стоявшие на ионических базных плитах, только на протяжении верхних 2/3 ствола были покрыты каннелюрами, а капители их были тонки и снабжены необычайно низкими абаками, которые отнюдь уже нельзя назвать дорическими в строгом смысле слова. Ионическому ордену принадлежит храм Фортуны Вирилис в Риме, так называвшийся в прежнее время, а теперь носящий название Matris matutae (рис. 477), – псевдопериптер, который до заполнения кладкой интервалов между колоннами его портика, был вместе с тем простильным. Стены его целлы с наружной стороны расчленены полуколоннами. Коринфскому ордену принадлежат два прелестных небольших круглых храма: в Риме, на берегу Тибра, и в Тиволи, на Анио (рис. 478); круглая целла первого была первоначально опоясана венцом из 20, а такая же целла второго венцом из 18 колонн. На фризе Тиволийского храма мы находим вышеупомянутый фриз с бычьими черепами, гирляндами и розетками.
Рис. 477. Храм Фортуны Вирилис (Matris matutae). С фотографии Броджи
Рис. 478. Круглый храм в Тиволи. С фотографии Броджи
Из гражданских построек в Риме, в связи с форумами, то есть прямоугольными, рыночными площадями, окруженными великолепными колоннадами, появляются прежде всего базилики для торговых сделок и судопроизводства. Эти здания, получившие греческое название (stoa basileios, или basilike, царская палата), ведущие свое начало, несомненно, с эллинского Востока и имевшие значение "античных бирж", можно лучше всего изучить на итальянской почве. Так как приходилось пользоваться ими не только в теплое время, но и зимой, то они были крытые. Базилики имеют в истории зодчества важное значение особенно потому, что из них развивалась в эллинистическом мире система больших крытых помещений, поддерживаемых колоннами. Обычно базилики заключали в себе три нефа и в таком случае нередко получали освещение через окна, устроенные вверху стен среднего нефа, более высоких, чем стены, ограничивавшие боковые нефы. Для целей судопроизводства у противоположной входу короткой стороны целлы воздвигалась трибуна. Марк Порций Катон воздвиг первую базилику в Риме по своем возвращении из Греции в 184 г. (Basilica Porcia). Однако древнейшей из базилик, которые возможно восстановить при помощи их остатков, считается базилика в Помпее. Ее боковые нефы – одинаковой высоты с центральным нефом, а окна устроены вверху стен этих нефов. Средний неф был обставлен со всех четырех сторон 28 коринфскими колоннами, возвышавшимися до самой двускатой крыши с двумя фронтонами; боковые же нефы имели, вероятно, плоские крыши вроде террас. Стены этих нефов были обставлены с внутренней стороны двухъярусным рядом колонн, снизу ионического, вверху коринфского ордена (рис. 479). В Риме расчищена базилика Юлия, сооружение Цезаря (начатая в 46 г. до н. э.). Это мраморное здание, относящееся к концу времен республики, было пятинефное. Среднее пространство, не разделенное во всю свою высоту на части, было окружено со всех четырех сторон двухъярусной двойной галереей, нижний этаж которой имел потолок в виде свода; наружные стены этого этажа были не сплошные, а представляли ряд открытых арок, заключенных между дорическими полуколоннами.
Рис. 479. План базилики в Помпее. По Овербеку
Старейшим из зданий Рима, в которых встречается такое соединение арок и колонн, несущих на себе прямолинейный антаблемент – соединение, вскоре сделавшееся характерным в римской архитектуре и остающееся образцовым до наших дней, является государственный архив, Tabularium, главный фасад которого занимал собой склон Капитолия над форумом (рис. 480). Двенадцать стройных дорических полуколонн с небольшими и простенькими капителями высились по бокам каждой из 11 арок и вместе со своим низким антаблементом составляли как бы рамку вокруг них; верхний ярус этих аркад не сохранился, но можно думать, что он был ионического стиля. Эта декоративная система была едва ли римского изобретения, однако ничего подобного ей до сей поры нигде не найдено на эллинистическом Востоке.
Рис. 480. Обрамленная полуколоннами арка Табулария в Риме. По Дурму
Здания театров появились в Риме в эллинистическую эпоху, но в 185 г. до н. э. существовавший там постоянный театр был признан ненужным, и его сломали. Первый каменный театр в Риме, окруженный садами и колоннадами, был построен в 55 г. до н. э. Помпеем. Большой театр в Помпее выстроен раньше этого года. По своему первоначальному устройству он относится к доэллинистическому времени, но его возвышенная сцена, задняя стена которой представляет собой фасад дворца с тремя дверями, сооружена лишь при Августе. Мы уже знаем, что из Рима впервые распространился обычай разыгрывать пьесы не в так называемой орхестре, а на особой возвышенной сцене (см. рис. 306).
Это нововведение соответствовало условиям итальянских театральных представлений. Со своей стороны, любовь итальянцев к кровавым зрелищам – травле людей зверями и боям гладиаторов, происходившим поначалу на рыночных площадях, вызвала особый вид зданий. Так как в тех случаях, когда представление состояло не в изображении поэтических рассказов, а в действительной, короткой и жестокой борьбе не на живот, а на смерть, и не было надобности ни в какой сцене, то оказалось удобным занять местами для зрителей и ту часть театра, которая обычно отводилась под сцену. Как полагают, Кай Курион в 58 г. до н. э. соединил выстроенные из дерева два театральных полукружия, через что получилась нового рода орхестра, служившая ареной для боя. Но этому назначению овальные арены соответствовали еще лучше круглых. Каменные амфитеатры явились в Кампании раньше, чем в Риме; места для зрителей устраивались в них на массивных нижних этажах и окружали со всех сторон продолговатую арену. Вышеупомянутый театр Куриона не мог служить образцом для таких зданий. Древнейшие каменные амфитеатры Кампании, как, например, амфитеатр Помпеи, сооружены, быть может, даже раньше 58 г. до н. э.
Рис. 481. Тепидарий малых терм на форуме Помпеи. С фотографии Алинари
Ясное представление о римских общественных банях II столетия до н. э. дают нам термы Стабианской улицы в Помпее, а о позднейших заведениях этого рода – малые термы на форуме Помпеи, построенные немного позже 80 г. до н. э. Главные части мужского отделения малых терм хорошо сохранились: раздевалка прямоугольной формы, крытая коробовым сводом, круглая холодная купальня, под куполом которой тянется штукатурный фриз с изображением конских ристалищ, теплая баня (tepidarium), в которой красиво отштукатуренный и впоследствии обновленный потолочный свод опирается на терракотовые мужские фигуры (теламоны, атланты) с поднятыми вверх руками (рис. 481), и паровая, крытая также коробовым сводом, баня, в которой бассейн для мытья помещался в полукруглой нише. Дорический двор с колоннами, exedra (ниша для беседы) и крытые сводом коридоры довершали устройство этого заведения.
К наиболее хорошо сохранившимся памятникам республиканского Рима относятся некоторые надгробные монументы. Выше мы уже упомянули о так называемой гробнице Горациев и Куриациев близ Альбано как о сооружении древнеэтрурского стиля, хотя она принадлежит лишь этой эпохе. К I столетию до н. э. относится небольшой надгробный памятник Бибула в Риме, представляющий собой, по выражению Э. Петерса, "древнюю гробницу в форме дома, усовершенствованную в духе времени и обращенную в небольшой храм". К этому же столетию относится монументальная усыпальница Цецилии Метеллы на Виа-Аппиа, близ Рима. От нее сохранился массивный, сложенный из плит цилиндр, стоящий на квадратном основании; верхний край цилиндра украшен вышеупомянутым фризом, составленным из бычьих черепов, полукруглых гирлянд и розеток. Все целое представляло переделку в римском духе первобытного надгробного кургана (tumulus).
Рис. 482. План обыкновенного римского дома. По Дурму
Более важное значение, чем эти усыпальницы, имеют для истории искусства жилые дома, которые в Италии, как и в Греции, отличались роскошью и красотой внутренней отделки и обстановки. Однако итальянские жилые помещения и в эллинистическую эпоху значительно отличались от греческих. Ни один дом в Италии не обходился без атрия, который в Греции был совершенно неизвестен (рис. 482). Первоначально атрии были крытые, с полом, и дым очага выходил из них через двери. Важным шагом вперед было устройство отверстия в середине крыши атрия, причем сама крыша стала устраиваться со скатами к этому отверстию, под которым находился четырехугольный бассейн, куда стекала с крыши дождевая вода. Таким образом, был обеспечен доступ воздуха и света внутрь дома. Витрувий различал тусканский атрий, в котором покатая кнутри крыша поддерживалась только горизонтальными балками, от атрия с четырьмя колоннами, подпиравшими внутренние углы крыши, а этот род атрия он опять-таки отличал от коринфского, в котором для поддержки крыши употреблялось большее число колонн, вследствие чего атрий расширялся и получал характер греческого двора с колоннами. Атрий окружали со всех четырех сторон комнаты, между которыми оставлялся проход на улицу (vestibulum) с главной дверью дома. В последних двух комнатах, справа и слева от вошедшего в дом, передней стены обычно не было, так что они представлялись крыльями (alae) атрия. Как раз против входа находился tablinum – парадная комната, открытая как спереди, так и сзади, и служившая сообщением между передним и задним отделениями дома. Первоначальный итальянский дом состоял только из перечисленных помещений, имевших латинские названия, и из двора или сада (hortus), лежавшего позади tablinum; но эллинистическо-римский дом, как его описывал Витрувий, разросся за счет задней части в целый ряд покоев, окружавших греческий двор с колоннами, перистиль, и носивших греческие названия, например, exedrae (зал для бесед), oeci (зал для празднеств) и triclinia (столовые), располагавшиеся вначале вокруг атрия; некоторые потребности вызвали еще дальнейшие изменения и усложнения общего плана, главные части которого, однако, повторялись во всех домах. Дом знатного гражданина состоял собственно из одного этажа, хотя для добавочных комнат, жилья рабов и отдачи помещений внаймы, нередко с лицевой, уличной стороны дома надстраивался второй этаж. В конце республиканской эпохи появились в Риме многоэтажные дома с квартирами, сдававшимися внаем, и этого рода постройки уже в то время начали возрастать до такой высоты, что при императорах пришлось законом ограничить ее 70 футами.
Устройство итальянских жилых домов ясно показывает, как римляне, оски и самниты воспринимали проникавшие к ним греческие искусство и культуру. От особенностей своих домов, обусловленных складом семейного быта, они не отступали. Греческий двойной дом с отдельными помещениями для мужчин и женщин противоречил итальянской семейной жизни. Для римлянина, как и для жителя Помпеи, его атрий и tablinum с портретами предков был святыней, без которой он не мог обходиться; но увеличение числа комнат дома сообразно условиям эллинистического времяпрепровождения и образа жизни происходило уже по греческим образцам; художественная внешность, в которую в то время облекся итальянский дом, была перенята также от греческих городов Востока.
Рис. 483. Перистиль в доме Эпидия Сабина в Помпее. С фотографии
Колонны и антаблементы в жилых домах пользовались формами, выработанными архитектурой храмов, но при этом допускалось множество вольностей и нарушений установленных правил, подобно тому, как это бывает с разговорным языком по отношению к литературному языку. Фантастические капители александрийского характера или произвольно придуманного вида были в рассматриваемое время не редкостью в римских и помпейских частных постройках. На рис 483 – второй перистиль в помпейском доме Эпидия Сабина. Конечно, дома подобного рода, в своем реставрированном виде, относятся уже ко временам империи; но, даже находясь в развалинах, они дают нам понятие о расположении, какое богатые помпейские дома имели еще при республике. Стены и колонны поначалу были кирпичные или сложенные из местного тесаного камня (туфа, травертина, пеперина), а их художественная облицовка состояла всюду в расписанной штукатурке; даже после того, как с середины I в. до н. э. стал проникать в Италию мрамор, прошло еще некоторое время, прежде чем знатные римляне начали позволять себе такую роскошь в своих домах, как мраморные колонны и облицовка стен мраморными плитами. Оратор Красс (в 100 г. до н. э.) был, по-видимому, первый римлянин, украсивший свой дом мраморными колоннами. В конце рассматриваемой эпохи Рим уже блистал своими мраморными дворцами, между тем как в провинциальных городах, какова Помпея, употребление этого ценного материала ограничивалось лишь колоннами и некоторыми отдельными частями строения.
Рис. 484. Комната в доме Ливии на Палатине в Риме
Отштукатуривание стен оставалось делом обычным как в Риме, так и в Помпее. Сравнивая изменения в стиле художественной отделки штукатурных стен, открытых в этих городах, с описаниями Витрувия (при императоре Августе), можно проследить историю развития стенных украшений в Италии. Мы уже говорили выше, что в этой истории, по нашему мнению, отражается процесс эволюции, происходившей перед тем на эллинистическом Востоке.
"Старинные", как называл их Витрувий, то есть эллинистические, зодчие начали с III в., а римские со II в. до н. э., подражать мраморной облицовке лепной отделкой штукатурки. Образцы ее сохранились в Помпее, в базилике и обывательских домах, известных теперь под названиями Casa del Fauno и Casa di Sallustio. Но уже стены помпейской базилики свидетельствуют, что мраморная облицовка, под которую подделывается здесь штукатурка, сопровождалась архитектоническим расчленением стен на части посредством полуколонн. Такой стиль оштукатуренных стен, который Август Мау, лучший знаток этой отрасли искусства, считает первым по времени.
Второй стиль, вошедший в Риме в употребление, несомненно, еще с 100 г. до н. э., а в Помпее явившийся в 80 г. до н. э. вместе с заселением ее римлянами при П. Сулле и практиковавшийся как в Риме, так и в ней, до начальной поры империи, поступался пластическим украшением штукатурки в пользу сплошного раскрашивания стен. Но в росписи стен этот стиль подражал, с одной стороны, по-прежнему мраморной облицовке, а с другой – роскошной архитектурной разделке, которая, конечно, допускала в частностях множество свободных, новых и произвольных мотивов, но не была до такой степени фантастична, чтобы не иметь вида "действительно существующей" (Мау). Главное отличие второго стиля от первого состоит в том, что теперь роспись стен стала в большей мере прибегать к картинам с фигурами и к ландшафтным видам. Это мы находим в доме, украшенном ландшафтами с сюжетами из "Одиссеи", на Эсквилинском холме в Риме, а также в так называемом доме Ливии на Палатине (рис. 484) и на стенах дома близ Фарнезинской виллы, хранящихся в Римском музее терм. Из помпейских домов представляет нам это, например, так называемая Casa del Labirinto.
О третьем стиле, относящемся к первым 75 годам империи, и о четвертом, возникшем только с 50 г. н. э., мы будем говорить впоследствии.
Но еще при республиканском величии Рима развилось особое искусство украшения полов узорами в виде ковров при помощи мозаики из камней или стеклянных сплавов. Технику мозаичного дела с самого ее начала (когда цементная масса, обычно окрашенная в красный цвет, наливалась на плотно утрамбованный и выровненный земляной пол и в нее вставлялись небольшие камешки, opus signinum) и до достижения совершенства мы можем проследить в Италии того времени.
Живопись в Италии в рассматриваемый промежуток времени находилась в самой тесной связи с этим развитием орнаментации стен и полов. Сохранившиеся античные картины – по большей части стенные, то есть как считаем мы, вместе с Отто Доннером фон Рихтером, в противоположность мнению Эрнста Бергера и других, принадлежат к разряду фресковых произведений, за исключением отдельных случаев, когда картины вставлены в стену. Немаловажную роль играли также мозаичные картины.
Фрески этрурских гробниц и домов Рима и городов Кампании, погибших при сильном извержении Везувия, вместе с изображениями на вазах составляют главную часть всего материала, сохранившегося для изучения истории античной живописи. В 1873 г. Гельбиг обстоятельно разъяснил, что художественная живопись этой эпохи на итальянской почве была греко-эллинистическая не только по области, из которой брала она содержание, но и по своим формам и приемам письма, и все соображения, которые были по временам приводимы в опровержение мнения Гельбига, оказывались не выдерживающими критики. Этрурская живопись рассматриваемого времени сохраняла в эллинистической оболочке многие из своих местных, итальянских характерных черт. Грубо реалистичные, не греческие по духу и приемам произведения, встречающиеся среди памятников кампанийской живописи, указывают на то, что эти работы удовлетворяли иным целям, а не цели искусства. Но можно спорить о том, насколько стенные картины Рима и Кампании допускают обратное заключение относительно фигурных картин великих греческих живописцев на досках. Разумеется, при решении этого вопроса можно принимать в расчет только небольшие картины на обширных стенах, представляющиеся очевидными подражаниями картинам, писанным на досках. Надо предполагать, что комнатные живописцы Рима и Помпеи, прошедшие более или менее ремесленническую школу, не копировали с точностью ту или другую станковую картину известного мастера. Из запаса своих образцов они брали лишь отдельные фигуры, группы, мотивы движения и пользовались ими сообразно с требованиями каждого данного случая как в отношении содержания, так и в декоративном отношении, соединяли их с другими фигурами и группами, уменьшали или увеличивали, связывали с более или менее обработанным задним планом. Как доказал Тренделенбург, требования декоративности состояли прежде всего в том, чтобы на одинаковых частях противоположных друг другу стен, или на симметрично расположенных боковых полях одной и той же стены, были написаны сюжеты, соответствующие друг другу по числу и позам фигур, по их отношению к заднему плану и по краскам. Что отдельные мотивы и фигуры таких картин действительно были заимствуемы из известных картин или имели к ним отношение, это доказывает, например, упомянутая выше картина Неаполитанского музея, изображающая жертвоприношение Ифигении, передающая в своих, хотя и иначе расположенных, отдельных фигурах те же степени выражения скорби, какими одушевил фигуры Тиманф в своей знаменитой картине (см. рис. 335); равным образом, на существование известных образцов указывает часто встречающееся в живописи Рима и Кампании повторение одних и тех же сюжетов, как, например, Медеи, Ио и Аргуса и т. д. Без сомнения, подобные стенные картины были исполняемы живописцами эллинистических школ, попавшими в Италию. Само собой понятно, что у этих живописцев не было под руками привезенных прямо с Востока образцов для изображений каждого предмета неодушевленной природы, каждого ландшафта и даже каждого сюжета с фигурами, и изменения их стиля касались главным образом разработки архитектонических подробностей и разделки расписываемых стен на части.
Рис. 485. Ахиллес, приносящий жертву тени Патрокла. Фреска в гробнице Франсуа в Вульчи
Что касается стенной живописи в склепах Этрурии (см. рис. 468-470), то она шла по старой дороге. Здесь по-прежнему не было и речи о подражании станковым картинам; стенная живопись продолжала держаться своих оригинальных, исконных правил, распределялась равномерно на светлом фоне, не заботилась об его красивом архитектоническом расчленении.
Однако этрурские стенные картины эллинистической эпохи сильно отличаются от прежних. Все повороты и сокращения человеческих фигур воспроизводятся теперь легко и свободно. Душевные движения передаются уже не только позами, но и выражением лиц. К натуральности красок, в которых фигуры рисуются на светлом фоне, нередко присоединяется уже выработанная моделировка с обозначением света и теней. В могильные камеры Этрурии начинают проникать образы и сюжеты греческой мифологии, еще не вытесняя окончательно древнеэтрурских демонов. К реалистическим и мрачным представлениям этрурской фантазии нередко примешивается, очевидно, греческий светлый идеализм, причем и он, и эти представления проявляются непосредственно рядом друг с другом.
К начальной поре этого развития относится знаменитая гробница с 9 камерами в Вульчи, получившая от имени открывшего ее археолога название "гробница Франсуа". В разных ее камерах изображены на стенах сюжеты, взятые из греческого героического эпоса. Но в четырехугольном конечном ее помещении мы видим на одной стене изображение настоящего человеческого жертвоприношения во всем его грубом этрурском реализме, а на другой – представленное в более идеальных формах символическое человеческое жертвоприношение, а именно приносимое Ахиллесом перед Троей тени Патрокла (рис. 485). Этрурские демоны примешиваются здесь к героям греческого эпоса, Ахиллес, Агамемнон и Аякс обозначены в надписях на этрурском языке их этрурскими именами.
Замечательными картинами этого стиля изобилует гробница Голини в Орвието, с ее столовой (предметами неодушевленной природы), пиршеством в преисподней и триумфальным шествием усопших. Той же ступени развития принадлежит картина первой камеры в Tomba dell’Orco, в Корнето, со страшной фигурой перевозчика в преисподнюю Харона, скрежещущего зубами, остроносого, свирепого; живопись эллинистической картины, находящейся во второй камере и изображающей преисподнюю, более свободна по приему своего исполнения, но еще более свободна, хотя и более бессвязна картина в третьей камере этой гробницы, изображающая Одиссея, выкалывающего глаз Полифему. Затем в стенных картинах из гробниц, найденных графиней Бруски в Корнето (Тарквиниях), мы уже не видим ничего этрурского. Тарквинии – римский провинциальный городок. Стиль эллинистическо-римской стенной живописи господствует также и здесь.
Раннеэллинистическая живопись на вазах этрурской фабрикации также отличается некоторыми национальными особенностями. На одном из относящихся к ней известных рисунков мы видим Аякса, убивающего своего пленника, рядом с Хароном, держащим молот и ожидающим свою добычу. Надписи на рисунке – этрурские, сюжет – греческий, стиль представляет очевидное смешение этрурского и греческого элементов.
Совершенно эллинистический отпечаток имеют картины на двух саркофагах, найденных в Корнето. На лучшем из них, находящемся во Флорентийском музее, с каждой из четырех сторон изображены битвы амазонок с греками. Общее расположение фигур в этих сценах столь же симметрично, сколько свободны движения отдельных действующих лиц и групп; фон на длинных сторонах – голубоватый, на коротких – черный. Ровные яркие краски картин изящно и свежо выступают на этом фоне. Этрурские надписи доказывают туземное происхождение этого произведения; но художник, который его исполнил, был, вероятно, как и многие из его товарищей в Тарквиниях, родом грек.
В гробницах Рима также найдены древние картины, имеющие некоторое значение. Фрагменты больших стенных картин, добытые в 1876 г. из одной гробницы на Эсквилинском холме и хранящиеся ныне в Палаццо деи Консерватори в Риме, представляют сюжеты из римской истории, расположенные полосами один над другим и написанные на белом фоне. Полководцы, совещающиеся между собой на средней полосе, в надписях римскими буквами названы Марием, Фаннием и Квинтом Фабием. Хотя эти картины, как доказал Гельбиг, исполнены не раньше последних десятилетий III в. до н. э., однако они, если можно так выразиться, говорят языком древнейшей греческой живописи в переделке на итальянское наречие.
В остатках декоративной росписи стен в римских дворцах рассматриваемого времени римская живопись представляется уже вполне эллинистической. Так как первый стиль не производил картин, а третий возник лишь вместе с империей, то очевидно, что здесь перед нами остатки прекрасной стенной живописи второго стиля.
Рис. 486. Одиссей в преисподней. Фреска из Эсквилина
К началу ступени развития, о которой идет речь, нужно отнести, согласно замечаниям Витрувия, эсквилинские пейзажи с сюжетами из "Одиссеи", о которых было упомянуто выше. Автор настоящего сочинения, издавший их в хромолитографиях в 1877 г., относил их тогда ко времени императора Августа, но теперь охотно присоединяется к мнению Мау, который находит, что эти картины, судя по их исполнению, должны быть отнесены приблизительно к 80 г. до н. э. и что приписывать их времени императора Траяна, как делают это другие исследователи, невозможно. По-видимому, они находились, как явствует из новейших отчетов о раскопках, не на одной высоте с глазами зрителя, а на верхней части стен комнаты со сводом, на что указывают также перспектива пилястр, разделяющих эти картины, и малая величина сделанных на них греческих надписей. Сохранился непрерывный ряд картин одной стены. Мы видим перед собой обширный пейзаж как бы позади восьми ярко-красных пилястр, с большим вкусом украшенных фантастическими капителями и написанных так натурально, что они производят впечатление настоящих. Среди этого пейзажа происходят сцены описанных в "Одиссее" приключений Улисса среди лестригонов, у Цирцеи и при путешествии в преисподнюю (рис. 486). Все эти сцены расположены в том же порядке, в каком рассказывается о них в поэме, и изображены чрезвычайно живо и понятно в фигурах очень небольшой величины. Картины эти, сливаясь одна с другой, тянутся вроде панорамы позади красных пилястр, совершенно независимо от деления стены этими пилястрами на части. Пятая картина слева, которая, судя по ее перспективе, была средней на стене, архитектонически выдается вперед благодаря тому, что на ней изображен дворец Цирцеи. Здесь, на одной и той же картине, Одиссей и Цирцея фигурируют дважды, в различных, следующих один за другим эпизодах – прием, к которому древние художники продолжали прибегать и после того, как стали изображать в картинах замкнутое в определенных рамках пейзажное пространство, но пользовались этим приемом реже, чем художники средних веков и раннего Возрождения. Пейзажи написаны широко, не без ясных намеков на атмосферные световые эффекты. Особенно хороша в этом отношении третья картина слева, изображающая голубую морскую бухту, в которой лестригоны уничтожают корабли греков, и предпоследняя, представляющая вход в преисподнюю среди великолепного пейзажа, проникнутого настроением; трудно найти в древней живописи что-либо подобное этим картинам. Приемы живописи – чисто современные в тогдашнем и нынешнем смысле слова. Свободные широкие мазки кисти лежат один возле другого, не сливаясь между собой, и зритель получает впечатление как бы настоящих света и воздуха.
Рис. 487. Римская улица. Фреска в доме Ливии на Палатине в Риме
Фрески в так называемом доме Ливии или Германика на Палатине, вероятно, полувеком моложе описанных пейзажей. Их декоративная система дает нам понятие о позднейшем развитии второго стиля. Изображенная здесь архитектура принадлежит уже к таким, которые только, пожалуй, могут быть осуществлены на самом деле. В обоих боковых придатках таблинума этого дома господствует архитектурная живопись: изображены коринфские колонны, как будто стоящие в некотором расстоянии от стен. В таблинии, как и в триклинии, стены украшены картинами, из которых одни изображают виды, как бы рисующиеся вдали через отверстия окон, другие, очевидно, представляют подражание картинам, писанным на досках. К числу видов вдаль принадлежат "священные пейзажи" в триклинии и римские уличные сцены в таблинии; в картинах этого второго рода мы видим выходящие на улицы Рима многоэтажные высокие дома, поднимающиеся вверх в виде террас, с небольшими балконами на колоннах и человеческими фигурами (рис. 487). Большие картины мифологического содержания в таблинии, из которых на одной представлено похищение Ио, а на другой – преследование нимфы Галатеи Полифемом, производят впечатление писанных на досках и вставленных в стену. Небольшие жанровые сцены жертвоприношений вверху стен таблиния, как можно судить по приделанным к ним дверцам, очевидно, подражают станковым картинам. Везде – мифологические изображения, бытовые сцены, пейзажи. У живописи того времени, видимо, уже был обширный круг сюжетов.
Еще немного дальше ведут нас фрески знатного дома отрытого в 1878 г. на правом берегу Тибра, близ Виллы Фарнезе, выставленные теперь в нижнем этаже Римского музея терм. Вообще они принадлежат ко второму стилю, однако их архитектоническая живопись уже представляет кое-где переход к той разновидности третьего стиля, которую принято называть "канделябрным стилем". Штукатуренные, украшенные легкой барельефной работой своды великолепны; на них в разных полях написаны одни подле других, чередуясь между собой с большим смыслом и вкусом, пейзажи, крылатые Победы, поясные изображения богов, вакхические сцены и мифологические сюжеты. Особенно замечательна черная стена с редко рассеянными по ней пейзажами, с лиственными, похожими на натуральные, гирляндами, вместо фруктовых гирлянд, между колоннами, с фризом, представляющим не римские, а греко-эллинистические сцены суда. Но всего любопытнее стены, на которых подражания картинам, писанным на досках, чередуются с открытыми видами вдаль. Однако ничто не доказывает, чтобы большие главные картины на этой стене, из которых важнейшая изображает в пейзажной обстановке нимфу Левкотею, кормящую младенца Вакха своей грудью, были действительно написаны, как это утверждают, наподобие сцен, видимых из окна, тем более что на той же стене представлены как бы висящими картины с совершенно таким же архитектурным обрамлением, подобные станковым картинам в рамках из колонн, какие были любимы в эпоху Возрождения. Наиболее очевидно подделываются под писанные на досках некоторые из картин в стиле V в. до н. э., исполненные в одних контурах, без всякого пространственного ограничения заднего плана. Однако в вопросе о заднем плане во всей доэллинистической живописи на досках этим картинам, которые, очевидно, есть подражания писанным на досках в старом стиле, нельзя придавать решающего значения. Ведь написал же, например, Лука Кранах в 1504 г. свой превосходный "Отдых на пути в Египет" среди роскошного ландшафта, а между тем в картине этого мастера "Венера и Амур", исполненной в 1509 г., фигуры рисуются на совершенно ровном черном фоне. Впрочем, эллинистическое происхождение живописи дома, о котором идет речь, подтверждается греческой подписью художника Селевка на одной из как бы написанных на досках картин в опочивальне, очень реалистично изображающих любовные сцены.
Рис. 488. Альдобрандинская свадьба. С фотографии Алинари
Хранящаяся в Ватиканском музее и пользующаяся всемирной известностью картина "Альдобрандинская свадьба", о которой мы упомянули в третьей книге (рис. 488), может быть отнесена к числу произведений стенной живописи второго стиля. Действие в этой картине, длинной подобно фризу, происходит в каком-то неопределенном, но просторном помещении с голыми стенами. В середине сидит на ложе новобрачная, целомудренно закутанная в покрывала; полунагая женщина, увенчанная цветами, быть может богиня красноречия, сидя рядом с ней, ободряет ее. Ожидающий жених сидит на ступеньке позади изголовья ложа. Слева идут приготовления ванны для омывания; справа три женщины, из которых одна играет на лире, совершают жертвоприношение. Композиция расположена еще сообразно с законами скорее скульптуры, нежели живописи; но и здесь рельефность моделировки достигнута посредством свободных, не сливающихся между собой штрихов кисти, с переходами красок из тона в тон, со смелым обозначением теней.
Ко второму стилю следует отнести еще одну картину, которая, однако, приводит нас уже ко времени императора Августа: мы имеем в виду стенную картину в так называемой вилле ad Gallinas, у Prima porta при въезде в Рим. Занимая все четыре стены, фресковая живопись этой виллы представляет собой один общий вид на роскошный, густой, подобно лесу, цветочный и фруктовый сад, оживленный птицами. Плиний Старший считал римлянина Лудия (имя его читается также Студий и Тадий), жившего при Августе, изобретателем пейзажных изображений не только "приморских городов" и "вилл с игривым штаффажем", но и садов. Быть может, Лудием написан и сад виллы ad Gallinas. Подобные картины так же, как и виды вилл и приморских городов, нередко встречаются в Помпее; но вышеозначенная фреска лучше их всех.
Картины второго стиля в ряду памятников кампанийской живописи не так многочисленны и не так хорошо сохранились, как среди памятников римской. Подражания картинам на досках с закрывающимися створками встречаются в кампанийской живописи столь же часто, как и картины, ограниченные с обеих сторон колоннами, а вверху стен помещаются более обширные пейзажи; в вилле Диомеда они заключены как бы в раме из пилястр, подобно тому, как одиссеевские пейзажи Эсквилина. Кое-где попадаются и облицовочные плитки, украшенные легкими, одноцветными или многоцветными изображениями фигур или пейзажами. К стенным и вставным в стены картинам второго стиля можно отнести, например, "Кипариса с его козулей" в одном из домов на Insula VI (14, 39, Sogliano 110) и молодых женщин, играющих в кости, в доме М. Цезия Бланда (VII, 1, 40). Но большинство настоящих картин Помпеи принадлежит третьему и четвертому стилям. Напротив того, развитие архитектонической живописи стен второго стиля, начиная от строгих и тяжеловатых перспективных изображений в Casa del Labirinto и заканчивая более роскошными, изящными, цветистыми декоративными украшениями дома М. Цезия Бланда и еще позднейшими, мы в состоянии проследить по весьма характерным образцам. Август Мау ясно и убедительно изложил, как к перспективно-архитектурным изображениям, рассчитанным на то, чтобы величина горницы казалась более обширной, постепенно присоединялись полосы украшений, представляющихся менее рельефными, и более богатые орнаменты; как картины, подражающие вставленным в стены, исчезали, чтобы уступить свое место разделению стен на отдельные поля, как постепенно становилось все более и более заметно стремление к превращению "архитектурного стиля" в "орнаментный".
Впрочем, в городах Кампании, засыпанных пеплом Везувия, встречаются также и настоящие станковые картины, написанные темперой на мраморе, но сохранившиеся лишь в контурах; они были предназначены для заделки в стены и представляют собой несомненно копии более древних, настоящих греческих картин. В Неаполитанском музее находится пять подобных картин, превосходно изданных Робертом в "Галльских программах" Винкельмана. Картины эти найдены в Геркулануме. Картина "Молодые женщины, играющие в кости" (рис. 489), на которой имеется подпись художника афинянина Александра (Alexandras), относится ко времени, протекшему между порой деятельности Полигнота и той, в которую трудился Зевксис. Более позднему времени принадлежат "Битва кентавров", "Пьющий Силен" и "Воз с впряженными в него волами". Шестая картина рассматриваемого рода происходит из Помпеи и представляет собой Ниобу и ее детей, гибнущих под стрелами Аполлона. На старейших из этих картин тени обозначены только штриховкой, а на позднейших мы находим более удачную моделировку посредством прокладки света и теней. В картине, изображающей семейство Ниобы, дворец, видимый в перспективе на заднем плане, представляет собой уже законченное ландшафтное целое. Для эллинистической эпохи Италии эти картины имеют, однако, значение лишь настолько, насколько они доказывают, что станковые картины в это время действительно вделывались в стены.
Рис. 489. Александр. Молодые женщины, играющие в кости. По Роберту
Мы уже говорили о лучших мозаичных полах эллинистического стиля, найденных в Италии. Знаменитая мозаика "Битва Александра Македонского с Дарием" (см. рис. 388) служила полом в Casa del Fauno, в Помпее, доме первого стиля II в. до н. э. Из того же дома происходят прекрасный мозаичный порог с изображением масок и фруктовых гирлянд, мозаичная картина так называемой неодушевленной природы, с утками, рыбами, животными и кошкой, пожирающей птицу, и мозаичное изображение "Осени", едущей на пантере. Но одной из самых изящных дошедших до нас мозаик надо признать найденную в Помпее, которую приписывают Диоскуриду с острова Самос (рис. 490). Все эти мозаики хранятся в Неаполитанском музее.
Особый род произведений итальянского искусства составляют работы, выгравированные на металле, а именно глубоко-контурные рисунки, вырезанные на металлических, большей частью бронзовых предметах, преимущественно на ручных зеркалах и ларчиках для туалетных принадлежностей, так называемых цистах. Гравированные греческие бронзы в Берлинском и Британском музеях так же, как и зеркала, найденные при раскопках в Коринфе и на острове Крит, свидетельствуют, что работы этого рода, положившие начало современному гравированию на меди, отнюдь не были чужды древним грекам. Однако число относящихся сюда произведений, найденных на греческой почве, ничтожно в сравнении с их изобилием в Италии. Зеркала принято называть этрурскими, так как они происходят главным образом из гробниц Этрурии; туалетные ларчики обычно называются пренестинскими цистами, потому что большинство их найдено в Пренесте (Палестрине). Следовательно, произведения данного рода, принадлежащие преимущественно III и II столетиям до н. э. и только отчасти более раннему времени, – это по большей части среднеитальянские изделия.
Рис. 490. Музыканты. Мозаика. С фотографии Алинари
Этрурские (и пренестинские) зеркала с задней своей стороны украшены гравированными рисунками, которые косвенным образом относятся к греческому искусству, но этрурские и латинские надписи при них, итальянские костюмы фигур в отображениях даже греческих мифов и этрурские демоны, встречающиеся в этих изображениях, указывают на их итальянское происхождение. Прототипы некоторых из этих довольно небрежных по рисунку произведений резца нисходят до VI столетия. Но в большинстве случаев от них веет духом эллинистического времени, к которому они почти все и относятся. Однако в гробницах они встречаются лишь вместе с позднейшими вазами местного изделия. Гельбиг в 1891 г. насчитал свыше 2 тыс. подобных рисунков на зеркалах. Многие из них получили обширную известность благодаря сборнику фотографий, изданному Герхардом. Рисунок на одном зеркале Грегорианского музея в Риме, изображающий единоборство между Пелеем и Фетидой, исполнен в строгом стиле аттической вазовой живописи V в. Напротив того, зеркало того же музея, с изображением юноши, едущего на колеснице, в которую впряжены четыре крылатых коня, как следует заключить по характеру этого изображения, относится уже к эллинистической эпохе. Большой известностью пользуются зеркала с изображениями Семелы, в Берлинском музее, возведения Геракла в боги, в Парижском кабинете медалей, и Менелая с Еленой, в Британском музее.
Пренестинские эллинистические бронзовые цисты (ларцы для туалетных принадлежностей), у которых корпус обычно украшен гравированными рисунками, могут быть признаваемы произведениями отчасти самого Пренесте; но их также привозили сюда из Рима, как это доказывает великолепнейший из всех экземпляров таких изделий, так называемая циста Фикорони, хранящаяся в Кирхерианском музее в Риме (рис. 491). Надпись на ней удостоверяет, что это работа Новия Плавция, исполненная в Риме; прежнее мнение, будто в этой подписи поименован изготовитель только ножек цисты, кончающихся внизу львиными лапами, теперь оставлено всеми. Корпус цисты украшен неразрывно связанными между собой гравированными изображениями, с одной стороны, высадки аргонавтов в стране бебриков, а с другой – наказания Полидевком царя варваров Амика, привязанного к дереву. Расположение всей этой композиции, одинаково тщательно и со вкусом разработанной в отношении как ландшафта, так и фигур, очевидно, заимствовано из какого-нибудь хорошего греческого оригинала IV в. Только немногие из рисунков на греческих расписных вазах отличаются таким изяществом форм, такой свободой в изображении ракурсов, такой уравновешенностью композиции, как эти гравюры на цисте. Исполнены они, очевидно, мастером, жившим в III в., и подобно тому, как Марк Плавций, расписывавший храм Ардеи, был малоазийский грек, Новий Плавций мог быть родом из Греции.
Рис. 491. Циста Фикорони. С фотографии Туминелло
Переходом к итальянскому ваянию рассматриваемого времени могут служить бронзовые цисты Средней Италии, украшенные пластической работой, например циста из Вульчи в Грегорианском музее в Риме, с выбивным рельефным изображением амазонок. Наряду с этого рода произведениями могут быть поставлены иллюминированные красками этрурские погребальные урны (ящики для пепла покойников), сделанные из алебастра или травертина и встречающиеся в большом количестве. На крышках этих по большей части прямоугольных каменных урн бывают помещены в полулежачем положении портретные фигуры умерших, величиной меньше натуры, моделированные грубо и сухо, с коротким туловищем и большой головой. Передние стороны урн обычно украшены рельефными изображениями сюжетов из греческих сказаний о богах и героях, притом воспроизведенными не в древнем эпическом их духе, а в позднейшем драматическом характере. Сами темы нередко трактуются довольно произвольно. Иногда, в угоду требованиям пространства, фигуры, относящиеся к одному и тому же мифу, разъединяются, или же, наоборот, фигуры различных мифов соединяются между собой; мотивы извращаются и искалечиваются, вводятся в действие этрурские боги и демоны. Всюду господствуют каприз и недоразумение. Часто встречаются также чисто этрурские изображения сюжетов из земной или загробной жизни, и в таких случаях бывают не грубее, чем в вышеупомянутых. Вообще исполнение – по большей части грубое, варварское. С этими художественно-ремесленными произведениями можно познакомиться лучше всего в Этрурском музее во Флоренции и в Грегорианском музее в Риме; они интересны для нас только как последние попытки этрурского искусства отстоять некоторую свою независимость от эллинизма, проникшего в Италию.
Как на крупное произведение этрурской пластики, относящееся к тому времени, можно указать на бронзовую статую Авла Метелла, найденную в Тразименском озере и хранящуюся во Флорентийском музее. Метелл изображен в натуральную величину, стоящим с поднятой вверх рукой, подобно оратору; фигура его, по древнему приему ваяния, или в подражание такому приему, твердо опирается в землю обеими стопами. В пропорциях его тела, складках одежды и экспрессии сурового лица видно нечто этрурское, непосредственное, тем не менее и в этом произведении уже чувствуется влияние эллинистической манеры, потому что индивидуальность лица выражена здесь не резче, чем в некоторых чисто эллинистических скульптурных портретах.
Рис. 492. Аполлон. Один из остатков скульптурного украшения фронтона в Луни. По Милани
Эллинистический, а в некотором смысле и этрурский элементы еще сильнее проявляются во фронтонных глиняных изваяниях храма в Луни, изданных Л. А. Милани и хранящихся во Флорентийском музее. Они могут считаться типичными для фронтонных украшений некоторых других этрурских храмов рассматриваемой поры; большинство этих украшений или уничтожено временем, или дошло до нас в ничтожных обломках. На одном из фронтонов было представлено, по-видимому, состязание Марсия с Минервой, на другом – Аполлон и Артемида, избивающие детей Ниобы. Формы и поза Аполлона отличаются чисто греческой мягкостью, а между тем его голова с пухлыми губами, раздутыми ноздрями и гневными очами отличается этрурской реалистичностью, причем зрачки глаз, по приему скульпторов, быстро распространившемуся в Италии и сделавшемуся общим в римскую эпоху, выделаны пластически (рис. 492).
В Риме за этим реалистическим течением последовала идеалистическая реакция, с которой мы уже знакомы. В конце республиканской эпохи рядом с новоаттической скульптурой появилась в Италии великогреческая, или греко-итальянская, преследовавшая те же самые цели. Отцом ее был Пазитель, родившийся в Южной Италии, вероятно, раньше 100 г. до н. э., получивший, подобно всем жителям ее городов, права римского гражданина уже в 80 г. и трудившийся в Риме главным образом во времена Помпея. Основная особенность его искусства, архаистичность, по всей вероятности, обусловливалась его ученостью, плодом которой было составленное им сочинение "О выдающихся произведениях искусства всего мира". Произведений его самого не дошло до нас ни единого, и только из письменных источников мы знаем, что это был многосторонний мастер, прекрасно владевший техникой всех отраслей искусства. Его ученик Стефан выставил свое имя на вышеупомянутой мраморной статуе Виллы Альбани, которая признана копией древнегреческого изваяния юноши, впоследствии повторенного в различных вариациях. Учеником Стефана называет себя Менелай, группа которого, изображающая сцену прощания матери с сыном и находящаяся в музее Буонкомпаньи в Риме, вероятно, заимствована из какого-нибудь греческого надгробного памятника. Язык форм Менелая свободен, полон и чист, но искренность чувства, выраженного в этой группе, все-таки не оказывает сильного непосредственного впечатления.
Рис. 493. Помпей. С фотографии
Рис. 494. Брут. С фотографии Алинари
Такое впечатление производят на нас больше всего портретные бюсты последних времен республики, хотя относительно изображенных в них личностей существует по большой части разногласие. Например, относительно так называемого бюста Юлия Цезаря в Неаполитанском музее, бюста Цицерона, в копии, принадлежащей Мадридскому музею, мраморного бюста в Неаполитанском музее, слывущего портретом Помпея (рис. 493), бронзового бюста в Капитолийском музее, который считают портретом Брута (рис. 494), портрета Помпея в Нейкарлсбергской глиптотеке, в Копенгагене, составилось мнение, что в их лицах еще больше индивидуального, жизненного, близкого сходства с натурой, чем в индивидуальнейших из портретных бюстов эллинистической Греции. Однако это мнение, быть может, ошибочно; по крайней мере, трудно поверить, чтобы эти бюсты были исполнены в Риме не греками, а римлянами, так как в рассматриваемое время мы крайне редко встречаем скульпторов с римскими именами. На то, что римлянин Копоний изваял статуи, олицетворявшие 14 народностей, покоренных Помпеем, надо смотреть как на исключение. Вышеупомянутые художники новоаттического направления в Риме, Пазитель, Стефан и Менелай, а также Аполлоний, исполнивший для Капитолия новую статую Юпитера, и Аркесилай, изваявший Венеру для храма Цезаря, богиню благополучия (Felicitas) для Лукулла и Фурию, укрощаемую Амуром, для Варрона, были греки.
Со времени Пазителя у скульпторов вошло в обыкновение пользоваться при работах всякого рода глинными моделями, вследствие чего особенности стиля, при различии в технических приемах, обусловливаемых материалом, постепенно сглаживались. Об Аркесилае рассказывают, что его модели ценились дороже, чем оконченные произведения других мастеров.
II. Искусство времен Римской империи
1. Введение. Архитектура
Искусство времен Римской империи – всемирное, отличающееся пристрастием к роскоши. Оно представляет собой вообще последнюю ступень развития греческого искусства, на которой его упадок и искаженность открыли, однако, путь к новому художественному творчеству. Насколько много в этом всемирном искусстве "римского" и "императорского" наряду с эллинским – еще не совсем выяснено. Во всяком случае, на вопрос о том, существовало ли "искусство Римской империи", мы, вместе с Викгоффом, даем утвердительный ответ, хотя и смотрим на это искусство иначе, нежели Викгофф, а также Роберт, выставлявший достаточно веские доводы в подтверждение своего мнения о том, что искусство императорской эпохи жило и обогащалось за счет эллинизма.
После исследований Адлера становится общепринятым взгляд, что римское зодчество, как является оно в Пантеоне, во дворцах императоров, монументальных банях (термах), даже в триумфальных арках и украшениях театров, изобретено не в Риме и для Рима, как это признавали прежде, но возникло из подражания образцам эллинистического Востока и соперничества с ними. Как известно, архитектором роскошных сооружений Траяна был Аполлодор Дамасский; в последнее же время этому греческому зодчему, уроженцу дальнего Востока империи, приписывают также внутреннюю отделку Пантеона в нынешнем его виде. Что при всем том в некоторых храмах все еще заметно влияние древнеитальянского устройства, что такое сооружение, как римский Колизей, по своему общему плану, чисто итальянского происхождения, что водопроводы, поддерживаемые арками и тянущиеся со всех сторон к Риму на протяжении многих миль, носят на себе местный отпечаток – все это столь же очевидно, как и тот факт, что в отдельных формах римских зданий выказывается итальянский вкус. О живописи в Риме и Италии можно говорить о дальнейшем развитии только стенной, так как от станковой живописи не дошло до нас ничего, кроме портретов, закрывавших собой лица мумий позднеэллинской эпохи Египта. Викгофф доказал, и мы охотно соглашаемся с его мнением, насколько кажется нам это возможным, что так называемый третий стиль помпейской стенной росписи произошел из Египта; но при той руководящей роли, которую получила всемирная столица на берегах Тибра, было в порядке вещей, что четвертый стиль для Италии сложился впервые в Риме. Однако в виду общего положения всемирного искусства в рассматриваемую пору невероятно, чтобы этот стиль был изобретен в Риме и римлянами. Его легкая фантастичность совсем не соответствует римско-итальянскому характеру. После четвертого стиля живопись уже не создавала ничего нового. Культивируя чисто эклектически то одно, то другое из прежних направлений, она приняла участие в упадке образных искусств, происшедшем в течение немногих столетий. Что касается скульптуры, то она находилась в несколько иных условиях. Рядом с классическим, подражавшим древности направлением, господствовавшим во времена императора Августа и позднее в школе Пазителя и новоаттической школе, образовался, произойдя от римской любви к славе и древнеитальянского реализма, стиль триумфальных рельефов – особое направление, которое можно считать главным в искусстве Римской империи, если вообще признавать существование этого искусства. Римское национальное художественное чувство выразилось отчасти и в римской растительной орнаментике, отдельные формы которой стали более свободны, роскошны и натуральны, хотя некоторые из них развились в подобном же роде и на эллинистическом Востоке. Если италийский, римский дух едва заметен в осеннюю пору вообще искусства империи, то в частностях этого искусства он дает знать о себе с достаточной ясностью. Подобно тому, как эпоха империи началась с классицизма, с некоторого рода возрождения древнегреческих форм, точно так же в середине II в. до н. э. этой эпохе пришлось пережить, под влиянием софистов и прежде всего в области литературы, второе "возрождение", питавшее особенное пристрастие к греческому Востоку и вскоре сделавшееся заметным также и в образных искусствах, но лишь на короткое время отсрочившее их окончательный упадок.
Но настоящий упадок после этой эпохи наступил сначала только в живописи и скульптуре. Что касается архитектуры, то она шла своим путем. В отношении разработки и расчленения монументальных внутренних помещений после того, как признание христианства (миланский эдикт о веротерпимости 313 г.) погасило свет языческого искусства, она стала считать своим призванием устройство таких помещений. Так смотрит на нее в особенности Шмарсов. Возрастание населения в Риме требовало и более обширных и пышных общественных зданий. Общий упадок проявлялся только в отдельных архитектурных формах. Конфигурация общего плана, искусство выводить своды и соединять их с колоннами и прямым антаблементом в течение всего времени Римской империи находились в прогрессирующем развитии по пути к полному владению массами; соответственно этому, в области зодчества искусство первых времен христианства создало свои первые произведения. В чем состояли точки соприкосновения между ними и языческими постройками, мы увидим впоследствии.
Римское зодчество получило отпечаток вкуса и характера повелителей империи. Во времена Августа и его преемников из династии Клавдия Рим окончательно превратился из глиняного города в мраморный. К форуму Юлия Цезаря прибавился форум Августа. Колоннады следовали за колоннадами, триумфальные ворота за триумфальными воротами, крыши храмов высились одни над другими, полукруглые трибуны вырастали одна против другой; строительная деятельность первых императоров распространилась в отдаленнейшие провинции "Священной Римской империи". Своды отнюдь еще не были общим явлением в зданиях. Круглый Пантеон Агриппы (27 г. до н. э.) в Риме, построенный раньше сохранившегося до наших дней Пантеона Адриана, по мнению нашему и Петерсена, по всей вероятности имел деревянную шатровую крышу и увенчивался действительно массивной бронзовой шишкой пинии, хранящейся в саду Ватикана. От терм Агриппы сохранились лишь жалкие развалины. Но зато устояли 11 массивных коринфских колонн Нептуновского храма Агриппы, ныне перестроенного в биржу. Коринфские колонны этой ранней поры империи имеют еще классические пропорции, но венцы аканфовых листьев их капителей поднимаются все выше и выше, так что для усиков и завитков едва остается место между верхним рядом листьев и абакой. Почти все храмы этого времени, от которых остались развалины, были коринфского стиля; таковы в Риме, на форуме Августа, храм Марса Ультора, от которого сохранились три великолепные колонны каррарского мрамора, и, на Forum Romanum, перестроенный Тиберием храм Кастора, от которого уцелели три образцовые коринфские колонны паросского мрамора; в Ассизи – храм Минервы, в Бреше – широко раскинувшийся храм с тремя целлами, в Поле – храм Ромы и Августа с широким портиком, имевшим в ширину четыре, а в глубину две колонны. Лучше других сохранился храм принцев Гая и Луция в Ниме, известный под названием Maison carre e (рис. 495). План его – также римский: на высоком основании находится портик, имеющий с фасада 6, а в глубине 3 колонны; стены целлы с остальных трех сторон окружены прилепленными к ним полуколоннами, производящими впечатление коринфской колоннады. Как велико было пристрастие к коринфскому стилю в первое время империи, о том можно судить по нижней колоннаде помпейского храма Аполлона, в которой капители были сперва ионические с угловыми волютами, но после землетрясения 63 г. н. э. переделаны в стукковые коринфские.
Рис. 495. Maison carre e в Ниме. С фотографии
В историческом отношении из всех гражданских сооружений первого времени империи особенно замечателен театр Марцелла (рис. 496). Постройка была начата еще при Юлии Цезаре и окончена только в 13 г. до н. э. при Августе. Расчленение и украшения его наружной стены, часть которой сохранилась, считаются до сих пор образцом стенной орнаментации стиля, уже знакомого нам по Табуларию (см. рис. 480), его главная особенность – сочетание арки с прямым архитравом. Там, где при сооружении театров нельзя было устраивать места для зрителей, как в Греции, на естественном склоне горы, надо было возводить для них массивные каменные подпирающие стены, которые по практическим и эстетическим соображениям строились в виде аркад с циркульными дугами, причем каждому их этажу соответствовал ярус мест внутри здания. Но греки и римляне эллинистической поры так привыкли к колоннадам, что не могли представить себе художественно выполненную постройку с аркадами из циркульных дуг без полуколонн и архитрава над ними. Поэтому мы находим между каждыми двумя соседними арками примкнутую к стене полуколонну и горизонтальный архитрав, который, по-старинному, тянется во всю длину здания, опираясь на капители колонн и вершины дуг. При этом в нижнем этаже мы видим дорический, в среднем – ионический, в верхнем – коринфский ордена. Стволы всех колонн в театре Марцелла – гладкие, и в дорическом стиле заметны этрурские переделки.
На той же художественной идее, как и расчленение наружности стен, основана общая орнаментация римской триумфальной арки. Сооружение в виде свободно стоящего куска стены, прорезанное парадными воротами и воздвигнутое на пути шествия триумфатора, служило символическим выражением приветствия ему со стороны его родного города. Обычно верх ворот имеет форму дуги полукруга, которая образует в толще стены коробовый свод. Вначале довольствовались только одной такой аркой с приставленными к той и другой из ее сторон полуколоннами или парами полуколонн. Но вскоре стали делать в триумфальных воротах по три пролета с дугообразным верхом – большой в середине и два меньших по его бокам. Позднейшее видоизменение этого типа сооружений с целью большей пышности составляют ворота с квадратным планом, образующие два пролета, взаимно перекрещивающиеся под прямым углом, так что сооружение открывается арками со всех четырех сторон. Обрамляющие триумфальную арку поверхности покрывались пластическими украшениями. Верхняя стена, венчающая постройку (аттика), служила местом для надписей и вместе с тем подножием для бронзовой статуи или триумфальной колесницы, увенчивавшей все сооружение (рис. 497, 498). По данным, собранным Паулем Граефом, от времен Римской империи дошло до нас не меньше 125 триумфальных арок, воздвигнутых в честь императоров, в том числе 10 – в Риме, 20 – в других городах Италии, 14 – во Франции, 6 – в Испании, 1 – в Германии, 20 – на Востоке и не менее 54 – в Африке. Из них 85 имеют только по одному пролету, 7 – по два, 22 – по три, 2 – по четыре пролета; у 9 арок – план квадратный и пролеты, открывающиеся на все четыре стороны.
Рис. 496. Часть театра Марцелла в Риме. С фотографии
Обычай воздвигать подобные сооружения для торжественного въезда победителей, возвращающихся в свое отечество, восходит до эллинистической эпохи.
Еще в 121 г. до н. э. триумфальная арка была воздвигнута одним из Фабиев на Forum Romanum.
Но так же плохо, как она, сохранились в Риме и триумфальные арки времени Августа, за исключением, быть может, арки Друза. Чтобы познакомиться с ними, надо обозреть всю империю. Из числа арок с одним пролетом в арке Августа, в Риме, над колоннами довольно слабой архитектуры мы находим род фронтона; в арке в Аосте над коринфскими колоннами, украшавшими ее также и с боков, помещен дорический триглифный фриз; арка в Сузе, в Верхней Италии, построенная в 8 г. н. э., отличается коринфскими угловыми колоннами благородной формы и фризом, тянущимся на всех четырех сторонах и украшенным пластическим изображением сцен жертвоприношения. Арка Тиберия, в Оранже (см. рис. 497), имеет три пролета; над средним, главным пролетом поверх антаблемента колонн выделан нааттике треугольный фронтон Вёльффлин подробно исследовал архитектоническое развитие однопролетных триумфальных ворот в Италии. Только в древнейших арках имеется перед аттикой ложный фронтон, а коринфские капители украшают не только пристенные колонны, но также и подпоры ступней арки пролета, причем как колонны, так и эти подпоры стоят на одном общем цоколе или, по крайней мере, на цоколях одинаковой вышины.
Рис. 497. Триумфальные ворота Тиберия в Оранже С фотографии
Рис. 498. Триумфальные ворота Тита в Риме. С фотографии Броджи
Затем, еще в раннюю пору империи, к архитектуре колонн и арок прибавляется особый род стенной отделки, в которой прямоугольные углубленные пространства в промежутках между полуколоннами или пилястрами увенчиваются попеременно одни небольшими фронтонами, другие невысокими дугами, как это мы видим, например, на наружной стене здания Эвмахии в Помпее, принадлежащего времени Тиберия (рис. 499).
Насколько в Греции еще при Августе продолжали употреблять дорический стиль с прямолинейным антаблементом и увенчанием ворот фронтонами, можно судить по воротам на Рыночной площади в Афинах, сооруженным на пожертвования Цезаря и Августа. Но пропорции этого сооружения ясно свидетельствуют о том, что и в Элладе уже давно утратилось понимание силы, свойственной дорическому стилю.
Императорский дворец на Палатинском холме в Риме в эпоху Августа сравнительно еще мало чем отличался по своему расположению от жилищ частных людей; но по мере того, как возрастали требования склада императорской придворной жизни, дворцы становились обширнее и роскошнее. После дома Августа был построен дворец Тиберия и Калигулы, от которого сохранились лишь крытые сводами коридоры подвального этажа.
Исчезнувшая гробница Августа, построенная им самим в 28 г. до н. э., была, по-видимому, роскошнее, чем дворец этого императора. Нижнюю ее часть составлял массивный каменный барабан, поверхность которого была расчленена на полукруглые ниши. На этом сооружении высился усаженный вечнозелеными деревьями земляной курган с бронзовой статуей императора на вершине. В архитектурном отношении интереснее этой гробницы памятник семейства К. Юлия в Сан-Реми, близ Арля, относящийся к более позднему времени. На великолепном основании, украшенном рельефами, стоит первый этаж сооружения, имеющий вид триумфальной арки, открывающейся на все четыре стороны; над ним высится, в виде верхнего этажа, единственный из уцелевших до нашего времени моноптеров, то есть круглый храм без целлы, состоящий из колонн, расположенных по кругу, под одной общей кровлей. Колонны в обоих этажах – коринфского ордена.
Рис. 499. Отделка стены в здании Эвмахии в Помпее. По Овербеку
Гробница Цестия, умершего в 29 г. до н. э., в Риме, имеет форму настоящей египетской пирамиды. Египетские обелиски со времен Августа усердно перевозили в Рим с берегов Нила. Еще до сей поры дюжины обелисков, расставленных на разных площадях вечного города, составляют одну из его особенностей.
После большого пожара, уничтожившего большую часть Рима при Нероне (в 64 г. по н. э.), этот город с миллионным населением возродился в еще более роскошном виде.
Золотой Дом Нерона, прерываясь садами, простирался от Палатинского холма до Эсквилинского; перед дворцом красовалась колоссальная бронзовая статуя императора, превосходившая своей величиной Колосса родосского, а именно имевшая 110 футов высотой. Богато украшенные гроты, которые прежде считались частями терм Тита, мы, вместе с Ланчиани и другими, признаем теперь остатками этого Золотого Дома.
Рис. 500. Ионические колонны храма Сатурна в Риме. С фотографии Алинари
При императорах из фамилии Флавиев, Веспасиане, Тите и Домициане (69-96 гг.) строительная деятельность приняла в Риме огромные размеры. Веспасиан расширил большие общественные площади с колоннадами, прибавив к ним свой форум Мира с храмом Мира. По смерти этих цезарей им тотчас же начинали воздавать божеские почести. От храмов Веспасиана и Тита уцелели три коринфские колонны на форуме, стоящие неподалеку от десяти гранитных колонн храма Сатурна (рис. 500), которые, когда они ни были бы исполнены, раньше или позже, во всяком случае являются в Риме главными представителями колонн с ионическими капителями, имеющими угловые волюты. На другом конце форума высятся однопролетные триумфальные ворота Тита (см. рис. 498), воздвигнутые с соблюдением классических пропорций и украшенные великолепными рельефами; на их полуколоннах мы впервые встречаем римскую капитель стиля композита: над двумя рядами аканфовых листьев помещена верхняя часть ионической капители с угловыми волютами. На аттике ворот Тита уже нет фронтона. На подпорах ступней свода арки коринфские капители уступили свое место простым выступам. Но всемирную славу зодчество Флавиев приобрело громадным амфитеатром, который, будучи известен под названием Колизей, может считаться в некотором отношении самой грандиозной из античных руин (рис. 501, а). С художественной точки зрения в нем интересна для нас преимущественно внешняя отделка. Она четырехэтажная; каждый из трех нижних этажей прорезан арками, в промежутках между которыми, как в театре Марцелла, стоит по колонне, причем колонны в первом этаже этрурско-дорические, во втором – ионические, а в третьем – коринфские. Четвертый этаж выше каждого из нижних трех и состоит из глухой стены с редкими четырехугольными окнами, а снаружи разделен в горизонтальном направлении на равные компартименты плоскими коринфскими пилястрами. С внутренней стороны эта верхняя часть здания представляла собой заднюю стену галереи с колоннами, которая шла вокруг всего верхнего яруса эллиптического амфитеатра. Хотя арена Колизея была не самой обширной в древнем мире, так как арены амфитеатров в Поццуоли и Таррагоне занимали сравнительно большую площадь, тем не менее Колизей своим общим великолепием превосходил все здания подобного рода. Кроме вышеупомянутых наиболее известные амфитеатры находятся в Вероне, Капуе и Помпее в Италии, Арле и Ниме в Южной Франции, Поле в Австрии, Эль-Джеме в Тунисе и Пергаме в Малой Азии. Величественность архитектуры Флавиев выказывается также в сохранившихся развалинах их дворца на Палатинском холме в Риме. Мы распознаем здесь, между прочим, приемный зал и можем вообразить себе всю роскошь его колонн, обширность его купола, блеск мрамора и пышные краски, которыми было расцвечено это сооружение, можем представить себе громадный, обставленный колоннами двор, на который выходили двери и ниши, находим остатки островка террас среди бассейна, принадлежавшего к нимфеуму. Нимфеумы – гроты с водоемами и фонтанами, считались в то время необходимой составной частью дворцов и богатых домов. Ввиду постоянной в них сырости их ниши обычно были отделаны мозаикой.
Рис. 501. Колизей (а) и Пантеон (б) в Риме. С фотографии Алинари
Новая фамилия императоров, царствовавших в течение почти целого столетия, начинается Нервой. Фальшивая галерея на форуме Нервы, принадлежавшая к ограде храма Минервы, представляет собой дальнейшее развитие архитектурной декоративности. Колонны здесь не уходят наполовину в стену, не являются в виде полуколонн, а стоят свободно, отдельно от нее. Поэтому их антаблемент выдается из стены гораздо сильнее, чем бывало раньше, и в этом выступе вперед участвует также и аттика, на которой помещено рельефное изображение Минервы.
Великий греческий зодчий Траяна (98-107 гг. н. э.) Аполлодор Дамасский выстроил Траяновский форум с его огромными полукруглыми трибунами, крытой бронзовыми листами базиликой (Basilica Ulpia) и трехпролетной триумфальной аркой. На этом форуме, некогда считавшемся одним из чудес света, а теперь запущенном, застроенном и только отчасти расчищенном, до сей поры высится громадная триумфальная мраморная колонна Траяна. Она стоит на массивном кубическом пьедестале, украшенном рельефами; подобно другим памятникам такого рода, она служила носительницей дара, посвященного богам, местом, на котором стоит статуя императора. Базу этой колонны образует собой чешуйчатая подушка; стержень ее высотой 27 метров обвит, как лентой, спиралью рельефных изображений, длиной 200 и шириной 1 метр, делающей 22 оборота. Стержень увенчан эхином ионического характера. Колонна была некогда раскрашена, что усиливало получаемое от нее впечатление блеска, роскоши и стильности.
Вероятно, Аполлодором построены и термы Траяна, о гротах которых мы уже упомянули. По-видимому, они поразили римлян своими мощными сводами, так как с этих пор подражание им встречается в Риме все чаще и чаще. Из траяновских сооружений сохранились также однопролетные триумфальные арки в Беневенте и Анконе, из которых первая отличается роскошью своих рельефных украшений, а вторая представляет первый пример свода, опирающегося не на оформленные угловые устои, а покоящегося прямо на карнизе, увенчивающем нерасчлененную стену. Но страсть Траяна к постройкам распространялась и далеко за пределы Италии. На вершине горы пергамского Акрополя стоял Траянеум – храм коринфского ордена, замечательный богатством своих пластических декоративных форм и украшений.
Преемник Траяна Адриан (117-138 гг.) чувствовал себя уже чисто всемирным владыкой. Его сооружения украшали север и юг, запад и восток империи. Рим был обязан ему, между прочим, двойным храмом Венеры и Ромы, развалины которого до сего времени свидетельствуют о его своеобразном великолепии. Он состоял из двух целл, оканчивавшихся двумя полукруглыми абсидами и крытых коробовыми сводами, отделанными внутри роскошными кассетами; целлы эти примыкали друг к другу своими абсидами. Их портики, имевшие по четыре колонны между антами, выходили поэтому на две противоположные стороны в величественную коринфскую колоннаду, заключавшую в себе по десять колонн в узкой стороне и окружавшую целлы, отступая от них на расстояние двух поперечников колонны. Надгробный памятник Адриана, гигантский круглый цилиндрический нижний этаж которого превращен в крепость св. Ангела, составляет доныне центральное место в общем виде Рима. Но развитие типа круглых храмов до недосягаемого совершенства выразилось в произведенной при Адриане перестройке Пантеона, лучше всех других сохранившемся памятнике античного зодчества и первом примере архитектуры храма, рассчитанной главным образом на то, чтобы производить впечатление его внутренним убранством (см. рис. 501, б). На цилиндрической стене, имеющей в плане круг, лежит полусферический купол одинаковой с ней высоты. Величина поперечника основания храма равна высоте купола (более 40 метров). К цилиндрической стене, с входной стороны, пристроен портик, увенчанный фронтоном, с восемью колоннами на лицевой стороне и восемью, расположенными в четыре ряда по его глубине (рис. 502). Связь между прямолинейной задней стеной портика и цилиндрической стеной самого храма составляют незаметные снаружи пустые пространства неправильного очертания. Купол, кажущийся снаружи плоским (стена цилиндрического корпуса храма выше с внешней стороны, чем с внутренней), в нижней своей части поднимается вверх в виде ступеней. Громадная толщина, которая по необходимости дана стене для того, чтобы она выдерживала давление купола, облегчена устройством в ней снаружи замкнутых полукруглых камер с узкими проходами к ним, а внутри – восьми больших ниш, попеременно полукруглых и прямолинейных, украшенных коринфскими колоннами. Свет проникает внутрь через круглое отверстие в куполе. Спокойное освещение распределяется равномерно на все части этого самого благородного, самого пропорционального и изящного по формам сооружения в мире, которое и в настоящее время, несмотря на некоторые переделки и добавки, сделанные в нем по превращении его в христианский храм, все еще производит поразительное впечатление.
Рис. 502. План Пантеона в Риме. По Адлеру
Из сооружений императора Адриана в окрестностях Рима его вилла близ Тиволи представляет собой источник всякого рода античных находок. Она состоит из многочисленных отдельных построек и в малом размере отражает в себе, как в зеркале, архитектуру всего древнего мира.
Благодаря Адриану строительная деятельность сильно оживилась также в Афинах. В это время был наконец довершен большой храм Зевса между Акрополем и Илиссом. Олимпейон Адриана, от которого сохранилось 15 коринфских колонн, доныне стоящих на своих местах, был вместе с эфесским храмом Артемиды величайшим из всех греческих храмов. Уже одним количеством колонн окружавшей его галереи, в которой их было два ряда, по двадцать в каждом на длинных, и три ряда, по восемь в каждом ряду на коротких сторонах, он превосходил все прежние афинские храмы. Входом в Новые Афины Адриана (Адрианополь) служила Адриановская арка, по бокам пролета которой стояло по коринфской колонне (рис. 503). Две средние колонны верхнего яруса постройки увенчаны небольшим фронтоном.
К несколько более позднему времени относятся постройки вольноотпущенного афинского гражданина Ирода Аттика в Афинах и Олимпии. Главное сооружение, основанное им в Афинах, – крытый театр, одеон, у подножия Акрополя. Уцелевший от него трехъярусный фасад исполнен в стиле римских циркульных арок, который, следовательно, употреблялся в эту пору и в Афинах. Более свободной и роскошной по расположению была экседра Ирода Аттика в Олимпии – здание, похожее на нимфеум и составлявшее конечный пункт водопровода, направленного в город к месту игр.
Рис. 503. Вид из ворот Адриана на колонны Олимпейона в Афинах. С фотографии Костантина
Дальнейшее развитие архитектуры после "возрождения" времен Адриана называют стилем барокко. На самом деле, и в истории искусства одинаковые причины производят одинаковые последствия; когда глаз пресыщен чистыми, ясными формами, он начинает требовать разнообразия, резких противоположностей, более сильного раздражения. Первоначальное значение деталей забывается, или на него перестают обращать внимание. Осмысленная последовательность соблюдается все меньше и меньше. Резким переходам от света к тени, производящим впечатление живописности, отдается предпочтение перед конструктивной закономерностью. Поэтому, например, полуколонны, вместо того чтобы быть составной частью стены, начинают все чаще и чаще отделяться от нее и являться в виде стоящих перед ней полных колонн, которые, однако, не поддерживают ничего, кроме выдающегося вперед антаблемента; по той же причине из фронтонного треугольника удаляют среднюю часть вместе с его вершиной и заменяют ее произвольно придуманной декоративной надставкой; по этой же причине не довольствуются иной раз даже тем, что антаблемент имеет прямолинейный выступ или, в круглых зданиях, следует за данной кривизной их стен, но заставляют его закругляться и загибаться как вздумается. Капители колонн становятся более пышными и нередко украшаются фигурами. Раскрашенная штукатурка и подкрашенный белый мрамор все чаще заменяются цветными сортами мрамора и другими пестрыми каменными породами, привозившимися из отдаленных местностей и придававшими постройкам позднейшего времени империи своеобразный отпечаток. Этот стиль барокко подготовлялся с самого начала империи, но наибольшие вольности он стал позволять себе незадолго до ее конца, и не на итальянской или греческой почве, а в отдаленнейших провинциях. Так, например, в помпейском храме Исиды, перестроенном между 63 и 79 гг. н. э., мы видим вдающуюся во фронтон круглую нишу, которая, однако, не ломает вершины его треугольника. Круглые колонны перед стеной вместо полуколонн, примыкающих к стене, мы находим в некоторых зданиях, построенных еще до Адриана. Капители колонн или пилястр с фигурами, входящими в состав их украшений, мы встречаем еще в хорошее время Греции (Элевзис), встречаем и в эпоху Римской республики, например в храме Зевса Меулихия, и в первые времена империи, в Casa dei capitelli figurati в Помпее. Но вся эта новизна стала теперь повторяться чаще и в различных вариациях.
Из уцелевших триумфальных ворот позднейшего времени империи особенно замечательны трехпролетные ворота Септимия Севера и Константина Великого в Риме. Те и другие были украшены не полуколоннами, но полными колоннами, стоявшими перед стенами не слитно с ними. Триумфальную колонну императора Марка Аврелия в Риме, если не обращать внимания на ее стиль и содержание ее рельефов, можно признать повторением колонны Траяна.
Рис. 504. План терм Каракаллы в Риме. По Баумейстеру
О великолепии позднейших императорских дворцов дают нам наглядное представление многоэтажные развалины дворца Септимия Севера с их громадными сводами. Септицоний, роскошный фасад постройки императора на южной вершине Палатина, снесенный в XVI в., по-видимому, был связан с гидравлическими сооружениями. Массивное центральное сооружение предполагаемого храма Минервы Врачующей, развалины арок которого принадлежат к самым огромным в Риме, могло быть вначале также нимфеумом. В термах того времени бассейны воды и ванны были окружены всеми помещениями, обычными в греческих гимназиях и парках. Термы Траяна, построенные Аполлодором, по-видимому, послужили образцом для обширных, роскошных заведений подобного рода, становившихся средоточием общественной жизни высшего сословия в императорском Риме. После терм Каракаллы (211-217 гг. н. э.) и Диоклетиана (284-305 гг.) появились термы Константина Великого. Это кирпичные здания, облицованные мрамором, в галереях и залах которых искусство выводить своды в соединении с употреблением форм, свойственных колонной архитектуре, достигло высшего совершенства. Коробовые и крестовые своды громадного размера уступили место в круглых залах куполам различной конструкции. Крестовый свод, опирающийся на выступы антаблемента, лежащего на колоннах, возвратил этим последним, по крайней мере, кажущееся значение подпор, которое они имели в старину. Общее расположение терм, как это можно видеть по плану терм Каракаллы (рис. 504), при строгом соблюдении симметрии, отличалось свободой, ясностью и вместе с тем большой сложностью. Из терм Каракаллы, развалины которых, не искаженные перестройками, представляют наилучшую общую картину сооружений подобного рода, происходит нарядная капитель, украшенная фигурой человека геркулесовского телосложения (рис. 505). От терм Диоклетиана сохранились два зала, благодаря тому что были обращены в христианские церкви: круглый зал церкви Сан-Бернардо с ее древним куполом, на котором косые четырехугольные кассеты чередуются с восьмиугольными, и продолговатый зал церкви Санта-Мария дельи Анджели, в которой три громадных крестовых свода опираются на монолитные колонны красного восточного гранита. О пышности и величине терм Константина на Квиринале можно судить по поставленным неподалеку от них колоссальным статуям Диоскуров с их конями, которые, вероятно, украшали собой главный вход в эти термы, хотя и были изваяны раньше их постройки.
Рис. 505. Фигурная капитель из терм Каракаллы в Риме. С фотографии Алинари
Из остатков памятников времен Константина в Риме следует прежде всего упомянуть о громадных развалинах арок северного бокового нефа базилики Максенция (рис. 506). Базилика была заложена при Максенции и освящена при Константине. Она представляет собой образец крытой сводами базилики, состоящей, в противоположность прежним базиликам с плоским покрытием и средним и боковыми нефами, разделенными друг от друга колоннами, – в строгом смысле три нефа: с юго-восточной стороны ее находится портик, с северо-западной – полукруглая ниша (абсида), в середине – высокий главный неф с тремя крестовыми сводами, опирающимися на колонны, а справа и слева от него – по более низкому боковому нефу, с тремя коробовыми сводами каждый, расположенными поперечно по отношению к длинной оси здания.
При изучении этого устройства кажется, будто умирающая древность еще раз собрала все свои силы для того, чтобы оставить грядущим поколениям хотя бы в области архитектуры наследие, которое удовлетворяло бы потребностям нового времени.
Рис. 506. План базилики Максенция. По Конраду Ланге
Рис. 507. Аркатуры на императорском дворце Диоклетиана в Салоне. По Любке
Вне Италии римская архитектура, не изменяя своим главным принципам, охотно воспринимала особенности чуждой ей местной среды. Так, римское провинциальное зодчество в Германии отличалось сухостью, нередко даже грубостью. В Трире, временной резиденции императоров, начиная с Диоклетиана сохранились такие груды развалин, каких не найдешь нигде в Центральной Европе, за исключением разве Прованса. Здесь откопаны императорский дворец, амфитеатр и бани. Поучительным примером приспособления архитектуры к климатическим условиям является отсутствие в императорском дворце обычных на юге дворов, обставленных колоннами. Трирская базилика с одним нефом, заканчивающимся в глубине полукруглой абсидой, превращена в христианскую церковь. Неоконченная, но довольно хорошо сохранившаяся Porta nigra, монументальные трехъярусные ворота, бывшие некогда укрепленными городскими воротами, – постройка также IV столетия н. э. И здесь мы находим циркульные арки (в дверях, окнах и стенных нишах), обрамленные полуколоннами сухого дорического стиля, и антаблемент без выступа, не барокко, а несколько неуклюжий ренессанс. Памятник секундинийцев в Игеле, близ Трира, еще древнее: это постройка из песчаника, высотой 23 метра, в несколько ярусов, без всяких отверстий, остроконечная подобно пирамиде, изобилующая рельефными изображениями, варварская по своим отдельным формам, но отличающаяся благородством пропорций. Театр в Оранже с его великолепной стеной сцены, богато украшенной в стиле барокко, заслуживает внимания как лучше других сохранившийся памятник этого рода; он доказывает, что и в Провансе римский стиль не всегда оставался таким классическим, как в постройках Нима (см. рис. 495) и Сан-Реми.
В 305 г. н. э. Диоклетиан соорудил для своего спокойного местопребывания дворец в Салоне (Сполето), на далматском берегу. Это восьмиугольное крытое куполом здание, окруженное колоннадой, превратилось потом в христианский собор. В украшении его стен мы находим небольшие гладкоствольные колонны коринфского стиля, стоящие на кронштейнах и соединенные одна с другой циркульными арками, опирающимися на капители; этот мотив орнаментации является как бы предвестником средневековых аркатурных фризов (рис. 507). Архитектурные формы в рассматриваемое время, видимо, продолжали развиваться, подготовляя данные, полезные для будущего.
Рис. 508. а – стержень колонны с кронштейном из Пальмиры; б – стержень колонны с аканфовыми листьями у базы из Герасы; в – стержень колонны с кронштейном из Канавата. По Дурму
В Малой Азии сохранился целый ряд позднеримских храмов, в которых мы встречаем все древние ордена в самых разнообразных видоизменениях, считавшихся в то время обогащениями архитектуры, а потомством признанных ее искажениями. В Миусе существуют развалины римско-дорического здания с ионическими базами колонн. В Айцанои находился позднеионический храм, от которого еще уцелело 16 монолитных колонн. По словам Кёрте, это "наряду с Эрехтейоном самый блестящий из дошедших до нас образцов ионического стиля". В императорском храме коринфского стиля в Эфесе, посвященном Клавдию, мы видим фриз с выступающим вперед профилем; храм в Лабранде представляет фриз даже изогнутый кнаружи; но стена ограды храма Афродиты в Афродиазиасе была украшена двойными коринфскими колоннами, на которые опирались своими нижними краями попеременно треугольные и дугообразные фронтоны.
В Алжире трехпролетная арка Тимгада, африканского Помпея, – сравнительно ранний образчик произвольного применения традиционных архитектурных форм. В Пальмире (Тадморе), Гелиополе (Бальбек) и Герасе (Джераше), в Сирии, находятся гигантские остатки построек времен Римской империи в характере барокко, которые с первого взгляда можно принять за принадлежащие XVII или даже XVIII столетию. Эти сооружения, вычурные по форме, изобилующие подробностями, но величественные по пропорциям и весьма живописные по своему общему виду, явились также предвестниками архитектурных принципов и форм, развившихся в позднейшие века.
Рис. 509. Небольшой круглый храм в Бальбеке. По Фуртвенглеру
Пальмира лежит к северо-востоку от Дамаска. Большой храм солнца, к которому ведет колоннада, состоящая из четырех рядов коринфских колонн, был художественным центром этого некогда цветущего города. Колонны среднего ряда на трети своей высоты снабжены выступающими вперед кронштейнами, на которых, без всякого сомнения, стояли статуи (рис. 508, а): это также один из мотивов, перенятых потом средними веками. Арка ворот с плоским сечением камней ее свода, вход в храм, в виде пилона, как бы ущемленного между колоннами, и надгробные башни перед городом – художественные особенности Востока. Но большая галерея с колоннами принадлежит к числу самых замечательных греко-римских памятников подобного рода.
Рис. 510. План небольшого круглого храма в Бальбеке. По Фуртвенглеру
Бальбек находится в Ливане, к северу от Дамаска. Познакомиться с его роскошными сооружениями дает нам возможность великолепное издание Фраубергера. Главное сооружение – монументальный храм солнца, от которого уцелело шесть колонн. Он был расчленен дугообразными ребрами, поднимавшимися от пристенных полуколонн; притвор его был крыт крестовыми сводами. Но настоящее образцовое сооружение античного барокко – небольшой круглый храм в Бальбеке (рис. 509). В стене его круглой целлы устроено снаружи пять ниш, над полукруглыми верхними краями которых помещены также дугообразные выдающиеся вперед карнизы. Фризы над ними украшены свешивающимися вниз гирляндами. На гладкоствольные коринфские колонны, окружающие целлу, опирается антаблемент, который, однако, не тянется параллельно округлости целлы и в промежутках между колоннами представляется не выпуклым, а вогнутым и отступающим к стене целлы. Со стороны входа эта грациозная декоративная система во вкусе барокко нарушается, и притом не особенно удачно, прямолинейным портиком на четырех колоннах (рис. 510).
К югу от Дамаска сохранилось множество развалин римских сооружений, главным образом в Герасе. Поучительно, что здесь стержни колонн в нижней части, над базой, заключены в венец из аканфовых листьев (см. рис. 508, б), как это мы видели на надгробных стелах в древней живописи на вазах (см. рис. 311).
Рис. 511. Капитель стиля композита из Канавата. По Дурму
Рис. 512. Сферические треугольные клинья при переходе от четырехугольного основания к куполу (пандантивы) в Герасе и долине Меандра. По Дурму
В сооружениях собственно Гаурана, лежащего между Дамаском и Герасой, с которыми знакомят нас труды И. Г. Ветцштейна и М. де Вогюе, наблюдаются также замечательные явления: в Канавате мы видим колонны с выступающими из их стержней консолями и с капителями стиля композита, но без волют (см. рис. 508, в, 511); в храме Мусмийе мы находим над средним, расширенным интервалом между колоннами дугообразно приподнятый антаблемент. Но для истории купольных покрытий особенно важны развалины в Гауране и Герасе, а также некоторые из развалин в долинах Меандра и Гермоса. Раз достигнуто было умение класть своды из тесаного камня в виде правильных куполов, нетрудно было устраивать эти последние над круглыми пространствами; но для покрытия куполами помещений с углами, особенно квадратных в плане, надо было придумать какой-либо способ перехода от прямолинейности стен, на которых должен лежать купол, к его кривизне. В Гауране в постройках II и III в. н. э. встречаются купола над зданиями квадратного плана, в которых углы, образуемые вверху стенами, срезаны и закрыты каменными плитами, так что из квадрата получился сна чала восьмиугольник, а потом, при дальнейшем скашивании углов, шестнадцатиугольник. И в Риме при устройстве купольных покрытий, например в храме Минервы Врачующей и термах Каракаллы, еще прибегали к выдвиганию горизонтальных слоев камней одного над другим для достижения клиновидной формы перехода к куполу, что было тем более удобно, что речь шла о перекрытии не четырехугольных, но многоугольных помещений. Деятельность римских архитекторов на этом направлении можно назвать, по выражению Дурма, "робкой попыткой" по сравнению с изобретательностью почти современных им восточных зодчих (рис. 512). Здесь при образовании круглого свода над квадратным пространством мы впервые встречаемся со сферическим треугольником, так называемым парусом или пандантивом в его настоящем виде. В Герасе пандантивы сложены из обтесанных камней; в долине Меандра в одном кирпичном своде нашли пандантив, сложенный из оформленных камней (Formsteine). "Но это еще не следует считать проявлением великого стиля, – говорил Дурм, – а можно приветствовать только как подготовительный шаг к Айя-Софии и Петровскому собору".
Рис. 513. Фасад гробницы в скалах в Петре. По Дурму
Наконец, мы должны остановиться на восточных гробницах в скалах. Постепенное развитие в них стиля барокко можно проследить с особенной наглядностью. Среди фригийских горных усыпальниц, которые мы вместе с Ребером и Кёрте (см. рис. 229 и 230) считаем устроенными не раньше времен Римской империи, встречаются такие хорошие дорические фасады, какой находится, например, в Чукундже. Так называемые гробницы Авессалома, Захарии и Иакова в Кедронской долине под Иерусалимом, относящиеся, во всяком случае, к доадриановскому времени, представляют, за исключением способа их конструкции (например, гробница Захарии завершается пирамидой), в своих деталях еще довольно чистые дорические и ионические формы. Однако венчающим карнизом является в них нередко египетский желоб. Характер барокко в самой сильной степени имеют гробницы в скалах Петры, между Мертвым морем и Акабахским заливом (рис. 513). Они принадлежат III и IV в. н. э. Высеченные в скалах пышные фасады едва заметных погребальных камер нередко растянуты в ширину и достигают 30 метров в высоту. Они часто бывают в два яруса и более. Их колонны и пилястры, антаблементы и фронтоны представляют античные формы, трактованные совершенно произвольно. Середина их главного фронтона нередко как бы вырезана в вертикальном направлении и удалена прочь; в образовавшемся через то пространстве между сохраненными частями фронтона помещается род круглого храма, верхушка которого превышает построенный мысленно верхний угол фронтона. Как украшение особенно часто употребляется форма урны. При всей причудливости и фантастичности этого стиля в нем все еще ясно проглядывают основные формы эллинистическо-римской архитектуры, заключительным аккордом которой он и является.
2. Живопись
Во времена римских императоров главным родом живописи была живопись стенная. Но нам лучше известна стенная живопись Кампании, чем самого Рима, и еще больше известна живопись помпейская, образцы которой найдены в огромном количестве, описаны, опубликованы и исследованы в художественно-историческом отношении. Издание кампанийских стенных картин началось еще в XVIII столетии с большого увража Геркуланумской академии, за которым в XIX столетии следовали кроме других трудов сочинения Цана, Тернита, Рауль-Рошета, Никколини и Презуна. Но ближайшим исследованием этих многочисленных образцов, пролившим яркий свет на состояние живописи в императорскую эпоху, мы обязаны преимущественно Гельбигу и Мау.
Раскопки показали повсюду, что в начале времен империи стены внутри зданий почти сплошь расписывались яркими красками по штукатурке. Как сказано выше, несмотря на возражения со стороны других исследователей, мы вместе с Доннером фон Рихтером твердо придерживаемся того мнения, что эта роспись производилась главным образом по мокрой извести, то есть а фреско, но местами ретушировалась темперой.
Рис. 514. Портрет Паквия Прокула и его жены. Помпейская фреска. С фотографии Алинари
Если ко всей этой живописи мы будем относиться как к декоративной составной части зодчества, то наше внимание будут постоянно приковывать к себе разнообразие написанных на стенах архитектурных построений, или уходящих вглубь, или рисующихся на одной плоскости и составляющих по-прежнему главное средство расчленения стен, большая роскошь симметрического или ритмического чередования фона отдельных панно и обилие орнаментных мотивов, украшающих стены. Если же, напротив, мы станем смотреть на эту роспись глазами живописца, то нас в не меньшей степени поразит изобилие сцен с фигурами, пейзажей и изображений отдельных предметов неодушевленной природы, рассеянных по стенам, равно как иногда и разнообразие соединения подобных сюжетов посредством более или менее архитектонических украшений стен. Содержание картин с фигурами самое разнообразное. Правда, собственно исторические картины встречаются чрезвычайно редко. Геркуланумские и помпейские картины с фигурами в большинстве случаев представляют греческих богов и героев в том виде, в каком их изображает поэзия. Многочисленны также картины, идеализирующие повседневную жизнь и которые Гельбиг называет "эллинистическим жанром", – любовные сцены, пиршества, богослужебные обряды, музыкальные и другие развлечения. Женщины развлекаются с маленькими божками, поэты, музыканты и актеры – своими искусствами. Картины, взятые из жизни, изображают без прикрас преимущественно быт рабочего класса, и туземное их происхождение выказывается в безыскусственности воспроизведения сцен. Настоящие портреты редки, но порой встречаются великолепные работы в этом роде, каков, например, портрет Паквия Прокула и его жены, находящийся в Неаполитанском музее и удивительный по своей жизненной правде (рис. 514). Пейзажи встречаются всякого рода: и большие с мифологическим стаффажем или священными деревьями, и небольшие картины, изображающие только передний план с несколькими цветами, и виды уединенных утесистых местностей, оживленных лишь дикими зверями, и виды приморских городов и вилл художника Лудия. Картины эти, имеющие различную величину, изобилуют фигурами людей и богов, изображают суда, погонщиков мулов и всю уличную и береговую жизнь юга; они то занимают собой целые стены, то подражают станковым картинам, вставленным в рамы, то бывают разбросаны по цветному фону в виде отдельных украшений. Изображения из жизни диких и домашних животных, населяющих землю, воздух и воду, переходят в небольшие, красиво скомпонованные группы плодов, овощей и других съестных припасов, принадлежностей письменного стола и жертвенного алтаря. Человеческие фигуры и неодушевленные предметы являются то среди вполне определенной окружающей их обстановки, то на одноцветном фоне без всякого намека на место, в котором они находятся. Линейная перспектива в пейзажах обычно бывает приблизительно верна, но никогда не соблюдается с научной точностью. На рис. 515 – один из пейзажей Неаполитанского музея в том виде, как он написан в действительности, и так, как следовало бы исправить его согласно законам перспективы. Там, где над пейзажем расстилается чистое небо, нередко довольно верно передается, что оно голубого цвета в зените, а у горизонта, смотря по времени дня, кажется беловатым, светло-желтым или красноватым. Освещение, как правило яркое и веселое, бывает распределено равномерно. Тени, падающие от предметов, часто сильны и определенны. Они играют важную роль особенно в пейзажах, изображающих виллы. Но о передаче других атмосферных эффектов, кроме освещения, нет и помина. Единственная "картина ночи" во всей кампанийской стенной живописи, столь часто цитируемое изображение Троянского деревянного коня, хранящееся в Неаполитанском музее, и та, вероятно, оказалась бы менее "ночной" по краскам, если бы было возможно сличить их с тонами стен и предметов, которые ее окружали.
Рис. 515. Кампанийская живопись, изображающая гавань: слева – точный снимок с этого пейзажа; справа – его снимок с надлежащим исправлением перспективы
Как и прежде, целые стены, особенно садовых залов и оград, бывали заняты большими пейзажами. Подражания обрамленным станковым картинам, обычно с определенным пейзажным или архитектурным задним планом, резко выделяются из фонов стенных панно в центре последних, а также не менее очевидно представляются как бы приставленными или привешенными к архитектурным украшениям, написанным на стенах. Среди архитектурных орнаментов, окружающих панно, на цоколях и карнизах, представлены сидящими или стоящими всякого рода отдельные фигуры; такие же фигуры прислонены к колоннам и косякам или качаются на завитках и гирляндах. На самих полях стен вместо обрамленных картин нередко изображены летящие фигуры или группы фигур, придающие кампанийской стенной живописи особенную прелесть. Эти крылатые или бескрылые мифологические или вымышленные идеальные фигуры, свободно порхающие по стенам, отличаются изящной грацией и легкостью, впечатление которых производит помпейская стенная роспись вообще. На рис. 516 – летящая группа сатира, увенчанного ветвями итальянской сосны, и вакханки с тирсом в руке – стенная картина, найденная в Casa dei Dioscuri в Помпее и хранящаяся в Неаполитанском музее.
Рис. 516. Сатир и вакханка. Помпейская фреска. С акварельной копии К. Отто
Мы уже проследили развитие кампанийской стенной живописи почти до времен Августа. Крайний предел этого промежутка времени - 79 г. н. э., в котором Геркуланум и Помпея погибли при извержении Везувия. Следовательно, период этот охватывает собой приблизительно 100 лет, в течение которого господствовали два стиля. Около 50 г. н. э. на смену прежнему стилю явился новый. Но резкой грани между тем и другим провести невозможно. Третий и четвертый стиль, как мы называем их со времени исследований Мау, не произошли один из другого и непосредственно сливаются со вторым, архитектурным стилем, с которым мы уже знакомы. Третий придает большее значение плоскостным составным частям второго; в нем поверхности стен снова вступают в свои права; он превращает колонны и карнизы иногда прямо в полосы и ленты; пренебрегая перспективным удалением и, во всяком случае, ограничивая его, он увеличивает отдельные поля на стенах (рис. 517). Напротив, четвертый стиль развивает фантастические архитектурные элементы второго стиля еще дальше. Он не лишает рисунки, расчленяющие стену на поля, их архитектурного характера, как делает это третий стиль, но заменяет архитектуру второго стиля, хотя и написанную только, однако, во всяком случае, возможную, отчетливой, хотя и причудливой, легкой и игривой архитектурой.
Затем третий стиль обнаруживает пристрастие к растительным гирляндам натурального вида и цвета, написанным на светлом фоне, плотно связанным и свешивающимся, к плоским орнаментам на полосах, расчленяющих стену на поля, тогда как четвертый стиль возвращается к стилизованным растительным гирляндам второго стиля, к их блестящим краскам на темном фоне, сочетанию с живыми фигурами (рис. 518, а).
Рис. 517. Стена, выполненная в третьем стиле. Из Casa del citarista в Помпее. По Мау
Рис. 518. Стены, выполненные в четвертом стиле, в Помпее: а – стена в Casa del Sirico; б – стена с лепными украшениями в Стабиянских термах. С фотографий Зоммера
В третьем стиле предпочтение отдается черной краске для цоколя, красной киновари – для главного поля и белой краске – для верхних частей стен, хотя иногда встречаются также фиолетовый цоколь и голубые или желтые, реже зеленые, главные поля. В четвертом стиле сочетание желтой, красной и черной красок более часто; кроме того, появляется аккорд двух красок – желтой и небесно-голубой; фиолетовая краска исчезает, а красная киноварь уступает место коричневой или темно-красной. Тогда как в третьем стиле расчленяющие полосы белые или беловатые с фиолетовой, желтой и зеленой орнаментацией, в четвертом стиле архитектурные украшения сплошь ярко-желтого цвета, являющегося в этом случае, вероятно, подражанием позолоте. Общее впечатление, производимое стенами третьего стиля, – спокойное, холодное и благородное; стены четвертого стиля отличаются большей теплотой и нарядностью, но вместе с тем и фантастической ненатуральностью и игривостью росписи.
Древнейшему видоизменению третьего стиля дают название стиля канделябров, отличительный признак которого – расчленение стен при помощи канделябров, написанных зеленоватыми тонами, как, например, в Casa dei capitelli figurati в Помпее.
В числе помпейских домов третьего стиля главные – Casa del citarista, дом Цецилия Юкунда и дом М. Спурия Мезора. Но значительное большинство домов в Помпее принадлежит четвертому стилю. Роскошно орнаментированная стена на дворе Стабиянских терм в Помпее (см. рис. 518, б) доказывает, что в этом стиле к живописи присоединялась мозаика.
Третий стиль явился в Италию из Александрии. Об этом свидетельствуют египетские мотивы в его декорациях и фигуры египетского характера в его картинах. Но чтобы четвертый стиль был, как это утверждают, выработан в Риме итальянцами и для Италии – немыслимо, если принять во внимание весь ход развития античного искусства. Происходит ли он из Александрии или из Антиохии в Сирии, во всяком случае на него надо смотреть как на последнюю ступень эллинистического декоративного искусства. Хотя в этом стиле распределение фигур, свободно выступающих среди нарисованных архитектурных мотивов, иногда напоминает сценические представления, однако было бы неосновательно заключать из этого, как то делали некоторые, что само происхождение стиля кроется в театральном искусстве. Как бы то ни было, порицание Витрувия, как можно судить по эпохе, в которую жил этот писатель, относится скорее к произведениям второго стиля, вроде тех, которые мы видим на стенах Фарнезского дома, чем к четвертому стилю.
Наш взгляд на развитие третьего и четвертого стиля подтверждается обзором относящихся к ним картин. В третьем стиле на середине поля стены бывает по большей части изображена постройка вроде капеллы, и внутри нее помещена главная картина, преимущественно большой пейзаж с мифологическим стаффажем, с несложной сценой жертвоприношения или со священными деревьями. Задний план главных картин на темы из греческих сказаний о богах и героях составляли в большинстве случаев также ландшафты или постройки, хотя нередко те и другие заменялись простым белым фоном. Фигуры, нередко рассеянные по всему пространству без всякой связи между собой, имеют типично идеалистический характер, часто представлены в торжественно-строгих позах, с греческими чертами лиц, с рассчитанными движениями, в роскошной одежде, со старым, заученным расположением ее складок. Нельзя не заметить их зависимости от архаистического стиля скульптуры несколько более ранней и современной им эпохи, который разработали новоаттическая школа и школа Пазителя. Светлые, холодные краски без резких оттенков в желтых, фиолетовых, голубых и зеленых тонах, к которым изредка присоединяется ярко-красный, содействуют декоративно-колоритному впечатлению стен; тонкий, мелкий прием исполнения их росписи отличается тщательностью, но также и некоторой сухостью и скучностью. К произведениям подобного рода принадлежат стенные картины в помпейском доме М. Эпидия Сабина – "Освобождение Гезионы Гераклом", "Ипполит и Федра", "Диана и Актеон" и "Геракл и Музы" – на черном фоне, снабженные греческими надписями. Таковы в особенности многочисленные картины, отделенные от стен и перенесенные в Неаполитанский музей: "Ифигения в Тавриде" из дома Цецилия Юкунда, две большие картины на белом фоне, "Геракл и Несс" и "Мелеагр и Атланта", из Casa del centauro, две картины из одного дома, открытого позже, копии которых, работы Жильерона, находятся в Археологическом музее в Галле, "Ясон и Пелий" (рис. 519) и "Пан с нимфами". Характерные мифологические ландшафты третьего стиля представляют нам картины на четырех стенах комнаты, откопанной в 1889 г.: "Падение Икара", "Афина Паллада и Марсий", "Геркулес в саду Гесперид" и "Священное дерево с жертвоприносителями". Вторая из этих картин доказывает, что и в кампанийской стенной живописи два последовательных эпизода одного и того же происшествия иногда изображались среди одного и того же пейзажа. Склонность третьего стиля к египетским формам и мотивам выказывается, например, в египетских фигурах одной из комнат дома Везония Прима.
Рис. 519. Ясон и Пелий. Помпейская фреска. С фотографии Алинари
Большинство всех помпейских картин относится к четвертому стилю. Рисунок в них более смел и свеж, классическая строгость лиц уступает свое место более одухотворенной индивидуальной жизненности, нагота тела входит в свои естественные права, пейзаж получает второстепенное значение, но в то же время теснее связывается с главными фигурами; краски становятся более сочными и яркими, письмо делается более мягким и широким, а вместе с тем и более пластичным. Тот прием, при котором красочные пятна и мазки кисти накладываются одни подле других без притушевки друг к другу и сливаются вместе в глазах зрителя на некотором расстоянии, наблюдается реже в обрамленных картинах на главных полях стен, чем в архитектурных мотивах, отдельных фигурах и декоративно набросанных изображениях неодушевленной природы, каковы, например, группы рыбы и дичи в "Macellum". Подобный прием мы уже видели в живописи второго стиля (см. рис. 486). Третий стиль из-за своего пристрастия к архаической строгости пренебрегал этим приемом, четвертый же пользовался им невоздержанно, не отказываясь, однако, вполне от другого приема письма, от пластической моделировки изображенного. Оба эти способа в пору художественной зрелости обычно не сливаются. Ни один из них не превосходит другой в отношении иллюзии; оба они стремятся производить ее, но различными средствами: один – через разработку скульптуральной рельефности, другой – через оттенение озаренных светом поверхностей.
Из числа мифологических изображений особенно замечательны найденные в Casa del poeta tragico, а именно "Жертвоприношение Ифигении", о котором мы уже говорили (см. рис. 335), "Адмет и Альцеста", "Бракосочетание Зевса", "Возвращение Брисеиды" и "Отъезд Хрисеиды" – картины, хранящиеся в Неаполитанском музее. Из любовных похождений богов часто повторяется изображение суда Париса. "Наказание Эроса" и "Продажа амуров", Неаполитанский музей, и "Гнездо амуров", Casa de poeta, – характерные образцы игривого эллинистического жанра. Картина "Три грации", Неаполитанский музей (рис. 520), – копия скульптурной группы, соблазнявшей художников эпохи Возрождения на подражание ей и все еще находящей себе подражателей.
Рис. 520. Три грации. Помпейская фреска. С фотографии Алинари
Весьма часто божества света, Аполлон и аналогичные с ним боги, но нередко и другие олимпийцы, как, например, Юпитер на одной из геркуланумских картин, снабжены лучистым венцом или нимбом, который перешел в христианское искусство как символ святости. Впрочем, он был нередким явлением еще в вазовой живописи времен Александра Великого, и мы находим его даже в пластическом исполнении у Гелиоса в эллинистическом храме в Трое. Среди отдельных как бы летящих фигур и групп главную роль играют кроме крылатых образов, каковы богини победы, амуры и психеи, также сатиры и вакханки наряду с другими, не всегда понятными мифологическими женскими фигурами. Юмористические картинки и карикатуры, из которых особенной любовью пользовались изображения пигмеев в египетском вкусе, обычно помещались рядами в удобных для того местах. Об изобилии изображавшихся сюжетов и об их распределении по стенам богатого римского дома можно получить понятие в самой Помпее при посещении дома Веттийцев, полностью сохранившегося.
Кем писана хотя бы одна из этих многочисленных картин серьезного и веселого, преимущественно же веселого, ласкающего взоры содержания, остается неизвестным. Это произведения безымянных комнатных живописцев; однако между ними легко различать работы мастеров неодинаковой силы, из которых лучшие, как, например, исполнитель "Сатира и вакханки" (см. рис. 516), были ремесленники первоклассные, близкие по своему искусству к настоящим художникам.
Бросив взгляд на фрески дома, соседнего с Фарнезской виллой, мы уже довели обзор стенной живописи Рима до времен императоров и перехода ее в стиль канделябров. Ко времени императора Августа относится еще несколько картин, стоящих вне вышеозначенного декоративного направления, каковы, например, жанровые и пейзажные эскизы в колумбарии виллы Памфили, легко и красиво набросанные на белом фоне; судя по беглости их исполнения, можно было думать, что они принадлежат позднейшим векам, пока Гюльсен, в своем дополнении к сочинению Земпера об этих картинах, не доказал, что они исполнены в самое первое время империи. В них, как и во всей римской гробничной живописи и живописи начальной поры христианства, дано по-старинному предпочтение перед другими фонами белому фону стен уже потому, что он, сильно отражая от себя свет, более удобен для живописи в сумрачных погребальных камерах.
Остатков чистого третьего стиля в Риме не сохранилось. Но не подлежит сомнению, что четвертый стиль Помпеи был распространен и в Риме. Подземные "гроты", где в начале XVI столетия была открыта великолепная живопись этого рода, срисованная Рафаэлем и Удине и перешедшая в стенную живопись высшего Возрождения под названием "гротеск" (по-итальянски – la grottesca), сохранились в развалинах Золотого Дома Нерона, которые некогда были принимаемы за термы Тита. Снимки этих картин и остатки этих последних с примесью лепного рельефа доказывают, что нероновский стиль стенной живописи в Риме не уступал четвертому, помпейскому стилю в отношении фантастической пышности и оригинальности, если не превосходил его.
Определить с точностью, как долго четвертый стиль держался в Риме, невозможно. Во всяком случае, оштукатуренные потолки двух общеизвестных гробниц II столетия н. э. на Via latina еще в сильной степени отзываются этим стилем. Одна из них, "белая гробница", заключает в себе лишь потолочные лепные рельефы, изображающие летящих сатиров и вакханок, тритонов и нереид (рис. 521); на своде другой гробницы – небольшие веселые пейзажи с удивительно хорошо соблюденной перспективой чередуются с рельефами на темы из греческих героических легенд. Быть может, к тому же времени относится стенная живопись в Villa Negroni, известная нам только по рисункам, приложенным к сочинению Бутиса, изданному в 1778 г.
Мау прекрасно определил характер этой живописи. Она еще не совсем отдалилась от четвертого стиля; в ней все еще играют важную роль нарисованные тонкие деревянные колонки, но уже всюду заметен возврат к простоте и правде декоративной живописи времени Адриана. Полный возврат ко второму стилю виден в описанных Гюлсеном фресках столовой знатного частного дома, отрытой в 1888 г., но, к сожалению, снова засыпанной. Написанные здесь постройки с колоннами, отличаясь правильностью перспективы, придавали помещению вид более просторного, чем оно было на самом деле, и не представляли собой ничего неправдоподобного. На широкой ступени перед изображенной колоннадой стояли рабы величиной в натуру, "готовые к услугам приглашенных гостей" – высший триумф реалистической пошлости! К третьему столетию, как свидетельствуют о том находящиеся при них надписи, относятся также "героини Тор-Маранчо", в Ватиканской библиотеке, – женские фигуры, в которых еще раз пытается выразиться эллинистическая сентиментальность, но которые, подражая более совершенным образцам, доводят заимствованную от них манеру исполнения до грубости. После этого времени, по-видимому, наступил полный упадок стенной живописи. То, что из нее сохранилось от времени Септимия Севера, свидетельствует о ее пустоте и ничтожестве. Позднейшие произведения этой отрасли искусства доказывают, что она уже возвратилась в область ремесел.
Рис. 521. Штукатурная отделка потолка "белой гробницы" на Via latina в Риме. С фотографии
В древности, как мы уже видели, для украшения полов употреблялся особый род живописи – мозаика. На закате времен республики обычай делать мозаичные полы распространялся все более и более. По-видимому, тогда появился новый способ мозаичного производства – opus sectile, противоположный так называемому opus tesselatum. Для работ, исполненных по этому второму способу, служили маленькие куски цветных камней или цветного стекла, и из них набиралось желаемое изображение; при первом же способе изображение составлялось из более или менее крупных кусков мрамора, вырезанных с точностью по форме воспроизводимых предметов. Помпейские мозаики этого рода, прототипы флорентийских мозаик, можно видеть в Неаполитанском музее ("Сатир и вакханка"), а прототип римских – в Palazzo Colonna в Риме ("Основание Рима").
Рис. 522. Мозаика из виллы Адриана. С фотографии
Среди наборных мозаик главную роль играют египетские мозаики. Из этого видно, как велико было художественное влияние, исходившее по-прежнему из Александрии. Самая большая мозаика, изображающая Нил, находится в Palazzo Barberini в Палестрине. Это пестрый, оживленный египетский пейзаж, представляющий священную реку во время ее разлива. Мозаики виллы Адриана, рассеянные по различным коллекциям (в Ватикане, Капитолийском, Берлинском и других музеях), лучшие из относящихся ко временам империи, соответствуют общему характеру искусства эпохи Адриана. Из числа этих произведений нам уже знакомы капитолийские голуби, воспроизведенные с известного эллинистического образца (см. рис. 448). Заслуживают также полного внимания изображения животных, каковы, например, берлинская мозаика, представляющая борьбу кентавров с дикими зверями, и ватиканская мозаика, на которой представлен лев, напавший на быка (рис. 522). Сюжеты подобных картин есть, по-видимому, воспоминания о цирковых зрелищах. Мозаика Латеранского музея, изображающая остатки кушаний, выказывает свое эллинистическое происхождение уже одним тем, что на ней выставлено имя художника Гераклита. Напротив, грубое мозаичное изображение атлетов, происходящее из терм Каракаллы и находящееся в Латеране, – характерное произведение римского искусства III в. н. э. Мозаичные полы работы римских провинциальных мастеров вводят нас уже в эпоху полного упадка. В императорское время не было недостатка в опытах украшения мозаикой также колонн и стен, по александрийскому обыкновению.
Средняя часть стены сцены в театре Скавра в Риме, по словам Плиния Старшего состоявшая из стекла, вероятно, была украшена стеклянной мозаикой. Из Помпеи происходят четыре круглые колонны с изображениями охотничьих сцен на голубом фоне, находящиеся в Неаполитанском музее. В самой Помпее еще сохранилось несколько нишей фонтанов или нимфеумов, снизу доверху покрытых мозаикой. Произведения этого рода весьма любопытны в техническом отношении, как предшественники мозаичной отделки абсид в первохристианских церквах.
Рис. 523. Портрет женщины, найденный на ее мумии (I). С фотографии Бругша
Образцами станковых картин эпохи Римской империи могут считаться эллинистические портреты мумий Среднего Египта. Изрядное количество произведений этого рода с давних пор находится в парижских коллекциях и в дрезденском собрании антиков. Благодаря открытиям, сделанным в Файуме Граефом, Кауфманом, Петри и другими, многие крупные коллекции владеют теперь несколькими экземплярами подобных портретов, имеющих величайшее значение уже потому, что это единственные сохранившиеся до нашего времени образцы античной живописи на деревянных досках и энкаустического воскового письма. Разъяснения Доннера относительно технического исполнения этих произведений кажутся нам, несмотря на возражения других ученых, вполне убедительными. Портреты, о которых идет речь, по большей части поясные, без рук. С поразительной жизненной правдой они передают индивидуальные черты людей обоего пола и разного возраста, смотрящих на нас широко раскрытыми глазами. В древнейшие времена в Египте для воспроизведения голов мумий обычно прибегали к пластике, и только в греческую пору такие воспроизведения стали заменяться портретами, писанными на досках. Однако не все ученые допускают, подобно Эберсу, что некоторые из этих портретов относятся к эпохе Птолемеев. Без сомнения, большинство их принадлежит I и II столетиям н. э., но, по-видимому, можно безошибочно считать их памятниками распространенного повсюду искусства Римской империи. Египет под римским владычеством оставался эллинистическим; эллинистической была в нем и портретная живопись, последними произведениями которой являются эти доски. Лучшие из них отличаются такой широтой и силой моделировки, такими свежестью и блеском красок и вместе с тем такой выразительностью изображенных лиц, какие в истории европейского портрета мы встречаем впервые только в XVII столетии. Сколько силы, суровости и вообще характерности в выражении и позе госпожи Алины, на ее портрете, находящемся в Берлинском музее и написанном, против обыкновения, темперой на полотне! Какой классической строгостью при всей теплоте экспрессии отличаются черты лица на женском портрете, принадлежащем музею Гизы (рис. 523), и какая ясная печать индивидуальности видна в лице другого женского портрета, хранящегося в том же музее (рис. 524)! Кроме этих портретов следует упомянуть о портрете мужчины с неправильными, грубыми чертами лица, находящемся в Копенгагенском национальном музее, и о портретах юноши европейского типа и старой дамы с короткими седыми фальшивыми локонами в мюнхенском Антиквариуме. Здесь восстает перед нами не только целый мир искусства, но и целый мир жизни.
Рис. 524. Портрет женщины, найденный на ее мумии (П). С фотографии Бругша
Из Египта перешло в Рим также искусство украшения книг рисунками. Уже неоднократно было указываемо, что и эта отрасль искусства распространилась по всему свету благодаря эллинизму. Сохранились только рисунки в рукописях (миниатюры) позднейшей поры античного мира. Так как даже самые ранние из них принадлежат лишь второй половине IV столетия, то рассмотрение их, собственно говоря, уже выходит из рамок настоящей главы. Тем не менее из числа этих рисунков, последних порождений античной живописи, мы укажем, во-первых, на изданные Стриговским и хранящиеся в венской и брюссельской главных библиотеках и Барбериниевской библиотеке в Риме позднейшие копии календарных рисунков хронографа 354 г. и, во-вторых, на 58 рисунков к утраченной рукописи "Илиады", хранящихся в Амброзианской библиотеке в Милане и опубликованных А. Маем, и на 50 рисунков в Ватиканском неполном списке Вергилия (№ 3225).
В рисунках к "Илиаде" мы замечаем снова неумелость передачи отдельных форм и мотивов движения. Эпизоды представленного нередко разбросаны по обширному заднему плану без взаимной связи. Изображения Скамандра – вполне пейзажные. Но если сравнить, например, изображение преисподней в этой серии с ее изображением на одном из фресковых Одиссеевских пейзажей Ватиканского музея, то сразу заметно, как велико расстояние, отделяющее внятный язык искусства последнего времени Римской республики от художественного лепета эпохи упадка империи.
3. Скульптура
Эллинистическое идеалистическое ваяние в Италии сказало, в сущности, последнее свое слово в произведениях новоаттической школы и школы Пазителя. Единственным лозунгом этой отрасли искусства сделалось подражание великим мастерам былых времен. Занесенные в Рим оригинальные произведения греческого резца и греческого литья распространялись во множестве копий, причем иногда, вследствие особых требований, являлись отступления от оригиналов и почти всегда исчезали их духовный смысл и художественная тонкость. Многие из упомянутых изваяний, в которых мы видим подражания мастерским произведениям цветущей поры греческого искусства, принадлежат к числу лучших работ этого рода. К слабейшим относятся заурядные антики наших музеев.
Лучшие из произведений эпохи Адриана были все еще полны такой же жизнью, какой проникнуты два кентавра темно-серого мрамора работы Аристея и Папия из Афродизия, находящиеся в Капитолийском музее. В других повторениях этих скульптур на спинах кентавров сидят маленькие амуры; старший кентавр везет на себе божка любви как бы против воли, а младший – с радостью и оживлением. Разумеется, Аристей и Папий были, если не эллинистические мастера, которым принадлежали оригиналы этих изваяний, то греческие копиисты эллинистических произведений. Но оба они были еще хорошие техники, и для времени, когда они трудились, характерен сам выбор их материала. Как в архитектуре, так и в скульптуре мы все чаще и чаще находим употребление цветных сортов мрамора вместо белого с полной, хотя и неяркой раскраской. Главную задачу скульптуры при Адриане составляло изготовление несчетного множества статуй и бюстов Антиноя, которыми она наделяла все художественные и религиозные учреждения империи. Как известно, Антиной был молодой красавец, любимец Адриана; чтобы спасти его жизнь, Антиной, движимый врачебным суеверием, пожертвовал для нее собой и утопился в Ниле. Император выразил свою благодарность покойному другу причислением его к сонму богов и повелением воздавать ему божеские по чести во всей империи. Благодаря этому произошли многочислен ные сохранившиеся статуи и бюсты Антиноя – статного юноши с широкой грудью, крупными, строгими чертами лица, пухлыми губами, мечтательным выражением глаз, Лувр (рис. 525). О всех этих изображениях, взятых вместе, писал Дидриксон. В этих статуях и бюстах, наделенных меланхолическим выражением и при всей своей индивидуальной жизненности относящихся не столько к римскому портретному искусству, сколько к идеалистическому эллинистическому, Антиной является то в виде Бахуса, то в виде Гермеса, то в виде Аполлона, нередко даже в египетском костюме, в виде Осириса. Из этих изображений знамениты колоссальная статуя Антиноя в виде Вакха, в ватиканской Ротонде, и бюст Антиноя, в той же коллекции. Один из прекраснейших бюстов Антиноя находится в Луврском музее, в Париже. Благородными чертами прелестного юноши мы можем любоваться также в Неаполитанском, Британском и Берлинском музеях и дрезденском Альбертинуме.
Рис. 525. Бюст Антиноя. С фотографии
Римляне издавна привыкли считать греческие божества своими собственными; поэтому переделки в изображениях греческих божеств сообразно представлениям местной итальянской мифологии ограничивались в римской скульптуре обычно атрибутами. Ланувинская Юнона Соспита, колоссальная и строгая, стоит в Ротонде Ватикана с козьей шкурой, накинутой на голову и завязанной на груди. Площадка лестницы Капитолийского музея украшена веселой и пышной фигурой Либеры в шкуре и венке из винограда – статуей, представляющей собой женское божество, парное с древнеитальянским богом вина Либером. Янус, Флора, Вертумн, Фортуна – все это римские божества, художественные образы которых есть переделки греческих типов.
Попытки самостоятельного дальнейшего развития скульптуры у римлян выразились, с одной стороны, в олицетворениях природы, городов и народов, подобных тем, какие были обычны в греческом искусстве эллинистического времени, с другой стороны – в изображениях чужестранных божеств, культ которых, после того как греческие боги давно слились с римскими, распространялся у римлян все в большей степени.
Быть может, несомненно римский скульптор Копоний не составляет в ней единичного явления. Ему приписываются статуи 14 народов, покоренных Помпеем. Но 12 фигур малоазийских городов на цоколе статуи Тиберия, посвященной ему в 20 г. н. э. этими городами, были, несомненно, греческой работы. "Путеоланская база" Неаполитанского музея есть подражание этому цоколю. В письменных источниках встречаются указания на подобные же римские произведения большего размера, и позднейшие олицетворения такого же рода нередко являются единственными идеалистическими фигурами в римских исторических рельефах, о которых мы будем еще говорить ниже.
Введение чужеземных божеств в греческий Олимп и превращение иностранных олицетворений богов в греческие началось еще на эллинистическом Востоке. Многогрудая Диана Эфесская сохранилась именно в римской скульптуре. Одна из ее статуй, черная, в желтой одежде, находится в Неаполитанском музее (рис. 526). Еще Бриаксис сблизил в Александрии египетского Сераписа с греческим богом подземного мира Плутоном и с высшим божеством неба Зевсом. Статуи Сераписа такого рода нередко встречаются в римских музеях. Впоследствии любимым божеством Италии сделалась египетская Исида. Чисто внешнее подражание египетским формам, одежде и атрибутам в римских статуях Исиды и ее жриц отличается некоторой театральностью, что, однако, не мешало этим статуям казаться для обитателей Италии египетскими; то же самое можно сказать и об изображениях Гарпократа, Анубиса, Канопа и сирийских божеств вроде Зевса-Ваала и едущей или восседающей на льве "Великой Матери". Со времен Домициана и Коммода выдвинулся на передний план ассирийско-персидский культ Мифры, которому приписывалось обладание тайной бессмертия. Жертвоприношение быка принадлежало к числу главных деяний этого бога, и потому к числу главных обрядов его культа, а потому заклание жертвенного быка Мифрой, представленным в виде одетого по-азиатски юноши, происходящее обыкновенно в пещере или в сводчатом гроте, стало одной из излюбленных тем пластических изображений времен упадка искусства. Подобные изваяния встречаются в римских музеях довольно часто; в них позы и все линии фигур, даже Побед, совершающих жертвоприношение, напоминают балюстраду храма в Афинах, о которой мы говорили.
Рис. 526. Диана Эфесская. Статуя из цветного мрамора
Одно из лучших "Жертвоприношений Мифры" находится в Латеранском музее в Риме.
Особенно же они нередки среди произведений римского провинциального искусства, каковы, например, два рельефа, хранящиеся в собрании древностей в Карлсруе, один из Нейенгейма, а другой из Остербуркена.
Последние усилия эллинистическо-римского идеалистического искусства выказались в рельефных изображениях на мраморных саркофагах империи. Несмотря на прекрасное сочинение Ф. Маца и на большое, основательное исследование Роберта об уцелевших саркофагах, история их скульптурных украшений от времен Александра Великого и до эпохи Антонина, когда обычай сжигать трупы и хранить урны с их пеплом в колумбариях снова стал заменяться погребением покойников в каменных, "пожирающих тела" гробах, до сих пор еще не составлена. Тем не менее нам известно, что как в позднее, так и в раннее время саркофаги, изготовленные в греческих странах, отличались от исполненных в Риме. Греческие саркофаги в большей степени, чем римские, напоминают своей формой и двускатной крышкой о происхождении своем от подражания жилым домам; их рельефные украшения не так обильны и расположены на всех четырех сторонах, тогда как римские саркофаги, помещавшиеся обычно у стен, украшены скульптурной работой только на передней и на двух коротких боковых сторонах, но зато в большем обилии. Саркофаг в церкви Santa Maria sopra Minerva в Риме, с изображением борьбы Геркулеса со львом, Роберт относил ко временам Римской республики; напротив, знаменитый саркофаг с изображением Ипполита и Федры, найденный в Салониках и находящийся теперь в Константинополе, принадлежит позднейшей поре империи.
В настоящих римских саркофагах времен Антонина крышка становится более плоской, а иногда, хотя и в исключительных случаях, превращается в перину, на которой помещена полусидящая фигура умершего, как на древнеэтрурских саркофагах. Образцом таких саркофагов может служить так называемая гробница Ахиллеса в Капитолийском собрании, на крышке которой покоится чета супругов. Стенки этого саркофага украшены многофигурными рельефами, причем ввиду полумрака, в котором саркофаг должен был стоять, передние фигуры иссечены очень отчетливо и выпукло. Содержание рельефам, вообще изобиловавшим фигурами, доставляла по большей части греческая мифология, но иногда и реальная жизнь. Предпочтение отдавалось мифам о Мелеагре и Атланте, Эндимионе и Селене, Эроте и Психее, Плутоне и Прозерпине; любовью пользовались также легенды о Ниобидах, Оресте, похищении Левкипид. Наряду с частыми воспроизведениями вакхических шествий изображались торжественные процессии морских божеств. Наряду с битвами гигантов и амазонок, унаследованными от античного искусства, изображались битвы с варварами, события сравнительно недавнего прошлого. Иногда выбор сюжета символически намекает на тайну жизни и смерти. Всего яснее это видно на саркофаге Прометея в Капитолийском музее (рис. 527): изображена Афина Паллада, подающая Прометею человеческую душу в виде бабочки, затем улетающую от усопшего в том же виде. Но свободно-вымышленных сюжетов уже почти не встречается. В большинстве мотивов бросается в глаза их эллинистическое происхождение. Вероятно, существовали особые склады живописных и пластических оригиналов, открытые для общего пользования изготовителям саркофагов. Язык форм в этих последних, вначале чистый и сильный, быстро ветшал и дичал. Наконец, даже углубление, высеченное для тела покойника, оставлялось отесанным кое-как. Искусство снова снизошло на степень ремесленного. Тем более удивительно долгое существование потребности украшать даже гробы покойников призраком художественной роскоши.
Рис. 527. Саркофаг Прометея. С фотографии Алинари
Римские портретные и триумфальные рельефы вводят нас в совершенно иной мир. О первой из этих отраслей скульптуры писал Бернулли, а о второй – Филиппи и Курбо. В области портретного ваяния и исторической рельефной скульптуры господствовал римский дух и римское чувство. Необходимо было точное изображение личностей новых владык мира и прославление их великих деяний в самом Риме и на крайних пределах вселенной. Это истинно римское императорское искусство было реалистичным в полном смысле слова, и именно потому, что это реалистичное искусство, правда считавшее иногда все-таки необходимым набрасывать на себя плащ идеализма или возвращаться к идеализированной наготе и задавшееся изображением событий и лиц своего времени, невольно сделалось для потомства историческим искусством в более тесном значении слова, чем то, которое в давно прошедшее время производило придуманные изображения подобного рода.
При Августе в римской портретной скульптуре и триумфальном рельефе господствовала умышленная сдержанность в духе вновь оживших древнегреческих традиций; в период времени от Тита до Траяна эти отрасли искусства пользовались своими собственными, более свежими и смелыми приемами; при Адриане снова наступил на короткое время возврат к старине, возрождение греческого направления в римском искусстве. После Адриана упадок шел неудержимо. При Константине античная творческая сила окончательно исчезла и в этой области.
Задачей римской портретной скульптуры было вначале изображение частных лиц. Лучшими ее произведениями были бюсты, статуи во весь рост и сидящие фигуры римских граждан, их жен и дочерей, и в этих произведениях мы находим, как уже было замечено выше, характерность и настоящую, неподдельную жизненность, схваченную с таким непосредственным наблюдением действительности, какое не проявляется даже в эллинистических портретных бюстах, несмотря на их индивидуальный характер. Римская портретная пластика обращала свое внимание главным образом на существеннейшие черты головы; все остальное обычно формировалось по более или менее установившимся общим правилам, а в некоторых случаях даже изготовлялось заранее, про запас. Из числа женских статуй, найденных в Геркулануме и хранящихся в дрезденском Альбертинуме, самая древняя представляет женщину с красивой головой, полной индивидуальной жизни, тогда как две статуи более позднего времени имеют несколько ординарные черты лица. Одежда на них и расположение ее складок – греческие. У двух происходящих из Геркуланума конных статуй членов семейства Бальба, в Неаполитанском музее, мы видим уже прекрасно изваянные, умные, живые римские головы. Удивительной естественностью, соединенной с греческими строгостью и величием, дышат черты лица "Весталки" Музея терм, относящейся уже к эпохе Траяна (рис. 528). Среди бюстов первых времен империи особенно замечателен бюст Клитии, в Британском музее, – грациозный, целомудренный женский образ, словно вырастающий из чашечки цветка.
Рис. 528. Весталка. Мраморная статуя. С фотографии Андерсона
Римская портретная скульптура потом превратилась также в императорское искусство в полном смысле слова. Статуи во весь рост и в сидячем положении, бюсты и головы римских императоров и членов их семейств мужского и женского пола важны и как исторические документы, и как памятники, свидетельствующие сначала о ходе развития, а затем об упадке искусства во времена империи. Душевное величие благородных императоров выражается в их головах с такой же ясностью, как и нравственное ничтожество в головах цезарей, бывших бичами человечества. При этом все равно, как был бы изображен император: в мирной тоге, как председатель сената, в мантии ли, накинутой на затылок, как первосвященник, во всеоружии ли, как полководец, или нагим, в виде бога или героя.
Рис. 529. Август в юности. Мраморный бюст. С фотографии
Взгляните на голову юного Августа, хранящуюся в Ватикане (рис. 529). Найдется ли в области портретной скульптуры что-либо лучшее, более правдивое и благородное, чем она? Взгляните затем на знаменитую статую уже постаревшего Августа, найденную в Prima Porta и выставленную также в Ватиканском музее (рис. 530). Облеченный в доспехи Август обращается с речью к своим войскам; его правая рука поднята вверх с ораторским жестом; панцирь украшен эллинистическим рельефом, изображающим в величественных олицетворениях небо и землю и владычество римлян над всем миром; губы императора сомкнуты, хотя из них как бы несутся слова, и все черты его лица красноречивы. Внутренняя жизнь и здесь выражена главным образом в голове. Амур верхом на дельфине у ног Августа намекает на Афродиту, родоначальницу дома Юлиев. Капитолийский музей владеет прекрасной статуей сидящей женщины, которую считают внучкой Августа Агриппиной Старшей (рис. 531). Мотив сидячей задрапированной статуи и здесь эллинистический, но умное оживленное лицо совершенно римское. В Лувре находится хороший бюст Тиберия в дубовом венке; действительно ли изображает Калигулу бюст Капитолийского музея, подлежит сомнению. Знаменита колоссальная статуя Латеранского музея, изображающая Клавдия сидящим на троне в позе Зевса. Движимый самолюбием, Нерон воздвиг перед своим Золотым Домом бронзовую статую самого себя, превосходившую размером Колосса Родосского. Исполнителем этого произведения, на которое Плиний Старший указывал как на пример упадка техники литья, считается Зенодор, очевидно опять-таки грек. В бюстах Нерона, исполненных некоторое время спустя, появляется короткая борода, как, например, у бронзовой головы в Ватиканской библиотеке. Вообще, обычай гладко бриться существовал до эпохи Адриана. Этот император снова ввел в моду носить короткую окладистую бороду, как в Древней Греции. На бюстах императриц можно проследить изменения, происходившие в прическах. Супруга Адриана Сабина, в Капитолийском музее, по выражению Гельбига, "образец бравурной мраморной техники" времен названного государя. Головы Марка Аврелия, хорошие как портреты, в художественном отношении уже более слабы. Бронзовая конная статуя этого императора, стоящая на Капитолии и столь часто упоминаемая в сочинениях, несмотря на свои недостатки, спустя 1300 лет после своего изготовления служила образцом для подражания. В III в. типы императоров становятся все более варварскими, а воспроизведение их более небрежным, хотя бюсты "сатаны" Каракаллы (ум. в 217 г.) еще полны поразительной жизни. Наступление средневековой окоченелости дает уже знать о себе в колоссальной голове, находящейся во дворе Палаццо деи Консерватори, в Риме, которую мы, вместе с Евгением Петерсеном, считаем головой Константина Великого.
Рис. 530. Полководец Август. Мраморная статуя. С фотографии
Переход от портретной скульптуры к триумфальным рельефам составляют изображения варваров. Голова молодого германца, в Британском музее, голова молодой германки, в С. петербургском Эрмитаже, три колоссальные головы даков, в Ватикане, – характерные образцы произведений этого рода.
Ряд триумфальных рельефов времен Римской империи начинается с украшавших Алтарь мира, "ara pacis Augustae", воздвигнутый в 13 г. до н. э. Сенатом в честь Августа на Марсовом Поле и освященный в 9 г. до н. э. Распознание его обломков, рассеянных по различным коллекциям (Палаццо Фиало, Вилла Медичи и Ватикан в Риме, Уффици во Флоренции, Лувр в Париже), составляет заслугу Фр. фон Дуна, но точное понятие об этом алтаре мы получили благодаря Евгению Петерсену. Наружная поверхность окружной стены алтаря, ограниченной пилястрами, была разделена горизонтальной полосой, украшенной весьма изящным меандром, на два яруса: нижний ярус был занят чрезвычайно роскошной гирляндой аканфа с выступающими из нее стилизованными цветами; в верхнем ярусе, по обеим сторонам входных ворот, было изображено принесение в жертву быка; на середине задней стороны находился известный рельеф трех элементов (теперь во Флорентийской галерее Уффици), долго считавшийся образцом эллинистического антропоморфического изображения природы; торжественное шествие, в котором участвует семейство императора, выходя из этой картины, направлялось по обеим другим сторонам стены к жертвоприношению, представленному у входных ворот. Стиль этих рельефов – двоякий (горельеф и барельеф), но все еще строгий и благородный; лица изображенных фигур отличаются тонким портретным сходством. Вообще этот памятник, принадлежащий в отношении декоративности, очевидно, второму стилю помпейской стенной живописи, дает хорошее представление о чистоте и свежести художественных форм в веке Августа.
Рис. 531. Агриппина Старшая. Мраморная статуя. С фотографии
В трех больших рельефах, изображающих группы воинов и некогда украшавших собой арку Клавдия, а теперь находящихся в Вилле Боргезе, близ Рима, фигуры переднего плана выступают вперед еще больше, чем такие фигуры на Алтаре мира. Дальнейшее развитие рельефа в римском духе мы видим в скульптурах арки Тита. Два главных изображения на ней, относящиеся к триумфу Тита после разрушения Иерусалима, украшают собой стены под сводом пролета. На одной стороне представлен сам император, едущий в сопровождении свиты на победной колеснице, запряженной четырьмя конями, которых ведет под уздцы Рома (рис. 532). На другой стороне представлено триумфальное шествие, в котором несут захваченную в храме Иеговы утварь, между прочим семисвечник. Развитие стиля выказывается в этих изображениях главным образом большей глубиной пространства, достигнутой через применение трех картинных плоскостей рельефа вместо двух; свежим чувством действительности веет от всей толпы благородных, смелых легких в своих движениях фигур, жизненность которых некогда усиливали раскраска и позолота.
Рис. 532. Один из рельефов триумфальной арки Тита в Риме. С фотографии
Времени Траяна принадлежат загородки форума, отрытые в 1873 г. и затем восстановленные. На их внутренней стороне изображены так называемые Suovetaurilla, овца, свинья и бык – животные больших римских государственных жертвоприношений. На внешней стороне представлены различные деяния Траяна как благодетеля римлян. Стиль этих рельефов еще более приближается к живописному. Все постройки заднего плана форума воспроизведены здесь плоским рельефом.
Арка Траяна в Риме разрушена. Ее мастерские рельефы, из которых 8 прелестных круглых изображений, прославляющих жизнь этого императора, были потом перенесены на арку Константина, представляют в высшей степени привлекательное соединение реалистической силы с чувством стиля, унаследованным от предшествовавшего времени.
Что касается колонны Траяна, то она еще стоит на своем месте (рис. 533). Рельефы, обвивающие ее как бы мраморной спиральной лентой, которая делает на ней 23 полных оборота, изображают эпизоды из победоносных войн императора с даками. Отдельных фигур в этих рельефах, достигающих высоты 75 сантиметров, насчитывается больше 2500.
Два похода против даков и окончательное их поражение изображены со всеми их подробностями, сильно, реально и живо. Быстрая смена одной сцены другой возбуждает у зрителя, как говорит Е. Петерсен, "все более и более возрастающий интерес". В заключение Децебал, вождь побежденных, преследуемый римлянами, "падает под дубом, перерезав себе горло кривым мечом". Таким образом, мы видим, что римляне дошли в этих изображениях до настоящего исторического искусства. Хотя в выполнении рельефов заметно, что над ними трудились разные мастера, из которых одни, в нижней части ленты, очевидно, преднамеренно делали их более плоскими, а другие, в верхней части, более выпуклыми, однако все это скульптурное произведение в своем целом имеет совершенно одинаковый характер.
Рис. 533. Часть колонны Траяна в Риме. С фотографии
Рельефы с памятников в честь Адриана и Марка Аврелия сохранились в Палаццо деи Консерватори. Восемь плит с изображениями государственных деяний императора, находившиеся на длинных сторонах аттики арки Константина, относятся, как это доказано Петерсеном, также ко времени Марка Аврелия. Большой рельеф, обвивающий собой колонну Марка Аврелия, – не более как подражание образцу, исполненному на 60 лет раньше него. Этот спиральный рельеф делает вокруг колонны 21 оборот и представляет эпизоды из похода императора на маркоманнов. Новые оригинальные черты встречаются здесь лишь кое-где. Даже вмешательство Юпитера Плювия, антропоморфически выражающего собой силу природы и дарующего римлянам прохладу потоками дождя, а варваров устрашающего градом, уже раньше изображалось в том же роде. Характер рельефа менее пластичен; фигуры вместо того, чтобы быть помещенными одна позади другой, изображены стоящими рядом; второстепенные пейзажные детали нередко нарушают связность расположения. Во всем этом нельзя не видеть ослабления художественной силы.
По образцу этих рельефов исполнены скульптурные украшения арки Севера, воздвигнутой в 201 г. н. э. в ознаменование победы императора над парфянами. Ни одна арка не изобиловала так рельефами, как эта, но и никакие другие рельефы не свидетельствуют в такой степени, как они, об упадке пластического чувства. В композиции изображенных здесь процессий, тянущихся на обширных пространствах, расположение фигур одна возле другой, представляющее иногда четыре, пять изломов, совершенно вытесняет перспективное помещение их друг за другом. Можно подумать, что перед нами – ассирийский рельеф позднейшего стиля. При этом язык форм в отдельных частях груб и неправилен.
Лучшим доказательством крайнего оскудения творчества в рассматриваемое время может служить то обстоятельство, что когда в IV в. строилась триумфальная арка Константина Великого, то для ее украшения пришлось обобрать арку Траяна и другие памятники. Произведения же самой эпохи Константина до такой степени отличаются бедностью вымысла и неумением владеть формой и выражаться художественно, что в них ясно видно окончательное падение античного искусства. Надо было пройти после того тысяче с сотней лет, прежде чем потомство римлян было в состоянии восстановить связь своего искусства с лучшими образцами древнего.
4. Художественно-промышленные произведения и орнаментика. Заключение
В обширной области красот прикладного искусства, к которому относится бесчисленное множество предметов утвари, украшений и ювелирных вещей – произведений небольшого размера, но истинно художественных, господствовали законы то зодчества, то ваяния, то живописи в отдельности или же всех этих отраслей искусства в совокупности, причем, однако, естественным образом вступала в свои права и орнаментика. Сохранившиеся художественно-ремесленные изделия времен Римской империи сделаны преимущественно из камня, глины, бронзы или благородных металлов. Изделия из дерева не уцелели; от тканей, за исключением египетских, дошли до нас лишь скудные остатки. Украшения художественных изделий – теперь чаще рельефные, чем плоские. Керамика для своего украшения давно уже перестала прибегать к живописи, которой широко пользовалась в Греции и в раннеэллинистической Италии, а стала употреблять полувозвышенную орнаментацию. Глиняные светильники, сохранившиеся в несчетном количестве, в отношении целесообразности своей формы и осмысленности украшений, могут быть поставлены на один уровень с прочими глиняными сосудами.
Рис. 534. Чаша из Боскореале. По Энгельману
Наибольшую важность представляют золотые и ювелирные изделия. Мы уже говорили о серебряных вещах, найденных в Помпее, Боскореале, Хильдесхейме и других местах, главным образом как об эллинистических произведениях (см. рис. 434 и 435). Римские изделия резко отличаются от них латинскими надписями мастеров и нередко более роскошными украшениями, которые, однако, иногда менее соответствуют форме самих предметов. Если великолепный хильдесхеймский серебряный кратер Берлинского музея со стилизованной гирляндой, оживленной фигурами амурчиков и морских животных, согласуется с нашим представлением об эллинистическом искусстве, то вазы, совершенно оплетенные реалистическими ветвями, каковы, например, помпейский сосуд с ветками виноградной лозы, хранящийся в Неаполитанском музее, и чудный сосуд из Боскореале с оливковыми ветками, находящийся в Луврском музее (рис. 534), ближе подходят к нашему понятию о характере орнаментики перед началом эпохи империи.
В отношении камей установить границу легче благодаря тому, что находящиеся на них изображения прославляют римских императоров; но великолепные камеи первых времен империи, как, например, знаменитая "Августовская гемма" Венского кабинета антиков, Gemma Tiberiana парижской национальной коллекции и Gemma Claudiana Гаагского кабинета, отличающиеся хорошим вообще стилем и тонкостью работы, нельзя сравнивать с камеями Птолемеев (см. рис. 434). То же самое надо сказать и о монетах времен империи. Настоящей римской является медная монета as с изображениями головы двуликого Януса на одной стороне и корабельного носа на другой. Римские императорские монеты, которые в начале империи, как и в эпоху Адриана, имели греческий характер, оставались все время лишь плохими повторениями греческих образцов, а после Адриана и в этой отрасли искусства начался быстрый упадок.
Рис. 535. Римский мраморный канделябр. С фотографии Алинари
В числе дошедших до нашего времени изящных по форме и художественно украшенных предметов утвари главное место занимают мраморные и бронзовые изделия. Коллекции Рима и Неаполя особенно богаты столами, креслами, треножниками, подставками для ламп, подножиями и великолепными сосудами белого и цветного мрамора. Орнаментация этих предметов становится с течением времени все более роскошной. Ножки столов и треножников обычно имеют форму крепких, эластичных львиных лап. Верхний конец ножки стола, переход к которой от низа замаскирован орнаментом стилизованного аканфового мотива, иногда сделан в виде львиной головы, поддерживающей доску стола. Ножками стола служат также сидящие сфинксы. Кроме треногого мраморного стола из Помпеи, находящегося в Неаполитанском музее, следует указать на прекрасные столы, ножки или более широкие нижние части которых, покрытые роскошными орнаментами, сохранились у водоемов в помпейских атриях, например, в доме Корнелия Руфа. После латинского канделябра с четырехсторонней базой и спиральным фустом, украшенным отдельно рассаженными аканфовыми листьями, достойна внимания пара ватиканских канделябров с трехгранной базой, густо украшенных пышными листьями аканфа (рис. 535).
Бронзовая утварь по большей части изящнее мраморных предметов и исполнена лучше, в более греческом характере. Бронзовые ножки треножников или столов, фусты канделябров, ручки кресел отличаются большей стройностью и красотой. В них наряду с лапами львов и пантер часто фигурируют стройные козьи ноги; вследствие малости орнаментируемой поверхности украшения становятся более тонкими и грациозными. Помпея сберегла для нас множество мелких художественных изделий этого рода; прекраснейшие из них хранятся в Неаполитанском музее. Особенно известен Силен, который с усилием, заметным во всем его движении, поднимает вверх левой рукой змею, свернувшуюся в кольцо, – фигура, очевидно, служившая подставкой для какого-нибудь тяжелого сосуда. Общее восхищение справедливо возбуждает красивый треножник, эластичные ножки которого, богато орнаментированные, оканчиваются внизу лапами пантеры, а вверху представляют фигуры сидящих сфинксов с высоко поднятыми крыльями (рис. 536). Штативы для светильников бывают очень разнообразны по формам: от очень низких подставок до очень высоких и стройных "канделябров", от ножек для одной лампы и до сложных подставок со многими бра. Подобный штатив, как правило, снабжен вверху горизонтальной пластинкой, на которую ставились лампы; но последние нередко также привешивались на бронзовых цепочках к его отрогам; в таком случае штативу иногда придавали вид древесного ствола с ветвями, или же на упомянутой пластинке, которая по необходимости делалась широкой, помещали небольшие пластические изображения, сюжет которых был заимствован по большей части из вакхического цикла.
Рис. 536. Помпейский бронзовый треножник. С фотографии Зоммера
С точки зрения строгой стильности, далеко не все, что создано греко-римскими художественными ремеслами в Риме, Этрурии и Помпее, выдерживает критику; но нельзя не признать, что производители относящихся сюда изделий во многих случаях были наделены большим, чем наше, чувством стиля и позволяли своей фантазии решительно преобладать перед установленными законами и приемами.
Вообще одни только художники Восточной Азии умели в такой же степени, как греки и римляне, придавать утвари и посуде изящную и вместе с тем целесообразную основную форму и украшать их осмысленно, с находчивой изобретательностью и вкусом. К сожалению, из того, что создано превосходнейшего в этом роде, сохранилось очень немногое, кроме глиняных сосудов.
Рис. 537. Часть фриза и карниза храма Веспасиана в Риме. По Петерсену
В заключение еще раз вернемся к истории развития римской орнаментики во всей ее совокупности. Наряду с меандром, волнообразной лентой, плетенкой, полосой дорического и лесбосского характера, шнуром перлов и дентикулами, с зародившимися на Востоке розетками, пальметтными илотосовыми фризами римляне унаследовали от эллинского искусства выступающие вперед листья и стебли. Аканфовый и другие листы, скопированные с натуры, перешли в римскую орнаментику также из греческой. К ним присоединились фигуры животных и людей, а также стилизованные цветы различного рода. В эллинистическую эпоху выработались сплетения плодов и цветов в виде гирлянд, свешивающихся с бычьих черепов и иногда украшенных лентами. Во времена империи все эти мотивы не только удержались, применялись и комбинировались, но и получили дальнейшее развитие. Простые геометрические формы доброго старого времени все более и более выходили из употребления. Растительные венки, листья и усики растений получали все более и более мягкие, роскошные и натуральные формы; ими теперь чаще, чем прежде, сплошь покрывалась вся поверхность. Но рядом с ними нашли себе применение в орнаментике такие предметы, как вазы, инструменты, трофеи и развевающиеся ленты; кое-где в растительный орнамент внедрялся новый схематизм, свидетельствующий о возвращении к геометрическим формам.
Соединение унаследованных от древности элементов архитектонических украшений бросается в глаза при взгляде на фрагменты фризов и главных карнизов вновь построенного Тиберием храма Конкордии и храма Веспасиана (рис. 537); эти фрагменты хранятся в Табулариуме, в Риме. К числу самых роскошных памятников этого рода принадлежит рама "богатой двери" в Бальбеке, на которой едва ли пропущен хотя бы один из орнаментальных мотивов, завещанных историей. На фризе терм Агриппы являются дельфины, трезубцы и раковины между пальметтами; на фризе храма Веспасиана мы уже видим жертвенную посуду, жезлы, топоры и ножи – новые декоративные мотивы, фигурирующие вместе с черепами быков и розетками. Стильно нагроможденные трофеи встречаются на некоторых из капителей; их мы находим также на четырехугольном подножии колонны Траяна. Как целые поверхности заполнялись растительными орнаментами, можно видеть не только на вазах, но и на нижней части стен Алтаря мира времен Августа. Дальнейшее развитие этого рода орнамента представляет великолепный рельеф из ветвей айвы и лимонного дерева, хранящийся в Латеранском музее в Риме.
Рис. 538. Фриз с растительными завитками в формах аканфа
А. Ригль подверг подробному исследованию развитие стилизованных растительных листьев и усиков, а Фр. Викгофф прекрасно изложил успехи употребления в орнаменте натуральных форм растительных ветвей. По мере того, как стремление к стилизации отступало на задний план, натуралистическое направление выступало вперед. В стилизованной орнаментике старинные мотивы растительных усиков, чередующихся с пальметтой, постепенно все более приближались к форме аканфа. Его листья все чаще облегают растительные усики, все выше выступают среди пальметт или стилизованных цветов лотоса, пока наконец не вытесняют их окончательно. Два сохранившиеся от форума Нервы фриза представляют собой конечный пункт этого движения, которое, несмотря на кажущийся прогресс в отношении натурализма, но собственно лишь призрачный вследствие неестественности мотивов аканфа, было не более, как возвращение к оковам схематизма. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на обломок фриза, находящийся в Латеранском музее (рис. 538).
Натуралистическая растительная орнаментика, подобно фигурному рельефу, развивалась дальше в духе живописи. Ветвь платана на одном известном рельефе в Музее терм, в Риме, обработана пластически еще согласно с натурой, но упомянутые выше рельефные ветви айвы и лимонного дерева в Латеранском музее идут в живописном отношении уже дальше, так как в них принято в расчет действие света и теней. Характерны для этого направления драгоценные пилястры гробницы Гатериев, в Латеранском музее (рис. 539). Высокие, обвитые розами вазы, на верхнем краю которых сидят птицы, поднимаются над вишневыми ветками, окружающими их подножие. Здесь не каждый лист, не каждый цветок скопирован прямо с натуры, но стебли, листья, бутоны и цветы выступают над фоном на различную высоту и должны были игрой своих первоначальных красок, бликов и теней производить впечатление полного подобия природы. В этом произведении II в. н. э. римское искусство следует по пути, уже далеко отклонившемуся от путей древнегреческого искусства. Но другая пилястра Латеранского музея, покрытая кистями и листвой винограда, представляет собой уже обратное течение, замкнувшее рельеф в пределы, которые отводит ему высота высшей из его плоскостей.
Вообще эллинистическо-римская орнаментика во всех своих фазах стремилась к строгому центральному или симметрическому расположению украшений в отведенных для них плоскостях. Орнаментика так называемой бесконечной связи, то есть такая, где поверхность покрывается сетью повторяющихся узоров, которые по краям являются наполовину срезанными и потому вызывают представление бесконечного повторения, не соответствовала духу греко-римского искусства. Тем не менее, по-видимому, с Древнего Востока в Грецию, а из эллинистического Востока в Италию проникли намеки на подобный "бесконечный" орнамент. Ригль отмечал отдельные намеки на него в помпейских лепных из стука рельефах на полях стен и в помпейских мозаичных колоннах, хранящихся в Неаполитанском музее; при этом он замечал, что это "прямые и ближайшие предшественники сарацинского полигонального орнамента, состоящего из согнутых под углом лент". Таким образом, всюду в старом кроются зародыши нового.
Рис. 539. Пилястра надгробного памятника Гатериев. По Викгоффу
Как греческое искусство, прекрасное порождение северной страны чудес, проникло вместе с Александром Великим в жаркие страны Индостана, так эллинистическо-римское искусство последовало за императорскими легионами в самые отдаленные провинции, куда только не заносились римские орлы. При этом римская архитектура держалась границ собственно империи, и всюду на ее границах, как мы уже видели на достаточном числе примеров, слегка подчинялась влиянию соседних искусств. На Дальнем Востоке она отчасти приняла характер восточной пышности, на жарких южных границах империи оживлялась веянием свободных африканских степей. Произведения римского зодчества на Рейне, на Мозеле и во Франции отражали в себе галльскую и германскую силу и суровость. В своем месте мы проследим, как под эллинистическо-римским влиянием все прочие отрасли искусства развились у северных варваров и обратились в римское провинциальное искусство, как все эллинистическо-римское искусство пустило корни далеко за пределы восточных границ империи среди парфян, сасанидов и индоскифов и дало новые, чужеземные корни, распространив свое влияние даже на Индию и Китай. Ни в одной из частей Старого Света "наследие античности" не исчезло окончательно, но приобщиться к этому наследию были призваны прежде всех народы Европы; даже в самую темную пору средних веков их связь с этим наследием не изгладилась вполне. То, что греки открыли и прочувствовали в области искусства, пока сохраняли свою национальность, то, что само собой приспособилось к новым потребностям жизни во времена их интернациональности, все то, что вслед за ними римляне пережили в этом отношении и разнесли со своими легионами по целому миру, – все это продолжало громко и явственно звучать среди моря чужестранных тонов, оглашавших столетия, следовавшие за переселением народов, и затем, когда настала для того пора, все это снова прорвалось наружу со стихийной силой, во всей мощи света, истины и красоты, снова на многие столетия получило руководящую роль в искусстве человечества.
По прошествии готических средних веков, которые, быть может, не ведая и не желая того, выказывали наибольшее отчуждение от антиков, но были тем не менее одушевлены самостоятельным великим чувством стиля, лишь в новейшие времена наблюдаются отдельные попытки, и притом попытки впервые вполне сознательные, совершенно освободиться из-под влияния классических традиций; но время покажет, в какой степени стойко это движение и обладает ли оно силой для создания форм, которые могли бы помериться своей оригинальной художественностью, жизненностью и естественным чувством стиля с тем, что создано греками и римлянами.
Книга пятая Языческое искусство севера Европы и западной Азии
I. Искусство к северу от Альп: от гальштатской культуры и до времени венедов
1. Искусство гальштатской и латенской культуры
Начиная говорить о доисторическом искусстве севера Европы, мы должны от обзора высоких, свободных и зрелых созданий искусства вернуться еще раз к рассмотрению произведений гораздо менее совершенных и примитивных. Классическое место первой железной эпохи к северу от Альп – гальштатский могильник в Юго-Западной Австрии, раскопанный в 1850-х гг. и описанный Фр. фон Сакеном. Для обозначения всей культуры первой железной эпохи Центральной Европы вошел в употребление термин "гальштатская эпоха", или, вернее, "гальштатская культура". Позднейшая в сравнении с ней бронзовая эпоха севера в большей своей части продолжалась параллельно с более древней гальштатской культурой. Железо, принесшее с собой язык форм ранее созревшего юга, уже распространилось в восточных альпийских странах в то время, как собственно север Европы еще обходился без этого металла. Тогда как в древнейшую гальштатскую эпоху (700-500 гг. до н. э.) южное влияние шло, по-видимому, скорее с Балканского, чем с Апеннинского полуострова, позднейшая гальштатская культура (500-300 гг. до н. э.) находилась в зависимости от современного ей и более древнего итальянского искусства. Гёрнес называл это влияние искусства Италии на более юную гальштатскую культуру "первым мировым действием итальянского искусства". Различают два пояса гальштатской культуры – южный и северный. Южный пояс, в котором ее носителями считаются иллирийские племена, родственные венедам Верхней Италии, охватывает собой пространство от Адриатического моря до Средней Штирии; северный, в котором культуру распространяли, как предполагают, кельтские племена, простирается до Дуная, охватывает Богемию и Силезию, идет вверх по Дунаю на запад, за истоки этой реки и даже за Рейн.
Рис. 540. Ситула из Ватша (в развернутом виде). По Ранке
В отношении некоторых художественных изделий, найденных при гальштатских раскопках, существует разногласие: исполнены ли они в восточных альпийских местах Австрии по южным образцам или же привезены в готовом виде с юга. Еще А. Б. Мейер указывал на то, что описанная им и находящаяся в Линцском музее серповидная застежка (фибула) с великолепными длинными подвесками явилась на свет вдали от Гальштата; Гёрнес и другие исследователи считали несомненным, что знаменитый, находящийся в Венском придворном музее железный кинжал из Гальштата с бронзовой рукояткой, оканчивающейся кольцом, составленным из птичьих шеек и усеянным геометрическими фигурками нагих мужчин, занесен на север с итальянского юга; точно так же часто цитируемую, принадлежащую грацкой коллекции бляху из Штреттвега, украшенную рельефным изображением принесения оленя в жертву, с очень тощими, грубыми по формам фигурами животных и людей, большинство исследователей приписывали уже знакомому нам циклу произведений итальянского искусства. Но если южные гальштатцы были, так же как и венеды, иллирийского племени, то нет основания предполагать, чтобы изготовление ситул (древних бронзовых сосудов в форме ведра), которыми лучше всего характеризуется гальштатская культура, было известно одним лишь венедам; и действительно, найденные в гальштатском могильнике изображения из листовой бронзы отличаются от найденных в Италии особым, сильно варварским характером. Поэтому мы, вместе с В. Гурлиттом и другими, думаем, что ситулы и поясные бляхи этого рода изготовлялись и в альпийских странах под непосредственным греко-восточным влиянием. Выше было уже упомянуто о крышке бронзового сосуда из Гальштата. На ситуле из Куффарна, в Нижней Австрии, хранящейся в Венском придворном музее, мы видим полосу изображений, идущую только по ее верхнему краю. В ней изображены состязание в беге, происходящее в присутствии судей, кулачный бой на приз (шлем) и пиршество. Движения чрезвычайно оживленные, но формы, при всей своей отчетливости, во многих местах неуклюжи. С первого взгляда ясно, что это искусство не развившееся самостоятельно, а заимствовано и даже успело "одичать".
Ситула из Ватша (рис. 540), Лайбахский музей, впервые описанная Гохштеттером, украшена тремя полосами изображений, расположенными одна над другой: нижняя представляет фриз, где изображен лев, пожирающий мясо, и семь каменных козлов с завитыми стеблями растений во рту; средняя – кулачный бой и пиршество, верхняя – людей, едущих в колесницах и верхом, и лошадей, ведомых в поводу. Мужские головы с большими вздернутыми вверх носами и круглыми глазами имеют совершенно северный варварский характер.
Из поясных блях этого стиля наиболее известна бляха из Ватша. Изображенная на ней битва двух всадников считается единственной в своем роде среди всех изображений, встречающихся на иллирийских бронзовых бляхах. Резкий контраст движения сражающихся и спокойствия коней, на которых они сидят, свидетельствует о неумелости и несамостоятельности исполнившего ее мастера. На одной поясной бляхе из Магдалененберга, близ С. Марейна, хранящейся в Лайбахском музее, находится плетенка, заимствованная из восточной орнаментики; на другой изображены фантастические крылатые существа с головами животных и человека, также восточные по происхождению. Исполнены ли все эти работы на юге от Альп или же некоторые из них принадлежат самой альпийской стране, их происхождение от архаического восточногреческого искусства ясно сказывается на всех находящихся на них изображениях, а потому Гёрнес был прав, определяя их отношение к искусству, бывшему их родоначальником, словами "заимствование", "переделка", "шаг назад".
В нашу задачу не входит труд проследить множественные видоизменения гальштатских фибул (рис. 541, а-в) – с их древнейших форм, в виде очков и полукруга, во всех дальнейших их переходах в формы сердец и самострелов до латенских фибул – или сравнивать бронзовое и железное оружие гальштатской культуры в отношении его форм и орнаментации с современным ему северным оружием бронзового века. Равным образом мы не можем пуститься в подробное исследование развития найденных в могилах гальштатской культуры небольших бронзовых и глиняных фигур животных и людей. Неуклюжие бронзовые или глиняные статуэтки – иногда более и менее геометризованные, иногда исполненные более натуралистично, среди которых наиболее типичны быки с кривыми рогами, лошади с тонкими шеями и прямыми ногами, птицы с широким клювом и человеческие фигуры, за исключением всадников, встречающиеся довольно редко, – не открывают для нас ничего такого, чего не находили бы мы в доисторические времена Греции и Италии; с рукоятками же в виде головы птицы или лошади, встречающимися в бронзовой утвари гальштатской культуры, мы уже познакомились, когда рассматривали современный ей северный бронзовый век (см. рис. 28). Очень характерны быки на гальштатском бронзовом чане, в Венском придворном музее (рис. 542), и бронзовые сосуды в виде птиц из Венгрии, в той же коллекции; не менее характерны бронзовые подвески с лошадиными головами из Иезерина, в музее Сараева в Боснии.
Рис. 541. Языческое искусство севера Европы: от гальштатской культуры до эпохи викингов. По Гёрнесу (д), Кёбке (с), Софусу Мюллеру (и-м, о-р, т), Ранке (а-в), Рейнаху (е-з), Шназе (н), Эндзету (г)
Рис. 542. Бронзовый чан гальштатской культуры. По Гёрнесу
Рис. 543. Урна гальштатской культуры из Гемейнледенбарна. По Гёрнесу
Своеобразие форм гальштатской культуры мы находим преимущественно в глиняной пластике. Мы уже говорили об урнах в виде жилищ и лицевидных (см. рис. 29-31), не встречающихся собственно в области распространения гальштатской культуры и по большей части относящихся к более ранней эпохе. Но древнейшей гальштатской культуре принадлежат замечательные глиняные изделия, происходящие из Эденбурга, в Венгрии. Некоторые большие черные урны Венского придворного музея украшены грубыми треугольными узорами, нацарапанными до обжигания; на горлышке этот узор переходит в довольно отчетливо различимые, хотя и вполне геометризованные человеческие фигуры в парадной одеж де (рис. 543). Голова у них иногда совсем не намечена, иногда изображена в виде кружка или четырехугольника, сидящего на длин ной шее. Здесь ничто не напоминает дипилонский стиль, но фигуры не менее схематичны и геометризованы, чем в нем.
Из Эденбурга происходят также любопытные по своим формам символические "изображения луны" – стоящие на ногах глиняные серпы с вертикально загнутыми рогами, на тронах, переходящие в обращенные друг к другу протомы быков и баранов.
Замечательны также пластические глиняные изделия, найденные в одном кургане близ Гемейнледенбарна, в Нижней Австрии, – многочисленные фигуры животных или людей и урны, хранящиеся в Венском придворном музее. По верхнему краю одной из урн рассажены фигуры птиц, а на поверхности сосуда, там, где он начинает сужаться, были, как полагает Сцомбати, прикреплены пластические изображения всадников и стоящие бесформенные человеческие фигуры. Другие урны имеют сбоку ручки в виде дужек, оканчивающихся бычьими головами.
Наконец, некоторые особенности представляет нам полихромная глиняная пластика гальштатской эпохи. В собственно австрийской гальштатской области произведения такой пластики встречаются редко. Но из Виса, в Штирии, происходит, например, обломок урны, украшенной по желтому фону красными меандрами. Полихромные сосуды чаще попадаются в северной и западной областях гальштатской культуры. Сосуды, окрашенные красной и черной графитной красками с белой выкладкой в углубленных орнаментах богатой геометрической формы, встречаются нередко в Верхней Баварии, где их исследовал Ноак, а также в Бадене; подобные горшки попадаются и в Силезии. В этом можно убедиться в музеях Карлсруе и Бреславля. Еще Л. Линденшмит признавал эту полихромную гальштатскую керамику германской, и возражения против его мнения кажутся нам не вполне убедительными.
При взгляде на гальштатскую орнаментику оказывается невозможным признать за ней характер единства. Повсюду мы видим в ней различия, зависящие от местности и времени; на каждом шагу туземные украшения соединяются с занесенными извне. Животная орнаментика играет большую роль в изделиях, она может быть в виде пластических голов птиц, лошадей и быков. В некоторых местах в плоском орнаменте господствует чисто геометрическая форма, но в виде узоров и линий большего, чем прежде, размера. Очень часто, как и в бронзовом веке на севере, украшения в виде горбов и бородавок вытесняют геометрические формы. К прямым линиям везде присоединяются округленные, скрученные, согнутые в дугу; везде встречаются висячие полукруги и полосы волнообразных линий, далеко не соответствующие понятию о геометрическом стиле. Если считать некоторые формы, как, например, ряды соединенных между собой спиралей, наследием микенской орнаментики, то возникает вопрос: почему в гальштатской орнаментике не оказывается в таком случае других существеннейших черт микенского искусства? Однако в некоторых формах этой орнаментики нельзя с уверенностью отрицать сильного влияния восточного искусства, особенно древнегреческого той поры, в которую оно имело восточный характер; но лишь изредка удается ясно отличить, что именно проникло сюда прямым путем с юго-востока и что занесено окольными путями через юг и юго-запад. Можно только подметить всюду вместе с тонкостью листовой бронзы, из которой изготовлена утварь, некоторое стремление к живой, полной, сильной игре линий и старание приспособить формы, заимствованные извне, к местным потребностям и вкусу.
Параллельно гальштатской культуре идет культура первой железной эпохи в местностях по другую сторону Черного моря, берега которого, подобно берегам Средней Италии и Сицилии, были очень рано заселены греками. Здесь из смеси греческих и скифских элементов развивалась собственная культура с довольно сходными между собой древностями, распространявшаяся от южнорусских степей до Алтая и Енисея. На востоке от Волги ей предшествовала так называемая сибирская бронзовая эпоха, от которой сохранились головы и фигуры животных, как, например, птиц, каменного козла, медведя, являющиеся иногда поодиночке, иногда парами на рукоятках ножей и кинжалов, а также надгробные камни в виде грубой человеческой фигуры. Затем в первую железную эпоху развилось, особенно в кавказской местности, искусство, выступившее в ярком блеске из гробничного мрака благодаря исследованиям могильников Кобани и Калакента, произведенным Вирховым. Это кавказское искусство в отношении техники прежде всего искусство, пользующееся металлами, из которых главным остается также бронза; что касается его содержания, то оно воспроизводило животные формы, черпая их из местной кавказской фауны, подобно тому как сибирское бронзовое искусство брало формы из фауны Сибири. В могилах Кобани и других мест найдено множество литых бронзовых фигур животных. По-видимому, они были отливаемы отчасти ради них самих и потом уже стали употребляться как висячие уборы, отчасти же служили украшениями утвари, оружия, предметов роскоши, поясных пряжек. Кроме вполне пластических фигур животных встречаются рисунки животных, гравированные на бронзовых бляхах, преимущественно опять-таки поясных; прочая линейная орнаментация составлена из различных элементов несколько иначе, чем в гальштатских произведениях. Особенность этих кавказских бронзовых блях – синий, красный и зеленоватый сплавы, которыми заполнены углубленные места орнамента.
Очень интересны бронзовые пояса из закавказских могил. Наиболее богатую добычу этого рода памятников искусства доставили калакентские могилы. В гравированных рисунках на этих поясных бляхах человеческие фигуры, которые Вирхов считал изображениями охотников, встречаются редко среди быков, оленей, лошадей, каменных баранов, наряду с которыми являются в весьма странных сочетаниях фантастические животные (рис. 544). По Вирхову, это искусство самобытное, кавказское, сложившееся под влиянием Востока, а не Юго-Востока, то есть не Ассирии. Гёрнес видел в нем на каждом шагу варварское подражание микенским образцам. Так ли это, неизвестно; но, во всяком случае, можно утверждать, что в видоизменении художественного стиля первой железной эпохи в кавказских странах влияние Юга не играло никакой роли.
Рис. 544. Поясная бляха, найденная в одной из могил Кобани. По Вирхову
Это влияние ясно сказывается в феттерсфельдских золотых находках, к числу которых принадлежат роскошно орнаментированные животными мотивами золотые бляхи, хранящиеся в берлинском Антиквариуме. Они были найдены в Лаузице и представляют собой разрозненные остатки скифско-раннегреческого искусства колоний по берегам Черного моря. Другие писатели считали их скифско-готскими произведениями времени переселения народов; но украшения, состоящие в рядах животных и изображений борьбы между животными, указывают на их связь с кавказскими поясными бляхами. Они принадлежат, вероятно, еще VI столетию до и. э. Трудно отвести им надлежащее место в общем ходе исторического развития, как трудно вообще определять время происхождения почти всех южнорусских и сибирских древностей. Русский археолог Кондаков относил древнейшие из вещей, найденных в Кобани, только к первым столетиям нашей эры, но мнение этого ученого может быть оспариваемо; однако он, несомненно, прав, признавая произведениями эпохи переселения народов позднейшие изделия, хранящиеся в Сибирском отделении С. Петербургского Эрмитажа, удивительные бляхи пробивной работы с грубыми рельефными фигурами фантастических животных. Только будущее прольет свет на развитие и влияние языка художественных форм стран, простирающихся от горных хребтов Азии в глубину Европейской России.
В североевропейском и среднеевропейском искусстве, следовавшем за гальштатской культурой, не всегда легко различить друг от друга элементы галльские, германские, скифские и славянские.
Племенные особенности в художественных работах этого цикла отражались гораздо менее заметно, чем общность условий жизни. О языческом северном зодчестве этого периода времени не может быть речи уже потому, что в валах и стенах, уцелевших от городов и укреплений, нет ничего художественного, а собственно строения, которые тогда почти везде были деревянными, совсем не сохранились. От крупной скульптуры, в которой религия галлов и германцев нисколько не нуждалась, дошли до нас только обломки. Живописи в собственном смысле слова это языческое искусство не знало. Оно производило преимущественно предметы так называемого малого искусства – художественной ремесленности и орнаментики.
За гальштатской культурой, доходящей до 300 г. до н. э., последовала в Европе латенская, которая в 100 г. н. э. уступила свое место римскому провинциальному искусству. Это последнее господствовало с 100 до 350 г. н. э. То, что явилось между 350 и 500 гг. н. э., принято называть искусством времени переселения народов; произведения же, созданные между 500 и 750 гг. н. э., принято относить во Франции и Германии к искусству эпохи Меровингов, в Скандинавии – к искусству позднейшей железной эпохи, за которым следовали в языческие времена на севере искусство викингов, на востоке Европы – искусство языческой Венгрии и искусство венедов. Эпоха викингов и венедов оканчивается лишь в XI в. н. э. Конец этой художественной ступени наступает с введением христианства, что, однако, происходит в разные времена, отдаленные одно от другого целыми столетиями.
Искусство латенской культуры примыкает непосредственно к позднейшей гальштатской. Латен – местность, по которой со времени исследований Ф. Келлера и Ф. Гросса названа эта ступень культуры, так как здесь найдены первые, и притом образцовые, ее памятники, представляет собой отмель на Невшательском озере, близ деревни Марен. Основателями и первоначальными носителями латенской культуры были кельты, галлы в Швейцарии, во Франции и на Верхнем Рейне. Но культура эта, обойдя большой дугой собственно гальштатскую область, отвоевала себе германский Север, Англию, крайний Восток Европы и Верхнюю Италию, откуда исходили, по крайней мере, некоторые из ее проявлений. На западе Центральной Европы она подготовила почву для римского провинциального искусства, а в других местах – для искусства германской эпохи переселения народов. В искусстве латенской культуры так же мало самобытности и единства, как и в гальштатской; возникнув главным образом из смеси южных и восточных элементов, переработанных в местном духе, латенское искусство, вместе взятое, представляет, однако, больше единства, чем гальштатское.
В противоположность гальштатской культуре первой железной эпохи латенская возникла во времена вполне развитой железной эпохи. Но о ее искусстве можно говорить только с большими ограничениями. Галлы, жившие в городах, были практическим и в то же время воинственным народом. Железное оружие и орудия были главными их изделиями, которые они, как правило, не украшали, а если и были какие-то украшения, то очень скромные. Даже золотые и бронзовые изделия отличаются у них больше целесообразностью основных форм, чем художественностью отделки. В этой отделке тонкие жестяные формы гальштатского искусства уступают место более полным, массивным, профилированным более сильно. Открытые бронзовые браслеты нередко имеют на концах пуговки в виде шарика или чашечки (см. рис. 541, г). Фибула с головой животного в некоторых местностях принадлежит ранней латенской культуре. Развитая форма латенской фибулы характеризуется двойной головкой со спиральной пружиной и отогнутым гнездом для булавки. Бронзовые цепи оканчиваются иногда крючком в виде головы животного.
Настоящая латенская орнаментика уже не имеет строго геометрического характера, но и нигде не отличается натуралистичностью. Линии часто загибаются в одну сторону и образуют завитки вроде растительных стеблей. Рядом со спиральными линиями, которые все еще играют некоторую роль, появляется трикветрум, "трехкостие" (см. рис. 541, д). Закрученные концы становятся обычными, и вместе с тем кое-где появляются "рыбьи пузыри" или подобия качающегося пламени – формы, воспринятые впоследствии готикой и получившие в ней дальнейшее развитие. Встречаются человеческие лица с оскаленными зубами. Фигуры животных извиваются в виде арабесок, и все их части – рога, ноги, хвосты, даже морды – оканчиваются завитками растительного характера, в которых иногда проглядывают раннеклассические образцы.
В отношении стремления присоединять живые существа к игре мертвых линий, которым отличалось языческое искусство Центральной и Северной Европы, любопытно развитие "антенских рукояток" мечей и кинжалов бронзовой эпохи в фигуры, приблизительно напоминающие человеческие (см. рис. 28); подобная рукоятка кинжала французского происхождения, хранящаяся в Сен-Жерменском музее, представлена на рис. 541, е.
Рис. 545. Бронзовая статуэтка воина латенской культуры. По Гёрнесу
В металлической орнаментике самостоятельное значение приобретают сквозные, открытые со всех сторон работы; в изделиях этого рода, как это можно видеть по бронзе III столетия до н. э., найденной в могилах Шампани (ж), латенская орнаментика достигает полного развития. Иногда врезанным линиям орнамента сообщается цветной блеск при помощи "кровавого стеклянного сплава"; в бронзу вправлялись также кусочки кораллов и искусственные цветные пасты. Другого рода игрой красок отличались голубые и желтые стеклянные наручники и бусы из янтаря.
Гончарное искусство не сделало успехов кроме того, что стало пользоваться вращающимся кругом.
Монеты латенской культуры представляют собой подражание греческим, македонским и массалиотским. Вначале еще можно различать, по каким образцам они изготовлены, но потом они покрываются изображением завитков.
Среди латенских древностей встречается много небольших бронзовых и терракотовых фигурок животных. В их числе видное место занимает кабан, галльский "тотем", изображение которого по является и на монетах, нет также недостатка и в человеческих фигурах. Небольшую бронзовую фигуру воина, происходящую из Идрии, на австрийском берегу, Гёрнес признал лучшим из произведений латенской пластики (рис. 545). Если не считать слишком большой головы, формы этой статуэтки, при всей архаичной скованности, довольно чисты и понятны.
Несмотря на всю смешанность элементов, из которых сложи лось латенское искусство, оно все-таки имеет свое лицо, и роль, которую оно сыграло как посредствующее звено между формами классической древности и формами христианских средних веков дает ему право на известного рода значение во всемирной истории искусства. Но это значение приобретено им только потому, что оно умело перерабатывать все чужестранное, притекавшее к нему извне, в самобытном стиле, отнюдь не лишенном вкуса.
2. Языческое искусство севера Европы: от времени римского провинциального искусства до эпохи викингов и венедов
Благодаря римским завоеваниям эллинистическо-римское искусство приобрело такое влияние на древнегалльское и древнегерманское искусство, которые мы теперь будем рассматривать, что через смешение его с ними возникло римское провинциальное искусство. Зодчество этого направления (см. т. 1, кн. 4, II, 1) продолжало, однако, держаться еще всецело на почве римского мирового искусства, а живопись представляла собой лишь искаженный отпрыск эллинистическо-римской живописи. Поприщем римского провинциального искусства, имевшего вообще на Рейне римский характер, а в самой Галлии большую самостоятельность, были скульптура и малое искусство.
Греко-римские художественные произведения попадали в область распространения латенского искусства массами; кроме того, в ней поселялись римские художники и ремесленники. Вскоре стали являться, в Галлии чаще, нежели в Германии, местные уроженцы, готовые обучаться искусству завоевателей. Произведения римского малого искусства проникали путем торговых сношений даже за пределы империи, вследствие чего отдельные экземпляры римских бронз встречались далеко на севере и юге. Но собственно галльско-римское и германо-римское провинциальное искусство держалось в пределах империи, то есть в Германии, кроме Рейна, по эту сторону "limes", устроенного римскими завоевателями вала, имевшего 550 километров в длину и отделявшего провинцию Рецию и Верхнюю Германию от свободной Северной Германии.
Как уже было замечено выше (см. т. 1, кн. 4, II, 3), в римском провинциальном искусстве местностей, входящих теперь в состав Германии и Франции, особенной любовью пользовалось служение Мифре. Идеалистическое стремление этого искусства, конечно, было вообще еще гораздо менее значительно, чем стремление одновременного с ним искусства на берегах Тибра. Примеры того, как испорченный эллинистическо-римский язык форм употреблялся для выражения мифологических представлений галлов или германцев, не составляют редкости, но поучительны скорее для истории культуры, чем для истории искусства. Так, например, мы находим общий римский характер при галльских подробностях в неприветливом большом лилльбонском Аполлоне Луврского музея и в многочисленных бронзовых статуэтках богов, изучать которые можно в музеях Бордо и Булони. Еще более чужестранный характер имеют такие произведения, как, например, вылепленная из белой глины архаически окоченелая, но, несмотря на это, разукрашенная галло-римская Венера, находящаяся в музее С.-Жермен-ан-Ле, или фигура галло-римского бога, сидящего, подобно Будде, с поджатыми под себя ногами. Рейнах, предполагая, что оба эти типа занесены в Галлию прямо из эллинистического Египта, считает вторую из означенных фигур, принадлежащую также С.-Жерменскому музею, египтизированным Меркурием (см. рис. 541, з).
Галло-римское и германо-римское провинциальное искусство является перед нами более свежим в своих реалистических произведениях. Галло-римские фигуры животных, каковы, например, бронзы музеев Лиона и С.-Жермен-ан-Ле, отличаются некоторого рода оригинальностью. Но реалистические рельефные изображения на надгробных памятниках, при всей умелости своего исполнения, все-таки свидетельствуют только о большой разнице между произведениями провинции и столичными художественными работами. В Германии как на сильные в своем роде произведения можно указать на рельефы памятника Секундинов в Игеле, близ Трира, на рельефы неймагенских памятников в Трирском музее (прощание, возвращение с охоты, сцена учения, принесение дани), при всей своей грубости отличающиеся живостью замысла, и на рельефы надгробного камня корабельщика Блусса в Майнцском музее, изображающие на лицевой стороне самого покойника с его семьей, а на задней – его судно. В конце поры римского провинциального ваяния появляются такие грубые фигуры, как "Милосердие" Компьеньского музея, напоминающие собой древнеионийские сидячие статуи Дидимэона, близ Милета (см. рис. 271), или как галльский воин музея Кальве в Авиньоне, изображенный в одежде IV в. н. э.
Впрочем, римское провинциальное искусство, оттеснив в первые столетия нашего летосчисления латенское искусство, господствовавшее перед тем на севере, не могло никогда уничтожить его совершенно. В произведениях малого искусства с особенной ясностью видно, как римское и латенское направления проникают одно в другое, прилаживаются друг к другу. Так, например, римская провинциальная дугообразная фибула, в которой дужка по большей части составляла с иглодержателем один кусок, очевидно, произошла от дугообразной фибулы латенского времени, а так называемую западноевропейскую варварскую эмаль, при которой места для стекловидного сплава выдалбливались в бронзе (выемчатая эмаль), но не обводились по краям проволокой (перегородчатая эмаль), можно проследить до самой гальштатской культуры.
Чем дальше идти к северу, тем прозрачнее становится покров эллинистическо-римской культуры, облекавший собой латенскую область. Особенно любопытно влияние римских художественнопромышленных изделий, проникавших за северные границы империи, на художественное производство свободных германских стран, которые римляне никогда не занимали. Пометка мастера Публия Ципа Полиба встречается, например, на бронзовых сосудах как найденных в Помпее, так и открытых в Ютландии, на Фальстере, в Венгрии и Англии.
Пока процветала Римская империя, означенное влияние, как доказал Софус Мюллер, было столь сильно, что мы имеем право говорить о германо-римской орнаментике рассматриваемого времени, продолжавшей существовать еще долго в пору переселения народов, но постепенно разрабатывавшей чисто германские элементы, которые содержались в ней вместе с римскими. Ютландские глиняные сосуды первых времен империи, хранящиеся в Копенгагенском музее, отличаются чистотой форм и не столько роскошной, сколько хорошей и ясной орнаментацией. Широкие полосы, наполненные параллельными линиями и поперечными штрихами, то идут по сосуду в горизонтальном или вертикальном направлении, то образуют на нем нечто своеобразное, вроде меандра, редко кружки. Иногда являются снова все древние элементы орнамента. Но замечательно то, что за крайне немногими исключениями и кроме отдельных случаев прямого подражания простым мотивам римский растительный орнамент северными богатырями совсем не усваивается. Подобно тому как растительный орнамент везде следовал лишь за геометрическим и животным, так и здесь племена, еще не созревшие для этого, не усваивают растительного орнамента, хотя в его образцах у них не было недостатка, и это единственно потому, что он еще был для них непонятен. Животный же орнамент в германо-римском искусстве севера, с одной стороны, приближается к эллинистическо-римским формам, как это видно, например, на фризе с четвероногими животными, украшающем собой один серебряный кубок Копенгагенского музея, и на фризе варварского характера, представляющем морских коней и козлов, в Кильском музее (см. рис. 541, и), и с другой – выделяет из себя зачатки новой животной орнаментации, являющиеся повсюду, где только возможно, – в углах полей, на остриях, оконечностях. Таким образом, мы совершенно неожиданно находим головы животных на пуговицах перевязей мечей, на рукоятках, набалдашниках, причем, как указывал Софус Мюллер, эти головы не скопированы с натуры, а порождены фантазией, находящей в любой форме сходство с головой животного и затем уже подчеркивающей это сходство через обозначение в надлежащем месте сначала глаз, а потом и всей морды. Такие головы имеют тип то птичьей головы, то головы четвероногого. Для примера можно указать на оконечность рукоятки меча и на оправу ножен меча в Копенгагенском музее (к, т). Трудно допустить, чтобы эта животная орнаментика, как думал Софус Мюллер, не имела ничего общего ни с кончиками ножей северного бронзового искусства, имеющими форму животных, ни с подобными формами гальштатского искусства, но представляла собой совершенно новый мотив, выросший на севере в позднейшие века эпохи империи. Во всяком случае, при рассмотрении этого вопроса нельзя не принимать в расчет наклонности к таким формам в латенскую эпоху; во всяком случае, эти новые или возродившиеся формы повели к подавлению германо-римского характера украшений, последовавшему в эпоху переселения народов и вполне совершившемуся к началу времени Меровингов.
О том, до какой степени долго держались в варварском искусстве отголоски классических художественных форм, можно судить, например, по найденному в 1891 г. при раскопках близ Гундеструпа, в Ютландии, и находящемуся в Копенгагенском музее серебряному котлу, обильно украшенному рельефными изображениями, содержание которых осталось неразгаданным. Несмотря на то что он найден на севере, судя по некоторым из его украшений, например по фигуре бога, сидящего с поджатыми под себя ногами, можно признать его галльским произведением конца эпохи переселения народов; другие особенности этого котла дают повод искать его родину на берегах Черного моря. Как бы то ни было, изображение человека, борющегося со львом (л), – почти точная, хотя и варварская копия классического рельефа, изображающего борьбу Геракла со львом (м) – произведения, поступившего из Сабуровского собрания в Берлинский музей.
Памятники вроде вышеупомянутого гундеструпского котла имеют некоторое сходство с изделиями золотых дел мастеров времени переселения народов, найденными преимущественно в Венгрии и в еще более отдаленных восточных местностях. Из таких изделий прежде всего надо упомянуть о замечательных золотых пластинах, отчасти таких, которые, вероятно, украшали собой конские сбруи. Они хранятся теперь в С. Петербургском Эрмитаже, принадлежа к главным драгоценностям его сибирского отдела. Места, в которых они были найдены в Сибири, с точностью неизвестны. С ними можно познакомиться по большому сочинению о южнорусском искусстве, изданному г. Кондаковым, гр. Толстым и Рейнахом. Иногда они имеют четырехугольную рамку, иногда их края образует сам контур изображения, но все они представляют, в грубой сквозной работе, характерно искаженных, отчасти фантастических животных в борьбе между собой или с людьми, которые вступают с ними в бой, сидя на коне или взобравшись на деревья. В общем виде этих изображений, не исключая ландшафтных аксессуаров, отражается влияние позднейшего греческого искусства, своеобразно и умышленно искаженного в духе варваров. Но золотые работы вроде, например, хищной птицы, в когтях которой корчится баран, по накладке на них цветной стеклянной эмали приближаются к драгоценностям того же времени, найденным в Европе. Богатство европейских царских сокровищниц времени переселения народов отразилось в некоторых из этих "кладов", дающих нам представление о блеске сокровища Нибелунгов. После того как Поль Клеман в своем обстоятельном труде присоединился к результатам изысканий Жозефа Гампеля относительно золотых вещей, найденных в Наги-Сцент-Миклосе, исходным пунктом этого искусства стали считать скифо-греческие города на северном берегу Черного моря, на которые, по нашему мнению, указывают и старейшие феттерсфельдские золотые находки. Но носителями этого искусства признают германских готов, и в смешанном стиле его произведений пытаются различить элементы эллинистическо-римские, восточные (сасанидские) и местные. Роскошно украшенная благородными камнями диадема, найденная на Дону и хранящаяся в скифской коллекции Эрмитажа, украшена спереди женским бюстом, вырезанным из халцедона, а на верхнем краю пластическими фигурами лосей и кавказских каменных баранов. На рельефе серебряной чаши, принадлежавшей гр. Строганову из С. Петербурга, изображена пирующая чета готских новобрачных. В кладе Петроссы (Петреозы, Петроассы), остатки которого составляют одно из украшений Бухарестского музея, вместе с блюдом позднего римского происхождения найдена восьмиугольная чаша с ушками в виде пантер и с богатым украшением из плоскошлифованных полублагородных камней, расположенных, по выражению Юлиуса Лессинга, "в виде простого узора в сети из ячеек с металлическими вертикальными краями". В кладе Наги-Сцент-Миклоса, в Венском придворном музее, заключается великолепный сосуд с варварски исполненным изображением всадника в кольчуге, которого одни признают сасанидским, а другие, что вернее, готским. Чаша из того же клада, имеющая неуклюжую ручку в виде головы животного, напоминающую художественные приемы первобытных народов, украшена классически изящной каймой из пальметт. На других предметах наги-сцент-миклосского клада видны остатки ячеек, в которых были вставлены ошлифованные гранаты или находилась цветная стекловидная масса. Многочисленные золотые изделия, отрытые на Платтенском озере и в других местах Венгрии и составляющие теперь гордость Будапештского национального музея, по большей части украшены также ячеистой глазурью (verroterie cloisonne e), резко отличающейся от настоящей эмали. На все эти произведения, переносящие нас из III в. н. э. в V в., во многих отношениях и особенно ввиду этих украшений из цветных камней или стекла, нужно смотреть как на предшественников несколько более поздних вестготских, лангобардских, бургундских, франкских и алеманнских изделий, из числа которых здесь подлежат нашему рассмотрению как изделия несомненно дохристианского происхождения, только найденные в могилах Западной Германии, Бельгии и Франции, ибо только эти предметы украшений принято относить ко времени Меровингов, хотя они относятся к несколько более древней поре.
В исследовании искусства Меровингов, к которому, в широком смысле слова, присоединяются современное ему искусство англосаксонское, ирландское и скандинавское, участвовали такие ученые, как Ф. де Ластейри, С. Рейнах, Л. Линденшмит, И. Ноак, К. Лампрехт и П. Клеман. Но о некоторых главных явлениях в этой художественной области, как, например, обо всем лангобардском искусстве, мы будем говорить ниже, так как они носят на себе несомненный отпечаток христианства. Здесь мы должны ограничиться указанием на одни языческие основные черты орнаментики этой ступени развития.
Гробница короля Хильдерика I, умершего в 481 г., отрытая в Дорнике, древней резиденции Меровингов, имеет языческий характер. То, что было в ней найдено, отчасти рассеялось, отчасти хранится в Луврском музее. Близко подходят к этим вещам произведения, найденные в Пуане, близ Арси-сюр-Об, в гробнице, как предполагают, вестготского короля Теодорика I, павшего в 451 г. Но корона Теодолинды в ризнице Монцского собора и родственные между собой по стилю венцы из гваррацарского клада, находящиеся в музее Клюни в Париже и в Оружейном музее (Армерии) в Мадриде, относятся, очевидно, уже к христианскому времени. Они принадлежали, как доказывают надписи на них, готским королям Свинтиле (ум. в 631 г.) и Рецессвиту (ум. в 672 г.) и потому имеют перед другими памятниками этого рода то преимущество, что время их изготовления и место известны с точностью. В музее Сен-Жермен-ан-Ле и в других французских, а также в немецких коллекциях, есть много подобных предметов, происходящих из иных мест. Отличительную особенность их орнаментации составляют встречающиеся золотые ячейки, заполненные цветными, преимущественно красными, полублагородными каменьями или стекловидными пастами. Украшение в виде орла, в музее в Клюни, может служить ярким примером этого способа украшения на западе Европы, и для нас уже не подлежит ни малейшему сомнению, что родиной этого способа была Восточная Европа, если только не еще более отдаленные восточные страны. Некоторые данные указывают на то, что он сасанидского происхождения. Многочисленные застежки одежд рассматриваемого времени, кругообразная задняя сторона которых покрыта такими же украшениями, быть может, даже привезены из восточных стран. По крайней мере, фибулы типичной рыбьей или птичьей формы, с такими же вставками каменьев или пасты, заимствовали оттуда технику этого рода украшений, распространенную готами по всей Европе.
Несколько иной характер имеют собственно меровингские фибулы, у которых широкая верхняя часть, у головного конца, или четырехугольная, или округленная и усеянная по краям пуговками или дугообразными выемками, представляет просторное поле для орнаментации. Хотя некоторые из подобных застежек, как, например, пользующаяся известностью фибула из Нордендорфа, в Аугсбургском музее, и походят на фибулу из Кесцтели, в Будапештском национальном музее, вероятно, более древнюю, однако не подлежит сомнению, что большинство таких меровингских фибул и многочисленные другие предметы убранства, в орнаментации которых вставка камней и стекловидной пасты встречается реже, обычно бывает обильно украшено узорами другого рода, свойственными Западной и Северной Европе. В их числе появляется германская сильно запутанная плетенка. Без сомнения, простую, еще древнехалдейскую и позднеримскую ленточную плетенку, которую мы видим на вышеупомянутой фибуле из Кесцтели, можно считать первой ступенью перехода к густой, неправильной плетенке на меровингских уборах, в каждом отдельном случае различной и нередко заключающей в себе головы животных; но эта своеобразная орнаментация, в которой не сохранилось ни одного из элементов классической растительной орнаментики и из мотивов животного мира, свойственных восточной орнаментике времени переселения народов, выработалась, как и показывает область ее распространения, во всяком случае на германском севере; что эта выработка совершилась еще во времена язычества, доказывается тем, что означенная орнаментация встречается на предметах, найденных в языческих могилах Визенталя (в Филиппсбургском округе) в Бадене.
Эта германская животная и ленточная орнаментика времен переселения народов и эпохи Меровингов, с северными предшественниками которой мы уже ознакомились, требует от нас особого рассмотрения.
В меровингскую эпоху (500-750 гг.) германское и французское искусство особенно часто пускало в ход в орнаментике, помимо возрождавшихся латенских мотивов, ленточную плетенку, тогда как скандинавское, ирландское и в особенности англосаксонское искусство, напротив того, отдавали предпочтение животным элементам. Многорядное плетение из лент, из которого нередко выступают головы или ноги животных, насколько можно судить по найденным отдельным предметам, из которых, например, заслуживают внимания кроме вышеупомянутой венгерской фибулы из Кесцтели находящаяся в Майнцском музее оправа седла из Ингельхейма и металлическая пряжка из Урсини, в Бернском музее, произошло из простой, исстари известной ленточной плетенки, но получило дальнейшее развитие под влиянием разнообразных шнуровок одежды рассматриваемого времени. Родственные этому орнаменту резные украшения деревянных пластинок из алеманнских гробниц Лупфена, в швабском Шварцвальде, находящихся в Штутгартском музее древностей, указывают на участие в развитии мотива плетенки резьбы по дереву, несомненно игравшей известную роль и в архитектуре времен Меровингов, деревянные произведения которой погибли бесследно. Орнаментика резьбы по дереву была перенесена на изделия из металлов.
В Германии, Швейцарии и Франции образцы этой орнаментики находили главным образом в могилах; на скандинавском же севере, за исключением позднейших могил на острове Борнхольм, они сохранились преимущественно в торфяных болотах как части некогда зарытых или затонувших сокровищ.
Рис. 546. Визентальские металлические пластинки времени Меровингов. По Линденшмиту
Прежде всего рассмотрим древности этого рода, найденные в алеманнских, франкских и бургундских могилах. Предметы украшения (рис. 546), добытые из языческих могил в Визентале и хранящиеся в музее Карлсруе, представляют уже вполне развитый германский стиль ленточного плетения с впутанными в него животными. Головы животных, переходящие в ленточные петли, имеют по большей части неопределенные формы, хотя и видно, что это головы четвероногих или птиц; только в позднейшую, христианскую пору данной эпохи снова появляются, как классические припоминания, львы, грифы и крылатые кони, остающиеся чуждыми скандинавскому и англосаксонскому искусству. Змеи встречаются редко. Во всяком случае, если на ленточную петлю с условной головой животного смотрели как на змею, то это было недоразумением. Полные фигуры животных на могильных находках этой группы попадаются реже, чем отдельные части животных. Но такие части одни или образующие фигуры при помощи ленточного сплетения встречаются здесь реже, чем в англосаксонской и скандинавской орнаментике той же эпохи. Человеческие головы или тела в языческом германо-французском искусстве эпохи Меровингов отличаются грубостью и неумелостью рисунка. В голове на перстне с печатью Хильдерика нет и следа классических традиций. Всадник на бронзовом перстне из Оберольма, в Майнцском музее, отчасти напоминает формы древнейшего эллинского дипилонского стиля (см. рис. 259). В Германии предметами украшений меровингской эпохи особенно богаты Майнцский, Висбаденский, Зигмарингенский, Штуттгартский и Мюнхенский музеи.
Англосаксонская орнаментика этого рода, в оценке которой мы сходимся с Акерманом и Софусом Мюллером, несмотря на внутреннее родство свое с западногерманской, представляет некоторого рода противоположность ей. Англосаксонские животные мотивы сводятся также к немногим типам; главные из них – птичья голова с сильно искривленным клювом и голова четвероногого с глазами и ноздрями в том виде, в каком она представляется, если смотреть на нее сверху; затем в числе фигур целых животных важную роль играют птицы с кривыми когтями, небольшими крыльями и коротким хвостом, и четвероногое с вывернутой вперед передней лапой и с задней, находящейся или под брюхом или на спине. Эти изображения вырезались на бронзовых пластинках вглубь, причем внутренние линии проводились так неумело, что отдельные части фигуры представляются как бы приложенными друг к другу без всякой связи. Следствием этого было то, что англосаксонская орнаментика рассматриваемого времени расчленяла фигуры животных на отдельные куски еще чаще, чем германо-французская, и произвольно изображала эти куски то отдельно, то соединяя их между собой. Вытянутые в нитку фигуры животных встречаются иногда в произведениях золотых дел мастеров, а отсюда именно происходят характерные для англосаксонского искусства фигуры вытянутых в ленту четвероногих неведомой породы. Софус Мюллер, определяя особенности этого искусства, говорил: "Расчленение и отбрасывание членов, составление и переделка – вот те факторы, которыми пользовалась англосаксонская орнаментика для того, чтобы до бесконечности разнообразить свои немногие мотивы; при этом собственно нового не было создано ничего".
Ирландское искусство имеет совершенно иной облик. Рукописи, которые были изготовляемы и украшаемы миниатюрами в ирландских монастырях, играют важную роль в истории христианской живописи раннего периода средних веков. О них мы будем говорить ниже, но считаем нужным теперь же заметить, что основные принципы ирландской орнаментики возникли еще в дохристианское время. Что на нее имела влияние германская орнаментика континента, это мы, вместе с Линденшмитом и Клеманом, считаем отнюдь не так невероятным, как полагают некоторые другие исследователи. Л. Фильсер настойчиво доказывал ее германское происхождение. Однако ее следует считать в некотором отношении особой ветвью одновременного с ней северо-западного европейского искусства, принесшей свои собственные национально-ирландские плоды.
Ирландская орнаментика характеризуется ленточной плетенкой, употребление которой в ней то усиливается, то ослабевает, причем в этот мотив нередко вносится масса органической жизни; в него привходят то самостоятельные формы стилизованных растений, то фигуры людей, превращающиеся в ленты. Но главным образом ирландская орнаментика пользуется фигурами животных, из числа которых и она в доброе старое время (600-800 гг.) брала лишь четвероногих неопределенной породы, вытягивая иногда их тела в виде ящериц, да какую-то длинноногую птицу с кривым клювом. Отличительный признак животных ирландской орнаментики – лента, исходящая в виде пучка из их затылка. К разделению тела животного на части и к соединению их снова в одно целое эта орнаментика совсем не прибегает. Но зато животные оригинально и фантастично вставляются одно в другое, держат одно другое в пасти или в клюве за лентовидные отростки и, заполняя собой четырехугольные пространства, как это мы видим, например, в сен-галленской миниатюре (см. рис. 541, н), соединяются в красивые геометризованные узоры, разыгранные на диагональном основании и не строго симметричные. Эти формы ирландской орнаментики отчасти напоминают собой произведения новомекленбургских первобытных племен (см. рис. 53).
На скандинавском севере, орнаментика которого за рассматриваемый промежуток времени была особенно основательно исследована Софусом Мюллером, ее развитие происходило с 500 до 800 гг. н. э. параллельно с развитием орнаментик германской и англосаксонской. "Роль орнамента играют животные, и с их фигурами обращаются, как с ним. Их растягивают и сгибают, удлиняют и укорачивают, искажают сообразно с требованиями пространства, которое они должны заполнять собой". Голова животного с удлиненной затылочной линией, длинная голова животного, как она представляется, если смотреть на нее сверху, с выпученными глазами и выступающими вперед ноздрями, круглая птичья голова с кривым клювом играют и здесь главную роль. Иногда две головы животных соединены одна с другой таким образом, что получается нечто похожее на человеческую голову. Ленточное плетение, к которому припутываются подобные части животных, является на севере по большей части в виде вытянутого в ленту тела животного. Большая бронзовая фибула (см. рис. 541, о) Копенгагенского музея – прекрасный образец северной животной орнаментики.
В период между 800 и 1000 гг., в так называемую эпоху викингов, скандинавский орнаментный стиль подвергся значительному изменению под влиянием сильного, проникшего в Скандинавию через Ирландию, течения, которое, быть может, следует считать обратным. Ближайшим следствием этого было появление смешанного стиля; но вскоре, приблизительно с 900 г., североирландский стиль отринул все характерные черты древнейшей северогерманской орнаментики, и в скандинавской орнаментике снова отразились все особенности ирландского, преимущественно позднейшего стиля. Голова и спина у орнаментных животных иногда даже выдаются плоским рельефом над пластинкой, на которой они помещены. Животные нередко изображаются вытянутыми и бегущими. Ирландский лиственный орнамент этой эпохи примешивается сюда в своеобразной переделке; человеческие фигуры играют здесь более видную роль, чем та, какую играли они в германо-скандинавской орнаментике раньше 800 г. Сравнение ирландского орнамента (п), взятого из одной кембриджской рукописи, со скандинавским орнаментным животным той же эпохи на хомуте из Маммена, находящемся в Копенгагенском музее (р), доказывает эту связь сколь нельзя более убедительно. Наряду с этим хомутом и с хомутом из Зёллестеда характерным образцом произведений прикладного искусства эпохи викингов может служить серебряный кубок из Иеллинге, в Копенгагенском музее.
В северном искусстве рассматриваемого времени важную роль играют памятные камни. "Камни баута", не имеющие, подобно менгирам более древних времен, никаких надписей, украшений и изображений, встречаются на острове Борнхольм и в Швеции. В том случае, когда они снабжены надписями, их называют руническими. Руны – буквы севера; 16 знаков древнейшей рунической азбуки стоят не совсем вне всякой связи с классическими алфавитами, знаки которых приобрели на севере право гражданства как в письменности, так и разговорном языке. Но рунические камни только тогда имеют значение художественных памятников, когда украшены орнаментами или какими-либо изображениями. Важнейшие из таких художественных рунических камней находятся у громадных могильных курганов Ютландии, у курганов в Иеллинге, под которыми погребены древний король Горм и его супруга Тира. Наибольший из этих двух камней, как свидетельствует надпись на нем, воздвигнут королем Гаральдом, завоевателем Норвегии и проповедником христианства в Скандинавии, в память его родителей, Горма и Тиры. На задней стороне этого камня мы видим полуанглосаксонское, полуирландское стилизованное изображение животного, впутанное в знакомые нам ленточные петли. Но на лицевой стороне уже является Христос, как и во многих из ирландских миниатюр в позе Распятого, но без креста, причем Его тело поддерживают в этом положении лиственные гирлянды и плетения из лент, вьющиеся вокруг ног и рук (с). Здесь перед нами уже конец северного дохристианского искусства. Начинается новая эпоха, приносящая новые чувства и воззрения, и вместе с нею начинается христианское искусство, явившееся на юге девятью столетиями раньше, чем на севере.
Ко времени искусства викингов относятся также памятники эпохи язычества в Венгрии, на рассмотрении которых мы не можем останавливаться; тому же времени, как и они, принадлежат произведения древнеславянского искусства, памятники которого, своеобразные каменные истуканы, сохранились в разных местах Восточной и Центральной Европы. В обширных степях России, на пространстве между Днепром и Енисеем, встречались в большом количестве высеченные из камня мужские и женские фигуры, первоначально стоявшие на могильных курганах, а теперь по большей части снятые с них и расставленные в других местах или совсем уничтоженные. Мужские фигуры этого рода, вырубленные из гранита, попадаются в Галиции и Сибири. Особенно характерны так называемые каменные бабы южнорусских степей, лежащих между Днепром и Азовским морем. Они вырублены из мягкого белого известняка, имеют то сидячее, то стоячее положение и достигают высоты 2-4 метров. Иногда они крайне безобразны и напоминают собой каменные женские фигуры бронзового века во Франции, в Коллорге (см. рис. 16); но даже самые лучшие из них не выходят, в отношении форм, из пределов фронтального и примитивного искусства. Лица у них плоские, с толстыми щеками и короткими носами; на голове шапка, груди отвислые; перед своим животом они держат обеими руками сосуд, – мотив, очень распространенный в доисторическом искусстве и других местностей (см. рис. 28, г). Впрочем, некоторые из этих истуканов принадлежат средним векам. Альбин Кон напоминал, что еще в 1253 г. французский посол Рубриквис писал об обычае "команов" насыпать над могилой умершего огромный курган и ставить на нем каменное изваяние человека, держащего в руках сосуд.
Трехъярусный каменный столб из Гусятина, в Галиции, находящийся в Краковском музее, сложнее этих памятников. Верхнюю его часть образуют четыре мужские фигуры, обращенные лицами во все четыре стороны; одна общая шапка, прикрывающая эти головы, придает им вид одной фигуры.
Истуканы, подобные тем, о которых мы только что говорили, сохранились также и в Германии, где они считаются славянскими или венедскими последних времен язычества. Из трех вырубленных плоским рельефом каменных фигур, найденных в русле Майна и находящихся в доисторической коллекции в Мюнхене, две более крупные изображают, очевидно, мужчин в длинной одежде, без головного убора. У одной из них – усы и борода. Моделировка головы и лица у этих изваяний почти так же примитивна, как и у вышеупомянутых коллоргских изваяний. Руки, без признаков кисти и с грубо намеченными пальцами, сложены на животе и так плоски, что едва выделяются. Столь же безобразны четыре мужские фигуры красного и серого гранита, найденные в Розенберге и хранящиеся в Данцигском музее; однако их головы посажены на туловища несколько лучше, чем у мюнхенских истуканов; в руках все они держат кубки в виде рога, а некоторые, кроме того, мечи или жезлы.
В отношении расчленения тела и головы особенно значительный шаг вперед представляет рельефная мужская фигура в церкви Альтенкирхена, на острове Рюген. В ней довольно хорошо различимы головной убор, борода и одежда. И эта фигура держит перед собой кубок в виде рога. Мнение, что этот рельеф изображает венедского бога Свантевита, разумеется, ни на чем не основано. Так называемый монах в церкви Бергена, на Тюгене, при совершенно таких же формах и положении тела и головы, держит в руках не рог, а крест; однако М. Вейгель, исследовавший все славянские изваяния рассматриваемого нами времени, считает этот крест позднейшей приделкой. Как бы то ни было, бергенский "монах" снова приводит нас на границу между языческой и христианской эпохами. Для дальнейшего развития искусства на севере Европы имело большое значение то обстоятельство, что, когда христианское средневековое искусство завоевывало эти местности, оно уже успело в других странах получить определенный облик.
II. Искусство Персии и Гандхары
1. Искусство в государствах Арсакидов и Сасанидов
По смерти Александра Великого Персия досталась греческим Селевкидам, которые вскоре, приблизительно в середине III в. до н. э., были низвергнуты нахлынувшими с севера парфянскими Арсакидами. В ту пору на Тигре, напротив Селевкии, возник "обильный сокровищами" Ктесифон, служивший зимней резиденцией парфянским царям скифской крови. Парфянское царство, процветавшее в течение 475 лет, было на востоке сильным оплотом против надвигавшегося владычества римлян. Только в 226 г. н. э. восстание коренных персов, освободивших свою страну, начиная с юга, положило конец суровому владычеству парфян и их чужеземному культу богов. Древний священный огонь запылал на новых алтарях. Сасанид Ардашир I (Артаксеркс) был основателем рыцарского новоперсидского государства Сасанидов, которое в своих многочисленных войнах с западными и восточными римскими императорами одерживало над ними верх, пока наконец в 641 г. не пало под натиском арабов-магометан.
В течение почти девяти столетий владычества над древней Персией сначала Арсакидов, а затем Сасанидов, страна дворцов Персеполя и Сузы имела свое искусство. Развалины великолепных построек, возведенных тогда в этой стране, свидетельствуют о богатстве и роскоши ее государей.
К сожалению, эти постройки, изданные и описанные Фландином и Костом, Тексье и Делафуа, не могут быть приурочены к определенным годам. Однако после того, как Перро и другие писатели опровергли мнение Делафуа, полагавшего, что купольные сооружения в Фирузабаде и Сервестане относятся к VI в. до н. э., оказалось возможным определить, хотя и приблизительно, время возникновения трех главных групп зданий, в которых отзывается или предчувствуется эллинистический или эллинистическо-римский архитектурный стиль. Концу этого времени, или началу сасанидской эпохи, принадлежат те из древних купольных построек собственной Персии, которые Делафуа приписывал времени еще Ахеменидов. Позднейшие постройки со сводами и большинство рельефов на скалах явились уже в сасанидскую пору.
Древнейшее из зданий, доказывающих проникновение эллинистическо-римского стиля в Персию, – храм солнца в Канджаваре, близ Гадамана, древней Экбатаны. Его перистиль, представляющий сильное смешение стилей, может быть отнесен к I в. н. э. Колонны этой галереи имеют аттическо-ионические базы, гладкие стволы и дорические капители с коринфскими абаками.
Дворец в кремле Аль-Гатра (Гатры), в парфянской тогда Месопотамии, был построен во II в. Три огромные циркульные арки ведут от его фасада в высокие портики, крытые коробовыми сводами. Четыре небольшие циркульные арки, находящиеся по бокам и между большими арками, ведут в помещения меньшей величины. Кусок антаблемента представляет фриз, украшенный аканфовыми листьями между древнеперсидскими ступенчатыми зубцами. Но всего замечательнее здесь многочисленные человеческие головы, которыми украшены архивольты и капители пилястр. Они изваяны в духе греко-римского искусства и напоминают собой варварский обычай выставлять головы убитых врагов у ворот крепостей. Весь фасад производит впечатление архитектуры римских триумфальных арок, искаженной в варварском вкусе.
Затем III в. принадлежат сооружения со сводами в сердце древней Персии, выросшие совсем на другой почве, но бывшие во всяком случае дворцами персидских государей. Архитектурные памятники Фирузабада – древнее развалин в Сервестане. Входной зал в этих зданиях, крытый огромным коробовым сводом во всю свою ширину, открывается кнаружи в виде циркульного портала; за ним следуют залы, крытые куполами; еще дальше лежит большой четырехугольный двор, окруженный залами с коробовыми сводами. В отношении истории развития интересно перекрытие вышеупомянутых передних четырехугольных залов высокими овальными куполами, переход к которым от прямоугольного основания составляют угловые ниши, являющиеся предшественницами настоящих, правильных пандантивов. Мы уже видели, что подобные задачи при плоских куполах приводили к таким же решениям одновременно в Италии, Сирии и Малой Азии (см. т. 1, рис. 512). Но чтобы образцами для этих новоперсидских куполов служили римские, как это полагал, например, Шназе, столь же маловероятно, как и предположение Делафуа, что все европейские купольные сооружения ведут свое начало от новоперсидской купольной системы. Всего вероятнее, месопотамское купольное зодчество, о котором говорил еще Страбон, завоевало себе, с одной стороны, эллинистический Запад, а с другой – персидский Восток, и затем высокоовальная форма куполов, которая еще в древнеассирийских памятниках составляла характерную месопотамскую особенность, перешла из Новой Персии в строительное искусство ислама. Арки в зданиях Фирузабада и Сервестана иногда слишком высоки, и так как их опорные столбы выступают вовнутрь пролета, то они принимают, по крайней мере на вид, ту подковообразную форму, которая впоследствии была разработана в архитектуре ислама.
В фирузабадском дворце (рис. 547) – только один портальный передний зал, но за ним идут три купольных зала, купола которых возвышенны лишь изнутри, а снаружи кажутся низкими. Напротив того, сервестанский дворец, построенный позже, имеет три портала, но только один главный зал, купол которого, если смотреть на него снаружи, выступает над зданием в виде большого полуовала. Стены фирузабадского дворца содержат в себе множество ниш, обрамление которых представляет карниз, заимствованный от древних персов. Снаружи длинные стороны этого дворца украшены фальшивыми арками, предвозвещающими средневековые аркатуры. Полуколонны между арками не имеют ни баз, ни капителей; простая полоса зубцов, похожих на зубья пилы, венчает стену над главным карнизом.
Рис. 547. Разрез фирузабадского дворца. По Фландину и Косту
Важнейшее из сооружений, дающих нам понятие об искусстве сасанидского времени, – Тахт-и-Хосру в Ктесифоне, представляющее собой один громадный зал, быть может, служивший для аудиенций царя Хосрова I (531-579 гг. н. э.). От этой постройки сохранилась стена трехъярусного фасада (рис. 548), в которой, так же, как и во дворце Фирузабада, находится посредине, вместо ворот, огромная, превышающая вышину стены арка, продолжающаяся внутри здания в виде зала, крытого гигантским сводом. Для устойчивости пространного, сложенного из кирпича фасада, верхние ярусы стены несколько отступают вовнутрь; кроме того, для придания стене большей прочности служат двойные ряды аркад, благодаря которым три яруса расчленяются, так сказать, на два этажа. В вертикальном направлении нижний ярус разбит на части парами колонн с трапециевидными капителями, в которых отражается византийское влияние, а второй ярус – простыми пристенными колоннами. Дуги аркад – простые циркульные, но благодаря тому, что несущие их на себе пилястры выступают вовнутрь, производят впечатление подковообразных. Замечательно еще и то, что одна из стен внутри здания прорезана настоящей стрельчатой аркой. Таким образом, мы ясно видим здесь вообще продолжение и дальнейшее развитие фирузабадского серветанского стиля с некоторыми отдельными нововведениями, которые были потом восприняты и разработаны дальше как исламским, так и христианским искусством. Делафуа считал вероятным, что это здание, на кирпичах которого нигде не сохранилось ни малейшего следа глазури, первоначально имело снаружи металлический блеск от наведенного на него серебра, тогда как половые ковры и стенные занавесы сообщали внутренним помещениям здания уют и красивый веселый вид. Письменные источники упоминают о сасанидской стенной живописи, но отголоски ее дошли до нас разве только в тканях того времени и в позднеперсидских книжних миниатюрах.
Наконец здание в Раббат-Аммане, которое мы, вместе с Делафуа, признаем позднейшим из сохранившихся сасанидских сооружений, представляет, вместо повышенной циркульной арки входа в него, уже стрельчатую арку; на стрельчатых же сводах покоится огромный сасанидский мост в Шустере. Таким образом, мы видим здесь всюду переход ко времени магометанства.
Рис. 548. Ктесифонский дворец. По Делафуа
Скульптура Арсакидов и Сасанидов не столь самостоятельна, как их архитектура. С первого взгляда она кажется отпрыском эллинистическо-римского ваяния, которым отзывается арсакидский рельеф на скале в Бегистуне, изображающий парфянского царя Готарцеса I (45-51 гг. н. э.), скачущего на коне и увенчиваемого богиней победы, еще больше, чем подобные сасанидские рельефы, в которых, при всем их сродстве со скульптурными произведениями поздней поры Римской империи, уже начинают выказываться некоторые оригинальные черты. Ряд этих рельефов начинается колоссальными изображениями подвигов Шапура I (240271 гг. н. э.), изваянными на скале неподалеку от пещерных гробниц царей Ахеменидов в Накши-Рустеме (см. рис. 236). Здесь прежде всего бросаются в глаза два всадника в богатом царском одеянии, стоящие друг против друга на таком близком расстоянии, что их кони прикасаются один к другому лбами. Правыми руками всадники держат между собой обруч. Убитые воины лежат под их конями; позади младшего всадника стоит слуга, прохлаждающий его веянием опахала. На старшем всаднике – царская корона. Этот рельеф изображает, по-видимому, Ардашира I, делающего своим соправителем сына своего, Шапура I. Справа от этого рельефа весьма живо представлено торжество Шапура над императором Валерианом (рис. 549). Вторая серия рельефов, прославляющих деяния Шапура, находится в Дараб-Герде, между Ширазом и морем. Громадного размера главные сцены замыкаются, иногда с обеих сторон, несколькими, расположенными один над другим рядами рельефов меньшего масштаба. Здесь мы видим изображения войн, заключения мирных договоров, триумфальных шествий и охотничьих сцен.
Рис. 549. Триумф Шапура I над императором Валерианом. Сасанидский рельеф на скале. По Делафуа
К последним временам Сасанидов, ко времени Хосрова II (591628), относятся изваяния Таге-Бостана, близ города Керманшаха, на нынешней турецко-персидской границе. Таге-Бостан представляет собой нишу с циркульным сводом, с наружной стороны которой, у закругления, изображены две крылатые богини победы, внутри, на задней стене, изваяны фигура царя и над ней символическое изображение его восшествия на престол, а на обеих боковых стенах – охотничьи приключения. Общий характер и этих скульптур свидетельствует об их эллинистическо-римском происхождении. Как ни грубо их исполнение, по языку своих форм и мотивам представленных движений, они все-таки принадлежат не первобытному, младенческому искусству, но искусству, заимствованному от находящегося в упадке. То, что в них есть нового, отзывается средневековой эпохой.
Рис. 550. Сасанидская монета (лицевая и задняя стороны). По Делафуа
Одинаковый с этими рельефами характер имеют монеты Арсакидов и Сасанидов (рис. 550), а равно и рельефные изображения на сасанидских серебряных сосудах, которые еще не всегда можно отличить от бактрийских, полуиндийских и готских. Несомненно, сасанидскими надо признать некоторые из серебряных жбанов Эрмитажа и коллекции гр. Строганова в С. Петербурге; бесспорно, сасанидские так же чаши, из которых на одной, находящейся в Парижском мюнц-кабинете, изображен царь на охоте за антилопами и кабанами, а на другой, в Эрмитаже, царь, охотящийся на львов; несомненно, сасанидского происхождения и золотая чаша в упомянутой парижской коллекции с изображением на дне царя Хосрова на троне. На ней мы находим роскошную орнаментацию из цветных камней, вставленных в золотые гнезда, – способ украшения, о котором мы говорили выше, как особый прием европейских золотых дел мастеров времен переселения народов и Меровингов, заимствованный, вероятно, с Востока.
Если серебряная чаша коллекции гр. Строганова в Риме, изображающая царя, сидящего за трапезой с поджатыми под себя ногами на ковре, постланном на полу, и описанная А. Риглем, относит ся действительно к эпохе Сасанидов, то она служит доказательством того, что восточный обычай сидеть на коврах на полу, а не на какой-либо мебели, был распространен в царстве Сасанидов, по край ней мере в домашнем быту. Что здесь изображен именно сасанидский царь – более чем вероятно, судя по его костюму; к тому же великолепный ковер позднейшего происхождения, с изображением роскошного сада в строгой стилизации, находящийся в коллекции д-ра А. Фигдора в Вене, согласуется со старинными описания ми сасанидских ковров, характер которых в нем отражается. Поэтому надо предполагать, что половые ковры были в общем употреблении если еще не в древней Персии, то в Персии времен Сасанидов, и техника их изготовления уже была усвоена тогдашними персами. Сущность этой техники состоит в том, что к вер тикальным ниткам основы привязываются пучки шерсти, причем благодаря тому, что их перекрывают рядами "уточных нитей", получается плотная ткань. Ковер, изображенный на вышеупомянутой серебряной чаше коллекции гр. Строганова в Риме, даже в отношении своего узора является предшественником прославившихся впоследствии персидских ковров: кайма волнистых линий окружает главное поле, равномерно заполненное узором из стилизованных растений. Остатки роскошных сасанидских шелковых материй сохранились в различных местах; такая материя, найденная в церкви св. Куниберта, в Кёльне, описана А. Шнютгеном и Ф. Юсти. Охотничья сцена на ее среднем поле представляет эпизод из жизни принца Барам-Гора (420-434 гг.), в столовой которого, по словам письменных преданий, висела картина, по которой выткан рисунок этой ткани. Вообще сасанидская орнаментика в ткацком деле, как и в других отраслях искусства, является связующим звеном между античным миром и исламом.
Рис. 551. Сасанидская капитель из Исфахана. По Делафуа
Рис. 552. Капитель пилястры из Таге-Бостана. По Делафуа
Древневосточные элементы встречаются местами также в украшениях сасанидских зданий, но обычно с теми видоизменениями, какие орнаменты этого рода получили в греко-римском мире. Ригль справедливо замечал, что еще кустистый аканф, пластически воспроизведенный на одной сасанидской капители из Исфахана (рис. 551), независимо от современной этому орнаментальному мотиву эволюции византийского искусства, имеет характер настоящего эллинистического аканфа. Только средний пучок и здесь представляется как бы предшественником позднейших арабско-персидских чашевидных пальметт. Затем на капители одной пилястры из Таге-Бостана (рис. 552) мы наблюдаем дальнейшее развитие, параллельное византийскому. И здесь основным элементом является "растительный куст с мясистым стволом, в виде канделябра", но листья, выходящие из ствола, уже утратили характер аканфовых, а цветы, изображенные видимыми поочередно то сбоку, то сверху и висящие, подобно розеткам, на кончиках листьев, напоминают собой стилизованно-растительную орнаментику арабов.
Зато орнаментация в эллинистическо-римском духе, заполняющая собой фронтон одного сасанидского дворца в Машите, отличается большой реалистичностью. Здесь виноградные лозы и фигуры животных переплетаются и образуют одно роскошное целое, но соединение довольно чистых эллинистических форм с византийскими стилизованными свидетельствует, что искусство Сасанидов в художественном отношении, как и в историческом, занимает среднее положение между искусствами классическим и арабским.
2. Искусство Гандхары на северо-западной границе Индии
В течение последних арсакидских веков и первых сасанидских наиболее отдаленные страны Востока, до которых доходили войска Александра Великого, переживали также нечто вроде позднего расцвета эллинистического искусства. В греко-бактрийском царстве, к которому принадлежало Пятиречье (Пенджаб) на северозападной границе Индии, существовала смешанная, полуиранская-полугреческая, культура, не исчезнувшая окончательно и при индоскифах, преемниках бактрийских обладателей этих стран, вследствие чего искусство Пятиречья было смешанным в том же смысле, как галло-римское и германо-римское провинциальное искусство или как искусство Арсакидов и Сасанидов. Индийский фриз с морскими слонами (рис. 553) очень походит на германский фриз с морскими козлами (см. рис. 541, и). Исследование об этом своеобразном греко-индийском искусстве издано Эрнстом Курциусом еще в 1875 г. Винцент Смит, строго обособливающий эллинистическо-индийское искусство Пенджаба, высказал в 1889 г. наиболее важные и верные мнения об этом искусстве. Вопрос о греческом влиянии, выразившемся в некоторых из главных произведений раннебуддийского искусства внутренней Индии, с которыми мы вскоре познакомимся, остается еще спорным. Но в Матуре (приблизительно в 50 километрах от Агры) найдены скульптурные произведения, имеющие несомненно греческий характер и которые надо считать порождениями походов Александра Великого. Особенно любопытно, что, подобно тому как в смешанном галлоримском искусстве мы нашли поздний рельеф, изображающий Геракла в борьбе со львом (см. рис. 541, м), так и в самом греческом из греко-индийских произведений, открытых в Матуре, также рельефе, мы видим тоже Геракла, убивающего льва. Рельеф этот хранится в Калькуттском музее. Трудно предполагать, чтобы он был изваян раньше 200 г. н. э.; по времени происхождения он, должно быть, довольно близок к упомянутому рельефу на гундеструпской вазе. В нем формы слабы и расплывчаты, но не столь угловаты, как в этом северном рельефе; однако в обоих рельефах основной мотив один и тот же, греческий.
Рис. 553. Индийский фриз с изображениями морских слонов. По Курциусу
Рис. 554. Статуя Афины. По Смиту
В гандхарском искусстве мы встречаемся с настоящей римско-индийской скульптурой. Гандхарцы составляли главное ядро, населения бактрийского государства, из греческих царей которого Менандр еще за полтораста лет до нашей эры перешел в буддийство. Будде поклонялись и индо-скифские властители Гандхары. Развалины их монастырей – места находок произведений гандхарского искусства, по Грюнведелю, процветало еще в IV в. н. э.
К числу памятников греко-бактрийского искусства принадлежит также статуя Афины в Лахорском музее (рис. 554); она представляет, очевидно, Афину со шлемом на голове, и только недостаточная резкость форм придает ей слегка индийский характер. Но собственно гандхарское искусство воспроизводит буддийские образы и мифы в формах римского искусства времен упадка империи. Рельефы, которые, по Винценту Смиту, относятся к 200-350 гг. н. э., своей переполненностью фигурами напоминают рельефы римских саркофагов; на статуях складки драпировок явственно отзываются несколько испорченными классическими традициями. Тип Будды, изображенного стоящим или сидящим с поджатыми под себя ногами, имеет иногда отдаленное сходство с типом Аполлона. Изучать гандхарскую скульптуру можно по ее произведениям, хранящимся в Британском и Берлинском музеях, главным же образом в лахорской и калькуттской коллекциях. Об ее значении для индийского искусства мы будем говорить в другом месте, а теперь ограничимся кратким указанием на присущие ей эллинистическо-римские элементы.
В Лахорском музее находится знаменитая статуя усатого "царя", изображенного в сидячем положении. Голова ее производит такое же впечатление, как головы даков в их римских изображениях.
Живот у нее вздутый, как в индийских фигурах. Окружающие ее фигуры, по своим позам и одежде, довольно близко походят на римские. Лучше других сохранившиеся рельефы повествовательного содержания, а именно изображающие буддийские сказания, поступили из монастыря в Джамальгари в Британский музей. При первом взгляде на них можно подумать, что это настоящие греко-римские произведения. Каким образом художественные мотивы греческой "битвы с гигантами" приспособлялись к тому или другому буддийскому мифу, можно судить по обломку треугольного рельефа, находящемуся в Калькуттском музее. Формы тела представленных на нем фигур, игра их мышц, как и главные мотивы, напоминают эллинистическо-римское искусство. Другая группа, сохранившаяся во многих частях, составляет очевидное подражание похищению Ганимеда работы Леохареса (см. т. 1, кн. 3, II, 2), только в ней мы находим, вместо фигуры стройного юноши, женскую фигуру с большим животом. Рельеф Лахорского музея (рис. 555), изображающий воинство демонов Мары, злого духа, производит своим общим видом впечатление скорее варварско-римского, чем индийского изваяния.
Итак, мы видим, что преемники эллинистическо-римского искусства распространились по всем странам древнего мира. Везде между ними пробиваются, и притом в одном и том же направлении, чуждые этому искусству побеги, которые вплетаются с ними и покрывают их; в новом, возникающем отсюда искусстве, как в ткани, состоящей из основы и утока, почти повсюду проглядывают золотые нити, заимствованные у погибшего мира классической древности.
Книга шестая Индийское и восточноазиатское искусство
I. Искусство Индии
1. Древнебрахманское и буддийское искусство Индии
Индия, ограниченная с севера высочайшим в мире горным хребтом с его снежными, уходящими за облака вершинами, с северо-запада – долиной Инда, с северо-востока – областью Брахмапутры, величайшего из притоков священного Ганга, с прочих же сторон омываемая темными водами океана, представляет собой роскошный тропический мир, в котором богато возделанные местности чередуются с непроходимыми первобытными лесами, болота, поросшие бамбуком, сменяются непроходимой чащей джунглей, плоскогорья – речными долинами. Носителем исторической культуры древней Индии было одно родственное нам арийское племя, которое, явившись с севера за 2000 лет до н. э., проникло до Инда, а потом и до Ганга, постепенно, хотя и не вполне, покорило себе туземцев и распространило свою культуру, могучую и плодотворную, на весь полуостров. Это было племя, уже прожившее свои каменный и бронзовый века, вполне ознакомившееся с употреблением металлов, вполне научившееся земледелию и скотоводству, но променявшее свою северную родину на знойный юг; это был народ жрецов и воинов, касты которых резко отделились от двух низших каст, от рабочих и слуг, – народ пророков и поэтов, унаследовавший от предков богатую в художественном отношении письменность и изложивший в священных песнях вед свои верования, благочестие, право и обычаи.
Рис. 555. Воинство демонов Мары. Гандхарский рельеф. По Грюнведелю
За временем сложения гимнов вед последовало время возникновения героических поэм "Махабхараты" и "Рамаяны", которое следует отнести к 1000 г. до н. э. В этих поэмах подготавливалось на почве пантеистических общих представлений эпохи вед древнебрахманское учение о богах, приведшее в конце концов к признанию трех великих, главных божеств: Брахмы как творца, Вишну как охранителя и Шивы как разрушителя, причем в отдельных государствах этой громадной страны первенство переходило то к одному, то к другому из этих божеств, со всей его свитой бесчисленного множества второстепенных богов и полубогов. Около 500 г. до н. э. реформатором брахманской религии явился Гаутама Сиддгарта из рода Сакьямуни, в качестве Будды, то есть "просвещенного". История его жизни преисполнена легендами. Достоверно лишь то, что он "перешел в Нирвану", то есть умер в 477 г. до н. э. После того как Ашока, царь могущественного индусского государства Магады, в 250 г. н. э. возвел учение Будды на степень государственной религии, оно широко распространилось и, завоевав в своем быстром, победоносном шествии большую часть Южной, Средней и Восточной Азии, сделалось первой религией в мире. Основанием мудрости буддистов, вероятно, была мудрость брахманов. Пантеизм и вера в переселение душ остались абсолютно неприкосновенными, но место богов заняли многочисленные святые; самобичевание сменилось удалением от мира в монастыри, Нирвана получила значение высшего блаженного состояния, конечного пункта всех странствований души, для которой в этом состоянии наступает вечность без снов и забот. Разумеется, в народной буддийской религии сам Будда довольно скоро превратился в божество. Лассен говорил: "Характер буддизма заставляет предполагать, что первоначально он был чужд всякой мифологии; но так как его последователи были индусы, обладавшие обширным учением о богах, то ему недолго пришлось оставаться свободным от влияния этого учения". Сами будды размножились. Истинные будды рождались еще раньше Гаутамы, могли рождаться и после него. Эти второстепенные будды носят название "бодхисатва", и каждый благочестивый человек может стремиться к тому, чтобы по смерти своей снова явиться в виде бодхисатвы. Таким образом, к сонму небожителей присоединилось целое полчище второстепенных богов и демонических полубогов, которые нередко олицетворяют собой отвлеченные понятия, как, например, богиня красоты, Шри (Шири).
Между тем как буддизм утверждался все более и более на Цейлоне, в Индокитае, на Зондских островах, в Тибете, Китае и Японии, в самой Индии он был начиная с VI в. н. э. поглощаем старой политеистической народной религией, которая получила преобладание как новобрахманизм. Уже с VII в. буддийские памятники в Передней Индии встречаются все реже и реже, а в VIII в. почти совершенно исчезают. Только немногие из них относятся к XI столетию.
Новобрахманизм, бывший, подобно буддизму, силой не только религиозной, но и художественной, находился в полном расцвете, когда ислам начал, в конце XI в., покорять себе Индию. Миллионы индусов обратились в магометанство, и рядом с храмами Вишну и Шивы появились многочисленные мечети. Однако в истории индийского искусства рассмотрению подлежат только художественные произведения брахманизма и буддизма.
Несмотря на всю добросовестность, с какой такие исследователи, как Фергюссон, Бёрджесс, Кеннингем, Смит, Коль, Ле-Бон, Мендрон, Бюлер и Грюнведель, изучали и описывали многочисленные уцелевшие памятники индийского искусства, его история еще только что начинает получать научную постановку. Правда, мы уже умеем различать местные особенности, которые могут быть приписываемы различным влияниям; но о внутреннем прогрессивном развитии индийского искусства мы знаем очень немногое. Грюнведель, взгляды которого мы разделяем во многих случаях, даже утверждал, что видит в индийском искусстве лишь движение назад.
Так как уцелевшие древнеиндийские художественные произведения есть почти исключительно памятники монументального религиозного искусства, то можно думать, что за тысячелетним древнебрахманским искусством (до 250 г. до н. э.) следовало тысячелетнее же буддийское (до 750 г. н. э.), а за ним снова тысячелетнее новобрахманское. От древнебрахманской эпохи, однако, не сохранилось никаких индийских художественных памятников. Древнейшие из них принадлежат уже времени царя Ашоки и признания буддизма государственной религией. Но было бы ошибочно заключать из этого, что древнебрахманского искусства совсем не существовало. Бесследное исчезновение произведений этого искусства, отличавшегося богатством красок и воспетого в великих индийских героических поэмах, объясняется непрочностью материалов, которыми пользовались индийские зодчество и ваяние; то были преимущественно дерево, и как это доказано Земпером, оштукатуренные кирпич и битая глина. Разумеется, в жарком климате Индии ни тот, ни другая не могли сохраниться по прошествии нескольких веков.
Таким образом, история индийских художественных памятников начинается приблизительно лишь с 250 г. до н. э. – с того времени, как индийское искусство перешло к каменным постройкам. Очевидно, индийское каменное зодчество возникло благодаря религиозности царя Ашоки, желавшего увековечить многочисленные сооружения, воздвигнутые им в честь Будды. При этом переходе к каменным постройкам отдельные их формы были заимствованы из зодчества великих соседних западных государств, что было весьма естественно, так как эти государства уже в течение веков находились в сношении с Индией. Прежде всего нужно указать на некоторые формы, заимствованные из Передней Азии через посредство Персии, каковы, например, колоколообразная, похожая на опрокинутую цветочную чашечку капитель колонн, фигуры животных над капителями, поддерживающие архитрав (рис. 556 и см. рис. 249), крылатые животные и фантастические существа, рассеянные повсюду в орнаментах, и так называемые пальметтные и лотосовые орнаменты, стилизованные в духе западного искусства. Затем надо указать на найденные в Матуре, в верхней области Ганга, даже совершенно греческие по виду, несколько более поздние статуи (см. рис. 554). В искусстве северозападного, пограничного края Индии, в искусстве Гандхары в области Сват, в течение первых веков н. э. греко-римский элемент до такой степени преобладает во всей совокупности художественных форм при чисто буддийском содержании, что все знатоки истории искусства приходят в изумление (см. рис. 553).
Рис. 556. Рельеф правой пилястры восточных ворот в Санчи. По Грюнведелю
Спрашивается, однако, достаточно ли этих фактов для того, чтобы соединять, как это вошло в обыкновение с легкой руки Кеннингема, все буддийское искусство Индии в одно персидско-индийское и греко-индийское, так что для национального индийского искусства вообще уже не остается никакого места? Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, может быть только отрицательный. Прежде всего, что касается так называемого персидско-индийского искусства, то в его орнаментике уже с самого начала мы находим, рядом с формами заимствованными, формы несомненно местных животных и растений; кроме того – и это еще важнее! – все индийское зодчество и ваяние в своих формах и содержании отнюдь не слепо придерживались персидских образцов. Если бы сохранились остатки древнейших из деревянных художественных произведений Индии, то вопрос был бы поставлен, надо полагать, совершенно иначе. Далее, что касается греко-буддийского искусства Индии, то, если не считать упомянутых памятников Матуры, область его распространения ограничивалась лишь крайним северо-западом нынешней Индии, который первоначально никто и не причислял собственно к Индии. Искусство Гандхары следует признавать не одним из источников индийского искусства, но отпрыском греко-римского. Грюнведель, державшийся вообще английской классификации, говорил: "Тогда как в древнейшей персидско-индийской группе национально-индийский элемент составляет главное ядро и получает дальнейшее развитие на индийской почве, школа Гандхары усваивает себе чужеземные, античные формы. Впоследствии эта школа повлияла на индийское искусство, но осталась сама изолированной и удержалась наиболее прочно в религиозном искусстве северной внеиндийской школы". Так называемое персидско-индийское искусство выступает для нас на первый план как древнебуддийское искусство Индии. Сохранившиеся буддийские памятники этой страны есть троякого рода: памятные столбы, ступы и пещерные сооружения.
Рис. 557. Капитель победной колонны в Санкисе. По Фергюссону
Остановимся прежде всего на памятных столбах, снабженных надписями (stambha, lat). На вершине их стройных фустов мы на ходим вышеупомянутую колоколообразную персидскую капитель, которая нередко бывает сверху и снизу отделена от прочих частей памятника рельефными нитками перлов и шнурами; иногда на стволе, иногда на абаке столба, над капителью, мы встречаем вполне развитый пальметтный или лотосовый орнамент, заимствованный из западного искусства; но тут же, на верхней площадке памятника, находим символические религиозные изваяния чисто индийского характера, например, колесо со спицами, или слона (рис. 557), чаще же всего любимую во всей Азии фигуру льва. Памятников этого рода, относящихся ко времени царя Ашоки, отчасти разрушенных, отчасти перенесенных с одного места на другое, дошло до нас довольно много во всей долине Ганга, например, в Дели, Аллагабаде, Тиргуте и Санкисе. Такой столб стоит перед знамени тым пещерным храмом в Карли, неподалеку от Бомбея. Изобра жения подобных памятников встречаются на рельефах времен Ашоки. По стройности этих столбов, которой отличается в особенности аллагабадский, можно заключить, что их родоначальниками были стволы деревьев, обращенные в мачты.
В большом числе сохранились огромные куполообразные памятники Будды, воздвигнутые в воспоминание его земного странствия или для хранения его мощей. Эти сооружения, называемые ступами (англ. topes), принадлежат к наиболее своеобразным произведениям индийского национального искусства. Если в них помещаются останки Будды, то они носят преимущественно название дагоб (dhatugharba, dagoba). На четырехугольной террасе высится массивный купол, сложенный из небольших камней, напоминающий своей формой водяной пузырь. Эта форма символически выражает непрочность всего земного. На приплюснутой вершине купола находится надстройка, служащая напоминанием о священной смоковнице, под которой Будда получал откровения. Широкий цоколь здания обычно бывает окружен каменной оградой с высокими входными воротами вроде триумфальных и с обильными скульптурными украшениями. Эти каменные ограды (англ. railings) с их воротами, сохранившими на себе отпечаток стиля древнейших построек этого рода, принадлежат к важнейшим, а нередко и к самым блестящим памятникам индийского искусства. Местами, в различных областях Индии, ступы сохранились вместе с их каменными оградами или без них, местами же уцелели одни каменные ограды, без ступ или с их развалинами. От 25 до 30 ступ, из которых наиболее знаменита ступа в Санчи (рис. 558), находится недалеко от Бильсы, у северного подножия виндгиянского горного кряжа, в самом сердце Индостана. На берегу Ганга, близ Бенареса, находится сарнатская ступа. На границе горной Индии стояла ступа Амаравати; фрагменты ее ограды хранятся в Лондонском индийском музее. В Барагате (Баргуте, между Бильсой и Саратом) и в Матуре уцелели только каменные ограды с воротами; еще дальше к востоку, в Будда-Гайе, каменная ограда перед "храмом" принадлежит древнейшим буддийским временам Индии.
Рис. 558. Ступа в Санчи. По Колю
Но самые многочисленные и замечательные памятники древнеиндийского искусства – пещерные постройки, служившие то местами молитвенных собраний (чайтьи), то монастырями с большим количеством келий (вигары), но нередко состоявшие из храма и примыкающих к нему келий. Пещерные храмы мы уже видели у египтян (см. рис. 133); но собственно буддийскому стремлению удаляться от мира суждено было расширить, усложнить, довести до монументальности и наделить обильными украшениями те пещерные жилища, о которых мы уже упоминали, говоря о первобытных народах, и к которым эти последние прибегали по необходимости. Кое-где для устройства таких храмов и монастырей пользовались естественными пещерами, но по большей части они были с великим трудом вырубаемы искусственно в твердых горных породах. План этих экскаваций был вообще сообразуем с их назначением; в монастырях квадратное или прямоугольное среднее помещение с потолком, подпираемым столбами, окружено небольшими квадратными кельями. С точки зрения истории искусства, без сомнения, более важны собственно храмы, то есть залы для молитвенных собраний, внутренние помещения которых походят на помещения древнехристианских базилик, хотя их отнюдь нельзя считать предшественниками этих последних. В рассматриваемом случае одинаковые потребности приводили к устройству одинаковых помещений. Эти продолговатые залы, в которых сторона, противоположная входу, имеет форму полукружия, настолько обширны, что их потолки нуждаются в подпорках – в столбах, которые, как и в греческих храмах, отделяют узкие боковые нефы от широкого среднего, а иногда, как, например, в пещерных храмах Бедсы и Карли (рис. 559), стоят полукругом перед задней закругленной стороной храма. Здесь, впереди них высится куполообразная дагоба, увеличенное навесом хранилище мощей; у таких дагоб, или вместо них, впоследствии явились колоссальные изваяния Будды, столь характерные для многих из этих молитвенных залов. Свет проникает лишь со стороны входа, в которой иногда дверь и громадное окно составляют одно отверстие; обычно же полукруглая, стрельчатая, подковообразная или килевидная арка окна помещается над настоящим порталом, и перед этим последним находится род сеней (веранда), ограниченных с боков скалами. Само отверстие заслонено ажурной, роскошно орнаментированной загородкой (англ. screen). Потолок внутри пещерных залов вырублен в виде полуциркульного или даже подковообразного свода, так что производит впечатление правильного или выпуклого коробового свода. Замечательно, что такие своды обычно покрыты ребрами, очевидно заимствованными из стиля деревянных построек и которые иногда, как воспоминание о таких постройках под открытым небом, существовавших до этих пещерных храмов и одновременно с ними, бывают на самом деле деревянные.
Рис. 559. План пещерного храма в Карли. По Фергюссону
К древнейшим пещерным сооружениям рассматриваемого рода, принадлежащим еще III или II столетию до н. э., причисляются храмы в Бигаре и Удайяджири, на бенгальском востоке великого индийского полуострова. Гораздо многочисленнее и важнее пещерные храмы и монастыри, иссеченные в твердом красном граните горного хребта Гат, на западе Передней Индии. Пещерные сооружения в Бхаджи, Кондане, Бедсе, Насике, Питалькгоре, Аджанте (Адъюнте), относящиеся ко II в., и в Карли – к I столетию до н. э., а равно и позднейшие залы в Аджанте и грот в Кенгери на острове Сальсетт, в бомбейской гавани, представляют длинный ряд важных по своему значению созданий древнеиндийского искусства.
Единственная буддийская каменная постройка под открытым небом, которую относят ко времени царя Ашоки, – знаменитый девятиэтажный храм Будды-Гайи в древнем царстве Магада. По преданию, Ашока воздвиг это святилище напротив смоковницы, под которой Будда достиг высшей степени просветления. Каменная ограда, окружающая храм, действительно может быть отнесена к эпохе царя Ашоки. Сам храм в виде великолепной башни, причисленный, впрочем, Фергюссоном к разряду ступ, построен многими столетиями позже ограды, но тем не менее принадлежит к древнейшим первоначальным башенным храмам Индии. Что касается деревянных построек под открытым небом древнеиндийского стиля с вышеупомянутыми персидско-индийскими колоннами и чисто индийскими мотивами оград и арок, то с ними мы можем ознакомиться только по их изображениям в рельефах.
Рис. 560. Фасад пещерного храма в Насике. По Фергюссону
Ход исторического развития древнеиндийского буддийского искусства можно проследить при помощи пещерных храмов и каменных оград ступ.
Хронология древнейших пещерных храмов Индии, определяемая, впрочем, только приблизительно, дает нам понятие о постепенном переходе древних деревянных построек в каменные. Первоначальный деревянный храм, стоявший под открытым небом, представлялся как бы вдвинутым в пещеру.
В Бхаджи еще ясно видны гнезда в скале, в которых помещались бревна деревянного сооружения; деревянные ребра еще сохранились в храме Карли (78 г. до н. э.); остатки загородки, которая отделяла внутренние помещения храма от портика и которая вначале везде была деревянной, можно еще различить в чайтьи в Кондане. Там, где эта деревянная загородка не была потом заменена каменной, как, например, в Бадже, в десятой (старейшей) пещере в Аджанте и в одном из гротов в Питалькгоре, она совсем отсутствует, а там, где была каменная, как, например, в Бедсе, Насике, Карли и в прочих позднейших пещерах, она сохранилась.
Каменотес вначале просто подражал формам деревянной постройки, что особенно ясно видно в одной из бигарских пещер и в конданской чайтьи, фасад которой отличается от других наибольшей полнотой и наибольшим единством, но потом строитель постепенно стал применять мотивы деревянного зодчества по своему усмотрению, нередко как бы шутя, например в Бедсе и Насике (рис. 560), и еще произвольнее в Карли; даже вполне законченный стиль каменных фасадов, каким мы его видим в V в. до н. э. в позднейших гротах в Аджанте, все еще представляется как бы подражанием плотницкой работе. Все фризы и стенные поля фасадов богатейшим образом украшены скульптурой, причем орнаментными мотивами иногда служат рельефные изображения дагоб, как, например, в Бхаджи и Питалькгоре. Но любимым орнаментом в Бхаджи и Бедсе, равно как в Кондане и Карли, является подражание плетню, бывшему сначала настоящим, а потом выделывавшимся из дерева и, наконец, из камня. Потолочные подпоры внутри сооружения и их изображения на фасадах, вначале приземистые, простые, четырехгранные или восьмигранные, постепенно превратились в совершенно развитые колонны с базами и капителями, состоящими из нескольких частей, и с коротким восьмигранным фустом. База их состоит из высокой подушки, выступающей своим краем вперед и лежащей на четырехугольной ступенчатой плите; капитель сперва состояла из упомянутого выше западноазиатского колокола, имеющего вид цветочной чашечки, перевернутой вверх дном, а затем стала состоять из нее, из лежащей над ней такой же ступенчатой плиты, как и в базе, только перевернутой низом вверх, и из помещенных на этой плите вышеупомянутых человеческих фигур или изваяний животных, непосредственно служащих подпорами балок. Фантастические фигуры вроде сфинксов появляются на капителях уже в Бхаджи, а в Питалькгоре мы видим даже настоящих крылатых сфинксов. В Насике эта древнеиндийская колонна, которая, несмотря на то что отдельные ее части западноазиатские, носит на себе вообще индийский отпечаток, является в своем полном развитии; вверху она украшена фигурами лежащих индийских быков. Наибольшим благородством пропорций отличаются 30 колонн пещерного храма в Карли, имеющего 38 метров в длину и более 30 в ширину. На абаке каждой колонны помещено по два слона, опустившихся на колени, с сидящими на них индийскими принцами. Общий вид этого храма, красивейшего из всех в Индии (рис. 561), в высшей степени необычен, и несмотря на некоторую неорганичность перехода отдельных форм его архитектуры одних в другие, он производит впечатление спокойствия и праздничного величия.
Рис. 561. Интерьер храма в Карли. По Фергюссону
Совершенно другое впечатление производят внутренние помещения позднейшего пещерного храма в Аджанте, относящегося уже к V в. н. э., а именно благодаря иным соотношениям между его подпорами и потолком. Здесь колонны еще очевиднее составляют подражание былым деревянным подпорам, потому что над их капителями находятся консоли, как бы поддерживающие балки, причем фусты отчасти покрыты растительными арабесками или изящными, похожими на ювелирные орнаментами, отчасти же обильно украшены рельефными изображениями и пластическими круглыми фигурами, в числе которых теперь главную роль играют множество раз повторяющиеся фигуры Будды, тогда как в прежнее время напоминали о нем только символы, – например, колесо, щит, крючковатый крест (свастика) или следы ног Будды (рис. 562).
Фигуры Будды дают нам повод перейти к истории развития буддийско-индийской пластики. Независимо от некоторых по-древнему неуклюжих изваяний на скалах северо-запада, например близ Гвалиора, мы застаем даже древнейшие из сохранившихся скульптурных произведений Индии, соответственно времени их происхождения, на той ступени развития, на которой уже пережиты характерные признаки собственно примитивного искусства, окоченелость членов тела и неверность их пропорций, – на ступени, на которой искусство уже ушло дальше фронтальности, насколько последняя не удержалась еще в изображениях, задуманных в настроении благочестия, и иногда в фигурах богов, играющих роль архитектурных частей. В рельефах передаются, без малейшего стеснения, всяческие положения, начиная со строго профильного и заканчивая поворотом en face; в круглой пластике воспроизводятся самые свободные и трудные мотивы движения. При этом индийская каменная скульптура с самого начала получила определенно выраженный национальный характер. Мягкость форм и гибкость членов индийского племени, верно подмеченные, отражаются в изваяниях. Но скульптура индийцев отличается поразительным отсутствием даже намека на анатомические особенности человеческого тела. Нигде мы не находим резко схваченной индивидуальности изображаемой личности, нигде не удостаивается воспроизведения даже внешняя игра мускулов, ни один мотив движения нигде не прослежен до его анатомической причинности. Нагота привлекала к себе внимание индийских художников в меньшей степени, чем роскошь золотых украшений и нежность тканей, покрывающих тело. Целый ряд скорее искусственных, чем естественных законов красоты вскоре навел на индийских скульпторов слепоту и заставил их создавать схемы вместо живых существ.
Рис. 562. Следы ног Будды. Амаваратский рельеф. По Фергюссону
Историческое развитие индийской скульптуры можно проследить лучше всего по тем сценам, которые представляют нам изваяния на каменных оградах. Приблизительно к 200 г. до н. э. относятся ограды перед Барагатом (Баргутом) и Будда-Гайей. Более древними признаются рельефы Барагата, изображающие шествия слонов и львов к священным деревьям, отчасти же, больше чем на сотне отдельных рельефов, буддийские легенды с объяснительными надписями. Стиль этих рельефов, как настаивал на том еще Фергюссон и подтверждал Винцент Смит, представляется, если не принимать в соображение некоторых фигур, заимствованных с запада, фигур кентавров, капителей колонн и растительных орнаментов, во всех отношениях более индийским, еще более сухим, строгим и индивидуальным, чем стиль последующего времени. Почти такой же стиль мы видим на обломках рельефов Будда-Гайи, изображающих частью поклонение деревьям и буддийским символам, частью домашние сцены и растительные орнаменты. В Берлинском музее народоведения находятся некоторые оригинальные обломки этой ограды с изображениями крылатых антилоп и лошадей рядом с естественными фигурами индийских животных – баранов, зебу, буйвола и коня.
Ко II в. н. э. относятся, судя по исследованию надписей, произведенному г. Бюлером, также знаменитые изваяния на четырех воротах каменной ограды вокруг большой ступы в Санчи. Южные ворота, которые, во всяком случае, древнее остальных и до сей поры были приписываемы первой трети I столетия н. э., на основании означенных исследований должны быть отнесены к 140 г. до н. э. Прочие ворота были прибавлены несколько позже. Оба вертикальных столба каждых ворот, значительно превосходящие высотой саму ограду, связаны между собой вверху тремя поперечными перекладинами, которые оканчиваются спиральными дисками; между этими перекладинами находятся три вертикальных столбика поменьше, так что над воротами получается нечто вроде решетки. Все вертикальные и горизонтальные части этого каменного сооружения, представляющего собой подражание плотницкой работе, сверху донизу сплошь покрыты скульптурными украшениями. Изображения растений и животных в декоративной части этих рельефов обычно не лишены символического значения, что можно утверждать, по крайней мере, относительно крылатых животных на столбах и поперечных перекладинах; но растительный орнамент преобладает в удивительных полосах на внешней стороне приворотных столбов и состоит из натуральных и стилизованных, местных и занесенных с запада растительных элементов. На одном из красивейших орнаментированных полей восточных ворот средняя полоса украшена цветами лотоса, расправленными в виде колес, и бутонами таких цветов, тогда как узкие боковые полосы заполнены гирляндами чисто индийских цветов (рис. 563) – гирляндами, для которых, как замечал Грюнведель, образцом послужили гирлянды натуральных цветов, "развешиваемые в священных местах".
Рис. 563. Цветочный орнамент на одной из пилястр ступы в Санчи. По Грюнведелю
Среди рельефов повествовательного содержания в Санчи можно опять-таки различить изображения поклонения людей и животных священным деревьям, священным ступам, священным столбам, от сцен из жития Будды и его позднейших возрождений (джатаки). Замечательно, что при этом сам Будда никогда не изображается, даже в эпизодах из его жизни, и рельеф воспроизводит только побочные обстоятельства эпизодов, иногда с пейзажным задним планом, исполненным неумело, но в достаточной степени понятно. Зато индийские скульпторы несчетное множество раз повторяли типичные изображения древнего бога вед Индры с перунами в виде палицы и Шри (Лакшми), богини красоты. Богиня изображалась сидящей на чашечке лотоса с поджатыми под себя ногами; справа и слева от нее помещалось по слону, лившему ей на голову воду. Из второстепенных божеств индийской мифологии встречаются Наги, люди-змеи, царь которых наделен пятью змеиными головами, и Кинпарис, дух женского пола с туловищем птицы; из баснословных животных изображаются птицы гаруды, на которых, по народному поверью, ездят боги, львы с головами грифов и собак и вышеупомянутые быки с человеческим лицом, остроконечной бородой и львиной гривой, образующей прямые пряди, – фигуры, несомненно заимствованные у Запада. Таким образом, например, изображение поклонения всего царства животных священной смоковнице имеет довольно много чужестранного рядом с фигурами индийских зверей, срисованными с натуры. Точно так же живо и натурально, насколько было доступно для индийского искусства, воспроизводились человеческие фигуры, например, в Санчи. В их продолговатых головах, больших глазах и толстых губах сказывается индийский народный тип. У женских фигур мы находим уже необыкновенно тонкие талии, шарообразные большие груди и очень широкие бедра – особенности, которые и до сего времени считаются в Индии главными признаками женской красоты.
О скульптурных украшениях древнейших буддийских пещерных сооружений мы отчасти уже говорили при описании архитектурных форм этих сооружений (см. рис. 558). Рельефы знаменитой пещеры в Удайаджири относятся, вероятно, к 150-м гг. до н. э.; эти изображения отдаленных, отчасти еще не разъясненных легенд, исполненные смело, напыщенно и по художественным приемам в национальном индийском духе, способны сильно действовать на воображение зрителей. К первым векам до нашей эры можно отнести реалистично выполненные группы животных на колоннах фасада в Бедсе, пары человеческих фигур на внешней стороне храма в Карли и наиболее древние из вышеупомянутых великолепных фигур на слонах, которые украшают собой колонны внутри храма. Все эти 120 принцев на 60 слонах над капителями колонн подземного храма в Карли, чисто индийские по своим непринужденным декоративно-красивым позам и свободным мягким формам.
Рельефы каменной ограды в Амаравати, изваянные лишь около 200 г. н. э. и находящиеся теперь в Индийском музее в Лондоне, еще более закончены и выглажены, но во многих отношениях и более ординарны по исполнению, чем все произведения, указанные выше. Но мы не можем с уверенностью сказать, в первый ли раз являются здесь, рядом с обычными сценами поклонения, изображениями легендарных событий и декоративно повторяющимися фигурами животных и мальчиков, сам Будда и нимб, сияние святости вокруг его головы; однако учитель изображается еще стоящим среди своих учеников и еще не превращается в идола, сидящего с поджатыми ногами. Фергюссон и Грюнведель полагали, что эти рельефы исполнены уже под влиянием гандхарской школы; но Винцент Смит, оспаривая это мнение, находил в них, по-видимому с большей основательностью, хотя и легкое, малозаметное, но прямое эллинистическое влияние, которое может быть прослежено наряду с персидским во всем этом древнейшем индийском искусстве и, по мнению названного ученого, отразилось здесь настолько сильно, что возникает сомнение в национальности основного характера этих произведений.
Лишь позднее, хотя, быть может, и непосредственно вслед за временем исполнения рельефов Амаравати в Гандхаре развилось вышеупомянутое римско-буддийское искусство, изображавшее буддийские легенды с фигурами в костюмах эпохи греко-римского упадка (см. рис. 555). Эти скульптуры имеют значение не столько для истории индийского искусства, сколько для буддийской иконографии. Тем не менее было совершенно в порядке вещей, что это гандхарское искусство вначале восприняло индийские образы в их индийской обработке. И саму фигуру стоящего Будды, вместе с которым появляется злой дух Мара, гандхарские художники заимствовали скорее из рельефа Амаравати, чем она, наоборот, перешла от них в него. Грюнведель замечал, что и настоящий идол Будды, сидящего в созерцании с поджатыми под себя ногами во фронтальном положении, – изобретение не гандхарской школы, причем высказывает предположение, что этот древнеиндийский тип Будды сохранился в глиняном изваянии из Будды-Гайи, относящемся к VI в. (рис. 564, а). Поэтому мнение, что господствующий тип Будды возник в гандхарской школе под влиянием греческого идеала Аполлона, ничем не оправдывается. Скорее, гандхарская школа заимствовала индийский тип Будды, место возникновения которого неизвестно, и притом в его чисто индийском виде, с его чисто индийскими отвислыми мочками ушей, с его клочком волос между бровями и выпуклостью черепа на затылке, но не со всеми остальными особенностями, принадлежащими к числу 33 великих и 18 малых признаков красоты "великого существа", данных ему письменным преданием и признанных за ним религией, каковы, например, короткие прямые волосы на голове, которые образуют одинаковые завитки, а иногда имеют вид крючковатых крестиков (свастики). Что гандхарские художники старались приблизить черты Будды к чертам греко-римского Аполлона – весьма возможно, но отнюдь не так очевидно, как принято утверждать. Довольно и того, что они приближали к греко-римскому идеалу красоты голову обоготворенного Индры, хотя иногда и оставляли ему небольшие восточные усы и вместо выделки волос на его голове в виде сухих кольцеобразных локонов придавали им форму в позднегреческом вкусе, прикрывая темя аполлоновским пучком волос, а драпировки укладывали свободно (б). Грюнведель неопровержимо доказал, что этот Будда гандхарской школы, лишь слегка измененный в греко-римском духе, служил образцом для всей тибетской и вообще для всей северной буддийской школы. Но мы не менее того убеждены, что этот Будда, со всеми своими подробностями, – чуждое, проникшее извне явление, не в индийском, а в гандхарском искусстве.
Начиная с IV в. статуи Будды уже перестают быть редкостью во всей индийской скульптуре. К числу любопытнейших изображений в Аджанте принадлежат "Детство Будды" во 2-й и "Искушение Будды" в 26-й пещере (по английскому счету). Пластика V в. представляется здесь уверенной, но по формам несколько надутой, а по содержанию мистическо-буддийской; к этому позднейшему времени буддийского искусства относятся также два часто упоминаемых изваяния Будды высотой 7 метров, находящиеся на концах портика пещерного храма в Кенгери.
В Аджанте мы имеем возможность ознакомиться также и с индийской стенной живописью, от которой кроме малоисследованных остатков в других пещерах важные, но, к сожалению, все более и более разрушающиеся следы сохранились только в 13 подземных залах. Самые значительные или, по крайней мере, самые большие фрагменты этих картин на стенах и потолках, писанных частью а fresco, частью a tempera по тонкому слою штукатурки, находятся в 1, 2, 9, 10, 16-м и 17-м залах. Древнейшие из них, в 9-м и 10-м залах (в), приписывают концу II в. н. э., то есть тому же времени, что и рельефы в Амаравати; позднейшие, к числу которых принадлежат картины в 1-м и 2-м залах, быть может, нисходят до VII в., но большинство их написано в V или VI в. Их копии, находившиеся в Соут-Кенсингтонском индийском музее, отчасти уничтожены пожаром, но выставленные вместо них рисунки дают прекрасное понятие об этой живописи. Джон Гриффитс издал их в двух роскошных томах. Картины эти изображают сцены существования Будды до его воплощения и последних лет его земной жизни, а также из истории его учения и его останков. Свобода, с которой нарисованы отдельные фигуры со всех сторон и во всякого рода движениях, соответствует свободе, господствовавшей в современном этим картинам стиле индийских рельефов. Но ракурсы передаются только приблизительными и бывают верны лишь случайно; о правильной перспективе фона нет и помина ни в отношении линий, ни в отношении красок. Наброски ландшафтов, если в них не обозначены те или другие породы деревьев посредством изображения их листьев в большом размере, несколько кудреваты и спутаны. Дворцы, как и в европейских средневековых рисунках и картинах, изображаются без передних стен, так, чтобы было видно все, что происходит внутри них, за колоннами и стенами фасада. Формы человеческого тела – индийского типа и шаблонного характера; тем не менее беглая моделировка нагого тела внутри резких коричневых контуров выказывает некоторое понимание живописности. Общая композиция иногда отличается строгой симметричностью; но обычно картина бывает переполнена фигурами, нагроможденными несколько беспорядочно.
Рис. 564.Индийское искусство: а – древнеиндийский глиняный рельеф с изображеним Будды. По Грюнв делю; б – древнеиндийская статуя Будды. По Грюнведелю; в – народные типы. Фреска из пещеры Х в Аджанте. По Бёрджессу; г – гравировка на медной вазе (в развернутом виде). По Бирдвуду
Древнейшие из картин 9-го и 10-го залов отличаются от остальных особенно тщательным и тонко прочувствованным исполнением. На одной из картин 9-й пещеры Будда торжественно восседает на троне между двумя второстепенными буддами. Голова у всех трех окружена сиянием, ноги покоятся на раскрытых чашечках лотоса; прислуживающие им духи осеняют их зонтиками. На больших картинах 10-й пещеры, передающих сказание о белом слоне Бодхисатве с шестью хоботами, изображены типы диких народов, слоны, антилопы и тропические деревья, причем рисунок отличается большой живостью и подробностью. В 16-й пещере наше внимание приковывают к себе полное внутренней жизни изображение Будды среди его учеников и еще более глубоко прочувствованная картина, в которой Будда, прячась за колоннами, смотрит на женское отделение своего дома, чтобы незамеченным проститься с женой и детьми (спящими на переднем плане) на богатом ложе. Наиболее важная из больших картин 17-й пещеры изображает высадку на Цейлон и коронование князя Виджайи среди оживленной толпы людей, слонов и пальм. Как на важнейшие из картин 1-й пещеры позднейшего времени должно указать на "Посольство" и на "Искушение Будды", напоминающее христианские изображения "Искушение св. Антония". Одно из стенных украшений этой пещеры переносит нас к орнаментике; здесь повторяются, подобно узорам ковров, фигуры Будды, то стоящего, то сидящего на цветках лотоса, между которыми весь фон заполнен цветочными гирляндами с длинными стеблями.
Потолки и фризы в этих пещерах покрыты обильными, роскошными и вместе с тем свежими и стильными орнаментами. Римские аканфовые листья, переплетающиеся с индийскими животными и цветами, листы индийского лотоса, звездчатые цветы, розетки всякого рода, меандр, зубчатые и разные другие полосы, – все это, представляя крайне разнообразные сочетания и блестя великолепными колерами, образует одно целое, поразительно фантастичное и полное вкуса.
По мнению Фергюссона, в Гандхаре должна была существовать школа живописи, из которой выходили произведения, подобные описанным, и которая имела влияние на школу Аджанты. По мнению же Винцента Смита, художники Аджанты находились под непосредственным влиянием искусства Римской империи эпохи упадка. Нельзя отрицать, чтобы при сношениях, существовавших между Индией и Западом, художественные формы этого последнего понемногу не проникали в Индию. Но и в этом случае все ограничивалось заимствованием и переработкой отдельных чужеземных мотивов и, быть может, технических приемов искусством, которое или было с самого начала национальным индийским, или сделалось таковым.
2. Новобрахманское искусство Передней Индии
Новобрахманское искусство – наследственный преемник буддийского искусства Индии, которое оно стало постепенно вытеснять с VIII столетия н. э. Все, что создано им собственной силой при дальнейшем развитии, было великолепно в области зодчества, но непривлекательно в ваянии и ничтожно в живописи. Новобрахманское искусство – искусство, породившее те громадные храмы с колоссальными конусообразными или пирамидальными башнями, которые мы называем пагодами, и скульптурные изображения бесчисленных, снова сошедших с небес богов и богинь, которые своим многоголовием и многоручием производят на нас впечатление чего-то чудовищного. По части живописи тем меньше можно признать в этом искусстве самостоятельного проявления жизни, что принадлежащие ему часто упоминаемые миниатюры обязаны своим происхождением лишь эпохе вторжения в брахманский мир мусульманства с его влиянием.
Составная часть новобрахманского искусства – также искусство секты Джаина, достигшее высшего процветания после вытеснения буддизма, благодаря тому что эта секта сумела примирить основные буддийские воззрения с признанием всего брахманского Олимпа богов и полубогов. Однако попытка выделить из средневекового североиндийского искусства особое искусство Джаины до сих пор не имела успеха, равно как и старание распознавать различные архитектурные стили в храмах различных брахманских богов, из которых Вишну и Шиве воздвигались храмы чаще, чем Брахме.
Рис. 565. Каиласа в Эллоре. По Ле-Бону
Прежде всего брахманские художники переняли от буддийских пещерные сооружения, причем перестали закруглять их заднюю сторону для того, чтобы заменять куполообразные дагобы четырехугольными святилищами. Они наделяли свои устроенные в скалах храмы всякого рода архитектурными и пластическими украшениями гораздо обильнее и роскошнее, чем делали это буддийские художники; подпоры потолка получили у них большую массивность и более тяжелые формы, причем четырехгранные стержни столбов иногда уже на половине своей высоты переходили в широкую подушку. Этим архитекторы сильно и фантастично выражали, что столбы несут на себе тяжесть целой горы.
Знаменитейшие из брахманских пещерных храмов находятся на острове Элефанта, близ Бомбея, в Эллоре и Бадами, в западном хребте Индийских гор, и в Магавеллипуре, к югу от Мадраса. Здесь брахманская пещерная архитектура сделала очень смелый шаг, начав не только выдалбливать в глубину скалы, но и обрабатывать их с внешней стороны так, что получалось подобие зданий, стоящих под открытым небом. Монолитные храмы, иссеченные из целой скалы, таким образом можно считать настоящими произведениями ландшафтной архитектуры. Важнейшие сооружения этого рода – пять знаменитых монолитных храмов на морском берегу в Магавеллипуре и еще более знаменитая Каиласа в Эллоре (рис. 565). Упомянутые пять храмов высечены из свободно лежащих утесов; внутреннее убранство их никогда не было закончено; Каиласа же, отделанная и внутри, вырублена из склона горы таким образом, что стоит совершенно отдельно, как бы в громадном ящике без крышки, отделяясь от его стенок коридорами высотой 30 метров. Соседние скалы изрыты гротами и галереями, к ним ведут мосты, коридоры местами расширяются и образуют дворы. Все наружные и внутренние стены четырехугольных частей этого замечательного сооружения, имеющих плоские, но ступенчатые крыши, разделены на компартименты пилястрами и нишами и украшены фигурами богов и животных различной величины и в разнообразной группировке. Всюду выражается культ Шивы и Вишну, которым было посвящено это чудо света, большие части которого появились в VIII в. н. э.
Рис. 566. План храма в Аивулли. По Фергюссону
Рис. 567. План храма в Питтадкуле. По Фергюссону
Каким образом от простых буддийских пещерных храмов, замыкавшихся полукружием, произошли свободно стоящие храмы, о том лучше и нагляднее всего дают понятие планы небольших храмов в Аивулли и Питтадкуле в Западной Индии (рис. 566 и 567). Первый из них, который может быть отнесен к VII столетию н. э., несмотря на свою внешнюю колоннаду и на целлу внутри вместо дагобы, еще довольно близко напоминает в отношении плана подземный храм в Карли, а второй, сооруженный, быть может, веком или двумя позже, представляет уже четырехугольный план, квад ратную целлу и колоннаду позднейших больших брахманских хра мов. Здесь над целлой, как бывало потом везде, уже возвышается на четырехугольном основании огромная башня, которая на юге полуострова принимает вообще форму высокой многоуступчатой пирамиды по образцу североиндийской древнебуддийской башни в Будда-Гайе, на севере же имеет слегка криволинейный, клинообразный или конический свод, а снаружи суживается к закругленной верхушке, образуя также легкую кривизну. О форме этих конусообразных башен может дать понятие разрез так называемой черной пагоды в Конараке, в Ориссе (рис. 568). На этом рисунке видна одна из особенностей всех чисто индийских арок, сводов и куполов, а именно сооружение их из горизонтальных рядов камня, выдвигающихся внутрь один над другим. Индийцы почти совершенно пренебрегали кладкой арок и сводов из концентрически расположенных клиновидно отесанных камней даже после того, как магометане принесли с собой в Индию этот способ постройки своих куполов. Но естественным последствием горизонтальности кровель и кладки сводов было преобладание горизонтальных линий в расчленении внешности индийских башен и куполов; быть может, даже расширение капителей колонн консолевидными приставками находится в связи с этим строительным приемом.
Рис. 568. Разрез черной пагоды в Конараке. По Фергюссону
При дальнейшем развитии индийской архитектуры простая пагода с целлой и нефом подвергается разнообразным видоизменениям. Различные святилища или капеллы соединяются в одно целое, количество башен и куполов увеличивается, помещения для пилигримов (чультри) становятся неотъемлемой принадлежностью больших храмов; появляются громадные залы с колоннами, священные пруды, и дворы окружаются колоннадами. Четырехугольник, образуемый стенами святилища, становится слишком тесен: вокруг него сооружается второй четырехугольник, более значительного размера, вокруг второго – третий, а иногда и четвертый вокруг третьего. Но входы во всех этих стенах делаются постоянно в виде роскошно орнаментированных ворот, причем над каждыми воротами – особенно в Южной Индии – высится одна из огромных, уступчато-пирамидальных башен, придающих всему сооружению своеобразное великолепие.
Индийская архитектура не терпит голых, ничем не занятых поверхностей стен. Они разбиваются на части выступами и впадинами как снаружи, так и внутри зданий, заслоняются пилястрами, оживляются нишами или же покрываются сплошь орнаментами, то заимствуемыми у ювелирного искусства и напоминающими филигранную работу, то состоящими из частей растений, которые переходят в игру линий, то представляющими в изобилии пластические изображения людей и животных. В колоннах и пилястрах наблюдается также бесконечное разнообразие фантастических форм. Но и здесь все имеет известное значение. Чем глубже всматриваются исследователи в архитектурные памятники Индии, тем больше света вносится в ее первобытные художественные дебри. В настоящее время уже едва ли кто-либо из серьезных исследователей повторит сказанное Риттером в "Землеведении", изданном в 50-х гг. XIX в.: "Природа и искусство, меры людей, животных, богов и растений, являются здесь в состоянии еще зачаточного хаоса".
Храмы в местности Орисса на северо-востоке полуострова, простые по плану, приземистые и массивные, сложены из искусно отесанного песчаника без цементной смазки, причем, однако, отдельные их части связаны железными скрепами. Над святилищем и входными галереями высятся конусообразные башни, кверху суживающиеся, но с выпуклым очертанием и плоской надставкой на вершине. Формы пластической орнаментации этих сооружений крайне разнообразны. Трудно представить себе что-либо более характерное для манерной, мягкой, чересчур свободной обработки форм в индийской скульптуре, чем женская статуя, происходящая из храма в Бхубанешваре и находившаяся у Ле-Бона, в Париже (рис. 569). Знаменитейшие из храмов Ориссы находятся, кроме Бхубанешвара (VI, VII и X вв.), в Конараке (X в.) и Джаггернауте (XII в.).
Рис. 569. Женская статуя из храма в Бхубанешваре. По Ле-Бону
На северо-западе Индии храмы нередко имеют кроме таких же конусообразных башен еще плоские купола, сложенные из горизонтальных рядов камня по способу, о котором мы говорили; но главное их отличие от храмов северо-восточной части полуострова состоит в изобилии колонн и пилястр. В храмах в Кхаджурахо и Гвалиоре X и XII столетий стены даже прорезаны колоннадами, дающими обильный доступ свету и воздуху. Особенно оживлены колоннами в своих внутренних помещениях и на дворах беломраморные джаинские храмы на горе Абу, относящиеся к XI и XII столетиям. Пластические украшения их стен, потолков, пилястр и колонн поражают такой декоративной роскошью, с которой едва ли может сравниться роскошь великолепнейших готических произведений этого рода: получается впечатление окаменевшей ювелирной работы, наложенной на окаменевшую столярную.
Особый характер приняла индийская архитектура в сердце Декана, в области древних князей Чалукья. В этом чалукинском стиле, как его называл Фергюссон, над центральной целлой храма, имеющей звездообразную форму в плане, возвышается только одна, также звездообразная уступчатая пирамида, обычно увенчанная стилизованным цветком или вазой. Роскошные пластические украшения покрывают собой храм. Среди них особенно резко выделяются полосы фриза, украшенные рядами животных и окружающие горизонтальными рядами весь храм начиная с цоколя. Нижний фриз всегда представляет слонов, второй – львов, третий – коней и т. д.; иногда выше всех этих горизонтальных рядов животных, как, например, в знаменитом храме в Халебиде, идет более широкая полоса, разделенная на части в вертикальном направлении нишами, из которых в каждой помещено по статуе бога. Роскошнейшие из храмов этого рода, к которым надо причислить и Халебидский храм (рис. 570), находятся в провинции Майсура (Мисора) и сооружены между 1000 и 1300 гг. н. э.
Архитектура индийских пагод в некотором отношении всего великолепнее развилась на собственно дравидийском, или туранском, юге полуострова. Дравидийский стиль играет главную роль в новобрахманском искусстве Индии: в нем распространены высокие четырехгранные пирамидальные башни, состоящие из многих постепенно уменьшающихся ярусов; они встречаются здесь в большем числе над порталами, чем над целлами храмов. Именно этому стилю принадлежат знаменитые большие храмы, состоящие из ряда четырехугольных оград, снаружи все более и более увеличивающихся, что свидетельствует о постепенном разрастании святилищ; именно здесь залы для пилигримов (чультри) превращаются в громадные открытые помещения – в так называемые тысячеколонные галереи, которые иногда находятся в связи с прудами и заставлены целым лесом колонн крайне фантастических форм. Особенность богатой пластической орнаментации этих храмов составляют стоящие на задних лапах и поддерживающие карнизы наподобие кариатид фигуры слонов, львов и коней, которые иногда, как, например, в Веллорском храме, служат каждая фустом колонны, иногда же, как, например, в большой Мадурайской пагоде, поставлены по нескольку одна над другой у одной и той же пилястры в тех искаженных обликах, которые они получили в древнеиндийском животном эпосе.
Рис. 570. Часть Халебидского храма. По Ле-Бону
Рис. 571. Всадники, заменяющие собой пилястры в большой Сирингамской пагоде. По Колю
Чаще всего встречаются готовые прыгнуть львы, но нередко и всадники на конях, поднявшихся на дыбы; наконец, промежутки между пилястрами занимают целые охотничьи сцены, как это мы видим в большой Сирингамской пагоде (рис. 571).
С X до XV столетия строился храм в Чидамбараме, с XIV по XV в. – большая пагода в Танджавуре (рис. 572, а), с XIV по XVIII в. – большая пагода в Мадураи. Самый обширный из этих храмов, вышеупомянутая большая пагода в Сирингаме, на которой высится 14-15 массивных надворотных башен, относится к XVII и XVIII столетиям.
Индийская архитектура дворцов в новобрахманском тысячелетии выступает вперед несколько заметнее, чем раньше. Самая роскошная из северных царских резиденций, принадлежащая XVI столетию, сохранилась в Гвалиоре. Гладкие стены этого дворца, облицованные глазурованным кафелем персидского происхождения, расчленены стоящими в равном расстоянии друг от друга высокими круглыми башнями с небольшими куполами. Напротив того, дворцы Южной Индии, каковы, например, Мадурайский и Танджавурский, принадлежащие позднейшим столетиям, при всей своей роскоши, выстроены уже не в индийском каменно-балочном стиле, а в магометанском сводчатом.
Рис. 572. Индийское искусство: а – большая пагода в Танджавуре. По Ле-Бону; б– браминское божество. Рельеф из Эллоры. С фотографии
С новобрахманской скульптурой в ее связи с индийской архитектурой той же эпохи мы уже знакомы. Даже идолов нельзя представить себе отдельно от окружающей их обстановки. Изображения брахманских богов с четырьмя, с шестью и даже с восемью руками, как, например, в одном горельефе из Эллоры (б), вследствие своей чудовищности уже в рельефе производят тяжелое впечатление, а в круглой пластике и совсем невыносимы. Свободная индийская пластика ограничивается главным образом производством мелких изваяний, причем повторяет одни и те же примитивные типы, как это доказывают, между прочим, нередко встречающиеся статуэтки древней богини красоты Шри, являющейся снова в брахманском Пантеоне в лице Лакшми и которая, получая разный вид и различные имена, отличается всегда одними и теми же признаками – преувеличенностью особенностей форм женского телосложения, одинаковым жеманством позы и избытком золотых ювелирных украшений.
По всему складу жизни индийцев можно заключить, что они издревле были искусны в художественно-ремесленных производствах. Указания на это встречаются еще в их древних поэмах. Но потом во многих отраслях прикладного искусства персидское и арабское влияние исказили чисто индийские формы до неузнаваемости. Почти только одни металлические работы могут быть предметом рассмотрения в истории национального индийского искусства.
Железная колонна древнего персидско-индийского стиля, стоящая на дворе мечети Кутаб в Старом Дели, приписывается IV в. н. э. Одно ее существование доказывает, что индийцы умели раньше европейцев ковать куски железа значительных размеров. В Лондонском индийском музее хранится медная ваза, на шарообразной поверхности которой тянется выгравированное вокруг него изображение торжественного шествия принца Гаутамы, прежде нежели он сделался Буддой (см. рис. 564, г); и по месту своего нахождения, и по стилю этот сосуд должен быть отнесен к более позднему времени, чем III в. н. э. Данный рисунок представляет собой одно из важнейших произведений древнебуддийского искусства, какими мы только обладаем. Золотая рака из Кабула, украшенная статуями святых между нишами с приподнятыми циркульными арками, находящаяся в Соут-Кенсингтонском индийском музее, принадлежит, может быть, более ранней поре; но она характерный памятник римско-буддийского искусства Гандхары.
К позднейшему времени относятся индийские металлические изделия, доныне пользующиеся славой в пределах своей родины. Известные сосуды для воды с длинными горлышками из Кашмира и Лакнау (Лукнова), покрытые золочеными орнаментами на серебряном фоне, приписываются монгольской технике. Серебряные изделия Южной Индии, украшенные выбивными рельефными изображениями богов и чудовищ, – по-видимому, туземного происхождения. Но гораздо более распространено было в Индии искусство украшать стальные и железные изделия золотой и серебряной инкрустацией, или "дамаскировать" их, то есть вставлять в железо золото или серебро в виде пластинок или проволоки. Эта техника, так называемая бидри, была доведена в Пятиречье (Пенджабе) до высшей степени совершенства, как о том можно судить по сосуду с серебряной проволочной выкладкой (рис. 573); но великолепные образцы работ этого рода встречались кое-где и на юге. Эмалирование, покрытие металла цветной глазурью, практиковалось в Индии также сотни лет тому назад. Лагор, Лукнов, Бенарес производят знаменитые эмалированные чаши, но уже в мусульманско-индийском вкусе.
Рис. 573. Индийский сосуд с серебряной проволочной инкрустацией. По Бирдвуду
С производством в Индии ювелирных украшений знакомят нас многочисленные их образцы, встречаемые еще в древнейшей индийской пластике. Уже в ней находим мы украшения для ушей и носа, браслеты для рук и ног и нарядные, составленные из цепочек и щита с гримасничающей физиономией шейные и нагрудные подвески для женщин. О постоянстве индийской традиции свидетельствует то обстоятельство, что украшения этого рода, исполненные в старинном вкусе, до сего времени выделываются в некоторых местностях Индии, мало затронутых европейской цивилизацией. Филигранное производство в Индии, одна из наиболее распространенных в ней отраслей прикладного искусства, появилось несколько позже. Мастера, изготовляющие серебряные филигранные вещи, не только служащие собственно для украшения, но и такие, как, например, табакерки, чашки и разная утварь, существуют доныне почти в каждой индийской деревне.
Определить общий характер индийской орнаментики не совсем легко. Вначале мы находим в ней мотивы, очевидно заимствованные от деревянных построек и плетневых оград; к этим мотивам присоединяются потом мотивы, свойственные золотых дел мастерам. Одновременно с этим завоевывают себе место занесенные извне стилизованные линейные и растительные орнаменты великих западных искусств. Вместе с тем как самостоятельное явление арийского севера Индии возникает целый ряд полных жизни форм, взятых из местной флоры, но только приведенных в плоскость с тонким чувством природы и большим чувством стиля. И здесь рядом со священным цветком лотоса являются цветы и листья других растений; с ними переплетаются фигуры животных – тигров, слонов и антилоп, павлинов и других птиц, – реже человеческие фигуры. Орнаментика дравидийского юга трактует цветы несколько схематичнее и местных животных чаще заменяет стилизованными сказочными чудовищами. В развитом индийском монументальном декоративном искусстве архитектурные мотивы и фигурная пластика преобладают до такой степени, что настоящие орнаменты при первом взгляде почти исчезают под их тяжестью. Но при ближайшем рассмотрении мы находим, что и здесь главную роль играют животные и растительные мотивы, приспособленные к декоративной цели. Даже ряды слонов, львов, лошадей, быков и птиц, наполняющие собой целые фризы, производят, каково бы ни было их символическое значение, впечатление прежде всего животной орнаментики; и растительная орнаментика соединяется здесь, как и в западном искусстве, которое, вероятно, и влияло на нее, с волнистыми лентами, образуя вьющиеся арабески, полные стильной красоты. В отношении украшений на произведениях позднейшей художественной промышленности Индии надо остерегаться, чтобы не принимать арабско-персидские формы за индийские. Но в конце концов известное тропически пылкое и все-таки закономерное чувство стиля связало между собой на почве индийской орнаментики самые разнообразные элементы, составив таким образом целое, которое производит впечатление единства.
Если мы будем и после этого считать, что индийское искусство с самого начала заимствовало из соседних с ним художественных миров массу декоративных частностей, то при ретроспективном взгляде на него мы не впадем в заблуждение относительно национального содержания буддийского и брахманского искусства Индии. Не только никто не станет искать чужеземные образцы для индийской ступы, индийского пещерного или монолитного храма, для какой-либо индийской пагоды во всей ее совокупности, но и почти всякая взятая наугад отдельная индийская статуя, по всему характеру своей пластики, окажется индийской с головы до пят; даже индийские орнаменты, рассматриваемые в своей совокупности, преисполнены чисто индийской оригинальности. И что бы ни говорили мы об этом искусстве Передней Индии, нельзя не признать, что в раннюю пору средних веков были столетия, когда в Индостане процветало искусство более зрелое и более натуралистическое, чем в какой-либо другой стране.
3. Индийское искусство за границами Передней Индии
Превосходством, которое индийское искусство приобрело в раннюю пору средних веков над художественным творчеством других азиатских народов, объясняется его распространение после этого времени до самых отдаленных островов юго-восточного азиатского архипелага.
Правда, на северо-востоке, в Кашмире, мы наталкиваемся на стиль, который кажется, подобно гандхарскому искусству, происходящим непосредственно от античного греко-римского. В Гандхаре встречаются колонны вроде коринфских и ионических, в Кашмире – вроде дорических, но наряду с этим и трехдужные дверные арки, напоминающие арки в виде листа трилистника, свойственные исламу или романскому стилю в Европе, и, сверх того, высокие покатые крыши, осеняющие каждый ярус многоярусного здания. Лучшие образцы этого стиля представляют нам храмы Марттанда и Банияра, где он процветал в VI-XIII столетиях и потом был вытеснен искусством ислама.
Совершенно иное лицо имеет искусство в Непале, гималайской горной стране, в которой до новейшего времени мирно уживались одна подле другой обе древнеиндийские религии. Эта страна до такой степени изобилует религиозными учреждениями, что о ней преувеличенно говорили, будто в ней больше храмов, чем домов, больше изображений богов, чем людей. Характерна наклонность непальских храмов стремиться в высоту. Их отделяет от земли уступчатое основание, на которое с передней стороны ведет лестница с перилами, украшенными фигурами слонов или богов. При этом уже в буддийских ступах символический верхний навес обычно заменяется особой надстройкой в виде башни; галереи буддийских храмов также бывают нередко увенчаны дагобой в виде небольшого купола. Но большие брахманские каменные храмы, поднимающиеся вверх несколькими ярусами на квадратном основании, довольно часто имеют, кроме того, высокую чисто индийскую конусообразную башню, более стройную, чем башни Бхубанешвара и Кхаджурахо, как, например, в каменном храме столицы Батгаон и в большом храме перед королевским дворцом в Патане – здании, состоящем из массивного уступчатого основания и четырех ярусов, каждый из которых окружен верандами на колоннах. Еще чаще непальские пагоды имеют форму китайских башен. Так, например, храм Деви-Бовани в Батгаоне со своим основанием, состоящим из пяти высоких уступов, и верхним сооружением с пятью высокими, выдающимися вперед крышами, хотя и не загнутыми по-китайски кверху, кажется произведением скорее долины Янг-Тсе-Кианга, чем долины Ганга. Непальское ваяние вращается вполне на индийской почве. Древненепальская статуя Будды в Берлинском музее, описанная Грюнведелем, произошла, очевидно, не от гандхарского, а от древнеиндийского типа, хотя Непал и служил проводником для северной школы буддийского учения. Правое плечо у этой фигуры обнажено, "бугор интеллигентности" на затылке выдается ничем не покрытым над короткими, архаически волнистыми кудрями. Это тип, проникший через Непал в Тибет, родину буддийского ламаизма.
Острова, лежащие к югу от Индии, от Цейлона до Явы и дальше, богаты памятниками индийского искусства.
Цейлон принадлежит к числу мест, в которых буддийство водворилось впервые. Здесь не мешали ему господствовать никакая брахманская реакция, никакое вторжение мусульманства; искусство этой омываемой морем гористой страны со времени Ашоки было и оставалось буддийским. Древние пещерные храмы Цейлона отличаются только наготой архитектуры и отсутствием пластических украшений. Для истории искусства имеют большее, чем они, значение древнебуддийские надземные сооружения, находившиеся на этом благословенном острове. Важнейшие из их развалин находятся на севере в Анурадхапуре, древней буддийской столице острова, на востоке в Полоннаруве, позднейшей столице, процветавшей всего более в середине XII столетия. Древнейшие ступы Анурадхапуры принадлежат к числу самых обширных и самых высоких во всей Индии. Некоторые из позднейших ступ, каковы находящиеся в Тупарамайе и Ланкарамайе, отличаются той особенностью, что их окружает тройной ряд отдельно стоящих стройных колонн со своеобразной капителью в форме цветочной чашечки с пуговчатой крышкой, между тем как в анурадхапурских капителях такие чашечки раскрыты. Среди развалин Полоннарувы небольшой храм Сат-Мегал-Прасада стоит на высокой уступчатой пирамиде, образующей пять больших ярусов и напоминающей собой, с одной стороны, древнеассирийские, а с другой – древнеамериканские постройки подобного рода; но какой бы то ни было связи этого сооружения с теми или другими доказать нельзя.
Статуи Будды древнеиндийского типа, сидящие или стоящие, колоссальные или величиной в натуру, сохранились в различных священных местах Цейлона. Среди произведений орнаментальной пластики, сохранившихся в различных цейлонских развалинах, встречаются изображения рядов животных, цветов и бутонов лотоса и лиственных гирлянд. Но собственно повествовательная рельефная пластика на Цейлоне, в противоположность индийскому континенту, совершенно отсутствует.
В начале средних веков сильный поток индийской культуры излился на Зондские острова. По карте Уле, изданной А. Б. Мейером, известно на Суматре свыше 60, на Яве свыше 30, на юге и востоке Борнео до 20, на юге Целебса не менее полудюжины древнемалайских пунктов с индийскими древностями.
Рис. 574. Рельеф храма в Боробудуре. С фотографии.
На Яве, этом наиболее известном и наиболее исследованном из названных островов, отличающихся удивительно величественными роскошью и красотой природы, брахманские развалины встречаются чаще, чем буддийские. Зато этот остров обладает, кроме других выдающихся буддийских сооружений, знаменитым храмом в Боробудуре, на южном своем берегу, – зданием, представляющим собой громаднейшее из всех созданий буддийского искусства. Степень древности этого храма остается неопределенной. Тогда как одни относят его к промежутку времени между 1000 и 1300 гг., другие видят в нем произведение 900-1100 гг. н. э. Фергюссон приводил веские доводы в пользу того, что по времени своей постройки этот храм гораздо ближе к периоду процветания буддийского искусства в Передней Индии и мог быть воздвигнут между 650 и 750 гг. н. э. Во всяком случае, сооруженный руками индийцев среди малайского населения, он является последним великим художественным порождением индостанского буддизма и вместе с тем великолепнейшей из форм, в какие только могла вылиться идея ступы. На самом деле, знаменитое святилище Боробудура не что иное как ступа: это постройка без внутреннего устройства, громада художественно сложенных и украшенных скульптурой камней, гигантская уступчатая пирамида с широким основанием и десятью террасами, из которых шесть нижних имеют в плане квадратную, а четыре верхние – круглую форму. Верхняя терраса увенчана собственно куполообразной ступой, седьмая, восьмая и девятая террасы окружены 72 каменными целлами в виде дагоб или колоколов, с решетками, как у клеток, причем в каждой из них помещается по статуе Будды или Бодхисатвы. На нижних террасах имеются галереи, коридоры и ниши; стены между нишами сплошь покрыты фризообразными горельефными изображениями (рис. 574). Нижние из этих изображений представляют всю жизнь Гаутамы, равно как предшествовавших ему и позднейших будд, в оживленных скульптурных картинах, изобилующих бытовыми чертами и исполненных с большой свободой и чистотой форм и движений; в бессчетных повторениях фигуры Будды на верхних террасах отражается индийское мировоззрение, по которому отдельные будды – только члены одной и той же цепи воплощений, считающихся заточениями на земле. "Тип Будды, – говорил Грюнведель, – трактуемый декоративно, применяется к украшению фасадов великолепных храмовых сооружений, которые, иллюстрируя космогонию, должны изображать мир созерцательных сфер на земле". Каждая из боробудурских фигур Будды сама по себе принадлежит к числу самых прекрасных и характерных его изображений, какие когда-либо были созданы (рис. 575). Но и в них мы не можем подметить гандхарский тип, а, напротив, древнеиндийский в благороднейшем его виде. Короткие архаистические завитки волос на голове, родинка между бровями, бугор на черепе, плотно прикрытый волосами, длинные уши " мочки и толстые губы – здесь все налицо, но выполненное с чувством стиля и соединенное одно с другим не без понимания красоты. Глаза полузакрыты как бы в состоянии спокойного размышления. В каждой из этих фигур отражается внешнее проявление души, совершенно ушедшей в себя, не ищущей и не находящей ничего в окружающем мире.
Рис. 575. Боробудурский Будда. С фотографии
Многочисленны на Яве также и брахманские статуи. Но буддийское и брахманское искусство быстро исчезли с этого острова, когда индусы, эмигрировавшие на него в XIV столетии, были поглощены туземным полумалайским населением.
В Индокитае мы встречаемся с новым миром чудес. А. де Понвурвилль посвятил искусству этой страны особую небольшую книгу "Индокитайское искусство". Издавая ее, он, однако, заявил, что слово "индокитайское" имеет у него значение только названия, что культура и искусство Индокитая отнюдь не произошли от сочетания индийских и китайских элементов, но составляют совершенно особые, самостоятельные культуру и искусство. Действительно, западный берег Индокитая более тысячи лет был под индийским влиянием, тогда как китайская культура испокон веку распространялась по восточным берегам Индокитая, которые потом более или менее подчинились французам. Поэтому на северо-востоке и востоке полуострова искусство всегда носило на себе китайский отпечаток, тогда как в Западной Бирме, Сиаме и Камбодже в течение многих веков процветало искусство, которое, при всех своих особенностях, было несомненно индийского происхождения.
В Бирме, рано принявшей буддизм, сохранились многочисленные ступы, отчасти своеобразной формы, воздвигнутые в древнее и новое время. В Бирме, равно как и в Пегу, существует также довольно много храмов, имеющих внутреннее помещение и украшенных в индийском вкусе. Но оригинальное бирманское строительство храмов, в сущности, признает лишь массивные уступчатые сооружения, внутри которых заключаются отдельные ходы и целлы, тогда как внешний вид представляет собой красивое двухъярусное здание с четырехугольным крестообразным основанием, увенчанное высоким стройным куполом. Главные храмы столицы Пегу принадлежат XI и XII столетиям. Замечательно, что они чисто кирпичные, что в них имеются настоящие, сложенные из клиновидных кусков своды, стрельчатые фронтоны, выступающие вперед зубцами в виде языков пламени, и порталы, что они завершаются ложным куполом, происшедшим, очевидно, от конусовидных башен Ориссы и северо-запада Индии; но всего поразительнее в этих зданиях – совершенное отсутствие декоративной скульптуры; зато на углах, по уступам и карнизам, они украшены многочисленными повторениями небольших моделей пагод, несколько напоминающих остроконечные башенки и балдахины европейских готических зданий.
В Сиаме, центральном государстве Индокитая, которое омывается морем с юга, прежде всего заслуживают внимания развалины древней столицы этой страны Аютии, и роскошная, обремененная деталями архитектура новой столицы Бангкока. Аютия процветала с половины XIV, Бангкок – с половины XVII столетия. Башни-пагоды Аютии отличаются также особенной формой, основные черты которой древнеиндийские. Они не имеют ни приблизительно конической формы, подобно башням севера, ни вида уступчатых сооружений Южной Индии, но, будучи одного и того же диаметра как вверху, так и внизу, состоят из нескольких ярусов одинаковой ширины, четырехугольной или приблизительно цилиндрической формы, и увенчиваются куполом в виде дагобы. В Бангкоке мы видим повторения башен подобного рода, но они образуют здесь лишь вершины сильно поднимающихся вверх уступчатых пирамид с четырехугольным планом, уступы которых украшены роскошными сквозными балюстрадами, пластическими орнаментами и воротами, косяки которых увенчаны фронтонами с зубцами в виде языков пламени и острыми вышками. В детали этих построек действительно врываются китайские мотивы. Одним из характерных образцов этой роскошной, но беспокойной и чисто "внешней" архитектуры может служить пагода Ват Чинг в Бангкоке.
Истинные чудеса индокитайского искусства мы находим только в Камбодже, древнем южном государстве полуострова, стране кхмеров, которые, к какому бы корню ни принадлежали, во всяком случае были одним из самых художественных племен Азии. Сам Понвурвилль признавал, что их искусство, процветавшее, по мнению Фергюссона, с X до XIV столетия, было ветвью индостанского искусства. Но нельзя не удивляться тому, как кхмеры благодаря своему тонкому чувству величественности целого, своему верному расчету малейших подробностей, своему ясному пониманию правильности и соразмерности вдохнули в индостанские традиции новую жизнь; в высшей степени замечательно, что они, будучи окружены со всех сторон буддизмом, исповедовали брахманскую религию с особенно резко выраженным культом змей и учением Наги. На старинных рельефах в их храмах мы находим вместо эпизодов из жизни Будды многочисленные изображения на темы из древнебрахманской героической поэзии; но любопытно также присутствие в них многочисленных статуй сидящего и стоящего Будды совместно с четырехголовым Брахмой и другими многорукими брахманскими божествами. Вероятно, первоначально брахманские храмы, после того как Сиам завоевал столицу Камбоджи Ангкор, были посвящены буддийскими бонзами служению Гаутаме. Особенно же много встречается в пластике этих развалин сюжетов из легенд о Наги. Рядом с исполинскими слонами, изображенными натурально, со львами и тиграми, стилизованными архаически, любимым украшением зданий служил царь змей с семью или девятью головами, расположенными в виде веера.
Рис. 576. Колонна большой Ангкорватской пагоды. По Фергюссону
Важнейшие развалины кхмерских сооружений находятся на границе Сиама и нынешней Камбоджи, между рекой Меконгом и большим внутренним озером. Из этих сооружений лучше других сохранилась большая пагода в Ангкор-Вате. Согласно южноиндийским образцам, ее общий план представляет три квадрата стен, заключающихся один в другом; на значительном расстоянии они обнесены четвертой стеной, которая благодаря вытянутой в длину улице, ведущей к храму, образует продолговатый прямоугольник. Три внутренних квадрата поднимаются один над другим в виде уступов, из которых каждый верхний меньше предыдущего. Нижний ярус открывается наружу галереей со столбами, имеющей 250 метров в длину. Галерея прерывается многосложными порталами с дверями прямоугольной формы, имеющими фронтоны, украшенные зубцами в виде факелов (пламенников). Над порталами и на углах уступов высятся массивные башни, из которых самая громадная в середине, над самым святилищем. Эти башни представляют собой девятиярусные уступчатые пирамиды округленной формы, имеют общий вид конусов, оканчиваются вверху стройными шпилями и украшены в каждом ярусе балюстрадами с факелами. Все здесь распределено более равномерно и симметрично, чем в дравидийских пагодах. Превосходство кхмерских зодчих перед североиндийскими выказывается и в классической отделке всех 1532 четырехгранных колонн или пилястр этого храма; их элегантные базы и капители, состоящие из изящно украшенных валиков и желобов, находятся в правильной пропорциональности со стержнями и напоминают формы римско-дорического стиля или стиля эпохи Возрождения (рис. 576).
Рис. 577. Рельеф на стержне одной из колонн большой Ангкорватской пагоды. По Фергюссону
Только нижняя часть стержней иногда украшена изящно выполненной рельефной работой (рис. 577). Вообще в искусстве кхмеров скульптура играет служебную роль при архитектуре, не сливаясь, однако, с ней в одно нераздельное целое, как в Индостане. Скульптурные изображения повествовательного содержания исполнены настоящим горельефом и наполняют собой все определенные для них зодчим и ничем не занятые пространства стен. Исполинские фигуры людей и животных, изваянные вполне кругло, расставлены, подобно стражам, при входах на лестницы и в храмы, везде в надлежащих местах. Но что всего оригинальнее в кхмерском искусстве, это применение мотива гигантской змеи для перил на улицах и мостах, ведущих к главным порталам. Тело змеи образует горизонтальную перекладину перил, вертикальные же подпорки этой последней состоят или из коротких столбов, похожих на древесные, как в Ангкор-Вате, или же из массивных человеческих фигур, как в Ангкор-Преа-Хане, между тем как семь или девять голов царя змей, поднявшись кверху, образуют передние концы перил. В Кхмерском музее в Трокадеро в Париже хранятся части подобной балюстрады с царем змей, составляющим верхнюю перекладину. По реставрации Делапорта большая терраса в Пиманакасе была также украшена балюстрадами, в которых львы, стоя на страже, служили подпорками, а семиголовые исполинские змеи составляли верхние перекладины. Фигуры людей в архаическом фронтальном положении, с массивными сдавленными членами тела, охраняли храм в Преа-Тколе. Но что всего замечательнее в развалинах башен некоторых из кхмерских зданий, это органическое сочетание исполинских голов с архитектурными частями. Со всех четырех сторон башни вделано в нее по огромной голове таким образом, что верхняя часть сооружения образует над этими головами высокую многоярусную тиару, как бы увенчивающую четырехликое божество. Нет никакого сомнения в том, что это божество не кто иной, как Брахма. Точно так же "всезиждитель" смотрит вниз с одних из ворот в Ангкор-Тхоме; точно так же, по реставрации, сделанной Делапортом на основании сохранившихся частей, несколько дюжин подобных лиц смотрело с высоты многобашенного и многоярусного храма в Байоне (рис. 578), причем каждый ярус был украшен рядом небольших портиков на колоннах с фронтонами, увенчанными языками пламени. Храм этот был если не большой, то самый роскошный и самый необычный из всех храмов Ангкора. Во всем мире не было равного ему по сказочному великолепию; поразительны в нем почти хрустальная ясность и правильность архитектурного целого, соединявшиеся с самой причудливой роскошью, с самой фантастической пышностью.
Рис. 578. Байонская пагода близ Ангкора в Сиаме. По Делапорту
Объем настоящего сочинения не позволяет нам вдаваться в ближайшее рассмотрение кхмерской пластики. Заметим только, что в ней лица людей, если не изображены умышленно чужеземные воины, воспроизводят полумонгольский, полумалайский тип местного населения. Носы более приплюснуты, глаза поставлены более косо в отношении один к другому, губы шире и толще, чем в типах индостанского искусства. Таковы вышеупомянутые громадные головы Брахмы на наружных стенах байонских башен, но таковы и многочисленные, вероятно позднейшие, изображения Будды в храмах, которые в остальном, по своим одеревенелым, коротким кудрям волос и большой выпуклости на черепе, имеют характер древнеиндийского типа южной школы буддизма, господствовавшей во всем Индокитае.
Из ворот гротов и пагод, с высоты ступ и храмовых башен, из глаз буддийских и брахманских богов индийского искусства льются к нам сотни загадочных вопросов; однако это искусство уже не представляется нам таким неразвитым, произвольным и фантастическим, каким его считали прежние исследователи. Теперь уже признано, что индийское искусство, не похожее в своем целом ни на какое другое искусство в мире, было достаточно крепким, в смысле национальности, для того чтобы заимствовать из чужих стран одни лишь внешние частности и усваивать их, однако, без намерения пользоваться ими целиком и поступаться своим собственным достоянием; теперь мы уже имеем возможность проследить в истории буддийской архитектуры Индии постепенный ход развития, начиная с простейшей ступы Индостана и Цейлона до чудного сооружения в Боробудуре на Яве, равно как и изучить прогресс архитектуры брахманских пагод, начиная от простых построек в Айвулли и Конараке и до величественных, многосложных групп зданий Южной Индии и Индокитая; теперь уже сделана попытка изложить историю развития типа статуй Будды, гораздо обстоятельнее прежнего объяснить содержание большинства горельефной и барельефной скульптуры индийских храмов и в большей степени определить их связь с историей развития религиозных представлений, чем мы могли сделать это в узких рамках своего обзора.
Индийскому искусству, несомненно, в сильной степени недоставало понимания закономерности в отдельных художественных отраслях; несомненно также, что оно в передаче духовного содержания, еще больше, чем в технике, не шло дальше поверхностного изложения. Но, с другой стороны, нельзя отрицать того, что индийские художники были наделены своеобразным чувством природы и своеобразно сильной фантазией. Чтобы быть справедливым к индийскому искусству, надо помнить, что оно принадлежит исключительно чувственному и мечтательному миру самого жаркого тропического пояса. Оно является перед нами безусловно и бесспорно наивысшим созданием одухотворенного человеческого мастерства в этой зоне, искусством истинно тропическим во всех отношениях.
II. Искусство Китая и соседних стран
1. Введение. Главные черты китайского искусства
Когда заводят речь о Китае, нам приходят на мысль прежде всего Великая китайская стена, китайские косы, фарфор, знаменитая нанкинская Фарфоровая башня, и в нашем воображении является представление о самом населенном, самом древнем, самом устойчивом и наиболее замкнувшемся в самом себе государстве на всем земном шаре. Однако при ближайшем рассмотрении некоторые из этих понятий являются в несколько ином свете. Великая к Китайская стена, построенная 2200 лет тому назад вдоль прежней северной границы империи, не задержала завоевания Китая татарами, против нашествия которых была воздвигнута. Китайская коса, впервые навязанная сынам Небесной империи последним татарским завоеванием Китая (в 1640 г. н. э.), существует лишь с воцарения последней из 22 великих династий китайских императоров татарской династии Манджу. Нанкинская Фарфоровая башня, воздвигнутая в начале XV столетия н. э., разрушенная в 1853 г., бывшая действительно чудом искусства по своей облицовке блестящими фарфоровыми пластинами, высотой 65 метров и состоявшая из девяти этажей с крышами, по углам которых висели колокольчики, испытала общую почти со всеми сооружениями китайской архитектуры участь просуществовать лишь немногие века. Мнение о неизменности китайской культуры и о ее замкнутости для всяких чужеземных влияний не выдерживает строгой критики. В истории китайского искусства неопровержимо доказано, что оно подвергалось этим влияниям. Фр. Гирт посвятил этому вопросу даже особое сочинение. Хотя Гирт и считает недоказанным, чтобы древние западноазиатские формы влияли на древнее китайское искусство еще в тысячелетия, предшествовавшие христианской эпохе, однако на это имеются указания, и с последнего столетия до н. э. в китайском искусстве отражались одно за другим влияния западноазиатское, греческое, новоевропейское, иногда даже оживляя и видоизменяя его, а оно, со своей стороны, было корнем всего восточноазиатского искусства.
История китайского искусства с древнейших времен была подробно изложена китайскими писателями. Фр. Гирт посвятил этой литературе специальное сочинение. Еще в IX столетии н. э. Чанг Йен Юань написал историю китайской живописи до его времени – большой труд, представляющий собой важный источник наших познаний по этому предмету. От следующего столетия дошли до нас описания музеев со множеством иллюстраций, художественные сборники и учебники. Однако художественно-исторический материал, заключающийся в этих сочинениях, до сей поры был известен нам лишь очень отрывочно.
В конце XIX в. знакомство Европы с китайским искусством основывалось главным образом на трудах и сочинениях французских миссионеров в Пекине, таких французских знатоков, как Поттье, Станисл Жюльен и Дю-Сартель, таких английских исследователей, как сэр Уильям Чемберс и Уильям Андерсон, и таких германских ученых, как барон Ферд. фон Рихтгофен. После того как Палеолог в 1887 г., издал первый связный очерк этой истории, изучение ее сделало быстрые успехи особенно благодаря тому, что за него взялись исследователи, вооруженные основательным знанием китайского языка. С этими успехами тесно связаны имена Эд. Шаванна во Франции и Фр. Гирта в Германии. Гирт в целом ряде монографий указал Европе на совсем новые основы истории китайского искусства, а выставка собранных Гиртом произведений китайской живописи, устроенная в Дрездене в 1897 г., была весьма интересной.
Достоверная история "Срединной империи" начинается с династии Чжоу (1122-255 гг. до н. э.). Тем не менее историки китайского искусства относят некоторые из сохранившихся художественных произведений Китая, особенно сосуды, к эпохе предшествовавшей династии Шан (1766-1122 гг. до н. э.). Период самостоятельного национального развития китайского искусства продолжается до династии Хань (206 г. до н. э. – 221 г. н. э.), хотя в архитектуре более ранней эпохи замечаются признаки вавилонско-ассирийского влияния. Около 115 г. до н. э. начинается влияние на китайское искусство со стороны западноазиатского, греко-бактрийского, а с 67 г. н. э. стало медленно распространяться в Китае искусство индийско-буддийское. Однако китайское искусство снова поглощало и преодолевало все чужеземные веяния. Крупные его создания, современные нашим средним векам и эпохе Возрождения, носят на себе вполне национальный отпечаток.
По главным своим чертам китайское искусство, в противоположность индийскому, не может быть названо ни монументальным, ни фантастичным; скорее всего, пристало ему название "искусство мелких изделий" и "рассудительное". Говоря это, мы не отрицаем того, что китайское искусство в свое время выказывало стремление к монументальности размеров и к фантастичности форм, но хотим сказать, что сохранившиеся его памятники, равно как и те, которые известны нам только по их уцелевшим китайским изображениям, несомненно, прежде всего произведения так называемого малого искусства, прелесть которых заключается в своеобразном чувстве природы, в тонком понимании требований декоративности и в отчасти изысканном, отчасти наивном вкусе, нередко возбуждающем в нас удивление и восторг. Самым монументальным из произведений, созданных китайскими руками, все-таки остается Великая стена, тянущаяся сотни миль, с ее огромными четырехугольными башнями и величественными воротами в виде циркульных арок. Самыми же фантастичными произведениями китайского искусства должно, вероятно, признать некоторые из древних образцов живописи на шелке или на бумаге, хотя и от этих работ веет скорее мечтами чувственности и сонными грезами о природе, чем силой пламенного воображения.
Китайской архитектуре недостает монументального величия и прочности; это выказывается не только в легковесности употребляемых ею материалов, дерева и кирпича, которые, как и у полинезийских первобытных племен (см. рис. 57 и 59), заменяются большими каменными глыбами только при постройке массивных террас и уступчатых фундаментов, но и в малости масштаба всех архитектурных форм; даже в храмах и императорских дворцах увеличение помещений достигается устройством многих небольших отдельных построек и расположением их друг возле друга, в одной общей ограде. Свобода художественного творчества невозможна для китайских зодчих уже вследствие стеснительных и нелепых правительственных предписаний, которые определяют для каждого дома то или другое число колонн, соответственно рангу его владельца, устанавливают точное цифровое отношение между всеми частями постройки и предоставляют некоторый простор капризу строителя разве только в частях здания, скрытых от взоров прохожего.
Китайское зодчество прибегает к сводам кроме кладки фундаментов только при постройке ворот и мостов; но и в этом случае ложный свод, образуемый выступами взаимно противоположных стен (см. рис. 150), еще часто употребляется вместо настоящего свода с замковым камнем. Куполов это зодчество не признает совершенно. Деревянные стропила крыши всех построек, остающиеся ничем не замаскированными изнутри, а иногда, прикрытые потолком с кассетами, поддерживают черепичную кровлю, очень выступающую вперед над стенами и по краям загнутую кверху; стропила покоятся на деревянном каркасе стен, состоящем из рам, форма которых в главных частях обусловливается, конечно, строительными законами, но в некоторых частях подражает решетчатой работе, происшедшей от плетневых построек. Стена в промежутках между этими рамами несет на себе лишь свою собственную тяжесть. Она, по выражению Земпера, "в сущности представляет собой не более как исполненную из кирпича испанскую стену, похожую на ковер", которая тем более не имеет значения части сооружения, играющей роль опоры или несущей на себе тяжесть, что всюду ей дается вид "чего-то подвижного, натянутого между лесами, совершенно не зависящего от груза кровли". Поэтому столбы в каркасе, служащем опорой кровли, обычно круглые, большей частью деревянные и лишь в императорских дворцах мраморные, расставляются то перед стеной, то позади нее, то в ней самой. В первом случае они образуют перед зданием веранду, во втором – их совсем не видно снаружи, в третьем – они выступают из стены в виде полуколонн. Базы их, как правило, состоят из простых круглых подушек, а роль капителей часто играют, как в Индии, распорки в виде консолей, причем им дается иногда форма дракона, олицетворяющего собой китайское небо и могущество китайского императора, или каких-либо других символических баснословных животных. Вообще решетка, по словам Земпера, составляет основной элемент китайской архитектурной орнаментики: мы находим ее в виде тонкой бамбуковой плетенки в облицовке нижней части внутренних стен, в виде частой решетки изящно изменяющегося узора, иногда геометрического со множеством украшений, во внешней ограде садовых павильонов (рис. 579, а) и других воздушных домиков, в архитектонических деревянных поделках, чередующихся со столбами и перекладинами, особенно в перилах, связующих легкую верхнюю часть здания с его массивным фундаментом.
Рис. 579. Китайское зодчество: а – китайский садовый павильон; б – храм Неба в Кантоне. С фотографии
Эти здания, развертывающиеся главным образом в горизонтальном направлении, производят художественное впечатление преимущественно своей крышей, выдающейся вперед над поверхностью стен и загибающейся вверх по своим нижним краям. Такие крыши, обычно со скатами и лишь в редких, исключительных случаях со щипцами, имеющие рубчатый вид вследствие того, что состоят из вогнутых, прикрывающих друг друга черепиц, снабженные иногда на вершине терракотовыми фигурами змей, драконов и других животных, вместе со своим решетчатым подпором из брусьев затейливой резной работы, окаймленным зубами драконов, венчают собой храмы, хижины, башни и ворота, а при отсутствии балок даже простые ограды. Одна из главных особенностей китайской архитектуры состоит в том, что подобная крыша для эффекта делается двойной или даже тройной, одна над другой, так что здание имеет несколько ярусов крыш (б). Известные башни, господствующие над китайскими городами и селениями, высятся в 9 и даже в 15 этажей, из которых каждый отделен от следующего за ним выступающей крышей, причем отвесные линии подобных построек до такой степени скрадываются этими навесами, что кажется, будто нагорожены друг на друга не настоящие этажи, а одни только крыши, обвешанные по краям колокольчиками. Предположение, которое нередко было высказываемо, что форма китайской крыши – подражание форме татарской палатки, опровергнуто Фергюссоном, указавшим на то, что преобладающая форма этих палаток – коническая. Этот исследователь скорее склонен видеть в форме китайской крыши приспособление китайского вкуса к практической цели, защите от дождя и солнечных лучей. В общем впечатлении всех китайских зданий, самых высоких и самых низких, постоянно играет важную роль яркая раскраска всей постройки за исключением массивного каменного фундамента. Кирпичные стены зданий бывают облицованы штукатуркой, их деревянные части расписаны пестрыми колерами и иногда сверху донизу лакированы; но желтая глазурованная черепица на кровлях, по-видимому, составляет исключительную принадлежность храмов и императорских дворцов.
Рис. 580. Китайские почетные ворота; пятипролетные ворота при входе к гробницам династии Мин. По Палеологу
Из каменных построек кроме стен и их ворот в Китае достойны внимания так называемые почетные ворота – отдельно стоящие сооружения, которые, как правило, воздвигались на улицах и площадях по высшему или высочайшему повелению в память важных событий и великих людей (рис. 580). Эти "паи-лу" – одного происхождения с каменными воротами в оградах индийских ступ и с деревянными "ториями" в оградах японских храмов. Хотя они каменные, но стиль их такой, как будто бы они были деревянной конструкции; при этом лишь в редких случаях, когда их пролеты, в количестве от трех до пяти, имеют не прямолинейное очертание, а представляют вверху циркульные арки, в их стиль привносится также главный элемент каменной архитектуры. Осеняющие их китайские крыши сообщают им вполне национальный характер.
Монументальные украшения, с которыми мы встречаемся в китайской скульптуре, не дают нам достаточного понятия о монументальном ваянии китайцев. Каменные доски с рельефными изображениями из истории династий Хань, исследованные Эд. Шаванном, – по-видимому, единичное в своем роде явление; что касается больших статуй людей и животных, расставленных по некоторым дорогам, то они производят впечатление малых изваяний, воспроизведенных в крупном размере. Не надо забывать, что в большинстве китайских зданий с каменными стенами даже нет места для крупных произведений скульптуры. В храмах древнекитайского культа неба нет идолов. В покоях предков в китайских домах статуи и бюсты заменяются досками с надписями. Отвращение китайцев от изображения нагого человеческого тела, со своей стороны, препятствовало развитию стиля высшей скульптуры. Однако китайцы наделены тонкой наблюдательностью, и благодаря усердному и продолжительному упражнению рука китайца с точностью воспроизводит то, что видит его глаз. История искусства застает китайскую скульптуру почти уже освободившейся от правила фронтальности. Лучшие из китайских художников уже умели до известной степени правильно видеть одетое тело во всевозможных поворотах и воспроизводить головы и руки с большой естественностью и выразительностью, идеальные же типы явились у них единственно как подражания индийским образцам, которые, в свою очередь, возникли под греко-римским влиянием. Национальная скульптура Китая передавала китайские головы со всеми отличительными их чертами – косым расположением глаз, выдающимися скулами, приплюснутыми носами; при этом она скорее юмористически преувеличивала индивидуальные особенности, чем смягчала расовые признаки, которые, очевидно, вовсе не казались художникам отталкивающими.
Таким образом, лучшее, что только производила китайская пластика, – это мелкие изделия, и при помощи их одних мы имеем возможность познакомиться с ней в европейских коллекциях. Изображения животных, людей и богов в небольшом виде китайцы всегда отливали из бронзы; бронзовые фигуры встречаются отчасти как самостоятельные художественные произведения, отчасти как украшения сосудов. Китайцы издавна были чрезвычайно искусны также в резьбе из дерева и слоновой кости, выказывая в этом деле величайшее терпение. Наряду с самостоятельными мелкими пластическими произведениями мы находим у них особенно богатую скульптуру рельефов на ящиках, шкатулках и всякого рода предметах; сквозной рельеф, в котором фигуры рисуются не на твердом фоне, а свободно, так сказать на воздухе, составляет вос точноазиатскую специфику, излюбленное украшение этих предметов. С другой стороны, твердый зеленоватый нефрит (ядеит) долгое время был у китайцев любимым материалом, из которого они изготовляли не только богослужебные чаши и кружки, но и всякого рода пуговицы и пластинки для украшений, а до изобретения фаянса – также чашки и блюдца. Такое же употребление во все времена имели и более твердые сорта камня, как, например, горный хрусталь, оникс, халцедон, сардоникс, разноцветные блестящие слои которых служили для вырезания фигур животных и растений. Позже наряду с этим родом работ процветала резьба из жировика в малом масштабе (рис. 581). Наконец изготовлением всех этих вещей завладела керамика, в особенности лепка из фарфора, представляющего собой светлую и твердую массу; и хотя главную роль в орнаментике фарфоровых ваз играла живопись, однако не было недостатка в поводах к моделировке из этого первобытного пластического материала. В заключение к этому присоединилось известное китайское лакирование, для изящнейших произведений которого служили образцами японские изделия. Пластические лакированные работы резко отличаются от живописных. Слои лака накладываются один на другой до тех пор, пока не оказывается возможным вырезать из них рельефы или округлять намеченные заранее формы. Во всех мелких произведениях китайской пластики прельщают нас здравый смысл, с каким формы приспособлены к назначению предмета, большая любовь к изображению частностей жизни животных и растений, чувство природы, приковывающееся к земле и небу, живое, хотя иногда и несколько внешнее понимание тонкой игры красок. О достоинстве лучших китайских произведений по всем указанным отраслям искусства нельзя судить на основании тех дюжинных изделий, которые в настоящее время наводняют европейские рынки. В противоположность японцам китайцы почти никогда не продавали своих лучших работ в чужие края.
Наибольшую самостоятельность выказали китайские художники в живописи, охватывающей собой все виды современной европейской живописи. История китайской живописи, по исследованиям Фр. Гирта, составляет уже резко отграниченный отдел всемирной истории искусства. Конечно, она представляется прежде всего историей художников, но из числа лучших произведений лучших китайских живописцев лишь очень немногие сохранились или попали в Европу. Однако нам стали доступны несомненные копии знаменитых китайских картин, и при их помощи возможно составить обзор хода развития китайской живописи.
Рис. 581. Бог долголетия. Китайская жировиковая статуэтка. С оригинала
О стенной живописи китайцев можно сказать только немногое. Вышеупомянутый Чанг Йен Юань, живший в IX в., сообщает изумительные вещи о великолепных картинах на стенах храмов и монастырей в древних главных городах империи. Наружная поверхность ширм перед воротами китайских домов и части как внутренней, так и наружной поверхности стен этих домов и теперь нередко украшаются живописью, исполненной водяными или клеевыми красками прямо по штукатурке. Однако вышеупомянутые более древние картины были, вероятно, передвижные стенные украшения, и едва ли есть существенная разница в отношении стиля между новейшими легкими стенными картинами, настоящими самостоятельными картинами, и теми живописными украшениями, которыми китайцы покрывают все предметы так называемого малого искусства. Из самостоятельных картин особого внимания заслуживают изображения, исполненные водяными красками на кусках шелковых тканей и бумажных листах или на длинных полосах шелковой материи и бумаги. Такие картины, снабженные сверху и снизу рейками, вешаются на стены подобно нашим картинам, писанным масляными красками; первые и последние имеют твердые обложки, вроде переплетных крышек, и складываются гармошкой, так что можно их раскрывать, рассматривать и затем закрывать, как книги. В этих картинах-свертках, книгах с картинами или картинах на отдельных листах, ясно отражается история китайской живописи. Повсюду в них мы видим один и тот же характер этой живописи, во многом похожей на иллюстрации в рукописях; всюду замечаем одинаковое преобладание контурного рисунка, которое чувствуется даже там, где линии контуров, как в произведениях новейших импрессионистов, почти совершенно стушевываются; всюду в сложных композициях находим высокий горизонт, обусловливаемый по большей части высоким форматом изображения, малую перспективную глубину и еще меньшее знакомство с законами перспективы. Многие картины знаменитых китайских мастеров – не что иное, как начерченные тушью черные с белым контурные рисунки, в которых контуры следуют установленным правилам каллиграфии, заключающимся в особых штрихах и нажимах кисти. К этим каллиграфическим правилам, по Андерсону, надо еще прибавить 10 различных условных схем, с точностью соблюдаемых каждым художником. Затем в китайских картинах мы находим просвечивающий, по большей части светлый фон и везде одинаково тонкое и плоское наложение светлых красок, умышленное пренебрежение тенями, на которые китайцы смотрят как на грязные пятна, незнание эффекта светотени и недостаточную округленность в моделировке отдельных фигур. Ослабление яркости красок вдали передается лучше, чем линейная перспектива. Для показания расстояния между отдельными "кулисами" пейзажа, между ними вставляются слои облаков и тумана, довольно густые и нередко странным образом закрученные или одеревенелые; атмосферные настроения, несмотря на графический характер китайской живописи, нередко бывают выражены в ней недурно.
Что касается человеческого тела, то китайцы с древнейших времен, до которых только мы в состоянии проследить их живопись, старались изображать его со всех сторон, во всевозможных положениях, во всяких ракурсах, какие только возможны. В противоположность пейзажу в этом роде изображений китайцы за тысячи лет до нашего времени достигли такой свободы и искренности творчества, какие европейские художники приобрели или возвратили себе всего лишь несколько веков тому назад. Недостаточность умения китайцев изображать большие и сложные композиции побуждала их предпочитать малые группы или выхватывать из природы отдельные предметы и трактовать их как самостоятельные сюжеты. Таким образом, стали занимать место на переднем плане отдельные деревья в своем пышном весеннем наряде или в зимней снежной одежде, цветущие ветви с сидящими на них птицами и бабочками, бамбуковый тростник, в котором порхают воробьи, мосты, перекинутые через водопады, и т. п. Нельзя, впрочем, забывать, что китайская живопись с ее манерой плоских изображений, подобной той, какую мы видели – разумеется, в другой форме – в Греции еще в полигнотовской живописи, подчинялась особого рода законам строгой стильности.
Наконец, мы должны напомнить, что китайцы еще задолго до европейцев изобрели книгопечатание при помощи досок, а вместе с тем печатание картин. Полагают, что искусство печатания одноцветных черных эстампов, гравированных на дереве, возникло в Китае в конце VI столетия н. э. как составная часть книгопечатания с досок, переход которого в печатание наборными литерами мы не беремся здесь проследить. Но в XVII в. печатание полихромных ксилографий посредством нескольких досок, натертых различными красками, находилось уже в цветущем состоянии, из чего можно заключить, что это искусство развилось раньше означенного времени. При графическом характере всех китайских плоскостных изображений стиль хромоксилографий подчинен в Китае тем же законам, что и живопись.
2. Китайское искусство до конца царствования династий Хань (2205 г. до н. э. – 221 г. н. э.)
Развитие китайского искусства обусловливалось отчасти вышеупомянутыми внешними влияниями, отчасти, и притом в значительной степени, внутренним развитием китайской духовной жизни. В то время когда около середины VI столетия до н. э. в Китае, так же как в Индии и Греции, великие мыслители и мечтатели выступили смелыми новаторами, древняя государственная религия империи предписывала поклоняться Небу, земле и предкам. Она походила на уже знакомые нам религии полинезийских и американских первобытных племен. Но, как доказал И. Г. Плат, ей недоставало стремления к созданию мифов, недоставало антропоморфизма других народов. Приносить жертвы Небу имел право только император. Солнце, луна и звезды считались небесными духами; горы и реки, леса и долины, моря и ручьи чествовались, как земные духи. При древней чистой религии для молитвы и жертвоприношений не требовалось ни идолов, ни храмов. Храм Неба в Пекине и теперь состоит из больших террас под открытым небом, а не из зданий.
Государственные строительные правила первых веков династии Чжоу (около 1000 г. до н. э.) очень мало отличаются от остающихся в силе в настоящее время. Только императорские дворцы династии Чжоу, судя по старинным рисункам и описаниям поэтов, в противоположность позднейшим дворцовым зданиям, раскидывавшимся в горизонтальном направлении и состоявшим из террас и башен, этажи которых соединялись между собой наружными лестницами, "поднимались до небесных облаков". Так как эти постройки напоминают собой массивные террасообразные сооружения Месопотамии, то ее влияние на тогдашнее китайское зодчество представляется довольно вероятным.
Изобразительное искусство китайцев в эту древнейшую эпоху является перед нами в изделиях из нефрита и бронзы. Нефритовые вазы, служившие религиозным целям, и пластически выделанные из нефрита предметы, которые носили как знаки рангов или как украшения, упоминаются еще в XII в. до н. э. Есть указание, что еще в 1134 г. существовал особый императорский чиновник, заведовавший магазином изделий из нефрита. Но наравне с серым и зеленоватым нефритом, или ядеитом, среди художественно обрабатываемых материалов в эту начальную эпоху Китая совершенно так же, как в доисторическую эпоху Европы, главную роль играла блестящая, подобно золоту, бронза. Бронзовые сосуды – едва ли не самые древние из китайских художественных произведений, сохранившихся до нашего времени. Только немногие из них попали в Европу, но и эти немногие экземпляры по большей части не настоящие древние, оригинальные произведения, а позднейшие копии, которые, однако, благодаря добросовестности, с какой копируют китайцы, дают нам полное понятие о древних сосудах, считающихся священными. Любопытные образцы таких бронзовых сосудов находятся в Париже, в собрании Чернуски, и в Берлине, в коллекции барона фон Рихтгофена, часть которой перешла в Музей народоведения. Но знакомят нас с такими сосудами преимущественно гравированные на дереве рисунки старых китайских указателей коллекций, из которых один, По-ку-т’у, составленный в 1107-1111 гг. н. э., содержит в себе изображения и описания 1206 бронзовых сосудов династии Шан (1766-1122 гг. до н. э.), а другой – Си-те’инг-кукиен, написанный лишь в 1749 г. н. э., – рисунки и описания 1400 подобных ваз императорской коллекции того времени. Рихтгофен, Липпманн и в особенности Гирт издали на немецком языке ценные примечания к этим каталогам. Будучи изготовлены частью для религиозных целей, частью для того, чтобы служить императорскими почетными подарками, эти сосуды уже своими формами, выдержанными согласно с установленными предписаниями, равно как и плоскорельефными украшениями, ясно свидетельствуют о своем назначении. Каждый мотив имел свое символическое значение.
Вазам, предназначенным для крови жертвенных животных, давалась форма этих животных со строго симметричными частями тела, причем вместилище сосуда устраивалось в спине фигуры. Изображений человека при династии Чжоу еще не было.
Рис. 582. Китайские орнаменты. По Гирту
Орнаменты, на вид растительные, при ближайшем рассмотрении, как правило, оказываются разукрашенными животными мотивами, из которых и здесь, как в орнаментике первобытных народов, на первом плане является всевидящее око. Наряду с животными мотивами главную роль играют также и геометрические. По мнению Фр. Гирта, весьма вероятно, что на китайский меандр, который хотя и встречается чаще одиночно или парами, чем в виде непрерывной полосы, но тем не менее составляет главный элемент древнекитайской орнаментики при заполнении пространства, следует смотреть как на символическое изображение грома. По-видимому, он и здесь произошел от круглых форм (рис. 582, а и б); развиваясь далее в округлой форме, символическое изображение грома появляется одновременно и в закручивающихся орнаментах, в которых два, три спиральных хвоста и более как бы вращаются вокруг одного общего центра (в). К этим мотивам присоединяются не всегда явственные хвостатые и зубчатые узоры. Но главная особенность древнекитайской животной символики – соединение баснословных животных, выказывающее пылкость китайской фантазии и в художественном отношении. На древних сосудах чаще всего встречается фигура огромного, похожего на кошку Т’аут’ие, символа прожорливости. Но вскоре за ней явились известные сказочные животные, из которых главное – дракон с головой хамелеона, рогами оленя, ушами быка, хвостом змеи, когтями орла и чешуей рыбы – чудовище, с которым в Китае связано представление не чего-либо ужасного, а благодати. Оно служит олицетворением плодоносной воды, облаков, горных вершин, вообще неба, и начиная с ближайшего периода, с династий Хань, приобретает значение символа императорского могущества и совершенства. Ближе всего к дракону подходит по своему значению феникс с головой фазана, шеей черепахи, телом павлина или дракона и с распростертыми крыльями. Впоследствии эта фигура сделалась символом императриц. Третьим в этой серии чаще всего встречается единорог, похожий на оленя (Ки-лин). Из невымышленных животных символическое значение имеют черепаха, росомаха и лошадь. Изумительна орнаментация геометрического характера, иногда покрывающая шкуру бронзового животного. Нечто подобное мы находим в искусстве первобытных народов на Мадагаскаре. Из трех древнекитайских бронзовых сосудов, изображенных в настоящей книге, первый (рис. 583) принадлежит еще времени По-ку-т’у, династии Шан; второй (рис. 584), происходящий из коллекции Рихтгофена и находящийся в Берлинском музее народоведения, дает понятие о стиле династии Чжоу; третий (рис. 585) – жертвенный сосуд в виде зайца с крючками и меандрами на теле; его изображение взято из одного новейшего китайского каталога.
Рис. 583. Древнекитайский бронзовый сосуд династии Шан. По фон Рихтгофену
В VI в. до н. э. два мудреца открыли новые пути для духовной жизни китайской империи: Лао-Цзы и Кун-цзы (Конфуций). Первый родился в 604 г., а второй – в 551 г. до н. э. Лао-Цзы был удалившийся от мира пустынник. Первоначальной причиной всех вещей его учение выставляло высший разум, называемый Дао. Конфуций был мирской мудрец; он учил своих последователей делать жизнь свою на земле счастливой при помощи ума, приличий, благосклонности и вкуса. Оба мудреца были после своей смерти признаны святыми, и им обоим стали посвящать храмы; но настоящим основателем религии был только Лао-Цзы, и его последователи, даосисты, доныне составляют самую многолюдную и популярную из религиозных сект Китая. Что касается Конфуция, то он остался верен исторической государственной религии. Посвященные ему храмы, из которых наиболее известные находятся в Пекине и в Киуфеоу, где мудрец родился, представляют собой залы в его память, лишенные всяких картин и украшенные лишь его именем и изречениями.
Время династий Хань (с 206 г. до н. э. по 221 г. н. э.), вообще находившееся еще под влиянием учений Лао-Цзы и Конфуция, изобиловало художественными стремлениями.
Рис. 584. Древнекитайский бронзовый сосуд династии Чжоу. По фон Рихтгофену
Рис. 585. Древнекитайский жертвенный сосуд в виде зайца. По Палеологу
Не подлежит сомнению, что первоначальное китайское гончарное искусство, которому вращающийся круг был известен еще в предшествовавшую эпоху, делало теперь успехи за успехами и хотя не изготовляло еще настоящего фарфора, однако уже производило роскошно расписанную красками каменную глазурованную посуду. Несомненно также, что изобретение бумаги в 105 г. н. э. дало новый толчок китайскому рисованию и живописи, до той поры пользовавшимся только шелковыми материями. Но самое важное, в чем нельзя сомневаться, это то, что в эту эпоху китайское искусство впервые осмелилось изображать человеческие фигуры. Установлено также, что при династиях Хань в китайское искусство проникло чужеземное влияние. Об эллинистическом влиянии, обнаружившемся при первой династии Хань (с 206 г. до н. э. по 25 г. н. э.), свидетельствуют китайские "виноградные зеркала", на которые обратил общее внимание Фр. Гирт. Хотя некоторые оригинальные экземпляры таких зеркал или позднейшие их копии попали в европейские музеи, однако мы знакомы с ними преимущественно по рисункам По-ку-т’у: на поверхности, отведенной для орнамента, господствует натуралистическая эллинистическая волнистая гирлянда, переплетающаяся с виноградными побегами, листьями и кистями; между кистями и листья ми вставлены фигуры животных самых различных пород, часто изображенные так, как они представляются при взгляде на них сверху. Нечто подобное мы видели в эллинистическо-римском, а так же и в эллинистическо-сасанидском искусстве, например во дворце Машиты. Несомненно, что мы имеем здесь дело с влиянием эллинистического Запада; спрашивается только: каким путем это влияние могло проникнуть в Китай? П. Рейнеке склонен видеть в этой орнаментации продолжение эллинистических элементов древнесибирского искусства, которое находилось в сношении с древнекитайским. Другие авторы предполагают непосредственное бактрийское влияние. Во всяком случае, ввиду произведений, о которых идет речь, мы должны признать за эллинизмом влияние на развитие натуральных растительных и животных форм китайской орнаментики.
Рис. 586. Рельеф Гиао-т’анг-шана. По Палеологу
С 67 г. н. э. в Китай начали проникать из Индии буддийские изваяния богов и картины, но китайские художники стали подражать им только после младшей династии Хань. Напротив, каменные пластические изображения (Эд. Шаванн посвятил им особое сочинение) появились еще при династиях Хань. Именно в их время мы находим в Китае богатую своеобразную скульптуру, и в отношении этих изображений свидетельства старинных текстов подтверждаются исследованиями путешественников.
Мы узнаем из письменных источников, что еще при старшей династии Хань, во II в. до н. э., стены дворцов и надгробные памятники были украшаемы рельефной каменной скульптурой; но все сохранившиеся до нашего времени произведения этого рода, по мнению Шаванна, принадлежат времени младшей династии Хань, то есть относятся ко II столетию н. э. Все они были найдены в старинных гробницах, и притом, за немногими исключениями, в провинции Шантунг; высоты Гиао-т’анг-шана и "музей" у подножия горы У-че-шан, близ Киасианга, прославились своими каменными досками со скульптурными изображениями. Восемь (а по китайскому счету 11) рельефов Гиао-т’анг-шана (рис. 586) принадлежат к числу наиболее древних. Собственно говоря, это не рельефы, так как в них углублены только контуры; большие, изобилующие фигурами изображения на сюжеты из китайской истории и мифологии расположены одно над другим рядами на различных планах; на фоне, представляющем горы, мосты и здания, крыши которых еще не имеют китайских загибов, мы видим длинные ряды или рукопашные схватки воинов, пеших, конных, едущих на двухколесных колесницах, и между ними верблюдов и слонов. Встречаются также эпизоды мирной, домашней жизни. Все изображено без малейшего соблюдения перспективы, в невыразительных чертах, свойственных всякому первобытному искусству, но все имеет национальный характер; костюмы и позы – китайские, а главные движения полны жизни. Особенно фигуры коней с их круглыми телами и тонкими ногами отличаются изумительной силой сообщенного им движения, когда они везут что-либо, идут шагом, бегут рысью или скачут галопом.
Рис. 587. Рельеф У-че-шана. По Палеологу
Сорок шесть досок с рельефами в "музее" у подножия горы У-че-шан принадлежат различным гробницам фамилии У. Существовавшее мнение, что между ними находятся рельефы надгробия некоего У-леанга, по имени которого названа вся эта группа, в последнее время опровергнуто. Содержание их взято из китайской истории и легенд, отчасти из таких редких легенд, в которых являются морские животные и морские демоны, а лошади, всадники и колесницы всегда играют главную роль (рис. 587). Кое-где встречаются на переднем плане крупнолистные деревья; нередко видны попытки передавать движения с большей свободой и жизненностью, даже попытки изображать лошадь спереди, а человека полупрофильно. Палеолог прав, находя, что все эти доски, принадлежащие, несомненно, II веку н. э., не столь древни, как доски Гиао-т’анг-шана. Шаванн, полагая, что позднейшие из этих досок по времени происхождения очень близки к древнейшим, по-видимому, не принял достаточно в соображение различия стиля изображений на тех и других.
Такой же характер, как надгробные доски фамилии У, имеет доска, найденная вместе с ними, но впоследствии перенесенная в зал студий в Тси-нинг-чоу, изображающая поездку Конфуция к Лао-Цзы. Вся эта скульптура представляется нам достаточно ясно добуддийской. Шаванн вообще настойчиво отрицал, чтобы в ней было заметно отражение чужеземных влияний; действительно, несмотря на то что она имеет общие черты со всем "архаическим" искусством, она во всех отношениях, не только по изображаемым сюжетам и костюмам, но и по формам и мотивам движения, видимо, развилась на национальной почве.
3. Китайское искусство от конца династий Хань до конца династии Юань (221-1368 гг. н. э.)
Длинный период истории китайской культуры и искусства, следующий за только что рассмотренным, носит на себе печать буддизма. Еще в I в. "учение о самоискуплении" было занесено в Китай с берегов Ганга, но только после того, как угасла вторая династия Хань, это учение распространилось в "Срединной империи" до такой степени, что овладело духовной жизнью образованных классов. Ви Ги, первый из китайских художников, писавших образы Будды, работал около 300 г. н. э. Когда же император Гиао-у-ти в 381 г., соорудил в Нанкине храм в честь Фо, как назвали Будду в Китае, уже вся страна поклонялась этому святому. В VI-VIII в. фоизм оставался в Китае господствующим учением, но в царствование династии Тан, около середины IX столетия, приверженцы древних китайских религий воздвигли гонение на это учение. Было разрушено до 45 000 буддийских храмов и монастырей, и только спустя 400 лет индийское учение, которое никогда не было вполне искоренено в Китае, снова победоносно подняло в нем свою голову.
Быть может, никогда ни одно новое учение не отражалось в искусстве какой-либо страны так плодотворно, как буддизм в китайском искусстве. Большинство многочисленных индийских оригинальных произведений – статуй Будды всевозможной величины, буддийских картин и утвари, ввозившихся в Китай в первые века н. э., – погибло в бурную пору IX в., но они служили образцами для буддийско-китайских произведений и совершенно преобразовали все китайское искусство. Под руководством своих индийских учителей китайцы стали присматриваться к природе все более и более внимательно, с большей вдумчивостью; прежние эллинистические влияния, соединяясь теперь с индийскими, представляли китайцам как людей и животных, так и растительный мир в более художественных образах. Но теперь китайские художники уже умели подчинять все чужестранные элементы своему врожденному вкусу и придавать своей утвари и глиняным, нефритовым и бронзовым сосудам особый китайский отпечаток, сообщая им вместе с тем более гармоничные пропорции и более роскошные формы.
Архитектура, не утратив своего китайского характера, обогатилась башнями-пагодами с 9-13 ярусами, имеющими во всем Китае буддийское происхождение. Они ведут свое начало от верхних частей индийских ступ, что особенно ясно доказывают переходные формы в Непале. Нанкинская башня, известная впоследствии под названием фарфоровой, такая же, какие строились в Китае тысячами, в своем первоначальном виде (рис. 588) принадлежала уже IV в. н. э.
Китайская крупная скульптура развилась до вполне круглых, хотя и рассчитанных только на то, чтобы смотреть на них спереди, фигур богов и святых, исполненных из камня или из золоченой бронзы. Китайские статуи, принадлежащие VIII в., исполинские фигуры, иссеченные из естественных скал в Ганг-чоу и Син-чанге (в провинции Че-кианг), из которых одна высотой 12 метров, а другие выше 20 метров, изображают буддийских святых. Для понимания положения, какое занимают в истории развития искусства всего человечества многочисленные бронзовые китайские статуи Будды, имеет важное значение установленная Грюнведелем связь между формами и типами буддийско-китайского искусства и искусства гандхарской школы на северо-западной границе Индии.
Рис. 588. Фарфоровая башня в Нанкине (теперь разрушена). По Фергюссону
Так как вообще в религиозном отношении Китай усвоил себе северное буддийское учение Индии, отчасти с примесью брахманских элементов, то легко объяснить себе то обстоятельство, что и в художественном отношении Китай заимствовал язык форм от гандхарской школы, выработавшей его под влиянием мира Греции или даже Рима. Как не подлежит сомнению, что основной тип изображений Будды в гандхарской школе надо признавать индийским, а не греко-римским по происхождению, так несомненно и то, что все бес численные китайские фигуры Будды, представленного сидящим с поджатыми под себя ногами на чаше лотоса в строго фронтальном положении, – индийского, а не греческого происхождения; но все, что в гандхарской школе можно считать отголоском греко-римского искусства, – более свободное расположение складок одежды, иногда способ обработки волос, большая определенность передачи форм человеческого тела, движений, – все это повторяется в китайских скульптурах и еще больше в живописных изображениях, так что, несмотря на все китайские переделки и добавки, они содержат в себе немало ясных указаний на свое греко-римское происхождение. Будда, представленный иногда и в стоячем положении, – настоящий идеальный тип китайского искусства. Главный женский идеальный тип этого искусства, Гуаньинь, богиня милосердия, изображаемая с младенцем на руках или на лоне, напоминает иногда христианскую Мадонну, за которую ее и принимали. Благодаря почти арийским формам этих фигур и выражению душевного спокойствия на их лицах они занимают в китайском искусстве особенное положение. Бронзовое китайское изваяние Будды (рис. 589) находится в музее Чернуски в Париже; фарфоровая статуэтка Гуаньинь (см. рис. 599), принадлежащая более позднему времени, хранится в Дрезденской коллекции фарфоровых изделий.
Буддийской живописью в рассматриваемую нами пору занимались преимущественно бонзы в своих монастырях. Они изображали легенды о Будде, опрятно и прочувствованно, на длинных свитках шелковой материи. Наряду с ними светские чиновники начиная с VII в. пробовали свои силы в портретной живописи, в изображении зверей и в пейзаже. Знаменитейшие из китайских живописцев последующего времени были по большей части также чиновники, писатели или музыканты.
Рис. 589. Будда. Бронзовая статуя. По Палеологу
Таким образом, под влиянием буддизма китайская цивилизация в первые века династии Тан (618-907 гг.) достигла своеобразного расцвета. В общественной жизни Китая господствовало стремление к духовно-прекрасному. В малом искусстве по-прежнему преобладали еще изделия из бронзы и нефрита. Нефритовые чашки, ящички, трубки, ручки для кистей и цветочных букетов получали чрезвычайно мягкие и изящные формы. На твердом камне, равно как и на бронзе, изображались в виде орнаментов нежно и натурально цветы лотоса, листья смоковницы, пары рыб, одностворчатые раковины и всякие другие священные символы буддизма. К древнекитайским фантастическим животным прибавились священные животные буддизма, особенно слоны и львы. Лев Фо, в своем разукрашенном виде похожий иногда больше на собаку, нежели на льва, играет с этого времени главную роль в китайских изделиях из бронзы, камня, а вскоре и фаянса, являясь в качестве то храмового стража, то охранителя алтаря, то фигуры, украшающей домашнюю утварь. Первоначальный индийский священный крючковатый крест, свастика, по-китайски уан (ван), проникает в китайское искусство вместе с буддийскими цветочными звездами и нередко служит основным элементом крайне запутанных крючковатых узоров.
Рис. 590. Лао-Цзы. Бронзовая группа. По Палеологу
Вообще буддийское искусство было в Китае представителем идеализма и вместе с тем иностранного классицизма. Поэтому естественно, что даосистская реакция, обнаружившаяся во всей духовной жизни Китая с середины IX столетия, произвела в китайском искусстве возврат к формам более национальным и реалистичным. Главным даосистским святым остался Лао-Цзы, которого, в полнейшую противоположность Будде, изображали в виде бородатого, плешивого человека с сильно развитым черепом, едущего верхом на быке или олене. Рис. 590 представляет одну из фигур этого святого в бронзовой группе музея Чернуски в Париже. Эту фигуру нередко принимали за изображение бога долголетия, каким ее и можно признать на самом деле ввиду того, что при неимении настоящей мифологии, которая возникла бы из народных верований, в Китае существовала вообще потребность обоготворять и олицетворять отвлеченные понятия. Выдающиеся люди, спустя века после их смерти, также были причисляемы к лику богов; Куан-ти, великий полководец из династии Хань, превратился в бога войны; часто упоминаемые восемь китайских мудрецов Па-сиен сделались главными персонажами китайского Олимпа, которых, однако, стали изображать лишь в последующее время, отличая каждого особыми атрибутами. Затем к числу даосистских символов, вошедших в употребление в китайском художественном языке, принадлежат: персиковое дерево, плоды, цветы или ветви которого постоянно встречаются в орнаментике, знаменуя собой продолжительность земной жизни, круг, разделенный на темную и светлую части кривой линией в виде буквы S, означающий различие полов, и, по мнению некоторых, также летучая мышь, на которую другие смотрят как на буддийский символ, так как ее название напоминает имя Фо. Словом, когда к концу династии Тан, около середины IX в., буддизм временно перестал господствовать и в духовной жизни, и в искусстве Китая, в этой стране уже давно не было недостатка в национальных образах, символах и орнаментах, ожидавших только применения в искусстве.
Живопись времен династии Тан (681-907) известна нам почти исключительно из китайских литературных источников и по сопровождающим их рисункам. Известный буддийский живописец в эту эпоху И-сёнг, родом из пограничной с Индией местности, пользовался особым, чуждым Китаю способом письма, имеющим в истории искусства немаловажное значение потому, что от И-сёнга произошла корейская живопись, а к этой последней примыкает живопись древнеяпонская.
Национальная китайская живопись еще в VII и VIII вв. разделялась на северную и южную школы. В обеих школах культивировался пейзаж, и в них впервые за все время существования мира пейзажная живопись стала ясно отражать в себе человеческие настроения. Пейзажист северной школы Ли Сы-сюнь, живший в 651-716 гг., был представителем колоритности, а именно золотисто-зеленого тона. Пейзажист южной школы, живший полустолетием позже, знаменитый Ван Вэй (по-японски О-и), изобрел двутональную живопись, работал черной тушью по белому фону. Все знаменитые позднейшие художники, трудившиеся в таком же роде, признавали себя последователями Ван Вэя. В мюнхенской коллекции Фр. Гирта находится изображение банана в снегу, считающееся несомненной копией с оригинала Ван Вэя. Настроение, производимое этим пейзажем, достигается сопоставлением противоположностей, как в известном стихотворении Гейне о сосне и пальме ("На севере диком…" и пр.). Один из первых последователей Ван Вэя, У-тао-цзы, по-японски Годоши (около 720 г.), упоминается едва ли не чаще, чем он. У-тао-цзы прославился своими горными пейзажами (рис. 591, а) с изображениями буддийских легенд и сцен, происходящих в храмах. Его картина "Нирвана Будды", сохранившаяся в храме в Киото в Японии, напоминает гандхарские рельефы, стиль которых продолжал отражаться в композициях этой школы. Усовершенствователем китайской живописи животных считается Ган Кан (около 750 г.), которому принадлежит рисунок двух лошадей (б).
Рис. 591. Китайская живопись: а – У-тао-цзы. Пейзаж с водопадом; б – Ган Кан. Этюд с лошадьми; в – Йю-к’иен-Тсиен-тун Ворона; г – Му Ки. Бамбук. По Андерсону
Периодом полного расцвета национальной китайской живописи – надо признать эпоху великой династии Сун (960-1278 гг.). Чем ниже падала буддийская живопись в эту эпоху, тем пышнее расцветали пейзаж и живопись цветов и животных. Краскам в это время придается уже меньше значения, чем рисунку. Гордость художников династии Сун – широкий прием рисования тушью по белому фону, в своем роде довольно живописный. Контуры в нем нередко совсем скрадываются. При столь простой технике картины природы воспроизводятся с поразительным величием и правдой. Ли Чэн, глава северной школы (около 1000 г.), ценился как пейзажист, наделенный столь тонкой наблюдательностью, что его задние планы уходили "на семь миль" вдаль. О Куо Ги (по-японски Кивакки) говорится как о мастере изображать меланхолические зимние виды. Тун Юаню (около 1000 г. н. э.) приписывается один пейзаж в коллекции Гирта, на котором изображены белый туман, клубящийся у подошвы исполинских гор, и на переднем плане – долина с рекой, густо поросшая деревьями. "Белый сокол", в той же коллекции, считается копией с картины самого императора Гуи-тсунга, царствование которого (1101-1126 гг.) Фр. Гирт называл "медицейской (врачующей) эпохой живописи и периодом расцвета музеологии" в Китае. Картина эта, исполненная сильно и просто в колоритном отношении, проникнута внешним спокойствием и внутренней жизнью.
В конце династии Сун началось преобладание чисто китайских художественных приемов, и живописцы стали брать из натуры доступные ближайшему наблюдению отдельные предметы и превращать "этюды переднего плана" в самостоятельные художественные произведения. По-видимому, в Китае, вместе с прекращением путешествий в горы, сделавшихся в это время более затруднительными, но все еще продолжавшихся с целью паломничества в уединенные буддийские монастыри, у художников пропала охота изображать большие, сложные пейзажи. Образованный китаец стал видеть природу почти только в своем саду. Таким образом появилось тонкое наблюдение и тонкая передача отдельных деревьев, ветвей, цветущих кустов пионов, гвоздик и хризантем, птиц и бабочек – того, что было можно видеть, не выходя из сада. Если мы назовем братьев Ма Юаня и Ма У, писавших в 1180 г. ели, кипарисы, кедры и скалы, Су Ше, Уен-т’онга и Йю-к’иен-Тсиен-туна (в), специальностью которых было изображение бамбука как художественного произведения, Гоеи-тсонга, живописца диких гусей, Мао И (около 1170 г.), живописца домашних уток и голубей, и Му Ки, весьма многостороннего живописца животных (г), то укажем только на нескольких выдающихся художников из числа более чем восьмисот, имена которых встречаются в ежегодниках династии Сун. Из их работ, как писал Гирт, сохранилось очень немногое; но все знатоки признают, что при этой династии китайцы превосходили все народы Европы, по крайней мере, в живописи.
Рис. 592. Фарфоровая ваза династии Сун или Юань. По Дю-Сартелю
Гипписли и Гирт согласны с Градидье и Бушелем, знатоками и писателями по части китайского фарфора, в том, что династии Сун принадлежат и древнейшие из дошедших до нас фарфоровых изделий Китая. О старинных фарфоровых изделиях китайские писатели рассказывают, конечно, сказки, но с точностью нельзя определить, насколько в них идет речь о настоящем фарфоре, материале твердом, звучном и прозрачном. Фарфор династии Сун – глазурованный почти исключительно одноцветно и рас писанный лишь немногими огнеупорными красками. Орнаменты на нем, иногда просто углубленные в виде желобков, иногда состоящие из лиственных мотивов или из символических изображений животных, слегка выпукло выступают под глазурью или же вытиснуты при помощи шаблонов. Главные формы этих украшений заимствованы из пластики на более древних бронзовых сосудах; но иногда они взяты уже из природы, скопированы с какого-нибудь животного, цветка, плода, старинной чаши, сделанной из человеческого черепа. На рис. 592 – фарфоровая ваза с подобного рода орнаментом, принадлежащая династии Сун или (что вероятнее) Юань и находящаяся в коллекции Л. Фульда в Париже. Уже в это время играл немаловажную роль также фарфор, покрытый тонки ми, как волос, трещинами (кракелированный). Неправильный сетчатый узор, образующийся случайно при растрескивании глазури, стали считать своего рода прелестью, возвели его на ступень художественного мотива и начали умышленно добиваться получения сети этих крошечных трещин. Пользовался известностью также фар фор Тин Яо, обычно белый, но иногда также пурпурно-красный или черный. Но лучше всего сохранился серовато-, голубовато- или оливково-зеленый твердый фарфор (Яо) из Лунц Юаня, известный под названием "селадон". По своим формам и цвету он является подражанием находившемуся в большем почете нефриту, который и пытается заменить, – интересный пример того, как художественные особенности благодаря традиции получают дальнейшее развитие. Своей твердости этот фарфор обязан тем, что сохранился как в Китае, так и в Японии, как на восточно-индийском архипелаге, так и на берегах Красного моря и Персидского залива; места его нахождения, как доказано Гиртом и А. Б. Мейером, отмечают те пути, которыми шла китайская торговля той эпохи.
Рис. 593. Ворота со сводом в Нанкауском проходе. По Фергюссону
Хубилай-каан, внук Чингисхана, монголо-татарского завоевателя, в 1260 г. насильственным образом положил конец династии Сун; насильствен был также переворот во всей духовной жизни Китая, сопряженный с переменой царствовавшей в нем династии. Хубилай был государь дальновидный. При его дворе в Пекине собирались послы, ученые и художники со всего света. Религиозная замкнутость сменилась широкой веротерпимостью. В Китае стал распространяться ислам, но сами завоеватели исповедовали зародившуюся в Тибете ветвь буддизма, которая, под именем ламаизма, заняла место рядом с фоизмом. Духовный глава этой секты, далай-лама, имел в то время, как и теперь, свою резиденцию в Лассе, главном городе Тибета; но пекинский великий лама вскоре приобрел в Китае господствующее влияние. Ламаизм внес с собой целые полчища полубогов и святых, как свидетельствуют о том изображения самых важных и популярных из их числа, изданные в количестве трехсот Пандером под заглавием "Пантеон Чангча-Гутукту". Со своей стороны, фоизм и даосизм начали теперь, из-за соревнования с ламаизмом, увеличивать сонмы своих святых. Вследствие всех этих взаимодействий образовалась богатая китайская иконография, исследованием которой наука только еще начинает заниматься.
От времен династии Юань – так называется эта династия монгольских завоевателей, царствовавшая в Китае с 1260 по 1368 г., – сохранились некоторые сооружения, а именно городские стены и ворота; из них особенно замечательны по своим сводам пекинские ворота, построенные в 1274 г. и переделанные в 1409 г. Любопытны также ворота с аркой в Нанкауском проходе за Великой стеной (рис. 593). С одной стороны, истинный свод этих ворот представляет угловатый разрез совершенно в китайском вкусе, с другой – их рельефные украшения имеют чисто индийский характер: завитки растительного орнамента переходят справа и слева в фигуру змееобразного человека (Нага), а на замковом камне между этими фигурами изображена Гаруда с распростертыми крыльями.
Индийское и персидское влияние отражается также в стройных, длинношеих формах, а иногда и в орнаментации бронзовых и фарфоровых сосудов рассматриваемой эпохи. С запада проникла сюда техника ячеистой эмали, в которой отдельные пространства, заполненные цветным сплавом, отделяются друг от друга металлической проволокой. Эта техника нашла применение прежде всего в орнаментировании бронзовых изделий, и можно сказать, что потом ни один народ в мире не мог сравняться с китайцами в искусстве ее производства. Кобальтовая голубая краска, занесенная арабами в Китай еще в X в., вошла в эту пору в употребление при одноцветном глазуровании фарфоровых сосудов. На первый план выдвинулся теперь императорский фарфоровый завод в Кинг-те-чине, основанный еще в 1005 г. Но Грандидье и Бушель вообще относили фарфор этого периода к эпохе, предшествовавшей полному расцвету китайского искусства.
Что касается китайской живописи, то находят, что в ней при династии Юань иноземное влияние было едва заметно. Но в живописи с натуры, как в небольшом, так и в крупном размере, место смелого, широкого приема исполнения и простых красок классической школы династии Сун заняли кружевная работа и пестрота колорита. Результатом возрождения буддизма в Китае, разумеется, было оживление религиозной живописи, развитию которой одинаково способствовали фоизм и ламаизм, вследствие чего для нее открылось более широкое поприще. Главным представителем ее в это время считается Йен Го, цветущей порой деятельности которого были последние десятилетия XIII в.
К знаменитейшим живописцам национального направления, пережившим смену династии Сун династией Юань, Гирт причислял Чау Мёнг-фу, придворного мастера, умершего в 1322 г. Существует множество копий и подражаний его полным жизни изображениям лошадей. Гирт владел подлинной картиной "Петух, саранча и цветы" работы Чиен Шун-чю (1264 г.), современника Чау Мёнг-фу, работавшего немного позже него. В Британском музее есть картина другого талантливого мастера, живописца животных, работавшего во время династии Юань, Чау Тау-лина, – "Тигрица с ее детенышами". Из пейзажистов той эпохи известны четыре мастера, примыкавшие к направлению Ван Вея. Одному из них, Ли Чуану, принадлежит картина "Погибшие деревья", находившаяся в коллекции Гирта. Любовь к таким "грустным" сюжетам развивалась вместе со вкусом к простейшему их воспроизведению. Можно удивляться тому, какими простыми средствами китайские художники изображали природу на плоскости, не боясь упрека в том, что незаконченное выдается ими за законченное.
4. Китайское искусство по воцарении династии Мин (с 1368 г. до XIX столетия н. э.)
Господство монголо-татарской династии Юань продолжалось в Небесной империи немногим больше, чем одно столетие. Китай сохранил в себе достаточно жизненной силы для того, чтобы вполне возвратиться к своим национальным традициям. Они воплотились в Гун Ву, сыне простого рабочего, сделавшегося основателем могущественной и знаменитой династии Мин (1368-1644 гг.). Первая половина эпохи этой династии была в особенности цветущей порой искусств и наук. XV столетие в Китае, так же как и в Европе, период их возрождения и дальнейшего развития. Правда, китайская архитектура с этой поры, по-видимому, уже не сделала значительных успехов. Но именно от нее сохранилось в Китае особенно много построек, и именно в них мы находим наиболее характерные черты китайского зодчества. К 1421 г. относится храм Неба, состоящий главным образом из открытых террас, к 1425 г. – храм, посвященный памяти императора Юань Ло в Пекине, с двумя крышами, помещенными одна над другой; к 1428-1478 гг. – перестройка обширного императорского храма Та-хюег-си, близ Пекина. Этот храм благодаря снимку и описанию Генриха Гильдебранда известен в строительном отношении лучше всех китайских архитектурных памятников. Отдельные части этого сооружения расположены симметрично на четырехугольном пространстве, в тенистом парке на склоне горы, рядом друг с другом. Четыре храма находятся один позади другого на средней оси этого пространства, тянущегося с запада на восток. И здесь во всех отдельных постройках господствует вышеупомянутый "мотив открытой деревянной колоннады, пролеты которой закрыты – хотя лишь впоследствии – каменной кладкой между отдельными столбами". Эти столбы, на которых базы и капители только обозначены красками, состоят из цельных древесных стволов. На мраморных балюстрадах храмовых террас, рядом с индийскими хвостатыми украшениями, выделены настоящие и искаженные меандры углубленной работы.
В XV столетии сооружены также каменные ворота, ведущие к могилам династии Мин и имеющие пять пролетов и пять крыш (см. рис. 580); в тот же промежуток времени были построены массивные башня с колокольчиками в Пекине и знаменитая нанкинская Фарфоровая башня (см. рис. 588), из развалин которой добыт хорошо глазурованный фарфоровый кафель с желтыми лиственными орнаментами, находящийся в Дрезденской коллекции фарфора.
Скульптура при династии Мин получила также новый толчок вперед. В фигурах людей и животных величиной больше натуры, расставленных по дороге к гробницам Минов, видно некоторое стремление к благородству и торжественности; но рутинность и сухость их исполнения ясно свидетельствуют о том, что попытки в этом направлении были для китайцев напрасным трудом; все позднейшие статуи богов и рельефные изображения на арках ворот, на храмах и башнях подтверждают, что китайцам было чуждо понимание языка форм монументальной пластики.
Почти то же самое надо сказать и относительно живописи. Как ни обширны были иногда свитки с картинами знаменитых китайских живописцев, назначенные для вешания на стенах, как ни много ясности, изящества в пределах китайского стиля обнаруживают эти изображения, – стиль этот, которому иногда подражают у нас в плакатах и афишах, может быть назван скорее художественно-ремесленно-декоративным, чем строго живописным. Китайская живопись и китайская художественная промышленность, в которых главным образом выразилось дальнейшее развитие китайского искусства, всегда шли рука об руку.
Периодом многостороннего и пышного расцвета была для китайской живописи в особенности первая половина владычества династии Мин. Живописцы того времени отличались не столько оригинальностью, сколько полным обладанием техническими средствами и областью изображений, в которой им приходилось выказывать свое мастерство. Наибольшей индивидуальностью отличаются небольшие картины природы художников Чьен Чу (Чьен-че-тиена) и Пиен Вён-тсина (Пиен-кинг-чао). Наиболее многосторонние и выдающиеся мастера этой эпохи – Т’анг-Йин (Т’анг-Лиуйу), Чу Иинг (Ше-чоу), Тай-Тсин, Сиоу Вён, Лин Леанг и У Веи. Самым знаменитым из них Фр. Гирт называл Т’анг-Йина, умершего в 1523 г., современника Рафаэля Урбинского. Его кисти принадлежит находящаяся в музее Грасси в Лейпциге картина, на которой опрятно написана в светлых, ясных тонах богиня неба с девочкой позади нее, парящая на драконе (рис. 594). В коллекции Гирта в Мюнхене находится копия картины того же художника, изображающей амазонку Му Лан, облекшуюся в доспехи своего заболевшего отца и вступающую вместо него в военную службу.
Во второй половине владычества династии Мин живопись постепенно утратила свою прежнюю свежесть, натуральность и непосредственность. В это время рисунок делается более вымышленным, более бездушным, более манерным; прием письма становится более робким, "прилизанным" и рутинным. Художники специализируются все больше и больше. Господствует живопись неодушевленной природы, изображающая ветки цветущих растений, цветы, птиц и бабочек. Лучшими мастерами по этой части считаются Лу Ки, Ванг-и-панг и Чоу-че-ван. Ян Ли Пену принадлежит картина "Птички и пион" (рис. 595), находящаяся в коллекции Британского музея.
Времена династии Мин были блестящей порой китайского фарфорового производства. При этой династии выделка фарфора стала настоящим национальным искусством китайцев, который несомненно, изобрели они и в котором, также несомненно, не превзошел их никакой другой народ. Изготовление пластических богов, людей и животных в малом масштабе постоянно совершенствовалось одновременно с улучшением производства сосудов. С точки зрения истории искусства особенно важны украшения фарфоровых ваз, иногда рельефные, но чаще писанные красками. Соответственно характеру тогдашней живописи и здесь орнаментация состоит преимущественно из цветов, птиц и бабочек. Главными ее элементами являются пионы, хризантемы, магнолии, цветы лотоса, листья и ветки цветущей мумы, ветви цветущих персикового и вишневого деревьев, но чаще всего любимый китайцами бамбук. Плоскостная стилизация исполнена мастерски, но без педантства. Из мира животных кроме птиц и насекомых особенно часто берутся рыбы, раки и мелкие амфибии, являющиеся вперемежку с растениями; встречаются также в украшениях на больших вазах небывалые символические животные, о которых мы говорили. Фигуры богов и людей, сцены из повседневной жизни, из легенд, новелл и произведений поэзии, равно как и изображения исторических событий и настоящие ландшафты, появляются лишь постепенно на вазах известного рода. Однажды достигнутое в этом отношении, насколько это допускали средства исполнения, уже не утрачивалось. Так как в последующее время производились подражания фарфоровым изделиям даже с императорскими марками (ниенгао), то нужно иметь очень привычный глаз для того, чтобы отличать настоящий старый фарфор от позднейших подделок.
Такие исследователи, как Дю-Сартель, Грандидье и Бушель, вместе с китайскими знатоками признают период с 1426 г. по 652 г. классической эпохой китайского фарфорового производства. Для первых лет этого периода характерны сосуды, на которых до поливы написаны синей краской по белому фону цветы, фигуры животных или символические изображения. Ваза этого периода (рис. 596) находится в коллекции Дю-Сартеля в Париже. Вскоре к синей краске присоединяется медно-красная. К лучшим произведениям этого периода принадлежат также вазы с рельефными фиолетовыми изображениями на фоне бирюзового цвета и белые вазы Тиен-пе.
Рис. 594. Т’анг-Йин. Богиня на драконе среди облаков. С оригинала
Рис. 595. Ян Ли Пен. Птички и пион. Живопись. По Андерсону
Рис. 596. Китайская ваза. Из собрания Дю-Сартеля. По Дю-Сартелю
Второй период фарфорового производства при династии Мин называется именем императора Чинг-гоа. Период этот длится с 1465 г. до 1522 г., а если соединить его с периодом Киа-тсинга, то и до 1579 г. Важным нововведением в этом периоде было употребление, наряду с раскрашиванием синим цветом по белому фону, "пяти" или, как говорят китайцы, "многих" красок, которые, по нанесении их на фарфор, подвергались легкому обжиганию. Грандидье полагал, что зачатки этого способа росписи фарфоровых изделий существовали еще при Сиу-ан-те и что он был усовершенствован при Чинг-гое. Благодаря этому нововведению для живописи на вазах открылся простор, и она стала изображать в большем размере и лучше как человеческие фигуры, так и ландшафты, стала передавать историю и соперничать с поэзией. Развитие форм шло в ней рука об руку с изобретением удобоприменимых красящих веществ. На рис. 597 ваза, находящаяся в коллекции Бертеле в Париже, принадлежит этому периоду.
Рис. 597. Китайская ваза. Из собрания Бертеле. По Дю-Сартелю
Рис. 598. Китайская ваза. Из собрания Борелли. По Дю-Сартелю
Последний период, с 1573 г. до конца династии Мин, подобно предыдущему, называется по имени первого царствовавшего в нем императора Ван Ли. Белые вазы с синей раскраской теперь уступают свое место пестрым. Зеленая краска до такой степени преобладает в многоцветной раскраске сосудов этого времени, что наиболее любимые из них получили название "зеленая семья". Фигурные изображения или пейзажи, которые изредка, как и в предыдущем периоде, помещались в виде обрамленных картинок среди цветочных орнаментов, стали теперь иногда заполнять, особенно в виде непрерывной полосы, все горлышко или поверхность вазы. Образцом такой орнаментации может служить ваза из коллекции Борелли в Париже (рис. 598).
В Европе китайские фарфоровые вазы эпохи династии Мин можно видеть главным образом в частных французских и английских собраниях. Замечательные образцы произведений этого рода имеются также в Британском и Соут-Кенсингтонском музеях в Лондоне, а также в Берлинском художественно-промышленном музее. В Америке более других достойна внимания коллекция таких ваз, принадлежавшая Вальтеру в Балтиморе и превосходно описанная Бушелем.
Династию Мин сменила в 1644 г. царствующая татарская династия Тсинг, или Манджу. При ней китайцы получили новый облик: их принудили брить по-татарски голову и носить косу. В духов ном же отношении они приближались к упадку, хотя татарские государи столь же быстро, как и их предшественники, усвоили себе китайскую культуру. С этого времени христианские мессионеры начали проповедовать в Китае религию любви. Европейское влияние, то вытесняемое, то допускаемое, но никогда не касавшееся самого сокровенного национального, стало отражаться во многих сторонах китайской духовной жизни и в искусстве. Однако это влияние отнюдь не выказывалось в тех художественных произведениях, которые китайцы исполняли по собственному почину и для себя, но проявлялось, с одной стороны, в никогда не удававшихся вполне попытках некоторых французских художников-иезуитов XVIII столетия приучить китайцев к европейской перспективе и светотени или насадить у них лиможскую эмальерную живопись, а с другой – в находчивости китайских производителей фарфора, которые, как раньше работали для персидского вкуса в персидском стиле, а для сиамского в сиамском, так теперь, работая для вывозной торговли, в достаточной степени приспосабливались к европейским требованиям.
Рис. 600. Китайская тарелка. Из собрания Дю-Сартеля. По Дю-Сартелю
Китайская живопись по шелку или бумаге постепенно приходила тоже в упадок. Бесчисленные руководства, содержащие в себе правила и наставления относительно всех подробностей рисования и живописи, избавляли китайских художников от труда изобретать и наблюдать самим. Одна лишь техника представляла еще некоторый интерес, и действительно, она до конца XVIII столетия стояла, можно сказать, на недосягаемой высоте. Уверенность и деликатность рисунка иногда заставляют забывать манерность и поверхностность способа изображения. С середины XVII в. до конца XVIII столетия в Китае было много художников, пользовавшихся громкой известностью; само собой разумеется, что их произведения сохранились в большом количестве и сделались доступны европейским коллекционерам. По ним-то именно нередко составляется в Европе очень ошибочное мнение о всей китайской живописи.
Рис. 599. Белая фарфоровая фигура богини Гуаньинь. С оригинала
Знаменитейшими живописцами религиозно-буддийских сюжетов были: Тонг-таи-чуан, живший во второй половине XVII столетия, Кинг-нонг и Лопинг – в XVIII столетии. В области пейзажной живописи во всем этом периоде следуют один за другим Меи-Вен-тинг, Ванг-му, Чанг-чао, Гианг-му-че и Чен-пу-шу. Искуснейшими мастерами изображать цветы и птиц были Йюн-шу-пинг, прозванный Ченг-сю (1633-1690), Ли-фанг-инг и Чен-шу-пиао. Гирт в Мюнхене владел замечательными этюдами цветов, принадлежавшими первому из этих мастеров и его приемной дочери, Июн-пинг.
Рис. 601. Лев Фо. Фиолетовая китайская фарфоровая фигура. С оригинала
Рис. 602. Китайская фарфоровая тарелка. Из собрания Мессаже. По Дю-Сартелю
Точно так же и во всех отраслях прикладного искусства китайцы достигли наибольшего успеха в течение последней трети XVII и всего XVIII столетия. По крайней мере, при императорах Канси (1662-1722), Юнг-чинге (1726-1736) и Цяньлуне (1736-1795) чисто китайское искусство отличалось, одновременно со стремлением угождать заграничным требованиям, не превзойденным ни одним другим народом мастерством в изготовлении бронзовых изделий, украшенных цветной ячеистой эмалью, в тонких работах и особенно в фарфоровом производстве. Самой блестящей порой прикладного искусства в Китае, особенно фарфоровых изделий, лучшие знатоки до последнего времени считали царствование Канси. Прежде всего возродилось производство тонкого белого фарфора, из которого стали изготовляться не только предметы утвари и сосуды, но и статуэтки Будды, богини Гуаньинь (рис. 599) и святых, вроде тех, которыми богата дрезденская коллекция. Затем достигли высокого совершенства вазы так называемого "зеленого семейства". На вазах этой категории, украшенных цветами, птицами, бабочками, размещенными с большим вкусом, кроме преобладающего зеленого колера встречаются яр кий ржавчинно-красный и несколько синих, желтых и фиолетовых тонов. Как на образец подобных изделий можно указать на тарелку из коллекции Дю-Сартеля в Париже (рис. 600). Особенной лю бовью пользовались зеленые вазы с большими изображениями на историческую или религиозную тему, пока в 1677 г. не были запрещены императорским указом. К этому же времени относится на чало производства ваз "красного семейства". Наряду с ними стали изготовляться снова сосуды с синими рисунками по белому фону и фарфоровые предметы, сплошь покрытые самыми роскошными красками: селадоновые, огненно-оранжевые, бирюзовые с примесью фиолетовых тонов, – произведения, отличающиеся своеобразной красотой. В таком роде изготовлялись преимущественно фи гуры львов (рис. 601) или собак Фо. Великолепнейшие образцы подобного рода произведений можно видеть в дрезденской коллекции, большинство предметов которой вообще относится к эпохе Канси. В царствование Цяньлуна выступает на первый план "красное семейство" фарфоровых ваз и тарелок и рядом с ним тонкий, изящный, состоящий почти из одной глазури "яично-скорлупный фарфор". На рис. 602 – тарелка "красного семейства", находящаяся в собрании Мессаже в Париже. Только что упомянутые два сорта фарфоровых изделий изготовлялись с давних пор, но только теперь они достигли совершенства. Однако чрезмерное обилие их орнаментации возвещает наступление упадка, который и продолжался в течение XIX столетия.
5. Искусство Тибета и Кореи
Как ни велика, на европейский взгляд, слабость китайского искусства, оно благодаря своей определенности и постоянству, равно как и мировому значению Небесной империи сумело предписать свои законы художествам соседних стран. При распространении своем на юг оно наткнулось на более монументальное и более сильное духом индийское искусство. Как уже было замечено выше, в Непале оно проникло, по крайней мере, в архитектуру при устройстве оград, а в Анаме и Тонкине одержало победу над индийским искусством даже по всей линии. Мы не можем входить здесь в подробное рассмотрение культурного обмена между Китаем и этими странами, но считаем необходимым указать на отношение китайского искусства, с одной стороны, к искусству Тибета, а с другой – к искусству Кореи, имеющее важное значение для истории восточноазиатского искусства.
С Тибетом, самой высокой, горной страной в Старом Свете, Китай во все продолжение средних веков вел кровопролитную борьбу, окончившуюся признанием китайского господства со стороны далай-ламы, по учению о переселении душ бессмертного бога и повелителя тибетцев. В духовном отношении Тибет, изменивший около 1000 г. свой древний буддизм в буддизм реформированный, или в ламаизм, влиял на Китай, очевидно, в большей степени, чем Китай на него. И в тибетском искусстве можно указать больше таких элементов, которые перешли из него в китайское, чем таких, которые заимствованы им из Китая. Впрочем, о древнейшем искусстве Тибета мы знаем еще очень мало. Тибетскую архитектуру не решился охарактеризовать даже сам Фергюссон. Во всяком случае, судя по описаниям путешественников, в многоэтажных, массивных, увенчанных куполами зданиях тибетских монастырей нет почти ничего китайского, а религиозные картины и изваяния, привозимые из Тибета в Европу, если и имеют что-либо общее с китайскими, то единственно происхождение из одного и того же индийского источника. Исследованиями в этой области искусства мы обязаны опять-таки Грюнведелю, но и он дал скорее материалы, чем разъяснения. В тибетских картинах, добытых Грюнведелем, так сказать, почти дословно повторяются буддийские рельефы гандхарской школы. С другой стороны, этот ученый указал на то, что тогда как Китай держался в изображениях Будды их гандхарского типа, Тибет, равно как и Непал, сохранил для них ортодоксальный древнеиндийский тип. Настоящей жизни, по Грюнведелю, нет ни в одном из образов огромного буддийского Пантеона всех этих северных школ. Но весьма замечательно, что в противоположность Китаю в Тибете развилось наряду со схематическим изображением богов портретное искусство. "Портрет великого ламы Тибета, – говорил Грюнведель, – представляет собой в высшей степени интересную реакцию против схематизма в области изображений богов. В некоторых случаях божественное облекается в земную оболочку самым роскошным образом; фигура остается схематичной и не выходит из рамок канона (портретов Будды), но головы этих иерархов в бронзах и миниатюрах религиозного искусства по большей части исполнены на самом деле художественно". Примером может служить находящийся в Берлинском музее бронзовый портрет одного великого ламы, умершего в 1779 г. (рис. 603).
Рис. 603. Великий лама. Бронзовая портретная статуэтка. По Грюнведелю
В Корее, на северо-востоке от Китая, мы видим совсем не то, что на юго-западе. Обитатели полуострова Корея, подобно китайцам и японцам, занимая между ними середину, составляют ветвь великой монгольской расы. Подпадая под политическую зависимость то от Японии, то от Китая, они в духовном отношении издавна представляли собой лишь колонию китайской культуры. Эрнст Циммерманн, основываясь на коллекции Эдуарда Мейера в Гамбурге, составил краткий обзор корейского искусства. Признано несомненным, что это искусство благодаря своему сильному чувству природы обогатило китайскую орнаментальную живопись некоторыми добавлениями и передало ее в таком обогащенном виде японцам, которые, со своей стороны, сообщили ей новые, оригинальные черты. Сама японская литература упоминает о знаменитых корейских художниках, бывших высоко чтимыми учителями японцев почти во всех отраслях искусства. Но нисколько не выяснено, каким образом совершилась эта передача. Фр. Гирт высказал предположение, которое, однако, остается до сей поры не более как предположением, что верхнеазиатский буддийский живописец И-сёнг, которого корейцы называют своим учителем, еще в 632 г. занес в Корею через Китай особое, отличное от китайского, на правление живописи, перешедшее отсюда в Японию. Циммерманн приходит к заключению, что "при рассмотрении всех этих вопросов вращаешься в области гипотез, как это столь часто бывает на нетвердой почве восточноазиатского искусства".
Прежде всего было бы желательно с точностью распознавать уклонения корейского искусства от его родоначальника, китайского искусства. Но уже и в этой задаче мы встречаемся с трудностями. Нельзя утверждать, что корейская архитектура отличалась чем-либо существенным от китайской. В области скульптуры также не может быть речи об особенной самостоятельности корейцев. Громадные, в 20 метров высотой, круглые фигуры, вырубленные из естественных скал, встречающиеся в Корее, считаются буддийскими и, следовательно, не относятся к национальным корейским произведениям. Относительно корейской живописи нам известно только то, что картины, находящиеся в корейских храмах, исполнены в Японии. Корейское искусство знакомо нам преимущественно по мелким его продуктам. Так, о корейской живописи малых форм можно получить понятие по ее образцам, попавшим в европейские коллекции. Специфически корейским надо признать в ней стремление к непосредственному подражанию природе. Уже в живописи на веерах коллекции Мейера, охватывающей собой всю область сюжетов китайского малого искусства, "обнаруживается, – говорил Циммерманн, – исконный характер корейского художественного чутья, отрадность наивных изображений природы, проистекающая от отрадности возбуждаемых ею впечатлений". Украшение в месте прикрепления к вееру ручки, состоящее из сплетения веток и птиц, признается национальным корейским.
Абсолютно корейскими считаются, например, небольшие железные, выложенные серебром ящички, прямоугольные поверхности которых то украшены в середине обрамленным линиями корейским гербом, двумя рыбами, заключенными в круге, то ничем не ограниченными изображениями животных и цветов в самом причудливом соединении. Корейским является также серпентин, который, подобно нефриту в Китае, служит для изделий разного рода; наконец, национальным характером отмечены в особенности некоторые из произведений корейской керамики. Так как фарфоровое производство в самой Корее было почти совсем уничтожено японским завоевателем Гидейоши (1582 г. до н. э.), перевезшим в Японию корейских гончаров и корейские товары, то в Корее встречаются только древнейшие фарфоровые изделия. Старые сосуды со светло-зеленой глазурью напоминают китайские селадоны. Те из них, которые, судя по коричневому цвету их излома, сделаны не из настоящего фарфора, украшены инкрустированными под поливой черными на белом фоне хризантемами и иными цветами, цаплями, плакучими ивами и другими небольшими, взятыми из природы изображениями, чуждыми китайцам и по технике, и по натуральности форм. Драгоценные корейские сосуды цвета сливок, украшенные под поливой нежным впалым рельефом, изображающим широколистные цветы, считаются прототипами японского сацумского фаянса. Настоящий корейский фарфор с голубой по белому живописью сверх или под поливой отличается некоторыми особенностями, как, например, употреблением прямолинейных плоскостей или сквозного рельефа. Из некоторых своеобразных форм сосудов особенно замечательны чаши, компонованные целиком как пластические ландшафты: в середине – коричневое болото с черепахами и крабами, а кругом него, по краям, – круто поднимающиеся вершины гор синего цвета. Прямо к Японии приводит нас так называемая чайная посуда ракайяки, знаменитая своей способностью сохранять чай теплым. Такая посуда уже давно выделывалась в Японии и, по-видимому, вообще сохранилась только в этой стране.
III. Искусство Японии
1. Введение. Главные черты японского искусства
Япония – вытянутый в длину архипелаг вулканических островов, отделяющий на северо-востоке Азии Японское и Китайское моря от Тихого океана, по своему географическому положению, климату и почве принадлежит к числу благодатнейших из стран, как бы предопределенных судьбой для пышного расцвета человеческой культуры. Остров Ниппон – "Страна восходящего солнца", которую сама природа отметила огромной снежной пирамидой горы Фудзи (Фудзияма), высотой почти 4000 метров, омываемая темно-синим океаном, глубоко врезающимся в ее берега своими бухтами, сплошь одета роскошной растительностью, в каждое время года являющейся в новом своеобразном блеске, и изобилует вообще красотами природы, действующими на восприимчивого человека, возвышающими его дух и вызывающими в нем творческое настроение. И действительно, японцы, племя монгольского происхождения, покорившее в доисторические времена первобытное население главных из этих благословенных островов, айнов, и оттеснившее их к северу, сумели выказать в необычайном сочетании свое чувство природы и художественное чутье.
Европа узнала о японском искусстве в 30-х гг. XIX в., и его быстрое распространение в ней было настоящим триумфом. Во всех частях Европы оно не только нашло себе страстных поклонников и щедрых на похвалы почитателей, но и оказало свое влияние на ход европейского искусства и особенно на художественную промышленность. При этом наши знатоки, художники и коллекционеры в такой же мере унижали китайское искусство, в какой превозносили японское; но это происходило в большинстве случаев от неверных предположений и прежде всего оттого, что японское искусство сделалось известно Европе гораздо лучше, чем древнекитайское. В Японии древнейшие произведения искусства по большей части не делались, как в Китае, жертвой духа разрушения, сопровождавшего перемены династий. Японцы не старались, подобно китайцам, сколь возможно скрывать от глаз европейцев художественные сокровища, хранившиеся в их храмах, дворцах и публичных коллекциях, но охотно открывали к ним доступ, по крайней мере со времени государственного переворота 1868 г. Мало того, в первые десятилетия, следовавшие за этим переворотом, японцы одно время до такой степени пренебрегали древними произведениями своего национального художественного творчества, что щедрой рукой раздали их европейским собирателям. Благодаря этому в американские и европейские коллекции попали тысячи мелких изделий японской пластики, свитков, картин, альбомов с рисунками, хромоксилографий. В Европе уже в 1830 г. Лейден владел собранием из более 800 японских свитков рисунков. В Британском музее в Лондоне с 1882 г. образовалась коллекция в 2 тыс. японских и китайских картин и цветных гравюр. С того же времени в Берлинском художественно-промышленном музее существует коллекция из 200 образцов японской живописи. В Париже особенно богаты сокровищами японской художественной промышленности и полихромного гравирования на дереве некоторые частные коллекции (Гонзе, Бинга, Вевера и др.), а также музей Гиме. Много любопытного по той же части содержат в себе Берлинский и Дрезденский кабинеты гравюр, а Гамбургский художественно-промышленный музей может гордиться своим собранием образцов японского искусства всякого рода. Но самым большим их количеством обладает Америка. Ее частные коллекции (Морзе в Чикаго, Вандербильдта в Нью-Йорке, Феноллозы в Бостоне) так обширны, что не поддаются обзору. Огромнейшая в мире японская коллекция находится в Бостонском музее of Fine Arts: в ней заключаются свыше 400 стенных ширм, 4 тыс. картин и 10 тыс. гравюр Страны восходящего солнца. Заведовавший этим музеем Э.-Ф. Феноллоза, в течение 12 лет стоявший во главе художественных учреждений Японии, считался лучшим знатоком и усерднейшим исследователем японского искусства.
Надо заметить, что это искусство представлено лучше, чем китайское, не только в наших музеях, но и в нашей литературе: старинное сочинение Зибольда "Nippon" до сей поры еще достойно прочтения, в конце XIX в. появились обстоятельные труды о японском искусстве Гонзе, Андерсона, Бинга, Бринкманна и Мюнстерберга, монографии Феноллозы, Эдм. де Гонкура, Г. Гирке, Т. Дюре, Карла Мадсена и В. фон Зейдлица, способствовавшие нашему ближайшему и точному знакомству с искусством Японии.
Чем дальше продвигается исследование истории японского и китайского искусства, тем становится очевиднее, что японское искусство всех прежних столетий большей частью своей прелести обязано китайскому искусству, своему бесспорному прародителю. Еще в 1822 г. Т. Дюре утверждал, что японское искусство относится к китайскому, как римское к греческому; то же самое находил и Фр. Гирт. Феноллоза, страстный поклонник древней Японии, в 1884 г. выразился, что мы нисколько не ошибемся, если будем считать, что в японской живописи все китайского происхождения, разумеется, за исключением немногих, но иногда великолепных истинно японских уклонений. Попытки некоторых французских ученых предоставить в развитии японского искусства главную роль непосредственным индийским и персидским влияниям надо признать неудачными.
Как бы то ни было, нет ничего неслыханного в том, что дочь оказывается прекраснее ее матери. Если бы даже китайское искусство было так же доступно для изучения, как японское, мы, вероятно, остались бы все-таки при том мнении, что это последнее отличается от первого более глубоким чувством природы, более тонким пониманием красок, более изящным вкусом, более добродушным юмором. В частности, китайцам можно отдать пальму первенства в обработке твердых камней, производстве фарфора, ячеисто-эмальерном деле, а японцам – в лакированных изделиях, хромоксилографии, мелких художественно-металлических работах. Вообще, ясно видно, что в японском художественно-ремесленном производстве искусство и требования жизни соединены между собой еще теснее и осмысленнее, чем в китайском. Искусство и ремесло нигде не находятся в такой неразрывной взаимной связи, как в Японии. Гонзе прав, написав в начале своего большого сочинения о японском искусстве фразу: "Японцы – первые орнаментисты в мире". Но также и чувство природы, и чувство стиля нигде не связаны между собой столь неразрывно, как в японском искусстве, и благодаря тесному соединению этих чувств, которые в крови у их мастеров, японцы должны быть признаны одним из самых художественных народов на всем свете.
Рис. 604. Загородка двери, орнаментированная хризантемами, в одном из храмов Киото. По Бринкманну
Итак, японская орнаментика в своих основных чертах и главных составных частях возросла на китайской почве. Хотя в Японии, как и в Китае, нет недостатка в игре геометрическими линиями, в узорах, состоящих из свастики и меандра, в причудливо изогнутых и прерывистых орнаментальных мотивах, однако и здесь, так же как и там, главное составляют животные и растительные формы, нередко тесно соединенные между собой. Из животных в Японии, как и в Китае, особенной любовью пользуются пернатые обитатели воздушного пространства, а затем – чешуйчатые и панцирные обитатели морей и, наконец, амфибии и насекомые. Представителями флоры являются и в Японии преимущественно бамбук и ветви пинии, весенние цветы, пионы и хризантемы (рис. 604), и все соглашаются с тем, что японцы умеют распределять на орнаментируемой поверхности свои более или менее стилизованные животные и растительные мотивы с еще большей ловкостью, с еще меньшей заботой о строгой симметрии, чем китайцы. Но рядом с реальным миром животных и у них являются унаследованные от Китая фантастические существа: дракон, феникс, сказочный олень и т. п.; главную роль играет дракон, хотя и не служит символом императорской власти, как в Китае, а потому имеет не пять, как китайский императорский дракон, а только три когтя на каждой лапе (рис. 605). Символ императорской власти в Японии – стилизованный цветок хризантемы, расправленный в виде колеса, подобие дневного светила, озаряющего своими лучами Страну восходящего солнца.
Рис. 605. Обратная сторона старинного японского металлического зеркала из Нары. По Андерсону
Японское зодчество еще больше, чем китайское, сводится к плотницкому делу.
Каменные стены в японских постройках составляют редкость. В этих постройках все деревянное. Прочных стен часто совсем не имеется. Даже вместо наружных стен нередко встречаются подвижные стенки, которые можно, по желанию, вставлять или удалять. Внутри домов вместо них довольствуются разборными перегородками и ширмами. Характерная японская черепичная крыша, сильно выступающая своими краями вперед, бывает поддерживаема целым лабиринтом деревянных подпорок в виде бра. Крыши жилых домов, равно как и древних храмов Синто, – обычно прямолинейные. Однако буддийское храмостроительство перенесло в Японию, вместе с многоярусными башнями пагод, также и китайские крыши с загнутыми кверху краями (рис. 606), а от буддийских храмов такие крыши впоследствии были заимствованы и другими постройками. В японских жилых домах и древних храмах Синто мы видим во всей его красоте натуральный цвет дерева. Величайшая чистота и точность столярной и токарной работы, пригонки шипов и гвоздей, при которой последние часто бывают отделаны художественно, изящество декоративной резьбы, кропотливая, выполненная с удивительной любовью обработка всех частностей нередко сообщают простым плотничьим постройкам подобного рода характер вполне законченных художественных произведений. Но там, где принято прибегать к окраске, как, например, в буддийских зданиях, она теплее и гармоничнее, нежели в Китае. Японские тории, символические простые ворота перед храмами, не похожие на китайские паи-лу, сохранили старинную деревянную конструкцию. Два вертикальных столба связаны между собой сверху двумя поперечными бревнами. Как на исключение можно указать только на большие тории храма Иэясу в Никко, сделанное из камня и бронзы (рис. 607). Наконец, японское зодчество, подобно китайскому, имеет наклонность соединять многие помещения в одно органическое целое. Если есть надобность в нескольких залах, они устраиваются друг подле друга в виде особых домов; большие сооружения такого рода, соединенные в одно поразительно красивое целое одним общим великолепным садом, обычно расположены не столь чопорно симметрично, как в Китае. Что всего прелестнее в японской архитектуре, так это именно великолепие парков при больших храмах и дворцах, с высокими цветущими кустарниками, со скалами, водопадами и фонтанами, с пьедесталами для светильников и статуями; эти парки можно было бы назвать произведениями ландшафтной архитектуры, хотя и в другом, но, быть может, в более точном смысле слова, чем индийские сооружения в скалах (см. рис. 565).
Рис. 606. Храм близ Осаки. С фотографии
В японской крупной пластике мы находим также только многочисленные священные образы буддизма, и притом всегда в строго фронтальном положении, тогда как все прочие скульптуры одного с ними времени и более ранние, даже древнейшие из сохранившихся, отличаются полной свободой всех мотивов движения. Японские изображения Будды имеют гандхарский тип, приданный эллинизмом древнеиндийскому. Окольный путь через Китай и Корею, который прошла религиозная крупная пластика Японии, таким образом, не изгладил признаков первоначального происхождения этой отрасли искусства. Наконец, замечательно, что в Японии сохранились величайшие в мире бронзовые статуи Будды, даже более огромные, чем в Китае, – доказательство стремления японцев смело справляться с крупными задачами.
Рис. 607. Тории храма Иэясу в Никко. С фотографии
Что касается японской мелкой пластики, то о ней можно написать целые тома. Ни в одной из художественных отраслей до такой степени, как в этой, не выказывают японцы всей тонкости своего чувства пластичности, своего умения пользоваться формами природы и стильно приспосабливать их к назначению произведения. Об этом свидетельствуют изделия из всевозможных материалов – из бронзы, железа, дерева, слоновой кости, обожженной глины, лакированные работы, вещи, исполненные как из нескольких разных материалов, так и различными способами, и живопись, применяемая в таком виде и с таким вкусом только одними японцами. Это то небольшие статуэтки и группы, не имеющие определенного смысла и назначения, – японцы называют такие вещи окимоно, то всякого рода обиходные предметы, из которых особенным уважением наших коллекционеров пользуются эфесные чашки мечей и нецке, носимые на поясах для пристегивания к ним всякого рода предметов. На них мы находим изображения людей, животных и растений, то самих по себе и в одиночку, то в их повседневных взаимных отношениях, передаваемых добродушно и с юмором, – небольшие художественные вещи, отличающиеся тонким чувством природы и поэтическим настроением. Бездна прилежания, внушенного любовью к делу, бездна творческой фантазии, бездна индивидуальной художественной свежести проявляются в этих чисто японских произведениях. Как тщательно избегает японец острых углов, изготовляя нецке, ввиду его назначения! С каким вкусом располагает он на чашке меча сквозной или накладной работы фигуры растений или животных, особенно лангуст, рыб, змей, приноравливая их к округлости изделия! Об этом могут дать понятие рис. 608 – нецке в виде улитки, работа Тадатоши (из коллекции Бинга в Париже), и рис. 609 – чашка меча с фигурами журавлей (из Гамбургского художественно-промышленного музея). Бринкманн писал: "Нет ничего удивительного в том, что работник по металлу, желая изобразить на кованой железной чашке меча любимый куст нантов, исполняет на ней инкрустацией золотые ветки и листья; но он снабжает эти ветки красными ягодами, для чего вырезает в железе впадины и помещает в них жемчужины или кораллы. Или же он помещает на железной пластинке изображение саранчи, одного из символов воинского мужества, исполненное из разноцветных металлов, и для того чтобы сделать выразительнее зеленоватые, блестящие, выпученные глаза этого насекомого, вставляет в его голову кусочки отшлифованного малахита. Или, наконец, он передает пестроту осенних листьев тыквы, вставляя в бронзовую или золотую чеканенную пластинку кусочки пестрого перламутра. Точно так же поступает резчик так называемых нецке, когда делает из слоновой кости лица и руки у деревянных кукол, или на веточке хризантем, вырезанной из черного дерева, помещает серебряные кружки цветов в венке из черных крайних цветов, или на листе лотоса, вырезанном из дерева, укрепляет металлическую лягушку выбивной работы, или оживляет выточенный из дерева сосуд, изображающий старый ствол сосны, небольшими золотыми и серебряными муравьями".
Рис. 608. Нецке в виде улитки. Работа Тадатоши. По Гонзе
Рис. 609. Чашка меча с журавлями. По Бринкманну
Собственно японскую живопись, если не касаться последнего развития ее народной школы, вообще нельзя охарактеризовать иначе как ее прародительницу, китайскую живопись. Многие из знаменитейших японских картин, на европейский взгляд, не больше чем черные рисунки, исполненные кистью и тушью. Следы происхождения живописи картин от иллюстраций в рукописях не изгладились при ее переходе через Японское и Китайское моря. Японские источники дают нам возможность проследить каллиграфический основной характер японской живописи, равно как и китайской, во всех ее изменениях. На основании одного из таких источников Андерсон ознакомил нас с десятью классическими родами каллиграфического рисования кистью, о которых мы говорили в предыдущей главе. Линии тонкие, одинаковой ширины, спокойно и без всякого нажима идущие по контурам фигур, характеризуют прием рисования первого рода (рис. 610, а); во втором роде контурные линии имеют вид коротких штрихов, ломающихся под острым или тупым углом, с толстыми клинообразными нажимами (б); в третьем роде линии округлые, с большими или меньшими утолщениями, зависят от требований рисунка (в) и т. д. Японские историки искусства умеют классифицировать всех известных китайских и японских художников на основании этих различий, которые, впрочем, обнаруживаются только в исполнении костюмов. После сказанного едва ли необходимо еще раз утверждать, что многокрасочная японская живопись, опять-таки если не принимать в расчет попыток, сделанных в последнюю великую эпоху, страдает так же, как и китайская, отсутствием теней и рефлексов, недостатков светотени, погрешностями против анатомии и перспективы. Тела фигур повсюду умышленно представляются плоскими.
Рис. 610. Три первых рода китайско-японского рисования. По Андерсон
Рис. 611. Чернильница с инкрустацией. По Гонзе
Отдельные японские картины, подобно китайским, имеют форму свитков, которые вешаются на стены развернутыми сверху вниз (по-японски они называются какемоно), или настольных свитков, развертываемых справа налево (эмакимоно); кроме таких картин и у японцев бывают складывающиеся гармошкой и образующие нечто вроде альбома. Неподвижные части стен в храмах, дворцах и жилых домах редко украшаются картинами; чаще их помещают на стенах, раздвигающихся наподобие ставен, а еще чаще они встречаются на подвижных стенах, которые, имея вид ширм, составляют важную принадлежность японской домашней утвари. Подобные ширмы иногда были расписаны величайшими художниками.
Как переводы живописи в другие технические отрасли прежде всего достойны внимания лакирование, вышивание, живопись на вазах и резьба по дереву. Японские изделия этих четырех видов принадлежат к совершеннейшим в своем роде. Художники-лакировщики умеют, нисколько не жертвуя тонкостью отделки плоского или рельефного изображения, усиливать его декоративное впечатление употреблением золота, серебра, перламутра, слоновой кости или коралла. Чернильница из коллекции Гонзе в Париже (рис. 611) украшена изображением целого роя стрекоз, исполненных из олова и перламутра и вправленных в черный лак. Вышивальщики, воспроизводя очаровательные картины природы с великолепным настроением при помощи разноцветного шелка на шелковой ткани (фукусса), иногда берутся за кисть с целью усилить впечатление изображенного. Японские гончары, в противоположность китайским живописцам по фарфору и их подражателям в японской провинции Гицен, достигают эффектности смелым и широким приемом исполнения своих декоративных картин природы в простых, гармоничных красках. Хромоксилография составляет до такой степени важную отрасль в новейшем народном японском искусстве, что даже великие мастера задумывали многие и лучшие свои изображения так, чтобы они были первоначально воспроизводимы в большом количестве экземпляров посредством печатания с нескольких досок (см. рис. 633).
2. Японское искусство в VI-XV вв.
В Японии, как и в Китае, буддизму, выродившемуся в культ идолов и перенесенному из Кореи через море приблизительно в VI в. по нашему летосчислению, предшествовала древняя национальная религия, обходившаяся без священных изображений. Но об истории добуддийского искусства Японии не может быть речи. Древняя религия Синто, постепенно превратившаяся из первоначального поклонения природе в культ предков, начала создавать идолов не прежде того, как амальгамировалась с буддийскими и даосистскими воззрениями, и, чтобы сохраниться, должна была вступить в мирное состязание с учением великого основателя религии берегов Ганга; оригинальных образцов ее чрезвычайно простых храмов, почти не отличавшихся от хижин аинов, не могло дойти до нас уже потому, что религия предписывала время от времени разрушать эти небольшие святилища Синто и строить вместо них новые в прежнем роде.
Так, знаменитейшее из святилищ Синто (Мийя) в Японии, храм в Иссе, впервые сооруженное в I в. н. э., несмотря на все позднейшие его перестройки, сохранило свою древнюю основную форму и прежние размеры. Эта простая маленькая постройка из бревен, вбитых концами в землю, с прямолинейной крышей, сильный выступ которой вперед осеняет обход вокруг святилища, с высоко выдающимися над крышей в виде рогов концами щипцовых стропил, дает некоторое понятие о первоначальном японском искусстве, находившемся на высшем уровне искусства первобытных народов, какой только нам известен.
История развития искусства в Японии имеет более очевидную связь с внутренними переворотами в ее политической истории, чем с фазами истории ее религии. До XVIII столетия японское искусство было аристократическим. Сами роды японских художников, деятельность которых, заключенную в определенное художественное русло, можно иногда проследить в продолжение многих столетий, были все дворянские, в них искусство по большей части передавалось из поколения в поколение. Цветущие периоды японского искусства совпадают с процветанием известных династий, выдающиеся члены которых не только заставляли искусство служить себе, но и сами довольно часто упражнялись в нем.
Провинция Ямато была главной ареной истории государственного, духовного и художественного развития Японии. Нара, древняя столица этой провинции, была местопребыванием микадо (императора, тэнно) до тех пор, пока император Куанмун (782-806) не перенес свою резиденцию в Киото. IX столетие, в котором Нара и Киото процветали одновременно, было первым цветущим периодом японского искусства.
X столетие в Японии можно назвать временем рыцарства. Знатные дворянские роды (даймё) Таира и Минамото, предшественниками которых были Фусивара, вели из-за преобладания кровавые распри между собой и с императором. Эти распри привели к тому, что один из рода Минамото, Ёритомо, получил от императора звание главнокомандующего (сёгуна) с правами верховной светской власти и в 1184 г. основал в Камакуре, на берегу морской бухты, у подножия священной горы Фудзи, вторую столицу, равную императорской резиденции Киото. С этого времени и до 1868 г. сёгуны (тайкуны) были действительными, а микадо лишь фиктивными повелителями Японии. XII столетие, в котором возник этот дуализм, было вторым цветущим периодом японского искусства.
Эпоха наиболее просвещенных и неравнодушных к искусству сёгунов, происходивших из фамилии Асикага, приходится на XV и XVI столетия. Сёгун Иошимаса из названной фамилии, умерший в 1489 г., сам был известен как живописец. Его время – третий цветущий период японского искусства.
После рода Асикага поднялся род Токугава. Сёгун (ум. в 1616 г.) из всего этого рода перенес резиденцию сёгунов из Камакуры в Иедо. Гонзе решительно утверждал, что первое столетие сёгунства фамилии Токугава, соответствующее нашему XVII столетию, было четвертым цветущим периодом японского искусства, тогда как Феноллоза оспаривал это. На самом деле в этом столетии, вместе с пышным поздним расцветом прежнего японского искусства, явились некоторые зачатки нового.
Но что последние времена фамилии Токугава, в особенности промежуток времени с 1750 г. до 1850 г., были действительно эпохой пятого, и последнего, расцвета искусства Японии, хотя порой и отрицали, однако в конце концов всегда снова признавали.
Таким образом, история японского искусства начинается, собственно, только с введения буддизма в VI в. н. э. В творческие "сумерки", в которых находилась тогда Страна восходящего солнца, внесли свет искусства Небесной империи, как полагают, эмигрировавшие в Японию или военнопленные корейцы. Затем мы видим, что японские художники всех специальностей путешествуют в Китай для того, чтобы изучать там классическое восточноазиатское искусство в самом его источнике, или что китайские художники переселяются в Японию, чтобы пожинать лавры и наживать капиталы в качестве учителей своих юношески молодых братьев по расе.
Рис. 612. Страж храма. Дерево. По Андерсону
К древнейшим буддийским храмам Японии принадлежат великолепные святилища, которыми украсилась древняя столица Нара в VII и VIII вв. Первый храм Будды в этом городе воздвигнут при императоре Шиумуне (724-749), а прекрасный храм богини Куанон (Гуань-инь – у китайцев), там же, – при императоре Куамуне.
Роскошную архитектуру этого времени украшали скульптурные произведения большого размера. Колоссальная бронзовая вызолоченная фигура сидящего Будды (Даибутсу), для которой был построен в Наре храм этого бога, отлита в 739 г. Это изваяние, за исключением головы, возобновленной тысячу лет спустя, замечательно исполнено и отличается чистотой форм и особенно внушительным величием. Если бы изображенный бог поднялся на ноги, то оказался бы ростом 42 метра. Однако подобные статуи Будды – классические, но не в китайском, а в индийском духе, и в которых нас поражает в Японии, как и в Китае, отсутствие черт монгольского типа, – не имели дальнейшего исторического развития. Поэтому для нас интереснее деревянные фигуры, производившиеся наряду с ними, более свободные по работе, более близко подражающие натуре, хотя порожденные также потребностями буддийского богослужения. Двух замечательных храмовых стражей этого рода, открытых в 80-х гг. XIX в. в другом храме в Наре, считают едва ли не самыми древними из со хранившихся произведений японской скульптуры, а именно изваянными в VII столетии. Но эти произведения приписываются корейским мастерам, и в них видна анатомическая правильность, какой едва ли достигало даже позднейшее японское искусство, видна способность к подвижности, совершенно противоречащая принципу фронтальности священных статуй того времени, видно столько настоящего движения, что, при всей жизненности этих фигур, в них есть что-то беспокойное, необузданное (рис. 612). Такие статуи раскрашивались и помещались в нишах снаружи буддийских храмов; они олицетворяли собой, вероятно, двух великих брахманских богов, Брахму и Индру, низведенных на степень служебных духов буддизма.
Во второй половине IX в. трудился живописец первой цветущей поры японского искусства Косе-но-Канаока. Гонг сравнивал его с Чимабуе, Феноллоза – с величайшими художниками в мире – Фидием и Микеланджело. Однако то, что ему приписывается из числа "какемоно", получивших известность в Европе, каково, например, изданное Гонзе изображение буддийского божества Дзийо, принадлежащее одному частному лицу в Японии, напоминает, самое большее, Чимабуе (рис. 613). Настоящие картины Косе-но-Канаоки, как предполагают, сохранились только в храмах Нары и Киото. Образцом для него служил У-тао-цзы, первостепенный китайский художник времен династии Тан (см. рис. 591, а), из работ которого сохранилось доныне в одном из храмов Киото главное изображение Нирваны Будды. Главные мотивы таких изображений Нирваны были уже предвозвещены в рельефах гандхарской школы, а что греко-римские пережитки языка форм этой школы были унаследованы японской буддийской живописью от такой же живописи Китая, видно по гораздо более поздним японским картинам этого рода, как указывал Грюнведель. Собственно буддийская религиозная живопись и в Японии, и в Китае имеет до настоящего времени особое направление, существующее рядом с другими и отличающееся возможно большим сглаживанием черт монгольского типа, богатством красок, любовью к позолоте и ровной накладкой колеров внутри контуров. При преемниках Канаоки, бывших вместе с тем его потомками из фамилии Косе, это чисто буддийское направление оставалось господствующим еще сотню лет.
Рис. 613. Буддийское божество. Картина, приписываемая Канаоке. По Гонзе
В конце XI в. явилась некоторая реакция против этого направления в лице одного из учеников Косе Мотомицу, из фамилии Фусивара. Мотомицу, произведением которого считается одно оригинальное изображение Будды в коллекции Гирке в Берлине был основателем школы Ямато, впоследствии превратившейся в школу Тоса. На школу Ямато-Тоса смотрят как на возбудительницу и хранительницу национального направления, противоположного буддийским, китайским и позднейшим народно-реалистическим стремлениям в японском искусстве. Однако и в этой школе национальность, очевидно, выказывалась больше в выборе сюжетов, которые она любила брать из легенд, из истории рыцарства, из жизни и природы Японии, чем в способе изображения и технике, в которых она продолжала держаться прежних приемов работы тонкой кистью и пестрыми красками.
Рис. 614. Сражающийся всадник. Картина школы Тоса. По Бингу
Школа Ямато процветала в XII столетии. Главных ее мастеров, каковы "божественный" Таканобу, Мицунага и Кеион, "величайшие рисовальщики Японии", и Тамегисса, "великолепный, краски которого соперничают с тициановскими", Феноллоза причислял к величайшим живописцам всех времен, но, по-видимому, ставил их слишком высоко. В XIII в. Цунетака, также из фамилии Фусивара, принял название провинции Тоса для себя и для своей школы, и с того времени школа Тоса продолжала процветать под этим именем, которое у японцев старого закала связано с понятием о самом аристократичном и самом национальном направлении искусства в их стране (рис. 614). Сохранившиеся в Японии картины школы Тоса, имеющие чаще вид приставных ширм, чем какемоно, по словам Андерсона, производят своими яркими, живыми красками на золотом фоне такое же впечатление, как мини атюры европейских средневековых служебников, только нередко в увеличенном размере.
Рис. 615. Гравюра на дереве. По Андерсону
Полагают, что этой школой введен в японскую живопись прием изображать дома без крыш, когда требуется бросить взгляд на происходящее внутри. Рис. 615 представляет этот прием, примененный в гравюре на дереве работы Сукенобу (1742). Затем, еще в XII в. отпрыск фамилии Минамото Тоба Содзё положил в этой школе основание новому роду живописи, юмористично-карикатурному, и сатирическая живопись, водворившаяся с тех пор в японском искусстве, стала называться тоба-ие (стилем Тобы).
Тогда как в цветущую эпоху XII столетия живописцы трудились по-прежнему главным образом в Киото и Наре (Касуге), в Камакуре, на глазах у Иоритомо, проявляли бурную деятельность зодчие, скульпторы и оружейники. В главном камакурском храме было поставлено колоссальное изваяние сидящего Будды (рис. 616), почти одинаковое по величине, формам и техническому исполнению с такой же статуей в Наре; это изваяние сохранилось лучше, чем статуя в Наре, которой впоследствии была приделана новая голова; но храм, где оно стояло, развалился, и теперь впечатление, производимое этой статуей среди зеленеющей роскошной природы, должно быть, в высшей степени грандиозно. Чеканенные железные латы и гербы рассматриваемой рыцарской эпохи, мастера которых считали себя священными, благословенными небом художниками, еще сохранились кое-где в сокровищницах японских храмов.
Рис. 616. Сидящий Будда. Бронзовая статуя в Камакуре. С фотографии
В XIII столетии усовершенствовалась до некоторой степени и японская керамика. Знакомством с ее историей мы обязаны преимущественно сочинениям С. Бинга и японца Уеда Токуносике, написанным на французском языке. Гончарный круг был занесен в Нару и Киото корейским жрецом Гиоги в VIII столетии. Первая глазурованная каменная посуда, одноцветная, вроде селадона, изготовлялась уже в следующие за тем века по китайским образцам. С XIII в. в Японии распространились чайные дома. Потребность японцев в глиняной посуде побудила знаменитого гончара Коширо сделать в 1223-1227 гг., с целью изучения ее производства, поездку в Китай. Возвратившись оттуда на родину, он основал в Сето (в провинции Овари) большие гончарные заведения, от которых цветная глазурованная каменная (но не фарфоровая) посуда получила в Японии повсюду название изделий сето (сетомоно). Прелесть старинных изделий сето (ко-сето) заключается в их прекрасных формах и блеске их глазури коричневого цвета с разноцветными пятнами.
В течение XIV столетия качество японского искусства понижалось под влиянием школы Тоса, становившейся все более и более условной.
3. Японское искусство в 1400-1750 гг .
XV в. в Японии, так же как в Китае и Европе, был веком возрождения, а XVI в. довел то, что было сделано в XV, до блестящего результата. Это возрождение на японской почве можно с полным правом назвать китайским ренессансом. Как целебное средство против оцепенелости школы Тоса явилось обращение к обновленному одушевлению китайского искусства. Но образцом для японских живописцев сделались теперь не мастера современной им династии Мин, но великие художники династии Сун (960-1279), и более чем когда-либо живопись стала теперь задавать тон дальнейшему развитию всех других отраслей японского искусства. Конечно, японцы считают классической и национальной также и свою архитектуру XV и XVI столетий, которая мало-помалу наделила всю империю замками, храмами и дворцами. Как ни хороши пропорции их внешности и как ни роскошна их внутренность, мы не можем сказать, чтобы архитектура сделала в них дальнейший шаг вперед. Большая деревянная статуя Будды в Киото свидетельствует, что крупная буддийская пластика в Японии отжила свой век. Одна только портретная скульптура производила кое-что достойное внимания, какова, например, изданная Бингом, прекрасно исполненная, правдивая и простая деревянная статуя-портрет великого сёгуна Гидейоши, работа мастера Катакири (рис. 617). Натуралистическая мелкая пластика только что начинала развиваться, тогда как гончары Сето в провинции Овари и Каратсу в провинции Гицен еще при Иошимасе (ум. в 1489 г.), покровителе строго регламентированных чайных обществ, прославившихся под названием чанойу, уже поставляли на рынок все новые и новые сорта роскошно украшенной посуды, а лакировщики достигали такого изящества рельефных изображений и такого великолепия окраски, с употреблением при ней киновари, серебра и различных инкрустаций, каких не достигал потом никто. Однако во главе всего этого развития японского искусства XV и XVI столетий шла все-таки живопись.
Рис. 617. Сёгун Гидейоши. Дерево, работа Катакири. По Бингу
Передовые живописцы по-прежнему не пренебрегали буддийскими и историческими сюжетами; но, подражая своим китайским предшественникам времен династии Сун, они все более и более переносили центр тяжести своего мастерства на пейзажную живопись и небольшие изображения из мира животных и растений. Предпочтение отдавалось китайскому идеальному пейзажу, с поднимающимися к небу утесистыми горами, отдаленность которых обозначалась предпочтительно заслоняющими их вереницами облаков, – с водопадами, реками и озерами, башнями пагод, выступающими над верхушками сосен. Смена времен года, вызывающая как в поэзии, так и в живописи китайцев и японцев переменчивые настроения, порождала зимние, весенние и летние пейзажи. Небольшие картины природы в особенности бывают прелестны благодаря изображенному в них снегу, под тяжестью которого гнутся деревья и бамбук, или пышным цветам на кустах и ветвях, оживленных порхающими по ним птицами. Рядом с многокрасочной живописью право гражданства получила китайская живопись черным по белому, в которой теперь и японцы научились передавать утренний и вечерний туман, бурную и дождливую погоду. В изображениях этого рода видна своеобразная смесь беглой, широкой импрессионистской смелости с заученной академической трезвостью; в этом приеме каждое движение кисти было традиционным. С каким бы воодушевлением ни обращался художник к природе, он все-таки хотел видеть ее не иначе, как такой, какой она представлялась китайцам. И главными основателями этого направления в японской живописи XV столетия действительно были приезжие китайцы Иосетсу и его ученик Шиубун.
Рис. 618. Пейзаж Сесшиу в китайском стиле. По Гонзе
Три великих японских мастера, совершившие рассматриваемый переворот, были: Мейшио (1351-1427), прозванный Чо Денсу, картина которого "Смерть Будды" в одном из храмов Киото похожа на работы древних китайцев; Кано Масанобу (родился в начале, а умер в конце XV столетия), родоначальник художнической династии Кано, произведения которого, замечательные отличным рисунком и силой красок, сделались большой редкостью в самой Японии, и, наконец, еще более значительный, чем первые двое, Сесшиу (1414-1506) – основатель японской живописи черным по белому в большом размере, художник, которого Феноллоза считал центральным светилом в целой плеяде мастеров. Он называл его "открытой дверью, через которую все другие проникали на седьмое небо китайского гения, колодцем, из которого все позднейшие художники черпали напиток бессмертия".
Рис. 619. Мейшио. Святой со львом. По Андерсону
Сын Кано Масанобу Кано Мотонобу (1475-1559), работая в стиле своего отца и главным образом в стиле Сесшиу, основал знаменитую, давшую много последователей школу Кано, которая с его времени господствовала в японском искусстве наравне со школой Тоса. Тогда как школа Тоса, главным представителем которой был тогда Мицунобу, пользовалась покровительством микадо, школа Кано была привилегированной школой сёгуна. Ее глава, Кано Мотонобу, писавший изображения буддийских святых и китайские пейзажи, в правоверной истории японского искусства считается "князем всех китайско-японских художников". Однако Феноллоза находил у него некоторый недостаток теплоты, свежести и глубины. Наиболее выдающиеся ученики школы Кано во второй половине XVI столетия были Кано Санраку и Кано Эйтоку. Санраку писал преимущественно народные сцены и, следовательно, уже выступил за пределы китайства; относительно же Эйтоку Феноллоза говорил, что он едва ли не последний великий японский художник, "сердце которого согревалось внутренним огнем, загоревшимся от светоча гения китайской династии Сун".
Картины некоторых из названных мастеров XV и XVI столетий попали в европейские коллекции; другие известны по ксилографиям японской работы. Феноллоза признавал особенно характерным опубликованный Гонзе пейзаж Сесшиу, находящийся в коллекции Бинга в Париже (рис. 618). Коллекция Андерсона в Британском музее имеет подлинную картину Мейшио (Чо Денсу), изображающую святого с его львом в пустыне (рис. 619), целый ряд какемоно работы Кано Мотонобу, китайский пейзаж Кано Масанобу, часть картины "Цветы и птицы", исполненной Утаносуке, пейзаж при лунном свете Кано Санраку и аллегорическую женскую фигуру Кано Эйтоку. В коллекции Гирке в Берлинском музее народоведения находятся работы Сесшиу, Кано Мотонобу и Кано Санраку. В собрании Гонзе в Париже любопытно изображение даймё верхом на коне, принадлежащее Мицунобу, мастеру школы Тоса (рис. 620).
Рис. 620. Мицунобу. Даймё верхом на коне. По Гонзе
В XVII столетии в японском искусстве все ярче стало обнаруживаться стремление к декоративности, которое прежде всего бросается в глаза европейцам. Оно выразилось в архитектуре, достигшей при сёгуне Иемицу из дома Токугава (1623-1652) наивысшей степени мастерства и роскоши. Дед Иемицу Иэясу, первый из великой фамилии Токугава, умер в 1616 г. на 74-м году жизни. На посвященный его памяти храм в Никко, сооруженный при его преемниках даровитейшим из архитекторов того времени, Ценгоро (Иенгоро), обычно указывают как на самый великолепный и характерный памятник японского зодчества. Он находится на склоне горы среди чудного парка и состоит из целого ряда террас, лестниц, изгородей, отдельных капелл и пагодообразных башен. Но особенно удивительна роскошная резьба, которой украшены крыши его ворот, загнутые кверху по нижнему краю, равно как и интерьер его залов. Изумительна чистота столярной обработки его столбов, балок, планок, распорок, а также отделки бронзовой обшивки, бронзовых гвоздей и других металлических частей; при этом все блистает в нем сильными, яркими, но гармоничными красками, производящими чарующее впечатление. На наружных столбах главных внутренних ворот (рис. 621) тянутся вверх, извиваясь, священные драконы, исполненные весьма реалистично. На приворотных косяках изображены деревья мумы в пышном весеннем цвету, ветви которых переходят на верхний брус. Еще выше, на фризе, представлен многофигурный сонм богов; на других архитектурных частях гирлянды цветов и сплетения животных перемежаются с изящными геометрическими орнаментами. Никогда еще деревянные постройки не достигали такого совершенства, как эта; никогда еще резьба из дерева не производила ничего столь полного жизни, как, например, знаменитая "спящая кошка" в часовне мертвых этого храма. "Кто не видел резьбы Ценгоро в Никко, тот не видел ничего", – говорят японцы. Чудеса своего искусства оставил Ценгоро также и в Киото. О роскоши, разнообразии и легкости его мастерства дают полное понятие резные ворота и потолочные кассеты в храме Ниши Гонгванийи. Тому же времени принадлежат 30 досок с рельефами на наружной стене храма Мацуномори в Нагасаки, изданные Мюллер-Беком. Это произведения Киушиу, представляющие сцены японской промышленной жизни, они отличаются тщательностью и верностью рисунка и стильностью раскраски. Но Иемицу заботился главным образом об украшении храмами и дворцами новой столицы династии Токугава Эдо (Токио). Постройки в Никко и Киото можно рассматривать как заключительные явления в истории развития японской архитектуры. Не короток был путь, который надо было ей пройти от простой хижины племени айно и нехитрого древнего святилища Синто до величественных, покрытых раскрашенной резьбой сооружений в этих городах.
Рис. 621. Главные ворота храма Иэясу в Никко. По Андерсону
При переходе к XVIII в. рядом с крупной декоративной резьбой из дерева все более выдвигалась скульптура мелких форм. Небольшие японские бронзовые изделия, изучать которые лучше всего в парижских собраниях, особенно в музеях Чернуски и Гиме, а также в коллекции Эдера в Дюссельдорфе, изображающие людей и всякого рода животных, – чудеса искусства в отношении живости замысла и тонкости отделки; пластические изделия разного рода, с которыми мы уже ознакомились отчасти, говоря о так называемых нецке (см. рис. 608), также лишь в течение XVII столетия стали постепенно приобретать ту художественную обработку, благодаря которой нецке XVIII столетия сделались любимыми произведениями японского прикладного искусства; то же самое должно сказать и о чашках мечей, о которых мы уже говорили. В XVII и XVIII столетиях исполнены все восхитительные металлические произведения знаменитых мастеров, составляющие гордость европейских коллекций. Чеканщик Кинаи (чашка с лангустами его работы, изображенная на рис. 622, находится в собрании Гонзе в Париже) работал еще в XVI столетии. Томойоши и Иейу, которому принадлежит чашка с цветами (рис. 623) в том же собрании, жили уже на рубеже XVII и XVIII столетий.
Рис. 622. Чашка меча с лангустами. Работа Кинаи. По Гонзе
Рис. 623. Чашка меча с цветами. Работа Иейу. По Гонзе
В живописи большие школы Кано и Тоса произвели в XVII и XVIII столетиях еще многих художников, получивших громкую известность. Но при ближайшем рассмотрении их слава оказывается преувеличенной. Знаменитый пейзажист Таниу (1600-1674), к ученикам которого причислял себя сам сёгун Иемицу, Наонобу (ум. в 1651 г.) и сын его Цуненобу (ум. в 1683 г.) в Эдо, Сансецу (ум. в 1654 г.), зять Санраку, в Киото, считаются светилами школы Кано. Импрессионистский, полный настроения пейзаж в дождливую погоду работы Таниу, находящийся в коллекции Эрнеста Гарта в Лондоне, воспроизведен на рис. 624. Мицуоки (ум. в 1691 г.), Мицугоши (ум. в 1772 г.) и его сын Мицусада (ум. в 1806 г.) считаются украшением школы Тоса. Произведения большинства этих художников и их современников попали в европейские коллекции; они свидетельствуют уже не о прогрессивном развитии данных школ, а об их упадке. Гораздо более глубокое впечатление производят работы тех из живописцев XVII столетия, которые стремились освободиться от гнета регламентации, установленной школами, для того чтобы держаться декоративного направления своего времени, посвящать себя так называемому малому искусству, или всматриваться в свою родную японскую природу и жизнь и передавать их по-новому. К числу таких художников-декораторов принадлежат Сотацу (работал около 1670 г.), один из величайших живописцев цветов и колористов Японии, перешедший из школы Кано в школу Тоса, его современник, Кано Марикагге, отличавшийся искусством писать по фарфору, и ученик Сотацу, Корин Огата (1660-1710), по словам Гонзе, "самый японский из всех японских живописцев", сообщивший орнаментике тот характер, который так нравится нашему времени (рис. 625). Но новое натуралистическое направление, которое должно было вскоре прославиться под названием Укийё-э (школа юдоли скорби), отделилось от школы Тоса, с самого начала приверженной к национальным сюжетам. Основатель новой школы Матагеи творил в середине – XV столетия. Он писал правдивые, полные жизни типы, группы и сцены из быта низших классов народа. У торговца художественными произведениями Кетчема в Нью-Йорке находилась в 1896 г. стенная ширма с изображением дам, занимающихся музыкой, по мнению Феноллозы, одно из лучших произведений Мата-геи. Хотя старейшие мастера школы Тоса, и даже школы Кано, как, например, Кано Санраку, были первыми на этом поприще, однако Матагеи образовал в Киото целую школу последователей данного направления. Его ученик Хасикава Моронобу, умерший во втором десятилетии XVIII в., принадлежит к числу самых любимых японских художников. Какемоно в коллекции Гирке в Берлине, на котором изображено общество, собирающееся кататься на лодке, по словам Гирке, "несомненно лучшее из сохранившихся произведений этого художника и пользуется в Японии большой известностью". Хасикава Моронобу занимался также декоративным искусством, сочиняя образцы для живописцев по шелку и вышивальщиков Киото; его рисунки для гравирования на дереве способствовали усовершенствованию этой отрасли искусства. Помимо названных художников как на одного из самых разносторонних и значительных мастеров рассматриваемого времени надо указать на Ичо (1651-1724), принадлежавшего к школе Кано и распространившего в Эдо смелый, свежий и колоритный стиль Укийё-э. Два эмакимоно его работы находятся в коллекции Гирке; на одном из них изображены рудокопы, на другом представлен японский праздник. На рис. 626 – деревенская сцена. Все эти мастера подготовили последний период пышного расцвета японского искусства, наступивший в середине XVIII в. За полтораста лет (1600-1750) различные технические искусства, отчасти при содействии названных живописцев, также достигли высокого развития.
Рис. 624. Таниу. "Дождь". По Андерсону
В Японии с живописью теснее всего связана хромоксилография, все более и более приобретавшая всемирную известность. С тех пор как Феноллоза в 1891 г. издал свой подробный научный каталог Нью-йоркской выставки японских картин и гравюр, а Зейдлиц в 1897 г. написал обстоятельную историю японской многокрасочной гравюры, эта последняя сделалась одним из важных и наиболее известных предметов истории искусства. До начала XVII столетия в Японии уже несколько веков печатались книги отчасти деревянными досками, отчасти подвижным деревянным или медным шрифтом. Равным образом гравюры на отдельных листах уже давно существовали в буддийском религиозном культе. Первая японская книга с гравюрами на дереве была напечатана, по-видимому, в 1608 г. Но только в гравюрах работы Хасикавы Моронобу (1646-1714) к одной светской книге, появившейся в 1682 г., ксилографическая техника является дозревшей до художественной силы и ясности. Черные и белые массы распределены у него на поверхности рисунка с правильным пониманием эффекта их противоположности; многофигурные композиции отличаются древнеяпонской жесткостью.
Рис. 625. Корин Огата. Летящие утки. Рисунок из японского сочинения. По Андерсону
Рис. 626. Ичо. Деревенская сцена. По Бингу
Ученик Моронобу Окумура Масанобу (ум. в 1751 или 1752 г.) большой мастер и по части живописи, только в первом периоде своей деятельности держался манеры наставника. Из прочих последователей Моронобу в области одноцветных черных эстампов – Тахибана Морикуни (1670-1748), издатель многих иллюстрированных сборников для руководства художественных ремесленников, гравировал на дереве с большей ловкостью и всесторонним пониманием этого дела, а Хасикава Сукенобу (1671-1760; см. рис. 615), который главным образом изощрялся в изображении нежной красоты японских женщин, начал работать довольно небрежно. Надо заметить, что мастера японского гравирования на дереве только изобретали и рисовали свои композиции, но резали их другие. Гравер обычно наклеивал рисунок живописца, исполненный на тонкой бумаге, на кусок, как правило, вишневого дерева и затем принимался за вырезание его острым ножом. Раскраска отпечатанной черной краской гравюры, которая вначале, еще при Моронобу, была довольно скудная, у последователей этого мастера усложнилась и затем привела к печатанию несколькими красками, причем обратилась снова к китайским образцам, к сожалению еще полностью научно не исследованным.
Печатание двумя красками введено в Японии, как полагают, в 1743 г. Нисимурой Шигенага (ум. в 1760 г.), изображавшим сцены быта. Кроме Шигенага печатание красками покорили себе вышеупомянутый Масанобу, первый специалист по части соблазнительных изображений красавиц чайных домов, и главным образом великий Тории Кийонобу (1688-1755), основатель школы Тории, первый специалист по части остроумных изображений актеров Эдо. Первой трехцветной ксилографией Феноллоза считал эстамп Шигенага, напечатанный в 1759 г. и изображавший жилую галерею, но Бинг полагал, что Масанобу еще раньше делал опыты печатания тремя красками. Для старейших двухцветных ксилографий обычно употреблялись нежная красная краска цвета лососины и темно-зеленая цвета елки, причем черный цвет первоначального оттиска и белый цвет фона до некоторой степени превращали двутоновые отпечатки в четырехтоновые. Реже встречается желтая краска коричневого оттенка в сочетании с лиловой. Третья краска, которую стали прежде всего присоединять к красной и зеленой, была не совсем гармонирующая с ними желтая, а затем к этим краскам прибавилась еще нежная серовато-голубая. Японская хромоксилография вскоре начала пользоваться несчетно большим числом красок, а также серебром и золотом; но ранние ее произведения очаровывают наши взоры именно своей скромной немногоцветностью, и если во всем этом "пустом" искусстве, посвященном актерам и проституткам с длинноносыми лицами и уродливыми формами тела, можно находить некоторую прелесть лишь с точки зрения техники и колорита, то нельзя также отрицать, что в лучших из этих эстампов легко и изящно передается идеальная сторона нравов японского театрального мира и чайных домов.
Гравирование на дереве не было, однако, единственной отраслью художественной техники, процветавшей у японцев. На рубеже XVII и XVIII столетий Корин Огата, "самый японский из всех японских живописцев", посвящал себя главным образом лаковой живописи. Своеобразной красотой отличается особенно его золотой лак с оловянной, свинцовой и серебряной инкрустацией. Подобно тому, как этот художник в Киото, Рицуо в Эдо поставил искусство лакирования на национальную почву.
Гончарное искусство в Японии получило новое развитие с того времени, как сёгун Гидейоши привез из своих победоносных походов в Корею (в 1592 и 1597 гг.) несколько искусных гончаров и расселил их по разным провинциям своей империи. Теперь наряду с глазурованными глиняными изделиями, которые продолжают составлять гордость Японии, появляется настоящий фарфор, подражающий китайскому. Японцам благодаря отчасти корейцам, отчасти самостоятельному изучению удалось разгадать секрет производства китайского фарфора, по крайней мере, сотней лет раньше, чем европейцам. Первые опыты приготовления японского фарфора были сделаны в провинции Гицен еще в XVI в., но только около середины XVII столетия японцы научились писать по глазури стекловидными красками. В эту пору возникли в Арите, провинция Гицен, громадные фарфоровые заводы, которые вначале работали только на японцев, но вскоре стали поставлять предметы роскоши также европейцам, находить для своих изделий сбыт на крайнем западе Старого Света. Этим изделиям присвоены названия или провинции Гицен и фабричного пункта Ариты, или гавани Имари, через которую они экспортировались. В Европе ими особенно богаты Лейденский и Дрезденский музеи. С того времени, как Эрнст Циммерманн исследовал и привел в порядок дрезденскую коллекцию, мы знаем, что она вопреки тому, что полагали еще недавно, не только богата роскошными вазами, расписанными голубой и красной красками с позолотой и изготовляемыми в трех или пяти совершенно одинаковых экземплярах для отправки за границу, в самой же Японии почти не считающимися японскими, но богата также превосходными образцами старинного фарфора, изготовленного собственно для японцев. В первой группе, главная вещь которой – чаша шириной 56 сантиметров, преобладают краски голубая, светлая синевато-зеленая и отчасти железная красная. Ко второй группе, в которой цветы, ландшафты и гирлянды, соединенные с покрывающими фон линейными узорами, блещут яркими, блестящими, как лак, красной и темно-голубой красками, относятся только чаши и чаши с крышками. Среди синего фарфора третьей группы, которую до сей поры считали в Дрездене китайской, особенно замечательны две чаши в виде распустившегося цветка. "Кобальтовая голубая краска, – говорил Циммерманн, – хотя никогда и не достигает здесь такой силы и густоты, как в лучших произведениях китайского искусства, однако далеко превосходит китайскую по изяществу своего применения к делу". К японскому фарфору, который раскупали и высоко ценили сами японцы, относятся прежде всего сосуды из Кутани, провинция Кага. Рисунки для восхитительной эмалевой живописи на фарфоре Кутани, исполненные по черным контурам и представляющие великолепное сочетание изумрудно-зеленой, соломенно-желтой и фиолетовой красок, сочинял, по-видимому, не кто иной, как сам Морикагге, лучший ученик Кано Таниу. Чтобы составить себе понятие об этих рисунках, достаточно взглянуть на весенний ландшафт, изображенный на блюде из коллекции Гонзе в Париже (рис. 627).
Рис. 627. Японское фарфоровое блюдо. Работа Морикагге. По Гонзе
Рис. 628. Глиняный сосуд работы Нинсеи. По Бингу
Но главные мастерские цветной глазурованной каменной посуды возникли в Киото и Сацуме. Глазурованные глиняные изделия Киото приводят знатоков в восторг своей умышленной грубоватостью, импрессионистической раскраской, сильными, сочными и простыми красками. В них всегда оставляется кусочек, не покрытый глазурью, для того чтобы можно было видеть качество глины. Стекающей и капающей с вещи глазурью иногда пользуются как благодарным декоративным средством. Пейзажные мотивы орнаментальной живописи постоянно стилизуются соответственно технике. С развитием этой отрасли искусства в Киото связаны имена знаменитых художников. Живописец Нинсеи, живший в середине XVII столетия, считается мастером в этой области, освободившим японское искусство от китайского и корейского влияний. Ему приписывают введение в употребление отличного сочетания трех красок, золотой, синей и зеленой, на фоне цвета крем – сочетания, сообщающего многим сосудам, вышедшим из мастерских Киото, столь своеобразную прелесть.
Рис. 629. Старинная сацумская ваза. По Гонзе
Редкая изобретательность Нинсеи выказывалась как в формах его сосудов, так и в выходивших из его рук небольших пластических произведениях. Этому художнику принадлежит сосуд, изображенный на рис. 628, заимствованном из одного иллюстрированного японского сочинения. Но в первой половине XVIII столетия младший брат и ученик Корин Огата Кенцан (1661-1742), которому Бринкманн посвятил особое сочинение, занял в Киото как орнаментист положение не менее почетное, чем то, которое занимал сам Корин Огата. Он выделывал посуду для употребления в чайных обществах и соединял быструю, но верную передачу ландшафтной природы с необычайной технической стильностью; его краски, из которых изумрудно-зеленая покрывает часто целые поверхности, отличаются силой и роскошью, которым не найти подобных. В Гамбургском художественно-промышленном музее имеется одна из прекраснейших, но не из самых обширных коллекций изделий Киото.
Наконец, в провинции Сацума дольше всего сохранялись корей ские традиции. Настоящие и ненастоящие изделия этой провинции, наводнявшие Европу в конце XIX – начале XX в., как в XIX столетии наводнял ее фарфор Гицена, не могут отвратить нашего вкуса от действительно старого Сацума. По Бринкманну, прекраснейшими из "старых Сацумов" следует считать "те благородные изделия, в которых в течение полутораста лет единственное украшение мелкой посуды, исключительно изготовлявшейся из местной глины, составляла глазурь молочного цвета или цвета слоновой кости, равномерно усеянная мелкими трещинами и служившая впоследствии, на настоящих изделиях Нисики де Сацумы, отличным фоном для нежной росписи золотой и другими красками (так называемой парчовой росписи, живописи брокат). Ваза на рис. 629 при надлежит к этому роду изделий; коллекция Бинга в Париже.
4. Японское искусство в 1750-1850 гг .
Последняя пора великого расцвета японского искусства начинается в середине XVIII столетия и оканчивается во второй трети XIX. В это время высокое состояние национального японского искусства выражается его реализмом в народном духе. Некоторые исследователи полагали, что только искусство первой половины этого периода вполне заслуживает названия японского, искусство же второй половины, когда появился в нем Кацусика Хокусаи, которого вначале боготворила Европа, они признают уже затронутым знанием европейской перспективы и европейским чувством природы; однако с таким мнением мы можем согласиться только отчасти. Умышленные подражания европейскому искусству мы вообще не принимаем в расчет. Введение в употребление европейских анилиновых красок кажется и нам непростительным шагом назад. Хотя японцы стали постепенно открывать, что существуют более правильная перспектива и более верная анатомия, чем те, которые были известны китайцам, мы не можем, однако, пенять их художникам за то, что на практике они пользуются этими открытиями в очень умеренной степени и наряду с этим отнюдь не перестали смотреть на свою восточноазиатскую природу восточноазиатскими глазами. Фактически эти открытия начались еще в первой половине рассматриваемого периода. Сюнсо, Харунобу и Кийонага в своей как бы то ни было стильной манере делали в пользу новой перспективы и новых форм едва ли меньшие уступки, чем Хокусаи и его сподвижники делали впоследствии, подчиняя свое чувство стиля чувству натуры.
Рис. 630. Поэтесса Комати. Нецке Мивы Старшего. По Гонзе
Прикладное искусство, в котором теперь все чаще и чаще встречаются имена художников, по-прежнему преобладает у японцев. Изображенные на наших рисунках нецке принадлежат уже этому времени, а именно "Поэтесса Комати" работы Мивы Старшего, находящаяся в коллекции Дрейфуса в Париже (рис. 630), относится к середине, а "Улитка" Тадатоши из коллекции Бинга (см. рис. 608) к концу XVIII столетия. Но японским прикладным искусством этого времени руководила также реалистическая живопись, лучшие представители которой доставляли ему несчетное количество образцов. Живопись была господствующей отраслью искусства и в этом периоде, и с ней в еще более тесной связи находилась хромоксилография. Знаменитейшие живописцы того времени были вместе с тем и известнейшими мастерами цветных гравюр.
Рис. 631. Окио. Синица и жук. По Гонзе
Школа Шийо, процветавшая в Киото и получившая свое название от одной из улиц этого города, а равно и современная ей собственно народная школа Укийё-э, которую называют также вульгарной или художественно-ремесленной школой и резиденцией которой был город Эдо, стремились обе к схожим целям, держались почти параллельного направления. Но при этом школа Шийо шла преимущественно еще по колеям, проложенным китайцами, тогда как школа Укийё-э пролагала для себя пути самостоятельно.
Главные мастера школы Шийо: Окио (1733-1795), Гошун (Гоккеи, называемый также Иенцаном, 1741-1811), Сосен из Осаки (1747-1821) и Йосаи (1787-1871). К ним может быть причислен лишь косвенным образом пятый мастер, Ганку (1749-1838).
Окио вышел из китайской школы Нан Пинга, поселившегося тогда в Нагасаки, но благодаря тому, что он внимательно изучал природу, его изображения, особенно птицы, насекомые, рыбы и цветы, отличаясь миниатюрной тонкостью исполнения, производят впечатление самой действительности. О его искусстве может дать понятие картинка из коллекции Гонзе в Париже (рис. 631). Гошун произошел из школы Кано, но, подобно Окио, стремился к высшему и свободному развитию своего таланта. В его пейзажах много свежести и натуральности, хотя основной их характер – китайский. Гошун доставлял образцы для вышивальщиков Киото и, образовывая учеников, сделался одним из самых влиятельных мастеров школы Шийо. Сосен был в этой школе замечательным живописцем животных. В особенности хорошо изучил он обезьян южных лесов Японии, со всеми их играми и прыжками. По свидетельству Андерсона, девять десятых его картин изображают обезьян. Нарисованные отчасти бегло и широко, отчасти с удивительной тонкостью и мягкостью, эти изображения соединяют в себе свежесть впечатления, вынесенного художником из наблюдения натуры, с неподдельной художественной прелестью. Доказательством этого может служить "Обезьяна" Сосена из коллекции Гонзе (рис. 632). Йосаи, один из известнейших японских художников XIX столетия, был в школе Шийо, собственно говоря, живописцем человеческих фигур. Он перешел в эту школу из школы Кано и посвятил себя преимущественно историческо-бытовой живописи. Вместе с тем он принадлежал к числу немногих художников школы Шийо, работавших для гравирования на дереве. Его большой двухтомный труд "Ценкен койицу" представляет героев Японии в их деяниях, поэтов и мыслителей Страны восходящего солнца в их костюмах и с их грезами. В его стиле осталось мало китайского, и он, быть может, слишком умышленно старался подражать европейцам. Наконец, Ганку, основавший в Киото собственную большую школу, в своих изображениях, особенно в знаменитых, исполненных черной краской на белом фоне картинах из жизни животных, снова примыкает непосредственно к китайским мастерам династии Сун. Все эти художники, равно как и следовавшие за ними, прекрасно представлены в Британском музее и во французских коллекциях, менее хорошо в коллекции Гирке в Берлине и лучше всего – в больших американских коллекциях, особенно в Бостонском музее.
Рис. 632. Сосен. Обезьяна. По Гонзе
Развитие школы Укийё-э мы проследили почти до середины XVIII столетия. В то время она ставила себе главной задачей изображать актеров и модных красавиц столицы сёгунов, причем для размножения и распространения своих произведений пользовалась хромоксилографией.
В середине XVIII столетия по части трехцветной живописи выдвинулись на передний план Хасикава Тойонобу (ум. в 1789 г.), ученик Шигенаги, заменивший третью, желтую, краску синей, и Тории Кийомицу (ум. около 1765 г.), который изображал кроме быта актеров сцены купания и другие сюжеты из повседневной жизни в стиле Укийё-э. Когда деятельность Кийомицу подходила к концу, смелым новатором явился Харунобу.
Судзуки Харунобу (ум. около 1779 г.), ученик Шигенаги, считавший себя слишком великим для того, чтобы изображать актеров, но с тем большей любовью изображавший красивых развратниц города Эдо, играет главную роль в истории хромоксилографии. Начав с 1765 г. употреблять для печатания пять, шесть и более досок, он довел технику этой отрасли искусства до совершенства. Поэтому Зейдлиц называл его первым из "новейших" мастеров. Особенность его манеры – совершенное покрытие краской всего фона гравюры – повела его в отношении перспективы дальше, чем большинство его современников. Однако его краски лежат, все еще не смешиваясь, одна подле другой, вроде цветного сплава в ячеистой эмали. Харунобу считается также изобретателем тех карточек с очаровательными, причудливыми рисунками, с золотым и серебряным тиснением, которые японцы любят дарить друг другу в Новый год и по другим случаям; они известны в Японии под названием "суриномо" и находят себе в Европе столь страстных коллекционеров. На рис. 633 – копия с оригинальной ксилографии этого художника, находящейся в Дрезденском кабинете гравюр. Она изображает певицу, за которой служитель несет ее музыкальные инструменты.
После Харунобу представителями высшего состояния школы Укийё-э в первой половине рассматриваемого периода, почти совпадающей со второй половиной XVIII столетия, являются Шигемаса, немногие, но разнообразные произведения которого отличаются чистотой контуров, Кориусаи – живописец роскошных по краскам жанровых сюжетов и изображений животных, Кийонага (1750-1814) – представитель "величественно-простого и прекрасного" и Сюнсо (ум. в 1792 г.) – особенно искусный изобразитель актеров. Величайшим мастером по части хромоксилографии большинство знатоков истории японского искусства признает Тории Кийонагу. Его листы, представляющие актеров и женщин, еще чище по контурам и яснее по красочным тонам, чем эстампы Харунобу. В некоторых из его произведений нежный аккорд составляют краски лиловая, красная цвета лососины, желтая и матовая зеленая. Он – истинный классик в этой отрасли искусства.
Соперник Кийонаги Кацукава Сюнсо – родоначальник ветви своего имени, отделившейся от школы Укийё-э. Он считается самым пламенным изобразителем артистов театральной сцены и артисток по части любви. Известнейшие из его серий актеров и красавиц вышли в свет в 1770 и 1776 гг. В 1774 г. он издал, кроме того, сборник ста портретов поэтов. Своим подвижным фигурам он умел придавать страстность и соблазнительность, их лицам с высоко поднятыми бровями, длинными носами и косыми глазами, лицам, самим по себе ничтожным и похожим на маски, – привлекательное, несколько чувственное выражение, а их богатым, пышным одеяниям, очаровывающую гармонию красок. От его работ в XIX столетии приходили в восторг парижские знатоки искусства.
К Кийонаге примыкает по стилю знаменитый Утамаро Китагава (1754-1797), которому в 1886 г. Эдм. де Гонкур посвятил особую монографию. Но по сравнению с Кийонагой Утамаро больше маньерист, чем классик. Фигуры и лица у него вытянуты, женщины стали отличаться болезненно-вялыми движениями, в его гравюрах распространился фантастический символизм, характеризующий его как художника эпохи упадка.
Последние пять из названных мастеров известны также и как живописцы. Все они были представлены своими картинами на Нью-йоркской выставке 1896 г. Так, например, на ней находилось принадлежащее Феноллозе какемоно работы Шигемасы, изображающее оживленную движением дорогу, проходящую мимо рисовых полей. Феноллоза говорил, что нет другого пейзажа школы Укийё-э, который до такой степени, как этот, возбуждал бы в знатоке Японии тоску по этой стране богов. Из произведений Кориусаи была выставлена большая доска стенной ширмы с изображением старушки, бывшей танцовщицы, с фонарем и узлом в руках. Феноллоза считал эту картину одним из лучших произведений художника. Кийонага был представлен картиной из коллекции Вандербильдта, написанной в 1781 г. и представляющей трех девушек на берегу реки, и картиной из коллекции Феноллозы, 1789 г., изображающей девушку в светло-красном платье под ивой. Феноллоза относительно первой из этих картин говорил, что передача в ней воздуха не поддается никакому описанию, а во второй отмечал невиданную своеобразность красной краски. Из работ Сюнсо было выставлено принадлежащее Феноллозе какемоно, представляющее даму за туалетом, причем ее отражение поразительно хорошо рисуется в зеркале. Наконец, была картина Утамаро Китагава из коллекции Вандербильдта, с двумя девушками, возвращающимися с купания; Феноллоза называл эту картину "триумфом живописи", и притом "крайне оригинальной".
Рис. 633. Японская цветная ксилография Харунобу. С оригинала
Несколько позже Сюнсо выступил на сцену Тоёгару Утагава, глава известной под его именем ветви той же школы. Тоёгару Утагава, умерший в начале XIX столетия, писал преимущественно многофигурные сцены в закрытых помещениях, особенно сцены в театрах и чайных домах, причем, несмотря на обилие действующих в них лиц, умел располагать их без спутанности, отличался разнообразием и теплотой красочных тонов и в своих композициях заставлял звучать струны внутренней жизни. На Нью-йоркской выставке ему принадлежали четыре картины.
Сюнсо и Тоёгару – родоначальники большинства выдающихся художников школы Укийё-э XIX столетия, в течение которого живопись этой школы постепенно набирала популярность. В книгах давно уже помещались иллюстрации к поэмам и повестям, рисунки сюжетов, взятых из всех областей жизни, наряду с излюбленными изображениями сцен в театре и чайных домах. Путеводители содержали в себе множество видов городов с кипящей в них жизнью, уличных сцен, горных пейзажей. Но вскоре стали появляться целые серии рисунков, не имеющих связи между собой, и отдельных гравюр, изображающих всевозможные сцены повседневной жизни и японские пейзажи в своеобразной красоте различных времен года.
Любимый ученик Сюнсо Хокусаи (1760-849), пользовавшийся громкой известностью в Европе и наиболее ценимый из всех японских художников, родился в Эдо и в течение всей своей жизни, проведенной в непрестанном труде, произвел невероятное количество картин, рисунков и, главным образом, гравюр на дереве. Картины его встречаются сравнительно редко. Однако Британский музей владеет большим шелковым какемоно его работы, с картиной на сюжет из японской героической саги, – картиной смелой, величественной и несколько причудливой по рисунку и тяжеловатой по колориту. Коллекция Гирке в Берлине содержит в себе кроме серии слегка набросанных этюдов Кацусика Хокусаи два его небольших листа, изображающих жанровые сцены; его работы встречаются также в английских и французских частных коллекциях. Но особенно много его картин находится в больших американских коллекциях. На Нью-йоркской выставке 1896 г. их было более дюжины. Об одной группе женщин, изображенной в натуральную величину на стенной ширме (находившейся во владении Кетчема), Феноллоза говорил: "Нет ни одного европейского мастера, начиная с Дюрера и Тициана, потом с Веласкеса и кончая Сарджентом и Уистлером, который не приветствовал бы это произведение как одно из самых выдающихся в мире".
Оригинальность и разносторонность Хокусаи вполне выказываются в его гравюрах на дереве, изучение которых, начатое в 1882 г.
Рис. 634. Хокусаи. Японские акробаты. Гравюра. По Бингу
Дюре, сделало с того времени такие успехи, что уже стали появляться в Европе и Америке критические каталоги его эстампов. Хокусаи не принадлежит к числу художников, созревших рано. Ход его развития трудно проследить с начальных опытов его творчества. Он уже успел снабдить рисунками несчетное множество романов, поэм и исторических сочинений, когда в 1789, 1800 и 1802 гг. издал свои тонкие по настроению виды Эдо и его окрестностей в хромоксилографиях, прославившихся гармоничным сочетанием трех красок – красной, золотисто-желтой и матово-зеленой. Ему уже минуло 50 лет, когда он предпринял издание "Манга", сборника беглых эскизов, изображающих всякого рода сюжеты из области прошлого и современного, особенно из повседневной народной жизни, – труда, сразу поставившего его в ряд знаменитейших художников Японии, по крайней мере одной с ним специальности. Первый из 14 томов этого гигантского труда, передающего в ряде гравюр, печатанных всего тремя досками и легкими тонами, неисчерпаемое обилие художественных наблюдений и впечатлений, появился в 1812 г., а последний – в 1849 г. (рис. 634). Следовательно, этим сборником он был занят в течение почти сорока последних лет своей долгой жизни, что, однако, не помешало явиться в это же время всем прочим знаменитым его произведениям. Из столь любимых восточноазиатским искусством серий портретов знаменитых людей и женщин прошлого времени следует отметить "Китайских героев и героинь" Хокусаи, изданных в 1829 г., "Японских полководцев" (1834), "Японских героев" (1836); из его пейзажных ксилографий в особенности пользуются известностью 100 печатанных двумя досками видов горы Фудзи, этого свидетеля вечности, непрестанно взирающего на юдоль скоропреходящей и изменяющейся человеческой жизни (рис. 635), 36 видов той же горы, более богатых красками, и 8 цветных видов светящегося озера Бива; из руководств, изданных Хокусаи для художников и ремесленников, надо указать на книгу рисунков человеческих фигур (1815), на книгу для занимающихся художественными ремеслами (1835) и на образцы работ для столяров и резчиков по дереву (1836). Как видим, редко кто-либо превосходил Хокусаи в отношении многосторонности; но и по непосредственности в передаче каждого предмета с его наиболее характерной и наиболее естественной стороны, по смелости и твердости рисунка, национальной своеобразности чувства живописности, не покидавшей Хокусаи даже в самых простых из его этюдов с натуры, трудно – что ни говорили бы против этого – найти в Японии равного ему художника. Если же в отношении понимания перспективы лишь едва заметно удалился от тех восточноазиатских воззрений, в которых был воспитан, то все-таки решительно порвал в своем творчестве связь с каллиграфическим стилем, обусловленным десятью правилами приема письма, о которых мы говорили (см. рис. 610). В отношении внутреннего содержания произведения Хокусаи не отличаются особенной глубиной мысли, но в них много любви к правде, тонкого вкуса, теплого чувства природы и нередко юмора, который смеется над всем, потому что все видит насквозь. Во всяком случае, для нас Хокусаи – настоящий художник и истинный японец. Его учеником считается Гоккеи, рисунок которого, изображающий рыбака, находится в коллекции Т. Дюре в Париже (рис. 636). Как гравер на дереве Гоккеи шел по стопам Хокусаи: его "Манга" – подражание сборнику Хокусаи "Манга".
Рис. 635. Хокусаи. Журавль и гора Фудзи. Гравюра. По Бринкманну
Наряду с этим последователем Кацукавы Сюнсо, мы должны проследить за преемниками школы Тоёгару Утагавы. Ее ученик Тоёкуни Утагава (1772-1828), которого Гонзе называл великим, а Феноллоза прославлял еще в 1884 г., был одним из любимейших хромоксилографов школы Укийё-э. Ему приписывают введение пурпурной краски в гамму колеров гравюры. Брат этого художника, Тоёгаро Утагава (ум. в 1828 г.), прославился кроме своих книжных иллюстраций цветными гравюрными пейзажами, отличающимися более правильной перспективой, нежели та, которая до тех пор была известна японцам, и вместе с тем чисто японским импрессионизмом. Так, например, в одном приморском виде этого художника линия горизонта моря совсем отсутствует, но пара далеких парусов, изображенная на высоте этой линии, дает чувствовать ее вполне. Тоёгаро, кроме того, играет в истории развития японского пейзажа видную роль как учитель Хиросигэ Андо (1797-1858), художника, ушедшего вперед дальше всех японских пейзажистов. Славу Хиросигэ доставили главным образом отдельные листы гравюрных пейзажей, которые он издавал. У него появляются европейские перспектива, передача теней, зеркальность воды; но эти все еще далеко не вполне усвоенные им технические приемы нисколько не нарушают его основного, сильно декоративного, японского приема передавать природу (рис. 637). Изображая, например, громадные синие волны, набрасывающиеся на берег, их пену он рисует согласно старинной орнаментальной схеме волн; темно-синий цвет его дневного неба или ярко-красный вечер него – умышленные усиления красок природы для пущей внятности декоративного эффекта. В XIX столетии японское искусство не могло принять никакого другого направления, кроме этого.
Рис. 636. Гоккеи. Рыбак с зонтиком. Рисунок. По "Gazette des beaux-arts"
Рассматривая историю японского искусства, мы дошли до ко нечного пункта его развития и вместе с тем развития восточноазиатского искусства вообще. Для Японии, которой, после того как она в конце XIX в. усвоила себе европейскую науку и технику, удалось шутя победить исполинскую Китайскую империю, разумеется, уже стало невозможным когда-либо снова преклониться перед китайскими художественными воззрениями. Спрашивается, достаточны ли ее собственные художественные силы для того, что бы, с одной стороны, неизменно держаться своей национальной орнаментики, к которой вся европейская мудрость не в состоянии прибавить что бы то ни было, а с другой – дать своему свободному искусству пустить новые корни на естественно-исторической почве европейского художественного знания (анатомии, перспективы и пр.) и оставаться при этом верной своему восточноазиатскому и национальному японскому чувству.
Рис. 637. Хиросигэ Андо. Буря. Хромоксилография. С оригинального эстампа
Великое индо-восточно-азиатское искусство в его совокупности составляет противоположность великого западно-азиатско-европейского искусства в его совокупности, которое, будучи древнее, чем оно, во все времена, языческие, христианские и магометанские, оказывало на него разностороннее влияние, до сей поры еще недостаточно различимое во всех произведениях, но нигде, ни в Индии и Тибете, ни в Китае и Японии, совершенно не изгладило основных национальных черт этого искусства. Добуддийское индийское искусство, о котором сохранились лишь поэтические воспоминания, и добуддийское китайское искусство, известное нам – если не считать древних бронзовых сосудов – почти только по рисункам китайских историографов, по-видимому, отличались одно от другого почти так же, как вообще отличаются друг от друга арийский и монгольский склад ума. Так как Индия, перейдя вскоре после введения в ней буддизма к зодчеству и ваянию из камня, сделала решительный шаг вперед на поприще монументального искусства, то это окончательно отдалило ее, в отношении художеств, от Китая, в котором господствующую роль сохранили за собой каллиграфия и прикладное искусство. Но затем буддийское образное искусство Индии, главная сила которого заключалась в происходившем не без влияния со стороны греко-римского искусства развития типов богов и святых и в группировке их в изображении повествовательного характера, – разлилось широким потоком с севера Индии по Тибету и Китаю, достигло Кореи и Японии, всюду оплодотворяя чужие нивы, но нигде не затопляя их и не теряясь в них. Буддийско-брахманское же монументальное искусство Индии распространилось через Юго-Восточную Азию до отдаленнейших островов архипелага и, всасывая в себя новые силы из этой новой почвы, породило в Индокитае, равно как и на острове Ява, такие дивные художественные произведения, столь громадные и фантастически величественные, которые едва ли можно найти на его родине. Тем временем китайское национальное искусство, ничтожное и мелочное, выросло в стройное дерево, наиболее пышные цветки которого не были лишены ни благородства форм, ни нежного благоухания, и это цветущее дерево китайского искусства распространило свои ветви по Корее и Японии, где они – особенно в Японии – приносили зрелые, превосходные плоды до тех пор, пока в тени этих ветвей не стали вырастать новые, местные побеги, покрывшие почву свежей, сочной зеленью, но принявшиеся собственными силами стремиться к небу не раньше того, как окончательно сгнили осенявшие их ветви одряхлевшего китайского дерева.
Книга седьмая Исламское искусство
I. Исламское искусство на западе от Евфрата
1. Главные черты исламского искусства
Вера в единого невидимого Бога, которого даже грешно представлять в человеческом образе, убеждение в неотвратимом предопределении судьбы, ожидающей каждого смертного, и надежда на вечную жизнь, в которой правоверный награждается за все земные лишения тысячью чувственных наслаждений, – таковы были три путеводные звезды, светившие полчищам арабов, когда они в VII в. н. э. покорили полмира себе и учению своего пророка. Магомет умер в 632 г. Четверть века спустя после того Египет, Сирия, Месопотамия, Армения, Персия и Родос были уже во власти арабов; затем как бы сам собой подчинился им весь север Африки, и когда в 750 г. Аббасиды низвергли Омейядов, наследственных халифов, резиденцией которых был Дамаск, Абдаррахман, последний халиф этого рода, бежал в Испанию и основал там самостоятельный Кордовский халифат. Аббасиды, владевшие арабским государством с 750 по 1258 г., перенесли свою резиденцию из Дамаска в Багдад, где при Гарун-аль-Рашиде (786-809), могущественном современнике Карла Великого, арабская самобытность достигла высшего расцвета.
После смерти Гарун-аль-Рашида началось распадение арабской всемирной монархии на различные магометанские ветви. Египет получил независимость в 868 г. с династией Тулунидов, Персия – в 870 г. с династией Саффаридов; Сицилия стала самостоятельным эмирством при египетской династии Фатимидов (с 969 г.), но уже в 1090 г. этот остров, вследствие его завоевания норманнами, был окончательно утрачен для ислама. В Сирии и Малой Азии с 1070 г. стало распространяться турецкое владычество сельджуков. Крестовые походы были тщетной попыткой Запада сломить могущество ислама и его последователей. С начала XIII столетия монголо-татарские орды Чингисхана и его преемников начали наводнять страны, покоренные исламом. В 1258 г. монголы взятием Багдада закончили завоевание арабского халифата. Но, приняв ислам, они внесли в арабскую культуру новую кровь и жизнь. В XIV и XV столетиях турки-османы, будучи теснимы к западу, завоевали Балканский полуостров; в 1517 г. им подчинился также Египет, и хотя в Испании владычеству мавров был навсегда положен конец еще в конце XV столетия, однако и доныне, как 600 лет тому назад, знамя полумесяца все еще развевается над зданиями Константинополя.
В Индии и дальше на Востоке ислам начал распространяться с конца XII столетия, сперва через посредство татар, а потом монголов. Великие монголы, властвовавшие в Индии в XVI в., исповедовали учение арабского пророка; поэтому в ней, как и в Персии, в течение XVI и XVII столетий своеобразно процветали магометанские или, вернее, полумагометанские искусства и науки.
Припомнить этот ход распространения магометанства было для нас необходимо для того, чтобы составить понятие о том, из сколь различных элементов образовалось искусство ислама в разных его областях, большинство которых вначале имело свое искусство. Только у арабов не было собственного искусства, сколько-нибудь заслуживающего внимания. Поэтому когда у них явилась потребность строить храмы, они везде пользовались услугами архитекторов из покоренных ими народов, а также, где находили, как, например, в Сирии, христианские сооружения, которые можно было приспосабливать для потребностей арабского богослужения, делали это без долгих рассуждений.
Общность вероисповедания вызвала общность основных духовных воззрений, отразившуюся в искусстве. Внутренняя связь между различными преемниками эллино-римского искусства, с которыми всюду соприкасалось арабское искусство, оказалась достаточно крепкой для того, чтобы возбудить везде родственные между собой процессы развития; со своей стороны, сходство местных и климатических условий, среди коих возникло искусство ислама, повело, при одинаковых строительных потребностях, к сходственным повсюду, хотя и не вполне тождественным художественным результатам.
Исламское искусство – главным образом зодчество, художественно-промышленное производство и связанная с ними орнаментика. Ваяние и живопись не развивались, потому что магометанская религия не дозволяет изображать ничего живого. Правда, благодаря исследованиям Шака, Карабасека и Гайе нам известно, что прямое запрещение картин и статуй встречается только в устных изречениях пророка, признанных отнюдь не всеми магометанами, а потому с этим запрещением и не считались ни в первые времена ислама, ни потом, в более свободомыслящих его провинциях. Однако не подлежит сомнению, что национальное отвращение арабов от изображений каких бы то ни было живых существ действительно произвело в исламском искусстве большой пробел почти совершенным исключением из него картин, а ваяние, в особенности круглая пластика, страдали от этого предрассудка в еще большей степени, чем живопись, имеющая менее "телесный" характер. Тем не менее из стран, принявших ислам, в Персии и Индии живопись достигла некоторого процветания, но лишь по завоевании их монголами, которые принесли с собой китайские влияния и образовали в рамках ислама новое искусство, имевшее весьма мало общего с арабскими традициями. Даже мусульманская живопись книжных миниатюр, которой Эд. Блоше посвятил большую статью в "Gazette des beaux-arts", процветала преимущественно на востоке от Евфрата.
Основные принципы и формы магометанских архитектуры и орнаментики произошли от византийского искусства Восточной Европы и Западной Азии, от коптского искусства Египта и от сасанидского искусства Персии, которые все, в свою очередь, произошли от эллино-римского искусства. С сасанидским искусством мы уже знакомы. Византийское и коптское искусства, как ветви искусства первых времен христианства, будут рассмотрены нами во втором томе. Тем не менее необходимо теперь же вкратце отметить некоторые главные черты их зодчества и орнаментики.
Византийская архитектура разрабатывала преимущественно купол, и так как обычно главным куполом покрывалось среднее пространство здания, то вскоре она выработала тип центральнокупольных построек. Купол опирался на четыре или восемь столбов. Клинообразный отрезок сферы (парус, или пандантив) служил переходом от четырехугольной или восьмиугольной формы нижней части сооружения к круглоте верхней части. На колоннах, поддерживающих арку, вместо антаблемента с выпуском, как находим мы это в базилике Максенция и в термах Диоклетиана в Риме, появляется иногда особый "импост", или "подушка", кусок камня с четырьмя трапециевидными гранями, помещенный между капителью и пятой аркой; соответственно этому и сама капитель довольно часто принимает форму куба со скошенными книзу гранями. Однако эта византийская кубовидная капитель не вытеснила из византийской архитектуры древней коринфской капители, украшенной листьями аканфа. Обе формы находили себе применение одна рядом с другой. Листы аканфа на чашевидной капители превратились в более мелкие и острые и все больше и больше геометризировались. Боковые поверхности кубовидных капителей стали украшаться символическими знаками или плоскими стилизованными листьями.
Рис. 638. Капитель с надставкой. Из храма св. Софии в Константинополе. По Риглю
На стенах стали появляться также более плоские узоры, нередко исполненные мозаикой. Во всей этой византийской плоской орнаментике, состояние которой при переходе от римского искусства к арабскому мастерски описано А. Риглем, главную роль все еще играет древний волнообразный растительный усик в измененном виде, неорганический в смысле растительной формы, но логичный в геометрическом смысле. Цельные листья разрезаются теперь на три полосы или на несколько полос со вздутыми контурами, и "эти трехлопастные и четырехлопастные (или многолопастные) листья", как выражался Ригль, "приноравливаются к различным конфигурациям того пространства, которое должно быть ими заполнено" (рис. 638). Но все эти разрезанные на части листья могут быть по произволу орнаментиста сложены вместе и загнуты во все стороны, пока соседние прилистники не сплетутся и не пересекутся с ними своими остриями. Образуются узоры, равномерно распределенные по всей поверхности, и усики, из которых состоят эти узоры, соединяются уже не в круглые по преимуществу, как в греко-римском искусстве, а в заостренно-овальные, нередко ромбовидные сетки. Чисто геометрический узор соединяется с растительным, и ленточные сплетения, которые часто привходят в него, обрываются или перегибаются. Во всем этом византийская орнаментика оказывается непосредственной предшественницей арабской, или, как выражаются иные, сарацинской орнаментики.
С коптским искусством, то есть египетским первых времен христианства до завоевания долины Нила арабами, до некоторой степени ознакомили нас главным образом сочинения Ал. Гайе, Г. Эберса и А. Ригля. Вполне доказано, что Египет усеян развалинами коптских церквей и монастырей VI-IX в.; сверх того, Гайе доказал, что коптская архитектура держалась направления, противоположного византийскому в двух отношениях. Она пренебрегала куполом в пользу плоских террасовидных крыш и циркульной аркой в пользу приподнятой и изломанной, нередко переходившей в настоящую стрельчатую, но которая обычно имела лишь конструктивное значение "кирпичной балки", то есть представляла собой лишь особый род соединения колонны с колонной, при котором покоящаяся на арке стена оканчивалась вверху совершенно прямолинейно.
Коптскую орнаментику мы находим главным образом на многочисленных фрагментах стен, относящихся к вышеозначенным столетиям и взятых из египетских саркофагов. По этим фрагментам античное происхождение ее так же очевидно, как и орнаментики в византийском искусстве; переделка мотивов совершается в ней в том же направлении, что и там: она состоит в упрощении многих классических образцов, в возвращении к геометризированию некоторых отдельных мотивов и, наконец, в развитии той полигональной системы, которая является снова в арабском и мавританском искусствах.
Конечно, остается еще вопросом, насколько правильно мнение Гайе, утверждавшего, что коптское искусство развивалось отдельно от византийского и оказало преобладающее влияние на раннее арабское искусство. Ригль, резко расходившийся во взглядах с Эберсом и Гайе, не видел в развитии коптского и византийского искусства никакой существенной разницы в отношении образования растительной орнаментики. Юлий Франц-Паша также считал византийское и сасанидское влияние на развитие искусства арабов более сильным, чем коптское.
Важнейшие произведения исламской архитектуры – мечети и медресе, то есть духовные училища, которые всегда были соединены с мечетями, а часто и с камерами над могилами; кроме того, в ней играют важную роль дворцы, гостиницы (караван-сараи) и усыпальницы (мавзолеи, турбы). Главные составные части этих зданий – дворы, окруженные аркадами, залы с плоским покрытием и по большей части со множеством колонн, связанных между собой арками, над которыми обычно возвышается поддерживаемая ими верхняя часть стены, и, наконец, помещения под куполом, который сделался достоянием мусульманского зодчества лишь с течением времени и с различными изменениями своей формы.
Мусульмане считают свои мечети не жилищами божества, а молитвенными домами. Собственно храмом была у них всегда Кааба в Мекке, и к ней несутся мысли правоверных во время молитвы. Поэтому главная ось молитвенного зала (мирхаб) всегда направлена к Мекке. Молитвенный зал, будучи главной частью собственно святилища, или имел плоскую кровлю, или увенчивался куполом, примыкал со стороны, обращенной к Мекке, к большому двору, окруженному аркадами и предназначенному для омовений, и возвышался над ним несколькими ступенями. Часто святилище составляли только увеличенные численностью ряды аркад на молитвенной стороне двора. Минареты, стройные, красиво расчлененные башни, опоясанные балконами, появились, равно как и купола в мечетях, уже в эпоху полного развития мусульманского искусства: в молитвенных домах первой эры арабского искусства не было ни куполов, ни минаретов. Во всяком случае, эти изящные башни, высоко поднимающиеся на фоне голубого неба над городами Востока, принадлежат к числу наиболее оригинальных созданий исламского искусства, отвечающих непосредственным потребностям новой религии.
Рис. 640. Формы арок: а – египетская стрельчатая; б – мавританская подковообразная; в – индийская килевидная. По Францу-Паше (а, б), Шназе (в)
Рис. 639. Колонны Дворика львов в Альгамбре. По Францу-Паше
Архитектурные формы в этом искусстве не отличаются конструктивной последовательностью; даже традиционные формы имеют по большей части лишь декоративное значение. Внешние стены зданий обычно бывают просто гладкие. Большей частью они стоят прямо на земле, без цоколя; на них нет даже карнизов, разделяющих ярусы, и опоясывающая их полоса фриза, над которой возвышаются увеличивающие задние зубцы, заменяет собой выступающий вперед главный карниз архитектуры западных стран. Зато ровную поверхность стены оживляют чередующиеся между собой ряды разноцветных камней; ее монотонность нарушается, кроме того, нишами, балконами, дверями и окнами роскошной и разнообразной формы. Колонны внутри здания, несущие на себе тяжесть арок, большей частью гладкоствольные и сравнительно низкие. Где было удобно, их заменяли античными или византийскими колоннами, которые перемешивались между собой крайне беспорядочно, что, по-видимому, указывает на отсутствие вначале всякой мысли об органическом развитии архитектуры ислама. Только веками выработалось нечто вроде ствола, из нескольких колец подножия, из многих колец на шейке, из кубовидной капители, снизу закругляющейся и украшенной по бокам арабесками (рис. 639). В арке почти везде избегается полуциркульная форма. Для того чтобы повысить колонны и облегчить тяжесть верхней части стены, аркам давали предпочтительно вытянутую вверх форму. Повышенная циркульная арка встречается нередко, но чаще ее заменяет ломаная, стрельчатая арка, которая в Египте имела общий для обоих бедер арки двуконечный замковый камень (рис. 640, а); часто встречается также подковообразная арка (б), бедра которой, так как ее очертание несколько больше полукруга, загибаются внизу вовнутрь, в ее пролет, и клиновидная арка (в), образуемая соединением подковообразной и стрельчатой арок, имеющая форму поперечного разреза корпуса судна, который повернут килем кверху. Настоящая стрельчатая арка чаще всего встречается в Египте, подковообразная – на мавританском севере Африки и в Испании, килевая – в Персии и Индии, где мы уже видели ее в древнебуддийскую эпоху (ср. стр. 647 и рис. 560). Но попадаются и гораздо более художественные формы арок. Арка в виде трилистника представляет собой соединение трех небольших арок в одну главную. Зубчатая арка, встречающаяся в различных видах, состоит из многих маленьких арок, бедра которых, сходясь одно с другим, образуют на внутреннем крае дуги свешивающиеся книзу зубья. Как колонны, так и арки часто соединяются по две и больше, чем по две, или переплетаются одна с другой и принимают крайне разнообразные и фантастические формы. Параллельно с аркой развивался также и купол. Простая, вытянутая кверху, яйцевидная форма сасанидского купола встречается редко. Стрельчатый в разрезе купол свойствен преимущественно Египту, втянутый книзу, подковообразный, – Испании, килевидный, принимающий форму луковицы, груши или других плодов, – Персии и Индии. Особенность развитого исламского искусства – капельник (сталактиты) или покрытый ячейками, похожий на пчелиные соты свод, который, не составляя конструктивного целого со зданием, но будучи вырезан из дерева или вылеплен из гипса, опять-таки выражает собой декоративный характер арабского искусства. Это не что иное, как круглопластичная метаморфоза зубчатой арки: свод распадается на большое число маленьких куполов или сводчатых ячеек, боковые стенки которых, встречаясь одна с другой под острым углом, свешиваются книзу в виде сталактитов (рис. 641). Сталактиты употреблялись для украшения не только ниш, равно как и полукуполов другого вида; даже капители колонн (рис. 642), пролеты арок и венчающие карнизы иногда орнаментированы сталактитами.
Рис. 641. Каирские сталактиты. По Гайе
Рис. 642. Каирская капитель, украшенная сталактитами. По Францу-Паше
Украшения стен внутри зданий бывают по большей части плоские и даже углубленные, резные и сквозной работы; несмотря на незначительную возвышенность своего узора, они не теряют этого характера. Отделка поверхностей наружных и внутренних стен исполнена часто из кафеля, то есть обожженных глиняных плиток, часто из стука или гипса, нередко также из дерева, причем деревянная резьба на навесах, балконах, карнизах обычно удерживает простые орнаментные мотивы, свойственные ее технике, тогда как боковые поверхности кафедр, шкафов и ящиков бывают украшены сколь нельзя более роскошными плоскими узорами.
С XII столетия при украшении зданий нашла себе широкое применение изящная глазурованная терракотовая плитка, или кафель, которая была известна еще в древности египтянам, вавилонянам и евреям, но потом во времена господства греческого искусства забыта, а в первые столетия ислама еще не была известна, по крайней мере как материал, отдельный от строительного кирпича. Она появилась в исламском искусстве внезапно в XI или XII столетии, где именно впервые – еще не удалось установить, в Египте или в Персии. Кафель состоит из ноздреватой обожженной глины, получившей благодаря глазури непроницаемость и сильный блеск своей окраски. В настоящем фаянсе обожженная глина покрывается непрозрачным слоем оловянной глазури, причем ее масса окрашивается вся в какой-либо цвет или же расписывается готовая поверхность специально употребляемыми для того красками до ее обжигания. Способ же наносить краски на уже обожженную глазурь, чтобы затем подвергать кафель третьему огню, называется муфельной живописью. Посредством муфельной живописи получается металлический блеск на фаянсах особого сорта, которые называются люстрированными фаянсами или фаянсами с металлическим отблеском. Люстрирование было в ходу больше всего в Персии и Испании. Золотистый блеск глазури во времена упадка этой техники все более и более превращался в медный. Совершенно иной род глиняных изделий получается при раскрашивании обожженного глиняного сосуда под глазурью, прямо по фону глины, если он достаточно светел; в противном случае роспись производится по особому слою поливы молочно-белого цвета, после чего сосуд покрывается бесцветной, прозрачной глазурью. От кремнезема, который в этом случае должен содержаться в массе глины и в глазури, такого рода изделия получили у англичан (и французов) название silicious glazed pottery, между тем как Отто фон Фальке называл их просто полуфаянсовыми. Фаянсом всех этих родов исламское искусство пользовалось не только в архитектуре, но и при изготовлении посуды. Особый вид кафеля – мозаичные пластинки, употребляемые преимущественно в Персии, но также и в Малой Азии и Турции: из глазурованных одноцветных пластин вырезаются криволинейные фигуры, и затем из таких разноцветных кусков составляются узоры.
Рис. 643. Арабский орнамент, состоящий из сплетающихся между собой многоугольников. В мечети-медресе султана Хасана в Каире. По Гайе
Вся восточная плоская орнаментика в том виде, в каком мы находим ее на стенах магометанских зданий, несмотря на очевидное происхождение свое от византийских, коптских, сасанидских, а также и эллинистическо-римских образцов, принадлежит к величайшим и наиболее самобытным созданиям исламского искусства. Главные составные части арабской орнаментики – прежде всего геометрические фигуры всякого рода и вида, не только прямолинейные, но и винтообразные, дугообразные, изогнутые вовнутрь и кнаружи, треугольные и многоугольные, являющиеся во всевозможных художественных сочетаниях и сплетениях (рис. 643), затем ленточные узлы и петли, которые употреблялись чаще для разделения поверхности на поля в виде сетки, чем для заполнения отдельных полей, наконец, собственно арабески (рис. 644), получившие это название как главная составная часть арабской орнаментики. Арабески, как вид строго стилизованного узора из растительных завитков, известны давно. Но лишь А. Ригль в сочинении "Вопросы стиля" впервые доказал, что они представляют собой не что иное, как узор из усиков эллинистическо-римского аканфа, стилизованных для заполнения больших, связанных между собой плоскостей, которые надо орнаментировать соответственно главным правилам непрерывного плетения до бесконечности. Как происходит эта стилизация в отдельных случаях, мы уже видели в византийской орнаментике, непосредственной предшественнице арабской (см. рис 638). Арабское искусство пользовалось новоприобретенными формами еще строже и логичнее, придало им несравненно больше роскоши и фантастичности, чем искусство первых времен христианства в Византии и Египте, стремившееся вообще к простоте. Другой случайной, особенно любимой только в некоторых местах составной частью магометанской орнаментики являются растения в их естественном виде (рис. 645) – листья, цветы и плоды в новой, легкой стилизации и стилизованные фигуры, фантастические или действительно существующие, даже человеческие фигуры и, наконец, повсюду изречения из Корана, начертанные или прямолинейными куфическими (рис. 646), или округлыми арабскими письменными знаками.
Рис. 644. Кусок борта в мечети Ибн Тулуна в Каире. По Прис-д’Авенну
Рис. 645. Арабеска с цветами. По Гайе
Все эти формы арабской орнаментики вставляются в сетку геометрических фигур, состоящую то из ромбов, то из четырехугольников, то прямолинейных, то изогнутых различным образом, и сверх того, оживляются роскошной раскраской, которая уясняет и обособляет отдельные составные части узора. Основной закон в арабском искусстве – заполнение целых полос и целых плоскостей, подлежащих орнаментированию, одним и тем же узором и равномерное распределение линий и красок на поверхности. Постоянно развиваясь, арабская орнаментика перешла от сравнительно простых к крайне сложным и пышным узорам этого рода, переплетающимся самым удивительным образом. В развитой арабско-мавританско-сарацинской орнаментике, которая является во всем своем блеске не только в архитектуре, но и в керамике, в иллюстрациях книг, писанных на пергаменте или на бумаге, в резьбе по дереву и слоновой кости, в насечках по металлу ("дамаскировании", особенно при изготовлении оружия) и в ткацком деле, выказывается строго расчетливый ум, соединенный с живой фантазией; мудрые изречения, заимствованные из Корана или у поэтов и обращенные в мотивы орнамента, со своей стороны, дышат живым духом арабского народного гения, вся мудрость которого выражается в стихе: "Нет Бога, кроме Бога, и Магомет пророк Его!"
Рис. 646. Арабеска с куфическими письменами. По Гайе
2. Исламское искусство в Аравии, Сирии и Египте
Если не считать Мекки и Медины, в которых древнейшие из построек не представляют собой ничего художественного, первым и самым древним поприщем деятельности арабских художников были Палестина, Сирия и Египет.
Восьмисторонний "купол скалы" (Куббат ас-Сахра) в Иерусалиме, здание, увенчанное деревянным куполом и заключающее в себе скалу Авраама, конечно, не может быть той мечетью, которую Омар построил тут в 637 г., хотя находящаяся в нем надпись и гласит, что это сооружение Омейядов, относящееся к первому веку ислама. Здание это было много раз реставрировано, но в своем первоначальном виде и по своему характеру оно является византийским центрально-купольным сооружением; колонны, поставленные между столбами, образующими два концентрических ряда подпорок внутри здания, взяты из более древних зданий. Мечеть Аль-Акса ("самое отдаленное святилище"), находящаяся близ этого "купола скалы", первоначально была христианским храмом с семью нефами, в нынешнем же своем виде, после неоднократных ее разгромов, воздвигнута из развалин только в 1236 г. Над серединой ее поперечного нефа высится купол. В ее архитектуре еще нет ничего арабского.
Большая мечеть в Дамаске, считающаяся у мусульман чудом света, была вначале также христианской церковью; переделка ее в мечеть, совершенная при халифе из дома Омейядов Валиде еще в начале VIII в., произведена при помощи византийских художников, а античные колонны, которыми она украшена, были выписаны из Сирии. Она реставрировалась в 1893 г. после постигшего ее пожара. С тремя продольными нефами и куполом над серединой поперечного нефа, поддерживаемым восемью столбами, она все еще производит впечатление христианской церкви; с северной стороны она открывается аркадой на чисто арабский двор, обнесенный слегка вытянутыми вверх арками. Мозаика на стенах византийской работы и представляет собой смесь пейзажных мотивов с орнаментными.
Рис. 647. План мечети Амра в Старом Каире. По Гайе
Типом настоящих мечетей была и остается мединская Большая мечеть. Она была окончена также при халифе Валиде. Сообразно единственно с потребностями правоверных, мечеть эта состоит из четырехугольного двора, окруженного с трех сторон четырьмя, а с южной стороны, на которой правоверные собираются на молитву, – восемью рядами аркад. План настоящей мечети, с большим передним двором, монументальным колонным залом, с "подобным склепу главным святилищем", молитвенной нишей, несколько напоминает планы древних египетских храмов, хотя преемственной связи между ними и ею нельзя доказать.
Проследить ход развития арабского искусства можно в Египте лучше, чем где-либо, благодаря большому сочинению Присс-д’Авенна "Арабские сооружения в Каире", познакомившему Европу с этим предметом в середине XIX в. Мечеть Амра, сооруженная коптскими зодчими по приказанию военачальника Омара, Амра Ибн аль-Аса, вскоре по завоевании Египта (в 642 г.) в предместье Старого Каира, перестраивалась так часто, что от первоначальной ее конструкции не осталось камня на камне. Но перестройки ее всегда производились по прежним планам, а потому она все-таки дает нам понятие о расположении настоящей древней мечети без куполов и минаретов (рис. 647). В ней, как и повсюду, посредине двора находится павильон с колодцем. Колонны ее аркад взяты также из разных античных зданий. Арки, поддерживающие верхнюю часть стен, на которых покоится плоский потолок, имеют стрельчатую форму. В древнейшей части сохранившихся наружных стен находится совершенно остроконечное окно. Внутри здания, с входной стороны, обращенной на запад, тянется только один ряд аркад на колоннах; на северной и южной сторонах двора таких аркад по три ряда, а молитвенная галерея, расширяющаяся в зал с колоннами и занимающая собой восточную сторону, состоит из шести рядов аркад.
Рис. 648. Вид арабески: а – арабеска из мечети Ибн Тулуна в Каире; б – переделка этого узора обратно в греческий. По Ал. Риглю
По такому же плану и все еще при помощи христианских мастеров соорудил Ахмед Ибн Тулун в 886879 гг. знаменитую мечеть Ибн Тулуна, древнейшую из каирских мечетей, сохранившихся в прежнем виде. Она не составлена из античных архитектурных частей, а представляет собой разукрашенное кирпичное здание, в котором соблюдены все формы развитой арабской стрельчатой архитектуры, которая, конечно, пользуется не одной только остроконечной аркой, как готическая, но, не изменяя общего вида всей постройки, употребляет также и циркульную арку. На трех сторонах двора этой мечети тянется по два ряда аркад, а на молитвенной стороне, обращенной к югу-востоку, главное священное пространство образуется четырьмя рядами аркад. Арки поддерживаются столбами, края которых округлены через выделку в них четвертей колонн. Вырезанные из дерева или вылепленные из гипса орнаметированные края и полосы на стенах заняты арабесками, которые своей простотой указывают на первоначальную стадию их развития (рис. 648). Их происхождение частью от непрерывно тянущихся, частью от прерывающихся греческих волнообразных завитков бросается в глаза, но очень ясно видна и переделка этого орнамента, происшедшая от полного включения листа в завиток, от геометризации форм и разложения главного мотива на две половины, которые чередуются в обрат ном порядке с главным мотивом, обращающимся в заостроенный овал.
За династией Тулунидов (868-905) следовала после междуцарствий династия Фатимидов (909-1171), любившая пышность, по кровительствовавшая искусствам и украсившая Египет и Палестину дворцами, одно описание которых отзывается сказкой, и мечетями, архитектура которых, удерживая старый основной план, становилась все более и более роскошной. Арки в них – правильнее и стройнее, для облицовки стен употребляются более дорогие материалы, арабески на орнаментированных полосах и плоскостях развиваются сперва только над усыпальницами основателей мечетей, сооружаемыми при этих зданиях. Как купольная постройка этой эпохи известна надгробная мечеть Гийуши на Моккатамских высотах, близ Каира. О развитии же орнаментики мы можем судить лучше всего по некоторым из обломков украшений, собранных в Каирском музее.
Рис. 649. План мечети султана Хасана в Каире. По Гайе
Полного блеска арабско-египетское зодчество и орнаментика достигли во время владычества Мамлюков. Резные деревянные двери 1285 г. из муристанского госпиталя, описанные Присс-д’Авеном и хранящиеся ныне в Арабском музее в Каире, свидетельствуют о том, что, по крайней мере, в гражданских постройках этого времени не затруднялись вплетать в арабески фигуры животных и людей. Из султанов багридской династии Мамлюков в особенности Хасан (137-1361) отличался своим покровительством художествам и наукам. Мечеть султана Хасана, построенная в 1356-1363 гг., противопоставляет первой, старинной главной форме мечетей с плоским покрытием, со двором, обнесенным аркадами, и с целым лесом колонн вторую главную форму – форму мечети с крестообразным планом, крытой куполом (рис. 649), но в которой, однако, настоящие купола возвышаются только над мавзолеем строителя, соединенным с мечетью, и иногда также над побочными помещениями, как, например, в рассматриваемом случае над небольшим входным притвором. Главный двор, посреди которого возвышается павильон омовений, здесь окружен не аркадами, а четырьмя огромными залами, которые крыты приостренными коробовыми сводами и открываются во всю свою высоту и ширину громадными стрельчатыми арками на каждую из четырех сторон двора. Таким образом, основную форму плана составляет громадный крест, своей простотой и величиной производящий поразительное впечатление. Юго-восточный зал, собственно святилище, более глубокий, чем остальные три зала, заключает в себе молитвенную нишу; находящиеся возле нее два прохода, закрывающиеся великолепными дверями, ведут в усыпальницу султана, крытую сталактитово-стрельчатым куполом. Молитвенная ниша, обрамленная колоннами изящной скульптурной работы, великолепно облицована пестрым мрамором. Стены всего юго-восточного зала украшены блестящей цветной мозаикой, образующей геометрические многоугольные узоры, и наверху фризом, который, будучи расписан изречениями из Корана, своими ажурными арабесками производит впечатление роскошной работы. Мечеть Хасана, хотя и представляет некоторое расчленение в вертикальном направлении, своей массивностью, простотой и величием напоминает монументальные древнеегипетские храмы. Ниша стрельчатого портала, крытая сталактитовым сводом, – нечто единственное в своем роде; необыкновенным может считаться и сильно выступающий вперед венчающий карниз здания, также усаженный весь сталактитами.
По плану мечети Хасана сооружена также мечеть султана из мамлюкской династии боргидов Баркука (1382-1399), дочери которого погребены под ее куполами. Но здесь священный юго-восточный зал разделен колоннами снова на три нефа. Еще красивее этой "Баркукийе" – надмогильная мечеть того же султана, находящаяся перед Каиром. По своему плану это опять мечеть со двором, окруженным аркадами; но аркады ее главного двора крыты сплошь небольшими куполами, два же главных купола увенчивают собой две усыпальницы. Минареты украшены сталактитовыми карнизами. Все здание отличается строгой, ясной симметричностью плана и благородством форм.
В XV столетии египетские постройки становятся изящнее, особенно минареты. К самым красивым из них принадлежит минарет мечети Аль-Ашраф Берисбей на базаре торговцев янтарем в Каире, построенный в 1430-х гг. Затем следует указать на сооружения Каит-бея (1468-1496). Его Малая мечеть в Каире соперничает с его загородной надгробной мечетью как грациозностью пропорций, так и богатством и изяществом отдельных украшений (рис. 650). Расчленение здания становится теперь более выраженным даже в его внешности. Чередующиеся слои красного и белого камня, из которого строятся подобные мечети, со своей стороны, содействуют оживлению поверхности стен. Внутри этих зданий все еще господствует открытый двор с четырьмя расположенными крестообразно залами, из которых каждый открывается в него стрельчатой аркой, а цветные стекла в окнах увеличивают прелесть сумрачного освещения закрытых помещений.
После того как в 1517 г. Египет превратился в турецкий пашалык, арабский стиль уступил в зодчестве свое место османско-византийскому. Центральный корпус храма св. Софии в Константинополе стал образцом и для Каира. Открытый двор исчез или устраивался особо, перед зданием. Главный купол стал лежать над священным залом. Ряд таких каирских мечетей начинается небольшой мечетью Сулеймана-паши, сооруженной в 1526 г. на северо-восточной стороне цитадели, и кончается Алебастровой мечетью Мухаммеда Али (рис. 651), построенной в 1830-1848 гг., в цитадели.
Цветущей эпохой египетско-арабских и сирийско-арабских художественно-ремесленных производств были средние века. Описанное Мужоном искусство украшать гравированные медные сосуды золотой и серебряной насечкой и таким образом превращать их в ценные художественные произведения родилось в Мосуле. Орнаментными мотивами сделались здесь арабские буквы надписей, а на поверхности щитов изображались сцены охоты и сражения. К числу подобных сосудов принадлежит кружка Британского музея, помеченная 1232 г., и так называемый варварийский медный сосуд в Лувре. От Дамаска, в котором исстари процветали производства железных и ткацких изделий, произошло название дамасской стали, отличающейся особым характером узорчатой инкрустации, а также название дамасской шелковой материи, прославившейся красотой вытканных на ней рисунков. В Египте процветали ткацкое дело, керамика и в особенности стеклянное производство. То, что сообщают арабские писатели о великолепии египетских тканей, подтверждается образчиками, уцелевшими до наших времен. В узорах этих тканей главную роль играют стилизованные растения и животные, обращенные в геральдическом стиле одно к другому или, наоборот, в разные стороны. Образцы тканей в Германском музее в Нюрнберге и в музее города Нанси Гайе приписывал времени Фатимидов (909-1171). Открытые в Фустате осколки фаянса XII в. (как, например, находящиеся в коллекции д-ра Фуке в Париже, но главным образом в Британском музее в Лондоне), почти имеющие металлический блеск персидских изделий этого рода, доказывают, что глазурование глиняных изделий по этой технологии было известно тогда и в Египте. В арабском музее в Каире находятся прекрасные экземпляры таких изделий, относящиеся к XIII и XIV вв. Молитвенные ниши некоторых египетских мечетей облицованы кафелем. Образцами сирийско-месопотамских или египетских фаянсовых кружек XIII и XIV столетий в настоящее время считаются, с чем соглашался и Отто фон Фальке, красивые сосуды с прозрачной глазурью большей частью синего кобальтового цвета и с нарядной живописью по ней, которые прежде были принимаемы всеми за сицилийско-арабские или персидские фаянсы. На них среди арабесок и фигур животных (рис. 652) главную роль играют полосы с арабскими письменами. Такие фаянсы можно видеть в Соут-Кенсингтонском и Британском музеях в Лондоне.
Рис. 650. Алебастровая мечеть Мухаммеда Али в Каире. С фотографии
Рис. 651. Сирийско-египетская фаянсовая ваза с металлическим отблеском. По О. фон Фальке
Рис. 652. Надгробная мечеть Каит-бея в Каире. С фотографии П. Шаха
В стеклянном производстве первенство, бесспорно, принадлежало Египту. И в этом деле древние египтяне проложили дорогу своим средневековым потомкам. Со времени владычества Мамлюков мечети стали украшаться цветными оконными стеклами, на которых кроме известных геометрических фигур и арабесок нередко встречаются тюльпаны, гвоздики и другие цветы на длинных стеблях и в вазах или темно-зеленые кипарисы. В дошедших до нас известиях этого времени нередко упоминаются стеклянные сосуды; сохранилось довольно много египетских цветных эмалированных сосудов, принадлежащих XIV столетию, преимущественно лампад из мечетей, называемых калаунскими, богато украшенных по золотому фону разноцветными изречениями и арабесками. Так, например, в обширной коллекции Э. Андре в Париже находилась изящно украшенная стеклянная фляжка, которую Гайе относил к XIII столетию; лампада XVI столетия находилась в собрании Шнитцера.
То, что рассказывают арабские писатели о школах живописи и стенных картинах, существовавших в Дамаске и Каире, мы не имеем возможности проверить. Настоящие картины в арабских рукописях очень редки. Однако можно указать, например, на иллюстрированные рукописи макам аль-Харири, том которых, написанный около 1375 г., хранится в Венской Придворной библиотеке. В нем перед каждой макамой (рассказом в рифмованной прозе) помещен портрет поэта. Эти изображения, исполненные прекрасными красками, без теней, напоминают китайскую и, пожалуй, персидскую живопись того времени. Даже в чертах изображенных лиц есть что-то китайское, благодаря приподнятым кверху наружным углам их глаз. Чисто исламскими представляются украшения некоторых коранов, состоящие обычно из тончайших арабесок, исполненных золотой, красной и синей красками. Несколько роскошных рукописей этого рода XIV столетия находится в Хедивской библиотеке в Каире. Но прекраснейшим из всех считается Коран, принадлежащий Национальной библиотеке в Париже. Арсенальная библиотека в Париже владеет Кораном 1422 г. с роскошными украшениями на полях. В этой орнаментации коранов не допускаются изображения живых существ, и часто она просто повторяет узорные фризы мечетей; но так как техника живописи легче техники резных, накладных или наборных работ, которыми магометанская орнаментика пользуется столь великолепно, то, само собой понятно, что здесь она достигает удивительной роскоши, поражает своими мягкими, красивыми красками и тонами, более же всего – фантастичностью игры своих линий.
3. Исламское искусство в Северной Африке, Испании, Сицилии и Турции
Вторая главная область распространения магометанского искусства охватывает запад Северной Африки (Магриб), Испанию и некоторые острова Средиземного моря. Это область мавританского искусства.
Проследить развитие магометанского зодчества от его несамостоятельных зачатков до самого пышного и своеобразного расцвета нельзя нигде лучше, чем в Испании. Большая мечеть, которую начал строить в Кордове на месте старинной церкви св. Викентия Абдаррахман I в 786 г., вначале имела план настоящей древней мечети. На стороне, обращенной к Мекке, в этом случае на юго-восточной, к переднему двору, окруженному рядом аркад, прилегало помещение со множеством колонн, расставленных в 10 рядов в продольном направлении (в направлении к молитвенной нише) и в 12 рядов в поперечном направлении. Необыкновенную глубину эта часть мечети получила лишь в IX в., когда все ее нефы, обращенные к юго-востоку, были удлинены через прибавку восьми поперечных нефов, и теперь она стала тем более походить на христианскую 11-нефную базилику, что средний продольный неф, вопреки обычаю, соблюдавшемуся в исламском зодчестве, был значительно шире остальных. Большой передний двор, мощный колонный зал, темное, низкое главное святилище, как справедливо указывали на то Юнггендель и Корнелиус Гурлитт, все еще напоминают устройство древнеегипетских храмов. Но и здесь образцами того, что удовлетворяет потребностям ислама, мы должны признать только древнейшие мечети Медины и Египта. В X в. и это здание, в котором насчитывалось две сотни колонн, уже не могло вмещать всех правоверных сильно разросшегося города. Мечеть пришлось снова увеличить, и снова с юго-восточной стороны, еще 14 поперечными нефами; затем к ней прибавили в ширину, с северо-восточной стороны, семь рядов колонн и восемь нефов, так что теперь она состоит, кроме различных пристроек, уже из 19 продольных и 35 поперечных нефов. Монолитные колонны всевозможных горных пород, числом более тысячи, размещенные внутри здания, отчасти также в придаточных помещениях и верхних его частях, почти все римского или византийского происхождения. Они были выписаны из Испании, Франции, отчасти даже из Константинополя. Однако их капители – по большей части искаженные подражания античным образцам. По направлению к молитвенной нише колонны соединяются друг с другом подковообразными арками; для достижения же большей высоты столбы, стоящие на капителях колонн и связанные между собой также арками, образуют второй ярус подпор; в главных пунктах мечети верхние столбы украшены полуколоннами, а арки разбиты на меньшие арки. Над этой системой подпор и арок потолок в отдельных нефах был первоначально плоский, с не скрытыми от взора балками. В настоящее время большинство нефов крыто плоскими коробовыми сводами. Благодаря своей чрезвычайной растянутости в ширину огромное здание кажется очень низким, как бы придавленным, и отдельные его части, за исключением богато разукрашенного святилища, страдают некоторой наготой; но целый лес его колонн с двумя рядами арок над ними производит впечатление пышности и чего-то сказочного, а царствующий в здании полусвет наводит на посетителя мистический трепет (рис. 653, а).
Прекраснейшим из архитектурных произведений на северном берегу Африки была Мраморная мечеть в Кайруане, неподалеку от Туниса, – роскошное здание, сооруженное во время перестройки кордовской мечети с целью ее расширения (в 837 г.). Крышу кайруанской мечети подпирают четыре сотни античных колонн, образующие 17 нефов; в ее молитвенной нише украшения из дорогих обожженных глиняных плит чередуются с ажурной мраморной отделкой. Наружные стены состоят из слоев полированного мрамора, попеременно белого и черного цвета. Подробные сведения об исламском искусстве на северном берегу Африки изданы Ари Ренаном.
Рис. 653. Мавританское зодчество. а – интерьер Кордовской большой мечети; б – главный фасад Севильского Алькасара; в – Дворик львов в Альгамбре; г – зал Суда в Альгамбре. С фотографий Ж. Лорана
В X и XI столетиях, когда арабско-мавританская цивилизация на испанской почве во многих отношениях превосходила образованность остальной Европы, Кордова, Гранада, Сеговия, Таррагона и Толедо наполнились новыми мечетями. Небольшая мечеть в Толедо, теперь пустынь "Cristo de la luz", принадлежит XI столетию. В ее плане центральный четырехугольник разделяется четырьмя взятыми из вестготской церкви колоннами на девять равных квадратов, из которых над каждым лежит по куполу, причем купол над средним квадратом выше остальных. Все здание, которое Юсти называл "замысловатым, смелым кабинетным произведением арабской конструкции", отличается грациозностью своих подковообразных арок, перекинутых через подпоры, своих аркад в виде трилистника в верхних частях стен, линий куполов. В XII столетии возникли роскошные дворцы и мечети как в Феце и Марокко, так и в Севилье и других испанских городах. От первоначального здания Алькасара, мавританского королевского дворца в Севилье, сохранились лишь немногие остатки: он уступил свое место постройке XIV столетия, то есть уже христианского времени, которое, однако, воспользовалось услугами, очевидно, мавританских архитекторов. Главный фасад этого здания с его сталактитовыми арками над дверями и окнами выстроен по образцу фасадов XII в. (б). От большой севильской мечети, обращенной в католический собор, остался только один минарет, сделавшийся колокольней, которая пользуется обширной известностью под названием Гиральда и составляет теперь главную достопримечательность Севильи. Гиральда, как и другие подобные ей башни африканских мечетей, в противоположность стройным минаретам Востока представляет собой массивную четырехгранную башню, на которую взбираются по очень удобной лестнице. Верхние плоскости ее стен покрыты тонкой сеткой арабесок, идущих диагоналями в четырехугольных рамах и своим продолжением образующих вверху почти стрельчатые, усаженные зубцами ложные арки и оконные ниши, которые как бы стоят на карнизах, разделяющих башню на ярусы. Гиральда и главный фасад Алькасара в его первоначальном виде считаются лучшими образцами второго, или среднего, периода развития мавританского стиля.
Главное произведение третьего, последнего, и вместе с тем самого зрелого и оригинального мавританского стиля, а пожалуй, в некотором отношении даже всей магометанской архитектуры – замок Альгамбра на возвышенности близ Гранады. Альгамбра, сооруженная мавританскими повелителями Гранады в XIV столетии, состоит из целого ряда дворцов, построенных один после другого и соединенных между собой; огражденные одной общей стеной, они имеют снаружи вид неприступной горной крепости, а внутри отличаются всей роскошью и приветливой прелестью, которые так свойственны арабскому стилю. Одного взгляда на общий план этого замка достаточно, чтобы убедиться, что, соответственно климату, мавританское жилище, подобно греческому и римскому, состояло из ряда дворов, на которые выходили прилежавшие к ним залы и горницы. Большинство этих помещений открывается большими богато украшенными арками без дверей из одного в другое или прямо во двор, а другие выходят в галереи с аркадами, отчасти окружающие дворы. Впрочем, некоторые из входов и проходов закрываются великолепными дверями. Различный уровень пола в разных главных помещениях потребовал устройства лестниц, которые, со своей стороны, придают зданию живописный вид.
Над колоннами Альгамбры высятся стройные циркульные арки, очень высокие, словно стоящие на ходулях, иногда имеющие слегка подковообразную форму, иногда растянутые в ширину и сплюснутые, реже остроконечные, но зато нередко расчлененные на меньшие арки, края которых усажены сталактитами или острыми зубцами. Стройные мраморные колонны-монолиты расставлены одинаково часто как парами, так и поодиночке; иногда они группируются даже по три и по четыре; на них всегда опираются арки. Несмотря на разницу, хотя и незначительную, их форм, в них ярко выказываются оригинальные черты арабско-мавританского стиля: над простой базой лежит подножное кольцо, ниже капители – несколько шейных колец, одно под другим; капителью служит плоская чашечка из листьев под скошенным внизу кубом, покрытым богатой скульптурой, выше которого находится род карниза, составляющий переход к ступне арки (см. рис. 639). Стены явственно расчленены на цоколь, главную поверхность и фриз. Цоколь почти везде облицован цветными изразцами (которые здесь носят название azulejos); узоры просты и величественны, краски великолепны, но спокойны. Главное поле стены над цоколем покрыто узорным орнаментом, наподобие ковра, большей частью резанным из гипса и роскошно раскрашенным; затейливый линейный узор тянется как бесконечное тканье, перерезаемое только рамами. На фризах, а также на вертикальных полосах орнамента между арками или между отдельными полями стен переплетаются с арабесками причудливые письмена то серьезных, то шутливых цитат из поэтов; в арабесках и здесь можно наблюдать, наряду со строго стилизованными цветочными завитками, также взятые из реального мира, натуральные, хотя все-таки слегка стилизованные растительные формы. Потолки блещут очень яркими, светлыми красками; они состоят вообще из деревянных сталактитовых сводов, чрезвычайно разновидных и более или менее сложных, а в некоторых местах, как, например, в павильонах с выступающей вперед крышей, их заменяет деревянная конструкция, богато разделанная и разукрашенная.
Два главных двора, вокруг которых расположены самые роскошные залы и галереи, называются один Двориком миртов, другой – Двориком львов. Оба принадлежат второй половине XIV в. Дворик миртов представляет собой прямоугольник длиной 37 метров и шириной 23 метра. Середину его занимает длинный бассейн, обсаженный миртами. С каждой из узких сторон этого двора на него открывается по семь великолепных арок с красивыми верхними галереями, поддерживаемых шестью стройными мраморными колоннами. Альковы в углах этих галерей украшены сталактитовыми сводами. Из галереи, находящейся с короткой северо-восточной стороны двора, входишь прежде всего в широкий, но неглубокий аванзал (Antisala de la barca), коробовый свод которого сгорел в 1890 г., а из него, через огромную стрельчатую арку в чрезвычайно толстой стене башни Комарес, – в зал Послов, занимающий собой всю четырехугольную внутренность этой укрепленной башни, выстроенной в первой половине XIV столетия. Стены башни так толсты, что амбразуры проделанных в них окон походят на небольшие комнаты. Зал занимает площадь в 11 кв. метров. В высоту он двухъярусный, что видно уже по двум рядам его окон. Покрыт он великолепным сталактитовым сводом. В числе узоров, вытесненных в гипсовой облицовке его стен, насчитывают больше 150 отдельных мотивов.
Дворик львов (в), постройка которого была начата в 1377 г., имеет 28 метров в длину и 16 в ширину. Свое название он получил от 12 черномраморных львов, поддерживающих широкую нижнюю чашу фонтана, находящегося посреди него, – фигур, в пластическом отношении грубых, но в архитектурном отношении вполне соответствующих своему назначению. Двор окружен со всех сторон аркадной галереей. Арки ее различной ширины и опираются то на одиночные колонны, то на пары колонн, а по углам даже на группы из трех колонн. Стены над арками и между ними покрыты мавританскими арабесками и орнаментами-изречениями, являющимися здесь во всем своем блеске и великолепии.
С каждой из четырех сторон Дворика львов мы вступаем в один из главных залов этой части Альгамбры; с северо-западной короткой стороны находится вход в зал de los Mocarabes, род передней, стены которой первоначально были покрыты синими, красными и золотыми орнаментами и увенчивались прелестным куполом; северо-восточная длинная сторона примыкает к лежащему несколькими ступенями выше двора залу с полом, состоящим из двух больших мраморных плит; цоколь этого роскошного зала, известного под названием "зал Двух сестер", обложен чудным фаянсовым кафелем, а потолок представляет собой сталактитовый свод, замечательный по своей величине и вкусу отделки; двери кедрового дерева в этом зале, некогда золоченые, покрыты роскошной резьбой, а штукатуренные стены – восхитительными, причудливо переплетающимися арабесками. "Если всмотреться в эти удивительные узоры, – говорил Шак, – в которых самая необузданная фантазия соединяется с обдуманным расчетом, то каждую минуту кажется, что вот уже истощены все комбинации, какие только возможно придумать, а между тем с удивлением видишь, как из прежних комбинаций вырастают все новые и новые". На другой длинной, юго-западной стороне Дворика львов находится зал Абенсеррахов, разделенный на три части двумя великолепными, широкими зубчатыми арками. Трехъярусная средняя часть зала имеет высокий сталактитовый потолок, представляющий собой переходы от четырехугольника к восьмиугольнику, от восьмиугольника к шестнадцатиугольнику и, наконец, от шестнадцатиугольника к кругу. С юго-восточной короткой стороны двора находится вход в зал Суда (г); своими сталактитовыми сводами и зубчатыми арками она производит впечатление капельниковой пещеры, по манию волшебных сил кристаллизовавшейся ритмично и симметрично.
Как изваяния львов в Дворике львов доказывают, что мавританское искусство решалось пользоваться пластическими изображениями животных, так ниши с картинами в глубине зала Суда убеждают, что оно не пренебрегало – правда, лишь в исключительных случаях – настоящей живописью с фигурами животных и людей. Из этих трех картин, исполненных темперой на коже и приколоченных к доскам из тополя, средняя изображает на золотом фоне семерых мавританских королей Гранады, сидящих в широких одеяниях на вышитых подушках. На двух боковых картинах представлены охотничьи и любовные сцены, в которых участвуют как христиане, так и мавры. Фон – голубой с золотыми башнями. Средний и передний планы картин с массой фигур покрыты роскошной растительностью. Трудно решить, составляют ли эти картины, исполненные без теней, в черных контурах, слегка заполненных красками, и вообще походящие своим стилем на христианскую живопись XIII столетия, арабские произведения, как полагали, например, Вольтман и Шак, или же следует приписывать их христианским живописцам, находившимся на жалованье у мавританских государей, как думал, например, Шназе. Во всяком случае, неизвестно о существовании других мавританских картин в этом роде; сходство же их с персидскими миниатюрами не настолько значительно, чтобы считать их принадлежащими персидским художникам, вызванным в Гранаду. Как бы то ни было, это произведения единственные в своем роде.
Каждый, кто хоть однажды был в Альгамбре, никогда в жизни не забудет полученного от нее художественного впечатления. Ему покажется, что он видит сон из "Тысячи и одной ночи", а между тем все здесь так ясно, так понятно, так уютно, что чувствуешь вокруг себя отрадную действительность.
Небольшой мавританский летний дворец Генералиф, господствующий над холмом Альгамбры на 60 метров выше него, полустолетием старше этого замка. Галереи на арках, стрельчатые ворота, альковы, балконы придают и этому сооружению живописную прелесть. Стихи, буквы которых вплетены в орнаментный узор над входом в Генералиф, в переводе с арабского гласят:
Руки художника стену украсили вышивкой хитрой, Так что подумаешь, будто цветы пред очами твоими; Зал, весь в нарядном убранстве, юной подобен невесте, В дивной красе средь процессии брачной идущей.Великолепие сарацинских сооружений в Сицилии известно нам только по рассказам старинных писателей. Норманны-христиане, вновь завладев всем этим островом в 1090 г., сперва разрушили большинство дворцов и мечетей мавританских повелителей, но вскоре за тем стали принимать к себе на службу сарацинских художников. К числу зданий, возведенных здесь в XII в. норманнами в арабском стиле при помощи сарацин, принадлежат два небольших увеселительных замка – Ла Циза и Ла Куба, близ Палермо. От внутреннего убранства их сталактитами, фаянсовым кафелем и мраморной мозаикой сохранилось только немногое. Их внешние стены расчленены в горизонтальном направлении на ярусы, а в вертикальном направлении оживлены фальшивыми арками и глухими окнами. Находящийся несколько в стороне павильон Кубы (рис. 654) представляет собой особое, вполне законченное целое.
Рис. 654. Павильон Кубы, близ Палермо. С фотографии Тальярицы
Форма стрельчатой арки в этом сицилийском зодчестве указывает на его связь с египетско-арабским.
В Испании после изгнания из нее мавров христианские государи продолжали пользоваться услугами мавританских мастеров при сооружении зданий в арабском вкусе; стиль этих христианско-мавританских построек принято называть мудехарским. Как на образцы этого стиля XIII и XIV столетий можно указать на две синагоги в Толедо, обращенные в христианские церкви Санта-Мариа ла Бланка и Эль Трансито. Санта-Мария ла Бланка, старейшее из этих двух зданий, – пятинефное сооружение с плоским покрытием и 28 подковообразными арками, опирающимися на восьмигранные столбы, увенчанные замечательными капителями в виде сосновых веток и шишек (рис. 655). Эль Трансито – однонефное здание, отличающееся роскошью своих арабесок и великолепием своих ничем не замаскированных подкровельных стропил кедрового дерева, украшенных инкрустацией из слоновой кости. Так называемый Дом Пилата в Севилье – здание уже XVI столетия. Цоколи стен в этом дворце облицованы блестящим кафелем всяких цветов и узоров, а в его орнаментации к мавританским формам присоединяются формы готики и даже эпохи Возрождения, что образует новое, роскошное, вычурное, но не лишенное гармоничности целое.
Разумеется, что рядом с зодчеством должны были процветать в Испании и Сицилии также художественно-ремесленные производства.
Рис. 655. Зал церкви Санта-Мария ла Бланка в Толедо. С фотографии Ж. Лорана
Главным местом изготовления шелковых тканей в IX-XII вв. считался город Палермо. После завоевания Сицилии норманнские короли удержали у себя ткацкие станки и сарацинских ткачей; арабские надписи на палермских шелковых материях XII в. свидетельствуют о том, что сарацинское производство таких материй славилось в христианском мире этого времени. В Палермо нередко изготовлялись шелковые ткани даже для мантий германских императоров. Коронационная мантия 1132 г., находящаяся в Венском музее, украшена изображениями симметричных групп львов, обращенных один к другому спиной и отделенных друг от друга пальмами; львы раздирают верблюда на части; рисунок узора вообще красив и оживлен, в деталях же его замечена некоторая изысканность. Шелковая ткань императорской мантии Генриха VI, хранящаяся в Регенсбурге, помечена именем сицилийского араба Абдул Азиса. Впрочем, как замечал Ригль, сарацинские произведения этого рода еще в XII столетии отличались от византийских только своими надписями и отчасти вытканными на них символическими изображениями; в остальном же мы видим на них прерывающиеся сплетения линий, узоры из завитков и листьев и фигуры животных, размещенных попарно, которые, во всяком случае, изобретены не арабами для магометанского искусства.
Мавританское производство фаянса процветало главным образом в Испании. Фаянсовые сосуды, считавшиеся прежде арабско-сицилийскими (см. рис. 652), теперь признаны сирийско-египетскими продуктами XIII и XIV столетий. Важное значение, которое прежде придавали острову Майорка, по имени которого итальянцы назвали фаянс майоликой, в настоящее время сводится к тому, что Майорка признается только местом отправки испанских товаров в Италию. Существовали ли гончарные заведения на самой Майорке, остается недоказанным.
Употребление фаянсового кафеля (azulejos) для отделки зданий было распространено в Испании, как было упомянуто выше, в большей степени, чем в какой-либо другой стране Европы. В Альгамбре этот кафель состоит сплошь из окрашенной и глазурованной солью олова мозаики. Гамму красок образуют в нем кроме белой и черной, синяя зеленая и коричневая краски. Но в Испании играл важную роль также фаянс с золотым отблеском. Однако большая часть сохранившегося кафеля и сосудов с таким отблеском относится уже ко временам христианства. В мавританское время самые крупные фабрики изделий этого рода находились, по-видимому, в Малаге. Древнейшая из испанских стенных плиток с золотым отливом, находившаяся, по словам Отто фон Фальке, в 1896 г. у частного лица в Мадриде, происходит из Гранады и изготовлена между 1333 и 1354 гг. На ней концы арабесок переходят в головы животных. Она отсвечивает бледно-золотистым блеском на беловато-желтой оловянной глазури. Как на древнейшие мавританско-испанские сосуды рассматриваемого рода следует указать на знаменитую вазу Альгамбры, высотой 1,32 метра, в зале Сестер и на подобные ей вазы в Мадридском и Стокгольмском национальных музеях и в Эрмитаже. Ваза Альгамбры относится к 1320 г. Она покрыта по белому фону играющими золотым и синим отблеском надписями и арабесками, среди которых помещены две стилизованные газели. В XV и XVI столетиях главные фабрики отсвечивающей майолики находились в Арагоне, Валенсии и ее окрестностях. К узорам на сосудах постепенно примешиваются готические и натуралистические элементы. Появляются гербы западных стран, и хотя узоры все еще, по восточному обычаю, распределяются равномерно по всей поверхности, однако резкое обозначение полос и полей постепенно вносит в эту орнаментику нечто новое, уже чуждое настоящему восточному стилю.
Возвращаясь из западной области распространения религии Магомета на восток, мы встречаемся на полпути, в Малой Азии и на Балканском полуострове, с турками, главными представителями и носителями культуры ислама. Турецкое искусство родилось в XIII в. в Малой Азии при владычестве сельджуков. Древний Иконий, сделавшийся под названием Конья столицей сельджукских султанов династии Кайянидов, был в XIV столетии главным пунктом развития раннего турецкого искусства, происшедшего от персидского, – искусства, которому Фридрих Сарре посвятил подробное исследование. Надгробные башни 1162 и 1186 гг. в Нахичевани, на новоперсидской почве, украшенные узорами из кирпича, – уже сельджукского происхождения. Но главным городом сельджукского искусства остается Конья. На среднем холме этого города мраморный портал со стрельчатой нишей над прямым косяком двери составляет вход в мечеть Каи-Кобада I, оконченную в 1220-1221 гг. Мечеть эта представляла собой прямоугольный зал с колоннами и плоским потолком, как всюду в это первоначальное время турецкого искусства. Колонны для нее были взяты из античных зданий. Гораздо роскошнее и в художественном отношении интереснее Сирчели-медресе (Школа юристов) на узкой улице Коньи, сооруженная в 1242-1243 гг. при Каи-Хосро. Она замечательна глубиной своего входного портала, по бокам которого находится по сталактитовой нише, обставленной двумя византийскими колоннами, элегантностью своих килевидных и арабских стрельчатых арок и множеством мозаичных, синих на синем фоне и черных фаянсовых украшений. Но сельджукское зодчество достигает апогея своего развития в Медресе Кара-Таи, открытой в 1251 г. при Каи-Каусе II. Уже один мраморный портал этого здания может считаться характерным образцом сельджукского стиля: по обеим сторонам дверного отверстия, кончающегося вверху прямолинейно, стоят византийские витые колонны с измененными по-византийски коринфскими капителями; над этим отверстием – сталактитовая ниша стрельчатой формы, обрамленная переплетенными между собой полукруглыми полосами. Главный двор внутри здания имеет в плане четырехугольник и увенчан куполом с круглым отверстием в середине. Но главным украшением Медресе Кара-Таи, как и большинства сельджукских построек, служит облицовка стен голубой фаянсовой мозаикой. К великолепнейшим из памятников сельджукского искусства принадлежит также караван-сарай, сооруженный в 1229 г. при Каи-Кобаде I между Коньей и Аксераем, так называемый Султан-Ган, отличающийся роскошью своих высоко вытянутых арок и сталактитовой отделкой ворот, богатой, изваянной из камня орнаментацией вертикальных полос и стрельчатым крестовым сводом. Для сельджукской архитектуры повсюду характерны сасанидский вид ее великолепных порталов, чисто византийские формы ее колонн и других орнаментных деталей, равно как и роскошь ее фаянсовой мозаики (см. рис. 643, 644) – такой, какая, по свидетельству Сарре, появляется в самой Персии полувеком позже, чем в Султан-Гане. Среди украшений сельджукских зданий пластические фигуры не совсем отсутствуют: на некоторых из порталов (Суцуз-Ган, фризы на базаре в Конье и пр.) встречаются грубые крылатые фигуры, напоминающие сасанидских богинь победы (см. рис. 549).
Искусство османских турок получило начало также на малоазийской почве. Их главные города, Бурса, Никея и другие, при султанах XIV столетия, особенно при любившем заниматься постройками Мураде I (1360-1380), наполнились дворцами и мечетями. Влияние византийского искусства отразилось в этих зданиях еще сильнее, нежели в сельджукских. Портал с колоннами коринфского характера, но несущими на себе сталактитовые капители, ведет через узкий поперечный зал в главное, крытое куполом помещение Зеленой мечети в Никее, названной так по ее минарету, украшенному зелеными плитами. Большая мечеть Мурада в Бурсе состоит из четырехугольного помещения со столбами, бассейном воды в середине под открытым небом и небольшим куполом над каждым из квадратных пространств между столбами. Малая мечеть Мурада в Бурсе, по своим четырем квадратным, осененным куполами частям нефов, очень близко походит на византийские христианские здания. Молитвенные ниши и некоторые другие части Зеленой мечети и Зеленой турбы в Бурсе, построенных в начале XIII в., украшены кафелем с оловянной глазурью блестящего зеленого цвета.
Турецкая архитектура окончательно приняла византийский характер после того, как турки в 1453 г. завладели Константинополем и сделали его столицей своей империи. Храм св. Софии – это чудо византийского искусства, превращенное в мечеть, стал единственным и бесподобным образцом для всех мечетей, сооружение которых предпринималось в Константинополе. Теперь на службе у магометанских зодчих работали греческие мастера. Но, приняв византийскую форму центрально-купольных сооружений, мечети не отказались от необходимых для них передних дворов; стрельчатая арка, господствовавшая в XIV в. как в Каире, так и в Бурсе, появлялась иногда и в Константинополе; стройные минареты, тонкие и изящные, стали высоко подниматься подле плоских куполов; внутри мечетей христианская мозаика была заменена исламскими орнаментами, игривыми в частностях и производящими своей совокупностью сильное впечатление. В мечети при гробнице Айюба, построенной в Константинополе Магометом II в 1458 г., обширный купол покоится на четырех столбах. Но о каком-либо шаге искусства вперед не было и помина. Турки брали колонны и другие архитектурные части без долгих рассуждений из христианских зданий, разрушая их для этой цели. Мечеть султана Баязета, построенная в 1498 г., украшена чужеземными колоннами египетского гранита, яшмы и верде-антико. Однако знаменитая мечеть Сулеймана II (1520-1566), произведение архитектора Синана, даже и после храма св. Софии производит впечатление новизны и красоты ясностью своих пропорций и высоким куполом, через окна которого льется вовнутрь здания масса света; напротив того, громадная мраморная мечеть Ахмеда, которая была окончена в 1614 г. и должна была превзойти храм св. Софии не только величиной, но и роскошью, своим тяжеловесным венцом из круглых колонн производит впечатление не более как подражания, и притом неудачного.
Истинной самостоятельностью отличается архитектура турецких мечетей только там, где она пользуется как главным украшением полуфаянсовым кафелем, который хотя и был изобретен в Персии, однако получил широкое применение, как это доказано Отто фон Фальке, только в Турции. Кроме уже знакомых нам арабесок и персидского узора из усиков, о котором нам еще придется говорить, главную роль в орнаментации турецкого фаянса играют, как национальные добавки, плоско стилизованные стебли с цветами растений, в особенности гвоздики, тюльпана и дикого гиацинта. Один из отличительных признаков этих орнаментов – обилие красок. Фон у них обычно белый; заключенное в темно-серые контуры пространство заполняется голубым кобальтом, краской бирюзового цвета, зеленой медянкой и ярким красным болюсом, что составляет уже турецкое нововведение. Изредка и сам фон бывает цветной; в таком случае узор исполняется иногда белой краской. Прямоугольные поля стен бывают часто украшены изображениями ваз с букетами цветов, перепутанных с усиками.
Мечети, построенные в турецкой империи с XVI столетия, роскошнейшим образом украшены полуфаянсовым кафелем такого рода. Образцами этого кафеля богат Берлинский художественно-промышленный музей; в нем находятся два украшенных персидским узором из усиков фронтонных поля, происходящие из константинопольской мечети Пиали-паши (1565-1570), среднее поле с непрерывным узором из арабесок – из гробницы султана Селима I (15661574), край плиты с цветами на синем фоне – из библиотеки при храме св. Софии, построенной в XVI столетии, и большие, составленные из плит поля – из мечети Ахмеда XVII столетия. Мечети XVI в. в Адрианополе, Дамаске, Бурсе и Никее также были блестящим образом украшены цветным кафелем этого рода. Главным центром их производства в XVI в. была Никея. В XVII и XVIII вв. уже соперничали с ней на этом поприще некоторые другие города турецкой империи, а в XIX столетии важнейшим местом фаянсового производства была Кутахия.
Рис. 656. Турецкая фаянсовая тарелка. По О. фон Фальке
Турецкая фаянсовая расписная посуда, круглые блюда и тарелки (рис. 656), горшки для цветов и кувшины с длинными горлышками считались некогда персидскими, потом местом их происхождения называли Родос; теперь известно, что хотя на Родосе и существовало гончарное производство этого рода, однако драгоценные полуфаянсовые сосуды с красивыми цветочными узорами, признаваемые Отто фон Фальке самыми эффектными и образцовыми из произведений керамики всех стран и всех времен, в сущности выделывались во всей турецкой империи, причем в Дамаске яркую красную краску заменяли нежной лиловой. Плиты с такими же узорами, того же цвета и той же техники свидетельствуют о происхождении оттуда же и посуды, образцами которой особенно богаты большие лондонская и парижская коллекции, но которая встречается и в Германии, например, в Нюрнбергском, Дюссельдорфском и Дрезденском художественно-промышленных музеях.
Если признавать плитки и сосуды, о которых мы только что говорили, турецкими изделиями, то и ткани с подобными турецкими цветочными узорами, особенно парча и бархат XVI столетия, равно как и затканные такими узорами старинные ковры для молящихся, должны считаться турецкими изделиями; в особенности узоры с цветами гвоздики, тюльпанов и гиацинтов, где бы мы их ни встретили, составляют для нас признак турецкого происхождения предмета.
II. Магометанское искусство на дальнем востоке
1. Исламское искусство в Персии и соседних странах
Персы, имевшие еще в древние времена Ахеменидов и Сасанидов собственное богатое искусство, хотя и развившееся, строго говоря, под чужестранными влияниями, в эпоху своего присоединения к исламу в некотором отношении стояли во главе художественного движения, происходившего у народов, принявших эту религию. Конечно, нелегко определить, насколько много дали они вначале арабам и насколько много заимствовали они от арабов впоследствии, когда создали из чужих элементов собственный язык художественных форм. Но не подлежит сомнению, что персы, через несколько столетий после покорения их арабами, уже принимали деятельное участие в общем развитии мусульманского искусства, хотя и сохранили в нем некоторые свои особенные черты; несомненно также и то, что после нашествия татаро-монголов они воспринимали и перерабатывали китайское влияние.
В эпоху халифов Аббасидов столицей Персии можно считать Багдад, хотя он и лежал, подобно Ктесифону, столице Сасанидов, на Тигре. Однако ни в Багдаде, ни в других более восточных городах Персии не сохранилось сколько-нибудь значительных памятников искусства за раннюю пору магометанства в этой стране. Только на основании старинных описаний мы можем, вместе с Ал. Гайе, издавшим общий обзор истории персидского искусства, предполагать, что древнеперсидские мечети отличались от арабских и египетских первых веков ислама лишь тем, что у них над серединой священного пространства возвышался купол. Развалины двух надгробных башен в Раи, древнем Рагесе, близ нынешней столицы, Тегерана, приписываемых еще VIII в., позволяют заключить, что эти высокие цилиндрические здания со стрельчатой аркой во входных порталах оканчивались вверху куполами также стрельчатой формы. Внешние стены одной из этих башен – гладкие, другой – рубчатые в вертикальном направлении.
Рис. 657. Разрез усыпальницы Ходабенде-хана. По Делафуа
Особенность персидского искусства, при дальнейшем его развитии, проследить которое мы можем только со времени нашествия татаро-монголов под предводительством Чингисхана (около 1200 г.), составляют широкие килевидные арки, соответствующие их форме купола в виде луковиц, и массивные, перенятые от Сасанидов, ворога, входная арка которых, образующая глубокую нишу, обычно окаймлена прямоугольной фальшивой рамой, а также круглые, гладкие минареты, только с одной крытой галереей вверху, под венчающим их куполом. Персидское искусство вообще мягче и чувственнее, чем арабско-египетское и мавританское. Математические, переплетающиеся между собой многоугольные узоры почти совершенно отсутствуют в развитом персидском искусстве. В нем преобладают арабески в виде закручивающихся усиков, но что особенно замечательно, так это то, что оно нисколько не гнушается изображениями живых существ, людей и животных. Существования персидской скульптуры и персидской живописи нельзя отрицать; по крайней мере, персидские миниатюры составляют особую отрасль искусства, которую нельзя обходить молчанием при рассмотрении его истории. Кроме того, заслуживают упоминания как главные художественно-промышленные произведения Персии фаянсы всякого рода, игравшие немаловажную роль в зодчестве и производстве сосудов, а также ковры, которыми начиная с XV столетия восхищается Европа.
Как на важнейшие памятники персидской архитектуры XIV-XVI столетий можно указать на усыпальницу Ходабенде-хана в Сольтание, сооруженную в 1313 г. (рис. 657), – восьмиугольное в плане здание, обильно украшенное внутри и снаружи мозаикой, сложенной из белого, голубого и синего кирпича, с куполом, со стрельчатоарочной галереей под куполом и высокими стройными минаретами по углам; затем, на Синюю мечеть в Тавризе, построенную в 1478 г. По своему плану, лишенному двора, и большому центральному куполу она походит на византийские образцы, между тем как ее углубленные входные ворота с их полукуполом, украшенным сталактитами, имеют чисто персидский характер, а покрывающая ее снаружи и внутри мозаика из блестящих плит своим узором на кобальтово-синем фоне сильно напоминает строго арабские образцы. Мечеть эта, как не принадлежавшая господствующему в Персии суннитскому толку, находится теперь в развалинах. Образцы ее мозаичных украшений имеются в Севрском керамическом музее и Берлинском художественно-промышленном музее. Узоры, переплетенные с письменными знаками, представляют, как говорил Сарре, "бирюзово-голубые, белые и желтые, бывшие первоначально раззолоченными фигуры на темно-синем фоне".
Эпохой возрождения персидского искусства, произведения которой наиболее нам известны, считаются XVI и XVII столетие. То были времена династии Сефевидов, из которых шах Аббас I, прозванный Великим (1587-1629), особенно покровительствовал всем отраслям искусства. Время великих персидских поэтов, правда, тогда уже давно миновало: Фирдоуси написал свою героическую поэму еще в X в., Саади сочинил свои полные мудрости книги еще в XIII столетии, Хафиз сложил свои бессмертные песни еще в XIV в.; следовавшие за ними поколения занимались поэтическим творчеством в Исфахане, новой столице Персии. Быть может, также в области образных искусств за эту эпоху персидского возрождения, XVI и XVII вв., мы увидели бы только поздний расцвет, если бы нам были вполне знакомы художественные произведения предшествовавших столетий. Как бы то ни было, при Сефевидах мы находим в Персии цветущую, многостороннюю художественную жизнь. Как на одно из роскошнейших созданий персидского искусства можно указать на надгробную мечеть Сафи в Ардебиле, исследованную Сарре. В ее великолепных плиточно-мозаичных украшениях, законченных при шахе Аббасе, рядом с цветочными узорами в новом роде кое-где встречаются почти китайские мотивы. Столицей шаха Аббаса стал Исфахан – город, планировка которого была художественным делом. Его царский дворец, учебные заведения и мечети были окружены цветущими садами; его караван-сараи, торговые ряды и богатые дома стояли правильными рядами, образуя прямые улицы и просторные площади; большая шахская площадь, прямоугольник длиной 386 и шириной 140 метров, окружена со всех сторон двухэтажными аркадными галереями. В середине каждой из ее сторон выдается по порталу, из которых южный составляет преддверие Большой шахской мечети, одного из лучших архитектурных памятников эпохи персидского возрождения. Мечеть эта построена по старинному плану. Середину ее занимает открытый двор с фонтаном; на каждой стороне двора находится по чисто персидскому порталу; главный портал западной стороны ведет в роскошный молитвенный зал, увенчанный высоким куполом (рис. 658). Купол двойной: над низким и простым внутренним куполом устроен другой, внешний, более смелый и высокий, господствующий над всем зданием. Купол приподнят над крышей при помощи тамбура. И эта мечеть украшена внутри и снаружи фаянсовыми плитками, и здесь кафель с оловянной глазурью представлет нам на белом фоне те же роскошные чисто персидские орнаменты, состоящие из стилизованных растительных веточек и усиков, в которые привходят особого характера длинный, зубчатый, перистый лист и своеобразный цветок, названный нами и Риглем персидской пальметтой, так как по своей форме он больше всего походит на античную пальметту. В этих узорах яйцевидное ядро увенчивается пучком и окружено венцом прямо стоящих листьев. Однако и здесь, как и в турецкой орнаментике того же времени, иногда встречаются слегка стилизованные натуральные цветы, породу которых легко распознавать.
Рис. 658. Разрез Большой шахской мечети в Исфахане. По Гайе
В истории керамики персидский фаянс играет вообще важную роль. Все вышеупомянутые (см. рис. 643-646) четыре рода фаянса – настоящий фаянс с непрозрачной оловянной глазурью, фаянс с металлическим блеском, полуфаянс, раскрашенный под слоем прозрачной глазури, и фаянсовая мозаика – распространенные в Персии отрасли технического производства, если не возникшие на ее почве. На раннюю историю персидского фаянса пролили яркий свет преимущественно исследования Генри Уэльса, произведенные в частных коллекциях Нью-Йорка и Лондона, а также в лондонских музеях.
Самый древний кафель из найденных в Персии играет золотистым блеском при фоне цвета слоновой кости. Он имеет форму восьмиконечных звезд, чередующихся с крестами, концы которых, равные по величине, заострены.
Рис. 659. Древнеперсидский кафель с золотистым отблеском. По Уэльсу
Украшения на них состоят отчасти из персидских арабесок, отчасти из фигур животных и людей, в которых уже заметно китайское влияние. Это мы видим, например, на кафеле 1217 г., находившемся в 1893 г. в частной коллекции м-ра Альфреда Гигинса в Лондоне. Пятнистые зайцы, изображенные в середине, скопированы с китайских образцов. То же самое можно сказать и о кафеле, хранящемся в Британском и Соут-Кенсингтонском музеях. У представленных на них человеческих фигур китайские лица (рис. 659). Кафель 1262 г., найденный в Верамине, близ Тегерана, украшен, напротив, одними персидскими арабесками. Два таких кафеля находятся в Берлинском художественно-промышленном музее. Вышеупомянутые постройки в Сольтание и Тавризе (см. рис. 657) служат доказательством того, что в XIV и XV вв. употреблялись предпочтительно мозаичные плитки с синим узором по синему же фону. Тем не менее параллельно с мозаичной техникой развивалось производство плиток с золотистым отблеском, на которых иногда появлялись фигуры животных и растительные орнаменты, вылепленные рельефно и окруженные синими рамками. Но настоящий фаянс со светлым фоном, расписанный в несколько красок, изготовлялся главным образом в XVI столетии при Аббасе Великом. В это время из кафеля исполнялись в нерелигиозных зданиях целые стенные картины. Сцены битв и охоты были заимствованы у поэтов, жанровые сцены, разыгрывающиеся в роскошных рощах кипарисов и чинар, – из действительной жизни. Подобные кафельные картины находились в Исфахане в 40-колонном павильоне; одна из них, хранящаяся в Соут-Кенсингтонском музее, изображает знатных женщин, проводящих время в саду. Подобные картины имеются в Берлинском и Нюрнбергском художественно-промышленных музеях. В типах лиц кое-где отражается китайское влияние, но общий характер композиции и аксессуары – вполне персидские. В позднейшее время Сефевидов для украшения персидских зданий стал чаще употребляться расписанный под глазурью полуфаянс с изображением фигур. В 1900 г. д-ром Фр. Сарре был выставлен в Дрездене персидский кафель всех сортов из его собственной коллекции, составленной в Персии.
Персидское изготовление глиняной посуды развивалось параллельно с производством строительного кафеля. Обломки фаянса с фигурами женщин, написанными на глазури золотистого блеска, находящиеся в Соут-Кенсингтонском музее, происходят из развалин Рея, разрушенного в 1221 г. В лондонских коллекциях встречаются целые вазы подобного рода. Уэльс издал изображения ваз с золотистым блеском и многоцветными добавками, относящихся к XII столетию. Украшением позднейших персидских сосудов с металлическим блеском служили изображения преимущественно букетов натуральных цветов. Но самый распространенный род персидской глиняной посуды – полуфаянс, расписанный под глазурью. Как на древнейшие из сохранившихся его образцов можно указать на пять тарелок XIII и XIV столетий, принадлежавших м-ру Уэльсу в Лондоне. Рисунки на них, исполненные немногими красками (синей, зеленой), обведены широкими черными контурами. В них также сказывается китайское влияние. На самом деле, нам известно, что еще внук Чингисхана поселил в Персии китайских ремесленников, а Аббас Великий вызывал в Исфахан китайских художников; кроме того, в XVII в., когда китайский фарфор, расписанный синими узорами по белому фону, наводнил Европу и Персию, влияние Китая на орнаментацию персидской полуфаянсовой керамики усилилось. В эту пору возникла в Персии даже своя собственная фабрика твердого фарфора. Только сосуды, изготовленные, вероятно, в Киземанской провинции, с оригинальным, гармоничным аккордом трех красок, синей, красной и зеленой, сохранили чисто персидский характер.
Стены персидских мечетей и дворцов покрыты пестрым кафелем, а полы устланы мягкими разноцветными коврами. Вообще ковры играют важную роль в персидской домашней обстановке. Мы уже говорили о технике их производства. По-видимому, персияне времен Сасанидов впервые заимствовали ее у народов более культурных, чем они, и художественно развили ее в своем отечестве. Известно, что далеко не все, что привозится в Европу под названием "персидских ковров", действительно происходит из Персии; многие изделия этого рода – продукты всей обширной области Передней Азии. Мы зашли бы слишком далеко, если бы стали перечислять все то, что написано Юл. Лессингом, В. Боде, А. Риглем, И. Карабасеком и издателями большого сочинения о коврах Венского торгового музея относительно старинных восточных ковров, которые играют теперь такую видную роль если не в искусстве, то в жизни художников. Лессинг и Боде, основываясь на изображениях ковров в итальянских, немецких, нидерландских и испанских картинах эпохи Возрождения, добыли особенно важные хронологические определения; но персидское происхождение самых древних ковров, встречающихся на картинах, не только не доказано, но и маловероятно.
Старинное описание ковра эпохи Сасанидов, представлявшего "сад, перерезанный дорожками и ручейками, с прелестными весенними цветами", больше всего напоминает роскошные ковры, составляющие собственность д-ра Альб. Фидгора, в Вене (рис. 660) и профессора Сиднея Кольвина в Лондоне. На обоих изображены в виде ландкарт, похожих на древнеегипетские пейзажи, подобные сады, с рыбами в ручьях и птицами в кустах. На венском ковре, кроме того, изображены под деревьями антилопы. Китайского влияния здесь еще не заметно, по крайней мере в лондонском ковре, который считается более древним, чем венский. Некоторая правильность расположения изображенного указывает на то, что эти ковры или их образцы, время изготовления которых до сей поры не удалось определить точным образом, во всяком случае древнее ковров XVI и XVII вв. с фигурами животных.
Привезенный Т. Графом в Вену великолепный ковер с золотым и серебряным фоном, украшенный по направлению своей ширины изображением шести расположенных одна возле другой ниш с фронтонами и находящимися в них букетами стилизованных цветов, по мнению И. Карабасека, посвятившего этому ковру целую книгу, следует считать образцом сусанджирдской "иголочной живописи", о которой упоминают писатели. Ученый относит этот ковер к XIV столетию. Однако и в этой области исследования еще не закончены.
Вполне точному определению поддаются великолепные ковры с фигурами животных, изготовленные при Аббасе Великом. В Берлинском старом музее находится наилучший образец таких изделий. Синяя кайма этого ковра и также синие щиты по бокам его среднего поля наполнены персидским узором из усиков и цветов; в большом центральном щите на розовом фоне изображены журавли, летящие между полосами облаков. В угловых полях с розовым фоном помещены человеческие фигуры, главная же площадь ковра сливочно-желтого цвета, и на ней представлена густая группа деревьев, кустарников и цветов, с движущимися среди них четвероногими и пернатыми животными. Фигуры людей и многие фигуры животных, в которых мы узнаем мифических животных "Срединной империи", имеют совершенно китайский характер; тем не менее все это, вместе взятое, все вытканные рисунки и их краски, – персидское.
На других коврах с фигурами животных фон занят уже не лесной чащей с деревьями и кустарником на корню, а сплетением цветов и листьев. Как на лучший образчик таких ковров можно указать на охотничий ковер австрийского императора. На его среднем щите несколько раз повторяется герб китайской династии Мин, борьба феникса с драконом.
Рис. 660. Восточный ковер XIII столетия. По Риглю
Если не брать в расчет росписи кафеля, главной отраслью исламской живописи надо признать персидскую миниатюру. В публичных музеях главных европейских городов персидские миниатюры встречаются редко. А. Гайе, написавший первый очерк их истории, основывался при его составлении исключительно на образцах, найденных им в Хедивской библиотеке в Каире. Но в 1893 г. на выставку мусульманского искусства в Париже было собрано от частных лиц так много персидских и индийских миниатюр, что Жорж Мари нашел возможным, опираясь только на них, составить "приблизительно" полную историю персидско-индийской миниатюрной живописи; затем Эд. Блоше издал общий обзор ее произведений.
Миниатюры домонгольского времени Персии, по-видимому, не сохранились. Даже от XV столетия едва ли дошла до нас хотя бы одна персидская картинка. Чаще встречаются миниатюры XVI в., всего же больше осталось их от XVII и XVIII столетий. В миниатюрах цветущей поры персидского искусства XVI в. ясно отражается влияние китайского искусства, и если, кроме него, указывают также на индийское влияние, то надо заметить, что индийская миниатюра этого времени была в существенных своих чертах персидской. Во всяком случае, живопись персиян, китайцев и индийцев была в этом веке во многих отношениях одинакова. Дальше контурного рисунка без теней, заполненного гуашью, не шла и персидская миниатюрная живопись. Лучшее из того, что производила она с самого начала, – это портреты; в них являются перед нами фигуры в персидских костюмах с персидскими чертами лица. Аксессуарам придается большое значение: одежда, домашняя утварь, седла и сбруя на лошадях часто выписаны гораздо тщательнее, чем фигуры и безжизненные, невыразительные лица; в пейзажах эта тщательность нередко создает настоящее настроение, отражающееся во всей картинке. Кроме портретов, которые были очень любимы, в миниатюрах воспроизводились бытовые сцены, и в особенности эпизоды из рассказов поэтов. Многие из сохранившихся персидских миниатюр помечены именами их мастеров, хотя до сей поры ни один из них не представляется нам определенной исторической личностью. "Молодая персидская принцесса" Магомета Юсуфа в коллекции Гонзе в Париже смахивает довольно сильно на китаянку. В этой же коллекции достоин внимания профильный портрет молодого персидского принца верхом на коне (рис. 661), отличающийся твердостью и строгостью рисунка и характерно персидской посадкой фигуры; напротив того, находящийся также у Гонзе портрет арабского ученого Мохиэддина, лениво сидящего на ковре, принадлежит к числу позднейших миниатюр, в которых видно уже индийское влияние.
Рис. 661. Принц на коне. Персидская миниатюра. По "Gazette des beaux-arts", 1893, II
По исследованиям Гайе, произведенным в Хедивской библиотеке, в первой половине XVI столетия выдающееся положение занимала школа Ахмеда Тебризи. Главным ее представителем был Кемаледдин Бехзад (ок. 1455-1535/36), в своих шести больших рисунках к "Бустану" Саади выказавший себя даровитым композитором, мастером сообщать оживление тонко начерченным сценам, а в своем изображении празднества на садовой террасе весьма чутким к природе живописцем роскошных пейзажных и архитектурных задних планов. Последняя из этих миниатюр замечательна живописной прелестью сочинения. "Легенда об Юсуфе и Луликаге" (об Иосифе и жене Пентефрия) отличается выразительной подвижностью фигур. Такой же славой, как Бехзад, пользовался другой иллюстратор Саади, Джангир. Одна из главных его картин изображает персидский турнир. Третий художник этой группы – Бохари; в его "Вознесении пророка на небо" мы видим на облачном небе сонм крылатых ангелов, вообще мало чем отличающихся от ангелов христианских картин XV в. Джами в своих двух рисунках для Дивана шейха Ибрагима ибн-Мухаммеда-эль-Гульшани является пейзажистом в более или менее китайском стиле, полном, однако, персидского чувства. Все эти художники трудились до середины XVI столетия. При шахе Аббасе Великом индиец Мани внес обновление в персидскую живопись. Как говорят, он писал нежные, проникнутые чувством картины с пожелтевшими осенними деревьями, со световыми эффектами солнечного заката, туманами, перспективными эффектами. Его миниатюра "Адам и Ева под древом познания добра и зла" производит странное впечатление, так как в ней прародители человечества изображены в роскошных персидских костюмах. Школа Мани существовала до XVII столетия. Тимур писал небольшие картинки со множеством фигур. Шуджа-эд-Даула ввел в 1640 г. в употребление более свободный и вместе с тем более мягкий и сильный прием письма. Капур был опытный портретист своего времени. Пейзажист Шабур достиг успеха по части знания перспективы. Реза Фариабих внес в персидское искусство мистический элемент. У позднейших живописцев к монгольским чертам персидского искусства все более и более примешивались европейские черты. Вообще вся персидская живопись, насколько можем проследить ее прошлое, имеет чрезвычайно мало общего с духом ислама.
При историческом обзоре магометанского искусства перейти из Персии в Индию всего удобнее окольным путем, через Центральную Азию и ее главный город Самарканд, архитектурным памятникам которого Зденко Шуберт фон Зольдерн посвятил особое сочинение. Самарканд, находившийся во власти сперва арабов, а потом сельджуков, в 1221 г. попал в руки монгольского завоевателя Чингисхана. Но столицей и резиденцией монгольского государства татаро-монголов этот город сделался только в 1369 г., при Тимуре (Тамерлане), потомке Чингисхана, замышлявшем отсюда покорить себе всю Азию и повелевать ею. Подобно большинству завоевателей, Тимур старался сделать свою столицу средоточием искусств и наук. Известно, что здесь были зодчие, мозаичники и штукатуры, вызванные им из Исфахана и Шираза, и скульпторы, выписанные из Индии. Действительно, частью сохранившиеся, частью лежащие в развалинах великолепные самаркандские сооружения Тимура и его преемников свидетельствуют о своей принадлежности персидскому искусству: высокие порталы вроде ниш, купола на тамбурах, почти исключительно килевидные арки, роскошные кафельные и мозаичные орнаменты синего, голубого, зеленого и белого цветов имеют в них совершенно персидский характер. Местными особенностями являются в них купола в виде тыквы, низкие круглые угловые башни, четырехугольные ограды и шестнадцатиугольники, составляющие переход от квадратной формы подкупольной части здания к круглому тамбуру купола.
От старого дворца Тимура, впоследствии превращенного в русскую крепость, по-видимому, сохранилось только кое-что. В Самарканде уцелели главным образом гробницы и высшие школы (медресе). Мечети, обычно соединенные с надмогильными сооружениями, и медресе по большей части имеют вид четырехугольных залов с четырехугольными нишами и большим центральным куполом. Усыпальница Тимура – одна из самых величественных развалин в Самарканде. Она представляет собой четырехугольник, переходом от которого к круглоте купола служат восьмиугольники. Ниши украшены роскошными сталактитовыми сводами. Стены облицованы алебастровыми и яшмовыми плитами. Вокруг единственного уцелевшего минарета обвивается мозаичная полоса меандра. Из числа медресе Биби-Ханым-медрессе, основанное Тимуром в 1399 г., отличается своими редко встречающимися восьмиугольными минаретами, гладким, а не рубчатым, напоминающим дыню главным куполом и сталактитовым карнизом под ним.
Затем, к числу прочих красивейших мавзолеев времени Тимура принадлежит усыпальница одной из его сестер на могильном холме Шахи-Зинда. Замечательны роскошно обрамленный портал и купол в виде дыни этого здания, а внутри – кафельные украшения с великолепными растительными арабесками и плетением из лент. Прекраснейшее медресе более позднего времени находится на площади Регистан. Великолепны здесь огромная входная ниша, четыре высокие средние ниши на каждой из четырех сторон двора, по бокам которых находится по две ниши меньшей величины, с килевидным верхом, одна над другой. Среди орнаментов здесь поражают своей редкостью две фигуры животных (лисиц). Однако это здание воздвигнуто только в 1610 г., то есть тогда, когда прежний блеск Самарканда начинал уже меркнуть.
2. Исламское искусство в Индии
В Индии ислам, впервые вторгшийся в эту страну через Инд еще в XI в. вместе с государями соседней полуперсидской Гасны, в начале XII в. принялся сооружать свои мечети и мавзолеи рядом с брахманскими пагодами, свои царские дворцы на месте древнеиндийских царских резиденций. Индия сделалась добычей нападавших на нее с севера, вместе или порознь, татар, туркменов и монголов, близко родственных между собой верхнеазиатских племен, принявших магометанство, то заключавших союзы друг с другом, то находившихся во взаимной вражде. В первом индийско-магометанском государстве, существовавшем более или менее замкнуто, с 1206 по 1526 г. царствовали одна после другой разные династии. Туркменскую династию Мамлюков, из государей которой отличались любовью к постройкам Кутб-ад-дин-Айбак и Алтимш, сменила в 1290 г. династия Патанов, которой положило ужасный конец нашествие татаро-монголов под предводительством Тимура в 1398 г. Сам Тимур, после взятия патанской столицы Дели, ушел назад из Индии, но его потомок в шестом колене, Великий Могол Бабур, возвратился в нее с громадным войском, взял в 1526 г. Дели и Агру и основал могущественную династию Великих Моголов, которая пала только в 1707 г. при восстании коренных индусов древнебрахманского вероисповедания.
В истории художеств все искусство первого магометанско-индийского государства, с 1206 по 1526 г., называют искусством Патанов и считают предшествовавшим и противоположным искусству моголов XVI и XVII столетий. Главными, но не единственными его центрами были Дели и Агра-на-Джамне, одном из южных притоков Ганга. На западе, от Синди и Гуджарата до Восточной Бенгалии, и на севере, от Пенджаба и Ауда до южных окраин Декана, над всеми индийскими городами высятся купола мечетей и вообще множество индийских мечетей, принадлежащих к числу самых величественных созданий магометанского искусства.
Куда бы ни проникало исламское зодчество, оно везде приноравливалось к местным сооружениям, оставаясь в то же время верным самому себе. Так было и в Индии. Иногда оно заимствовало план от индийских пагод, в которых несколько обнесенных стенами дворов заключалось один в другом, а святилище находилось на среднем дворе; входы в ограды нередко превращало в массивные ворота, и внешнему виду мечетей давало ясное и богатое расчленение, как у больших индийских зданий; с особой любовью подражало оно староиндийским деревянным столбам в своих четырехугольных каменных колоннах, капители которых со всех четырех сторон состоят из выступающих вперед кронштейнов, и еще долго сводило купола из горизонтальных слоев камня, особенно там, где пользовалось индийскими рабочими. Килевидная арка и купол в форме луковицы перешли в индийско-магометанское искусство из Персии, хотя первая и была уже известна индусам более чем за тысячу лет до того. Но отвращение от введения фигур живых существ в орнаментику зданий, принесенное им из Аравии, это искусство стремилось строго соблюдать наперекор чересчур обильной животной орнаментике буддизма и брахманства. Поэтому индийские мечети при сравнении их с брахманскими пагодами часто производят впечатление степенности, покоя, даже холодности; сравнительно же с мечетями западной области распространения ислама они уже вследствие одной роскоши тесаных камней, из которых сложены, кажутся, по крайней мере по внешнему виду, более монументальными, богатыми и художественными. Затем надо заметить, что в Индии, как и в Египте, надгробные постройки магометанских государей отличаются величиной и пышностью, которые делают их чудесами архитектуры. Обычно государи начинали сооружать для себя усыпальницы еще при своей жизни и разводили вокруг них благоустроенные сады. Будучи общедоступны, эти здания и сады являлись в некотором роде подарками умерших царей народу. И здесь под средним куполом помещается простой саркофаг, но залы, окружающие со всех сторон центральный покой и открывающие свободный доступ к нему, имеют самые разнообразные и богатые планы.
Рис. 662. Кутб-Минар в Старом Дели. С фотографии Бурне
Дворцы, построенные для резиденции здравствовавших государей, менее многочисленны и сохранились не так хорошо, как эти дворцы усопших; однако и они красноречиво свидетельствуют о богатстве и художественном вкусе магометанских владык Индии.
Разумеется, отдельные индийско-магометанские сооружения отличаются друг от друга коренным образом в зависимости от места и времени.
Фергюссон насчитывал свыше 13 различных типов индийской архитектуры, соответствующих такому же числу географических центров. Но так как и магометанское, и индийское зодчество уже пережили свою вековую эволюцию в то время, когда столкнулись друг с другом, то по этим особенностям трудно проследить органический ход развития.
К патанскому искусству относится прежде всего группа развалившихся зданий в Дели, над которой высится Кутб-Минар, минарет Кутба (1200 г.), – башня высотой 80 метров, чрезвычайно оригинального и внушительного вида (рис. 662). Она построена из слоев тесаного камня, попеременно белых и красных, имеет круглый план и форму утончающегося кверху конуса. В вертикальном направлении она состоит из круглых, похожих на органные трубы стержней, прижатых один к другому, а в горизонтальном направлении разделяется на части полосами надписей и опоясывающими ее балконами. От фасада мечети, которой принадлежал этот минарет, уцелела только высокая килевидная арка среднего входа, заключенная в прямоугольной раме и окруженная роскошным арабским орнаментом, и рядом с ней – низкие боковые арки; кроме того, здесь можно распознать два двора, находившиеся один внутри другого и некогда окруженные колоннадами; тут же мы встречаем индийские колонны с капителями из кронштейнов (рис. 663), вероятно взятые из древнеиндийских зданий, и арки, образуемые горизонтальными рядами камней, выступающими один над другим.
Рис. 663. Галерея с колоннами в мечети, соседней с Кутб-Минаром. С фотографии Бурне
Вблизи от этой мечети находятся усыпальницы Алтимша (1235 г.) и Патана Ала-ад-дина II (1310 г.), которая по богатой орнаментации арабесками ее стен и конструкции килевидных арок, несмотря на свой небольшой размер, принадлежит к лучшим сооружениям стиля Патанов.
Ясное понятие о перевороте, происшедшем в архитектуре Патанов после смерти Ала-ад-дина (1316), могут дать постройки первого Туглака, основавшего в 1321 г. Новый Дели. Они отличаются строгостью и простотой. Индийские зодчие научились сводить настоящие купола. Скошенные по-египетски стены усыпальницы Туглака одновременно и строги и просты.
В Джайпуре, провинциальном городе на одном из северных притоков Ганга, смешение магометанских и древнеиндийских форм продолжалось еще в течение всего XV столетия: Пятничная мечеть замечательна громадными воротами своего двора, полукруглыми куполами и вместе с тем килевидными арками, а также многоэтажными галереями на четырехгранных столбах с плоским покрытием, капителями этих столбов, роскошные кронштейны которых сильно выступают вперед и вместе со столбами имеют все еще индийский характер.
К XV столетию относится также Пятничная мечеть в Ахмадабаде, в которой индийские черты стиля провинции Гуджарат выказываются с особенной чистотой. Горизонтальные линии в ней преобладают. Минаретов не имеется. Святилище, занимающее западную короткую сторону большого прямоугольного двора, состоит из пяти крытых куполами залов в одной связи, которые все открываются во двор, причем средний из них выше остальных. Килевидные арки и купола имеют лишь декоративное значение. Плоские потолки повсюду в этой мечети подпираются четырехугольными столбами с украшенными пластикой цоколями и с ясно обозначенными кронштейнами на капителях. От стиля деревянных построек архитектура этого здания все еще не отделалась.
Роскошные сооружения в Манду, в местности Мальва, относятся также к XV столетию. Главная мечеть состоит из двора, который, как в старинных египетских мечетях, окаймлен на входной стороне двумя, на каждой из обеих прилегающих к ней сторон тремя, а на молитвенной стороне пятью аркадами. Аркады состоят из монолитных столбов красного песчаника и из поддерживаемых ими настоящих стрельчатых арок. Святилище на молитвенной стороне украшено тремя большими куполами; меньшие купола покрывают собой квадратные пространства, из которых состоят аркадные галереи. Только немногие другие мечети превосходят эту в отношении величия и вместе с тем простоты.
В Горе, магометанской столице Бенгалии, находится мечеть середины XIV столетия, выстроенная преимущественно из кирпича; короткие и толстые каменные столбы поддерживают в ней кирпичные стрельчатые арки и своды. Мечеть в соседнем местечке Малдах, принадлежащая второй половине того же столетия, сооружена целиком из кирпича и представляет собой здание, покрытое ни более ни менее как 385 низкими куполами и отличающееся характерностью, но также и некоторым однообразием магометанских форм.
В Южной Индии, на полуострове Декан, в Калбургахе, находится мечеть, построенная в 1400 г., единственная в своем роде, так как она вся крытая и открывается с трех сторон наружу огромной галереей с килевидными арками, простирающимися во всю высоту здания. Затем в XVI в., Биджапур, город в Декане, был местом, где воздвигались великолепные здания в особом, смелом стиле, со стрельчатыми арками и сводами, уже не заключавшем в себе решительно ничего индийского, но имевшем, подобно тогдашним владетелям Биджапура, притязание на европейское происхождение. Святилище состоит из пяти рядов аркад, идущих с востока на запад, и из девяти – с юга на север. Переходные клинья от четырехугольной центральной части здания к ее большому куполу снабжены ребрами. Еще громаднее купол роскошной усыпальницы Махмуда в Биджапуре: он шире и выше, чем купол римского Пантеона, а переходные клинья от четырехугольного ее низа к круглоте купола обработаны очень художественно. Наконец, следует упомянуть об аудиенц-зале в Биджапуре, который, по своей килевидной входной арке высотой и шириной 27 метров, принадлежит к числу самых смелых, хотя, быть может, и не самых красивых построек подобного рода.
От зданий Биджапура мы можем перейти прямо к сооружениям Великих Моголов XVI и XVII вв. Находятся они главным образом в Новом Дели и Агре. Их великолепные правильные планы, разработанная система каменных столбов и килевидных арок, цветные луковичные купола, драгоценность употребленных на них материалов и роскошь мозаичных украшений составляют новое, нечто такое, что может быть, если угодно, названо магометанским ренессансом. Однако и в этом стиле Великих Моголов можно проследить значительное развитие, состоявшее в переходе от сознательной подделки под старинную индийскую оригинальность к более общей правильности. Постройки великого императора Акбара (1556-1605) представляют в этом отношении некоторую противоположность постройкам его внука, императора Шах-Джахана (1627-1658).
Главная мечеть Акбара стоит на высокой террасе в Фатих-пур-Сикри, любимой резиденции этого государя, неподалеку от Агры. К громадному двору, окруженному аркадами, с западной стороны примыкает святилище, увенчанное тремя куполами. Особенно громадны ворота – находящиеся в середине сторон двора; из них самые большие – южные; килевидная арка их отверстия образует увенчанную полукуполом нишу, занимающую почти весь их фасад: дверь, ведущая в мечеть, находится в глубине этой ниши. Такого рода постройки уже много раз встречались нам в исламской архитектуре; в них в высшей степени художественным образом удовлетворяется потребность наделять здание снаружи монументальным входом, соответствующим его высоте, и вместе с тем устраивать с внутренней стороны обычный, удобный для людей проход в него.
Главные дворцы Акбара – Красный дворец в Агре и Большой дворец в Футжипуре. Первый отличается сколь нельзя более древнеиндийской формой, отсутствием купола и столбами на центральном дворе, сплошь роскошно орнаментированными; второй благодаря постоянным пристройкам к его первоначальному прямоугольному в плане корпусу, получил чрезвычайно живописный вид. Фергюссон называл его каменным романом. Наиболее богато украшены в нем три небольших домика для женщин, в особенности дом султанши Руми, гипсовый слепок которого находится в Соут-Кенсингтонском музее. Его индийские столбы с кронштейнами сверху донизу покрыты великолепным геометрическим орнаментом, наполненным лиственными мотивами.
Главный надгробный памятник из сооруженных Акбаром – его собственный, находящийся в Сикандре (Сикундре). В нем видно подражание не столько древнемагометанским, сколько древнеиндийским усыпальницам. Это массивное, прямоугольное террасообразное здание, каждый верхний из ярусов которого, открывающихся наружу стрельчатыми аркадами, меньше, чем нижний. На четырех сторонах нижнего яруса высится по монументальным воротам; по углам каждой террасы стоят павильоны, увенчанные небольшими куполами; но центрального купола, который господствовал бы над всем зданием, не существует.
Совершенно иного рода стиль Шах-Джахана. Как на тип его мечетей можно указать на Большую мечеть в Дели, куда внук Акбара снова перенес свою резиденцию. На высокой террасе, сложенной из красного песчаника, лежит громадной величины квадратный двор, обнесенный стеной, на каждой стороне которой, в середине, находится массивный портал с горизонтальной кровлей; по углам этой ограды высятся павильоны с луковичным куполом; на западной стороне двора находится святилище, состоящее из высокого центрального корпуса и двух более низких боковых флигелей; каждая из этих трех частей здания увенчана луковичным куполом; по бокам высокой килевидной арки главного портала – по небольшому минарету; на концах боковых флигелей – по одному высокому, стройному минарету. Все это исполнено из белого мрамора с выкладкой по нему красного песчаника. Едва ли какая-либо другая мечеть может сравниться с этой в отношении величия, приветливости, правильности и симметричности. В таком же роде, но без минаретов – Малая мечеть Шах-Джахана в Агре; будучи построена вся из мрамора, она пользуется всемирной известностью под названием Жемчужная мечеть. Ее святилище, увенчанное тремя куполами, открывается наружу на западную сторону окруженного аркадной галереей двора семью килевидными зубчатыми арками.
Типичен для дворцовых построек Шах-Джахана его Большой дворец в Дели, задняя сторона которого отражается в желтых волнах Джамны. Портал этого дворца, глубиной 120 метров, похожий на средний неф огромного готического собора, считается самым величественным дворцовым входом. За этим порталом лежит обширный квадратный, обнесенный аркадами двор, по сторонам которого, справа и слева, примыкают к нему длинные галереи; на этом дворе – другой, прямоугольный двор, вокруг которого расположены залы и комнаты. Некоторые залы, как, например, аудиенц-зал, составляют отдельные небольшие постройки. Надпись в этом зале, самом нарядном помещении во всем дворце, гласит: "Если есть на земле небо, то не в каком-либо другом месте, а только здесь".
Как на тип надгробных сооружений Шах-Джахана можно указать на Тадж-Махал в Агре (то есть чудо света; рис. 664). Собственно усыпальница занимает середину огромной прямоугольной террасы с четырьмя башнями по углам и роскошными пристройками. Сам мавзолей имеет в плане квадрат со срезанными углами; на этом квадрате расположен вокруг центрального помещения ряд круглых и крестообразных в плане залов, соединенных проходами между собой и со входными нишами, открывающимися наружу в виде килевидных арок. Центральное помещение, самое большое из всех, имеет в плане форму восьмиугольника и увенчано куполом. Этот последний – двойной: внутренний имеет форму полушара, наружный, рассчитанный только на внешний эффект и господствующий над всем зданием, лежит на тамбуре и своей формой походит на луковицу. Все части здания украшены инкрустацией и резьбой из мрамора. Даже оконные рамы центрального восьмиугольного помещения состоят из мраморных плит, прорезанных насквозь роскошным узором. Впрочем, известно, что эти мраморные работы, если не все, то, по крайней мере, отчасти, исполнены итальянскими и французскими мастерами, выписанными Шах-Джаханом в Агру.
Рис. 664. Тадж-Махал в Агре. С фотографии Бурне
Таким образом, это здание подводит нас снова к границе чисто восточного искусства. На самом деле вскоре после сооружения Тадж-Махала влияние Европы стало неудержимо прокладывать себе дорогу в индийскую архитектуру. Оно отразилось в надгробных постройках Голконды, Маисура и особенно Лукнова, главного города северной индийской провинции Ауд. Стиль бастард роскошных сооружений в Лукнове принадлежит, правда, уже XIX столетию, свидетельствует о полном упадке индийского зодчества: европейские стили, навязанные Индии англичанами, ее победителями, не внесли в эту страну никаких задатков нового, здорового развития искусства.
Если не принимать в соображение скудных пластических украшений некоторых мечетей, то придется сказать, что магометанской скульптуры в Индии не существовало; но эта страна, подобно Персии, имела свою магометанскую живопись. Как и в Персии, кроме позднейших нехудожественных изображений на стенах она производила главным образом книжные иллюстрации и портреты, исполненные на бумаге.
Наряду с такими работами большой любовью пользовались в Индии писанные на кости миниатюры, отличающиеся тщательной выделкой всех аксессуаров. Общепризнано, что эти книжные иллюстрации и миниатюры до такой степени проникнуты персидским влиянием, что нередко бывает трудно или совершенно невозможно отличить их от произведений современной им персидской живописи. Л.-Г. Фишер, написавший в 90-х гг. XIX в. статью об индийской живописи, указывал как на особенность индийской миниатюры на сильную примесь к акварельным краскам связывающих веществ, благодаря которым работа выходит похожей на живопись а tempera – прием, усвоенный художниками, быть может, ввиду знойности и влажности тропического воздуха Индии.
Изучить, какова была индийская миниатюра до Великого Могола Акбара, невозможно. Фишер даже предположил, что едва ли существуют миниатюры, которым было бы больше 200 лет. Относительно Акбара, отличавшегося веротерпимостью и покровительствовавшего всем искусствам и наукам, нам известно, что он заботился также и о живописи. При его дворе проживало более сотни знаменитых живописцев, и между ними, как указывают положительным образом письменные источники, было много персов, у которых учились молодые индийские живописцы. Самого знаменитого из этих художников, Дасванта, называют учеником ширазца Ширинкалама. Базаван как портретист был еще искуснее Дасванта.
Произведения индийской живописи сохранились тысячами не только в музеях Индии, но и во многих из европейских коллекций.
В Комнате Фекетина в Шенбрунском дворце, близ Вены, все стены до самого потолка увешаны индийскими миниатюрами отличной работы в стиле барокко. Берлинская королевская библиотека владеет обильно иллюстрированным сборником произведений персидских поэтов, написанным по поручению Акбара. Указывать на другие образцы индийских миниатюр считаем излишним; заметим только, что они сходны с персидскими как по своим сюжетам, так и по более или менее "примитивному" своему общему характеру, но что тем не менее формы человеческого тела в них мягче, а индийские костюмы роскошнее.
Историю художественно-промышленных произведений Индии, за исключением металлических работ, мы можем проследить также лишь со времен магометанских нашествий, и даже индийские ткани, столь славившиеся еще в древности, и индийские гончарные изделия, пока производство последних процветало на местной почве, насколько можно судить по сохранившимся их образцам, имеют персидский или верхнеазиатский отпечаток. Известные индийские лаковые изделия являются подражаниями китайским и персидским. Сравнительно нового происхождения, по-видимому, также изделия из черного дерева с выкладкой из слоновой кости, столь любимые в Индии. Искусство облицовывать стены цветным глазурованным кафелем перешло в Индию из Персии, несомненно, лишь во времена Великих Моголов и в сущности было распространено только на северо-востоке страны. Центром производства такого кафеля был Лахор. Под персидским же влиянием находилась и лепка художественных сосудов. Глиняные глазурованные сосуды Индии отличаются чистотой и изяществом форм, равно как и соответствием роскошной плоской орнаментации, состоящей из стилизованных цветов, форме самого предмета. Многократно повторяющиеся и равномерно размещенные цветы, нередко написанные на белом фоне кобальтово-голубой или бирюзово-голубой краской и тронутые кое-где лиловой, рассеяны по всей орнаментированной поверхности, но не переполняют ее.
Магометанское искусство в Индии, так же как везде на ее границах, пользовалось заимствованиями от искусства соседних с ней областей. Произойдя от древнего искусства побережья Средиземного моря, которое, в свою очередь, восприняло в себя древнемесопотамские влияния, исламское искусство всюду на своем пути к Востоку встречалось с древними местными традициями и вносило свое в смесь западных и восточных художественных элементов.
Заключение
В то время, когда печатался настоящий том (1904), открылись новые горизонты в истории развития искусства. Раскопки Эванса на Крите, Муррея, Смита и Уольтерса на Кипре подтвердили наш взгляд на микенское искусство, который мы изложили выше. Но по вопросу о старшинстве древнеегипетского искусства или искусства египтян и халдеев, этих древнейших из культурных народов земного шара, пока составлялось наше сочинение, почти каждый год доставлял новые открытия, изменявшие прежние воззрения. В этом отношении очень важны были американские раскопки в Ниппуре. Снова возник вопрос о существовании первоначальной связи между древнеамериканской и древнеазиатской культурами. Конечно, сходство между ступенчатыми пирамидами или простейшими геометрическими или техническими орнаментами этой связи еще не доказывает. Указанием на генетическое родство могло бы в этом случае служить только сходство сложных и индивидуальных явлений. Если подтвердится предположение, что в древней Америке, как и в древней Халдее, употреблялись для обозначения созвездий одни и те же знаки, это мнение, разделяемое нами со знаменитыми американистами относительно происхождения древнеамериканской культуры, должно будет уступить место новому воззрению, которое, впрочем, повлияло бы очень мало на наше изложение истории развития древнеамериканского искусства. Эти примеры мы привели единственно с той целью, чтобы показать, как велики трудности, появляющиеся при обзоре всего языческого и нехристианского искусства.
Обилие новых открытий, проливающих с каждым годом все новый и новый свет в отдельные области исследования, налагает на историю искусства обязанность соблюдать осторожность при попытках объединения различных факторов при помощи смелых гипотез. Преждевременные попытки этого рода, ежеминутно опровергаемые новыми открытиями, принесли немало вреда нашей науке. Но насколько общая связь эволюционных явлений до известной степени вытекает из осязательных документов, мы везде подчеркивали ее, предоставляя фактам говорить самим за себя. Можно надеяться, что вскоре горизонт наш расширится и мы увидим связь между явлениями там, где они пока представляются разрозненными. Но мы не верим, чтобы когда-нибудь удалось вывести происхождение всего цветущего мира искусства, изучаемого историей, из одного и того же зерна. Вся привлекательность и все значение исследований в области искусства заключаются именно в рассмотрении отдельных явлений художественной жизни одних рядом с другими и их дальнейшего развития при том взаимодействии, которое существовало между ними.
Литература
Adler, Fr.: Das Pantheon zu Rom // 31. Berl. Wiuckelmann-Programm. Берлин. 1871; см. также Curtius.
Akermann, J. Y.: Remains of Pagan Saxondom. Лондон. 1855.
Amelios, d’: Pompei. Nuovi scavi. Casa dei Vettii. Неаполь. 1898.
Amelung, W.: Fuhrer durch die Antiken in Florenz. Мюнхен. 1897.
Anderson, William: The pictorial arts of Japan, с приложением: Chinese and Korean pictorial art. Лондон. 1886; Descriptive and historical catalogue of a Collection of Japanese and Chinese Paintings in the British Museum. Лондон. 1886; Landescape Painting in Japan // Art Jurnal, с. 121. Лондон. 1890; Japanese wood Engraving // Portfolio, № 17. Лондон. 1895.
Andreas, см. Stolze.
Andree, R.: Die Metalle bei den Naturvolkern. Лейпциг. 1884; Ethnographische Parallelen und Vergleich. Neue Folge. Лейпциг. 1889.
Andrian, F. Frhr. von: Prahistorische Studien aus Sicilien. Берлин. 1878.
Antichita d’Ercolana, т. I-IX. Неаполь. 1757-1792.
Appel, см. Montelius.
Archaologisches Institut (Internationales, unter deutscher Leitung): Monumenti, Annali, Bulletiono dell’ Instituto. Рим. 1829 и след.; (Kaiserlich deutsches); Mitteilungen des kaiserl. deutschen archaologischen Instituts zu Athen. Т. I, 1876 и т. д. Mitteilungen des kaiserlichen deutschen archaologischen Instituts. Romische Abteilung. Т. I, 1886 и т. д. Jahrbuch des kaiserl. deutschen archaolog. Instituts. Т. I, Берлин. 1886 и т. д.
Antike Denkmaler. Т. 1. Берлин. 1891. Т. II. Вып. 1. Берлин. 1893 и т. д.
Arndt, Paul, см. Brunn.
Baltzer, L. (с предисловием Ридберга): Hallristningar (Начертания на скалах), первая серия. Готенбург. 1881-1890.
Bandelier, A. F.: On the social organization and mode of government of the ancient Mexicans. Салем. 1879; Report of an archaeological tour in Mexico in 1881. Бостон. 1884.
Bastian, A.: Die Kulturvolker des alten Amerika. Т. I и II. Берлин. 1878; т. III, Берлин. 1889; Amerikas Nordwestkuste. Aus den Sammlungen der Kgl. Museen in Berlin. Берлин. 1883.
Baumeister, A.: Denkmaler des klassischen Altertums. Мюнхен и Лейпциг. 1885-1888.
Baumgarten, см. Collignon.
Belck, W., Lehmann, B. F.: Bauten und Bauart der Chalden // Verhandlungen der Zeitschrift fur Ethnologie. XXVIII, с. 601. Берлин. 1895.
Benndorf, Otto: Griechische und sicilische Vasenbilder. Берлин. 1868; Die Metopen von Selinunt. Берлин. 1873; Das Heroon von Gjolbaschi-Tyra // Jahrbuch der Sammlungen des Allerhochsten Kaiserhauses. Т. IX, XI и XII. Вена. 1889, 1890 и 1891. Ueber den Ursprung der Giebelakroterien // Jahresheften des oesterr. archaol. Inst. II, с. 1-5. Вена. 1899. Niemann, G.: Reisen in Lykien и т. д. Вена. 1884, см. также Conze.
Berendt, G.: Die pommerellischen Gesichtsurnen. Кенигсберг. 1872. Доп. к соч., Кенигсберг, 1878.
Berger, E.: Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der Maltechnik, I и II. Мюнхен. 1883 и 1895.
Bernouilli, J. J.: Romische Ikonographie, I-III. Штуттгарт, Берлин и Лейпциг. 1882-1894.
Bie, Osk.: Zur Geschichte des Hausperstyls // Jahrbuch des kaiserl. deutschen archaol. VI, с. 1-9. Берлин. 1891.
Bing, S.: La ceramique; глава IX соч. Гонзе об Японии (см. Gonse); Japanischer Formenshatz, 6 т., нем. изд. Japon artistique. Париж. 1889-1891. Лейпциг. Б. г.
Birdwood, G. C. M.: The industrial arts of India, нов. изд. Лондон. 1880.
Blochet, Ed.: Les miniatures des manuscrits musulmans // Gaz. des beaux arts. I, с. 281-293; II, с. 105-118. Париж. 1897.
Boas, Franz: The Central Eskimos // Annual Report of the Bureau of Ethology. VI, с. 499-671. Вашингтон. 1884-1885.
Bode, W.: Studien zur Geschichte der westasiatischen Knupfteppiche // Jahrb. der preuss. Kunstsammlungen. XIII, с. 26-49, 108-137. Берлин. 1892.
Boeswillwald, E., Cagnet, R.: Timgad, une cite africaine sous I’empere romain. Париж. 1892-1897.
Bohlan, Joh.: Fruhattische Vasen // Jahrb. des k. deutschen archaol. Inst. II, с. 33-36. Берлин. 1887; Zur Ornamentik der Villanova-Periode. Кассель. 1895. Aus ionischen und italischen Nekropolen. Лейпциг. 1898.
Bohn, R., Droysen, H.: Das Heiligtum Athena Polias zu Pergamon. Берлин. 1885; и Schuchardt, C.: Altertumer von Aega. Берлин. 1889; см. также Conze. Borchardt, L.: Die agypt. Pflanzensaule. Берлин. 1897; Das Alter des Sphinx bei Gizeh // Sitzungsberichte der Pr. Ak. d. W. Т. I, 1897; II, с. 752-760. Берлин. 1897; Die Dienerstatuen aus den Grabern des alten Reiches // Zeitschrift fur agypt. Sprachen, XXXV, с. 119-124. Лейпциг. 1897; Ueber das Alter der Chefenstatuten // Zeitschrift fur agypt. Sprache etc., XXXVI, с. 1-12. Лейпциг. 1898; Das Grab des Menes; там же, с. 87-105. Лейпциг. 1898.
Borrmann, Rich., см. Curtius и Dorpfeld.
Botta, P. E., Flandin, E.: Monuments de Ninive, I-IV. Париж. 1849-1853.
Botticher, Karl: Tektonik der Hellenen. Т. I-II. 1-е изд. Потсдам. 1844-1852; 2-е изд., Берлин. 1866-1881.
Bovallius, C.: Nicaraguan Antiquities. Стокгольм. 1886.
Brinckmann, Justns: Kunst und Handwerk in Japan. Т. I. Берлин. 1889; Das Hamburgische Museum fur Kunst und Gewerbe. Лейпциг. 1894. Kenzan. Гамбург. 1897.
Broungh Smyth, R.: The aborigines of Victoria. Т. I и II. Лондон. 1878.
Bruckmann, см. Brunn.
Brugsch G.: Die Aegyptologie. Лейпциг. 1891.
Bruhl, G.: Die Kulturvolker Alt-Ammerikas. Нью-Йорк, Цинциннати, Сан-Луи. 1875-1887 (с подробным указанием на предшествовавшую литературу предмета).
Brunn, Heinr.: I relievi delle urne etrusche, I. Рим. 1870; Probleme in der Geschichte der Vasenmalerei. Мюнхен. 1871; Geschichte der griechischen Kunstler. Т. I и II. 1-е изд. Штутгарт. 1857-1859; 2-е изд. 1889 и след.; Griechische Kunstgeschichte; erstes Buch. Мюнхен. 1893; zweites Buch, herausgegeben von A. Flasch. Мюнхен. 1897 и след.; и Bruckmann, Fr.: Denkmaler griechischer und romischer Sculptur. Мюнхен. 1888.; Продолжение, под ред. Арндта. Мюнхен. 1897.
Brunner, K.: Die steinzeitliche Keramik in der Stadt Brandenburg // Archia fur Anthropologie, XXV, с. 243-296. Брауншвейг. 1898.
Buchner, L.: Aus dem Geistesleben der Tire. 3-е изд. Лейпциг. 1880.
Buhler, J.: Votive inscriptions from the Sanchi stupas // Epigraphia Indica, II, с. 87 и след. Калькутта. 1892.
Burgess, J.: Notes on the Buddha Rock-Temples of Ajanta, their Painting etc. // Archaeological Survey of Western India, № 9. Бомбей. 1879; Report of the Buddhist Cave Temples of India. Лондон. 1883; Report of the Elura Cave Temles etc. Лондон. 1883; см. также Fergusson.
Bushell, S. W. Oriental ceramic etc. from the collection of W. T. Walters, etc. Нью-Йорк. 1897.
Buti, Camille: Pitture antiche della Villa Negroni. Рим. 1778.
Buttner, C. G.: см. отчет Фритша о вновь найденных бушменских рисунках в "Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fur Anthropologie и пр., 1878, с. 15 и след. Cagnet, см. Boeswillwald.
Canina, L.: Etruria Maritima. Рим. 1846-1851; Gli edifizi di Roma. Рим. 1849-1852; Cartaihac E.: La France prehistorique. Париж. 1889; La divinite feminine ete. Les sculptures d’Epones // L’Anthropologie, V. Париж. 1894.
Cesnola, L. Palma di: Cyprus. Its ancient cities, tombes and temples. Лондон. 1877; A descriptive atlas of the Cesnola collection, I-V. Нью-Йорк и Бостон. 1885; Chambres, Sir William: Designs of Chinese buildings, etc. Лондон. 1757.
Champollion, F.: Precis du systeme hieroglyphique des anciens egyptiens. Париж. 1824; Monuments de l’Egypte et de la Nubie. I-IV. Париж. 1929-1944.
Chabannes, Ed.: La sculpture sur pierre en Chine. Париж. 1893.
Chipiez, Ch.: Les edifices d’Epidaurus // Revue archeol., 3-я серия, XXVIII, с. 38-59. Париж. 1896; см. Perrot.
Christy, см. Lartet.
Clemen, Paul: Merowingische und Karolinische Plastik // Jahrbucher des Vereins der Altertumfreunde, LXXXXII, с. 1-146. Бонн. 1892; Col: Preservation of national Monuments in India. Published by order of the Governor General in Council. Б. м. 1884, 1885 и след.
Collignon, M.: Histoire de la sculpture grecque. Т. I, II. Париж. 1892 и 1897; Geshichte der griechischen Plastik, I (перевод на нем. Эд. Тремера); II (перевод Фр. Баумгартена).
Страсбург. 1897-1898; см. также Rayet.
Conwentz: Bildiche Darstellungen и т. п. an Westpreussischen Graburnen // Schriftan der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, нов. изд., VIII. Данциг. 1894; Conze, A.: Melische Thongetasse. Лейпциг. 1862; Hauser, A.: Niemanu, G., Benndorf O.: Archaologische Untersuchungen auf Samothrake; I, Вена. 1878; II, 1880; Humann, Bohn, Stiller, Solling, Raschderf, Frankel: Drei vorlaufige Berichte uber die Ausgrabung zu Pergamon. Берлин. 1880, 1882, 1888; Die attishen Grabreliefs. Берлин. 1893-1897; Coste, см. Flandin; Courband, Edm.; Le bas-relief romain а representations historiques. Париж. 1899.
Crawfurd: History of the Indian Archipelago. Эдинбург. 1820; A Descriptive Dictionary of the Indian Islands. Лондон. 1866.
Cunningham, Al.; Buddha-Gaya // Archaeological Survey of India, I, с. 4-12, Калькутта, 1871; III, с. 79-103, 1873; Ancient Indian Architecture. Indo-Persian and Indo-Grecian Styles, в том же издании, V, 185-196. Калькутта. 1875.
Cultius, Ernust: Die griechische Kunst in Indien // Archaol. Zeitung, Берлин. 1876; и Adler, Fr.: Olympia. T. III. Baudenkmale, bearbeitet von Fr. Adler, Rich. Borrmann, Wilhelm Dorpfeld, Fr. Fraeber und Paul Graef. Берлин. 1892-1896; Т. III: Die Bildwerke von Olympia in Stein und Thon, bearbeitet von G. Treu, Берлин. 1894-1897; T. IV: Die Bronzen und die ubrigen kleinen Funde von Olympia, bearbeitet von Ad. Furtwangler, Берлин. 1890; Dalton, см. Read; Darwin, Ch.: Nestbau der Vogel, посмертное соч. // Kosmos, XV, с. 10. Штутгарт. 1884; Dawkins, Boyd: Cave Hunting (нем. изд. I. В. Шпренгеля "Hohlenjagd". Лейпциг и Гейдельберг. 1876).
Delaporte, C.: Voyage du Cambodge. L’architecture Khmer. Париж. 1880.
Deshayes, см. Tokonosuke.
Dietrichson, L.: Antinoos, Христиания. 1894.
Dieulafoy, Marcel: L’art antique de la Perse, I-V. Париж. 1890.
Dignet, L.: Note de pictographie de la Basse-Californie // L’Anthropologie, VI, с. 160-175. Париж. 1895.
Donner von Richter, Otto: Статьи (против мнения Бергера относительно техники античной живописи) // Technische Mitteilungen (Кейма) X, приложение к № 171, с. 443-447. Мюнхен. 1893. Ср. прим. Кейма на с. 490; Ueber Technisches in der Malerei der Alten. Мюнхен. 1895.
Dorpfeld, W. (вместе с Ф. Гребером, Р. Борманом, К. Зибольдом): Ueber die Verwendung von Terrakoten am Geison und Dach griech. Bauwerke // Winkelmann-Programm, 41. Берлин. 1881; Der alte Athenatempel auf der Akrololis von Athen // Mitteilungen, т. X, с. 275-277, 1885; т. XII, 1887 и т. д.; Der Tempel von Korinth // Mitteilungen, т. XI, с. 297-308, 1886; Der Hypathraltempel // Mitteilungen, т. XVI, с. 334-344, 1891; Troja. 1893. Лейпциг. 1894; и Reisch, E.: Das griechische Theater. Афины. 1896; см. также Curtius и Tsountas.
Droysen, см. Bohn.
Duhn, Fr. v.: L’Ara Pacis // Annali dell’Instituto Archeologico, LIII, с. 302 и след. Рим. 1881. Ueber die archaolog. Durchforschung italies innerhalb der letzten acht Jahre // Verhandlungen der 44 Philologen-Versammlung Koln. 1895. Лейпциг. 1896.
Dummler, Ferd.: Vasen aus Tanagra // Jahrbuch des kaiserl. deutschen archaol. Inst., II, с. 18-29. Берлин. 1887; Attische Lokythos etc. // Jahrbuch des kaiserl. deutschen archaolog. Inst., II, с. 168-178. Берлин. 1887; Zu den Vasen aus Kameiros // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Inct., VI, с. 202-271. Берлин. 1891.
Dupont, E.: Les temps prehistoriques en Belgique. L’homme pendant les ages de la pierre, etc. 2-е изд. Брюссель. 1875.
Durand-Greville, E.: La couleur du decor des vases grecs // Revue archeologique. Париж. 1891, 1892.
Duret, Th.: La’rt Japonais, les livres illustres, etc. // Gaz. des Beaux Arts, 1882, II (XLVI), с. 113 и след., 302 и след.
Durm, Jos.: Die Baukunst der Etrusker und Romer. Дармштадт. 1885; Die Baukunst der Griechen; 2-е изд. Дармштадт. 1892.
Du Sartel, O.: La porcellaine de Chine. Париж. 1881.
Ebers, G.: Aegypten in Wort und Bild. Штутгарт. 1879; Eine Galerie antiker Portrats. Мюнхен. 1888; Sinnbildliches. Die koptische Kunst. Лейпциг. 1892; Antike Portrats. Лейпциг. 1893.
Ehrenreich, P.: Die zweite Xingu-Expedition // Zeitschrift fur Ethnologie, XXII, с. 81 и след. Берлин. 1890; Beitrage zur Volkerkunde Brasilions. Берлин. 1891.
Eisen, G.: On some ancient sculptures from the Pacific slope of Guatemala // Mem. of the California Academy of sciences. Сан-Франциско. 1888.
Engelmann R.: Pompeji. Лейпциг. 1898.
Erman, Ad.: Aegypten. Тюбинген. 1885; (без имени): Подробный список египетских древностей и гипсовых фигур (Берлинский королевский музей). Берлин. 1899.
Evans, Arth. J.: The anicient bronze implements of Great Britain and Ireland. Лондон. 1781. Primitive pictographs etc. // Journal of Hellenic Studies, XIV, с. 270-380. Лондон. 1894.
Fabricius, E.: Ein bemaltes Grab in Tangra // Mitteilingen, X, с. 158-164. Афины. 1885.
Falke, Otto von: Majolika. Берлин. 1896. Fenollosa, E. F.: Review of the Chapter of painting // L’Art Japonais by L. Gonse. Йокогама (Japan main). 1884; The Masters of Ukioye. Japanese Paintings and Color-Prints. Каталог Нью-йоркской выставки 1896 г.
Fergusson, J. F.: History of Indian and Eastern Architecture. Лондон. 1876; и Burgess, J.: Jhe Cave Temples of India. Лондон. 1876.
Finsch, D.: Hausbau an der Sudostkuste von Neuguinea // Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, XVII, с. 1 и след. Вена. 1887. Samoafahrten. Лейпциг. 1888. Ethnologische Erfahrungen und Belegstucke aus der Sudsee // Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums. Вена. 1888-1893.
Fischer, L. H.: Indische Malerei // Zeitschrift fur bild. Kunst. Нов. изд. I, с. 238-245. Лейпциг. 1890.
Flandin, Eug., Coste, Pasc.: Voyage en Perse, I-IV. Париж. 1846-1854; см. также Botta.
Flasch, A., см. Brunn.
Flegel: Отчет об экспедиции // Mitteilungen der Afrikanischen Gesellschaft, III, с. 136 и след. Берлин. 1881.
Forrer, R.: Ueber primitive menschliche Statuetten // Antiqua, VI. Страсбург. 1888.
Forstermann, E.: Die Maya-Handschrift der kgl. oeff. Bibliothek. 2-е изд. Дрезден. 1892.
Forster R.: Antiochia am Orontes und Sculpturen von Antiochia // Jahrbuch des kaiserl. deutschen arch. Inst., XII, с. 103-149, Берлин. 1897; XIII, с. 177-191, 1899.
Fraas, O.: Die prahistorischen Bildschnitzereien и пр. // Zeitschrift fur Ethnologie, X, с. 241-251. Берлин. 1888.
Frankel, см. Conze.
Franz-Pascha, J.: Die Baukunst des Islam // Handb. der Archiktur (Дурма). Дармштадт. 1896.
Frauberger, H.: Die Akropolis von Baalbeck. Франкфурт-на-Майне. 1892.
Fritsch, G.: Die Eingeborenen Sudafrikas. Бреславль. 1872; см. Buttner. Frobenius, L.: Die bildende Kunst der Afrikaner // Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft, XXVII, с. 1-17. Вена. 1897.
Furtwangler, Ad.: Die Sammluug Sabouroff. Берлин. 1883-1887; Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium, т. I и II. Берлин. 1885; Die Berliner Orpheus-Vasen // Berliner Winkelmann-Programm 50, с. 160 и след. Берлин. 1890; Eine argivische Bronze // Winkelmann-Programm, 50, с. 125-153. Берлин. 1890; Meisterwerk der griechischen Plastik. Лейпциг и Берлин. 1893. То же соч. по-англ.: Masterpieces of Greek sculpture. Лондон. 1895; Intermezzi. Лейпциг и Берлин. 1896; Die antiken Gemmen. Geschichte der Steinschneidekunst im klassischen Altertum. Лейпциг. 1900; и Loschke, G.: Mykenische Vasen (текст и атлас). Берлин. 1886; см. Curtius и Lange.
Gardner, F. A.: A Handbook of Greek sculpture. Лондон. 1896.
Gauckler, Paul: L’archeologie de la Tunisie. Париж. 1896.
Gayet, Al.: La sculpture copte // Gaz. des beaux arts, XXXIV, 7, с. 422-440; 8, с. 80-88, 145-153. Париж. 1892; L’Art Arabe. Париж. 1893; L’Art Persan. Париж. 1895.
Geiseler: Die Osterinsel. Берлин. 1883.
Gerhard, Ed.; Auserlesene Vasenbilder u. s. w., т. I-IV. Берлин. 1840-1853; Etruskesch und kampanisch Vasenbilder. Берлин. 1843; Etruskische Spiegel. Fortgesetzt von Klugmann und G. Korte. Берлин. 1843-1897 и след.; Trinkschalen und Gefasse, etc., т. I-II. Берлин. 1848 и 1850.
Gierke, H.: Japanische Malereien (каталог выставки). Берлин. 1882.
Gillen, F. J.: см. Spencer.
Girard, P.: La peinture antique. Париж. 1892.
Golenischeff: Amenencha III et les sphinx, etc. // Recueil de travaux, XV, с. 131- 136. Париж. 1896.
Goncourt, Edm. de: Outamaro. Париж. 1891; Hokousaп // Gaz. des beaux arrs, XIV, с. 441 и след. Париж. 1895.
Gonse, L.: L’art Japonais (большое изд.). Париж. 1883; L’art Japonais (небольшое изд.). Париж. 1885.
Goodyer, W. H.: The Grammar of the Lotus. Лондон. 1891.
Gotze, A.: Die Gefassformen und Ornamente der neolithischen schnurverzierten Keramik im Flussgebiete der Saale. Йена. 1891.
Graber, Fr.: см. Curtius и Dorpfeld.
Grabowsky, F.: Der Tod, das Begrabniss etc. bei den Dayaken // International. Archiv fur Ethnographie, II, с. 177-204, Лейден, Париж. и Лейпциг. 1889.
Graef, Botho: Skopas // Mitteilungen des archaol. Inst. in Rom, IV, с. 189. Рим. 1889; Die Kopfe der florentinischen Ringergruppen // Jahrbuch das kaiserl. deutschen Archaol, IX, с. 119-126. Берлин. 1894.
Graef, P.: Romische Triumphbogen // Denkmaler des klassischen Altertums, (Баумейстера), III. Мюнхен. 1888; см. Curtius.
Grandidier, G.: La ceramique chinoise. Париж. 1894.
Grey, George: Journal of two expeditions of discovery in Nordwest and Western Australia. Лондон. 1841.
Griffiths, J.: The paintings in the Buddhist Cave Temples of Ajanta, I, Лондон. 1896; II, Лондон. 1897.
Gross, Victor: Les Protohelvetes. Берлин. 1883; La Tene. Париж. 1886.
Grosse, E.: Die Anfange der Kunst. Фрейбург в Бр. и Лейпциг. 1894.
Grunwedel, Alb.: Buddistische Kunst in Indien // Handbucher der kgl. Museen zu Berlin. Берлин. 1893, 2-е изд. 1900; по Hrolf Vaughan Stevens: Die Zanbermuster der Orang Semang // Zeitschr. fur Ethnologie, XXV, с. 71 и след. Берлин. 1893; Die Zaubermuster der Orang Hutan; там же, XXVI, с. 141 и след. Берлин. 1894; Materialien zur Kenntniss der wilden Stamme Malakas. Берлин. 1893; Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei. Fuhrer durch die lamaistsche Sammlung des Fursten E. Uchtomskij. Лейпциг. 1890; см. Pander.
Gurlitt, Corn.: см. Junghandel.
Gurlitt, W.: Das Alter der Bildwerke des sogen. Theseion zu Athen. Вена. 1875; Ueber Pausanias. Грац. 1890. Ueber die Gurtelbleche des Sulmthals // Verhandlunger der 42 Philologen-Versammlung. Wien. 1893. Лейпциг. 1894.
Habel, S.: The sculptures of Santa Lucia Cosmalwhuapa // Smithsonian Contributions, № 269. Вашингтон. 1874.
Haddon, A. F.: Evolution in art etc. The decorative art of Britisch New Guinea. Лондон. 1895.
Halbherr, Orsi: Scavi e trovamenti nell’antro di Zeus sul Monte Ida in Creta; в Comparetti, Dom., "Museo italiano di antichita classica, II, с. 694-910. Флоренция. 1888.
Hamdy Bey, Reinach, Theod.: Une necropole royale a Sidon. Париж. 1892.
Hampel, Jos.: Altertumer der Bronzezeit in Ungarn. Будапешт. 1887; Neuere Studien uber die Kupferzeit // Ethol. Zeitung, XXVIII, с. 57-91. Берлин. 1896.
Hartel, см. Wickhoff.
Harting, P.: De bouwkunst der dieren. Гронинген. 1862.
Hartwig, Paul: Die griechischen Meisterschalen der Blutezeit des strengen rotfigurigen Stiles. Штуттгарт и Берлин. 1893.
Hauser, A.: см. Conze.
Hauser, Friedr.: Die neuattischen Reliefs. Штутгарт. 1889.
Heim, A.: Ueber einen Fund aus der Renntierzeit in der Schweiz // Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft, XVIII. Цюрих. 1874.
Hein, A. R.: Die bidende Kunste bei den Dayaks auf Borneo. Вена. 1890; Maander, Kreuze, Hakenkreuze und urmotivische Wirbelornamente in Amerika. Вена. 1891.
Helbig, Wolfg.: Wandgemalde der vom Vesuv verschutteten Stadte Kompaniens. Лейпциг. 1868; Untersuchungen uber die kampanische Wandmalerei. Лейпциг. 1873; Die Italiker in der Po-Ebene. Лейпциг. 1879; Fuhrer durch die offentichen Sammlungen klassischer Altertumer in Rom, I и II; 1-е изд. Рим. и Лейпциг. 1891: 2-е изд. Лейпциг. 1899; Das homerisch Epos aus den Denkmalern erlautert; 2-е изд., Лейпциг. 1892; La Question mycenienne. Париж. 1896; Ein agyptisches Grabgemalde und die mykenisches Frage. Мюнхен. 1897.
Helmholtz, H.: Vortage und Reden, 3-е изд. Брауншвейг. 1884.
Hermann, Paul: Neues zum Torso Mediei // Jahreshefte des Archaol Instituts, II, с. 155-173. Вена. 1899.
Henzey, L. de: Catalogue des figurines antiques de terre cuite du musee du Louvre. Париж. 1883; Les origines orientales de l’art. Париж. I, 1891; II, 1892 и т. д.; Decouvertes en Chaldee, см. Sarzee.
Hildebrand, A.: Das Problem der Form in der bidenden Kunst. Страсбург. 1893.
Hildebrand, Hans: Beitrage zur Kenntniss der Kunst der nieder Naturvolker // A. E. von Nordenskiold.
Studien und Forschungen… im Hohen Norden, с. 289-386. Лейпциг. 1885.
Hildebrand, Heinr.: Der Tempel Tachuehsy. Берлин. 1897.
Hiller von Gaertringen, Fr.: Die Zeitbestimmung der rhodischen Kunstler // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Archaol. Instituts, IX, с. 13-43. Берлин. 1894.
Hilprecht: The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania, I (Reprint from the transactions of the American Philosophical Society N. S., XVIII). Филадельфия. 1893-1896 и т. д.
Hippisley, Alared E.: Sketch of the history of Ceramic Art in China // Catalogue of the Hippisley Collection, Smithsonian Institute. Вашингтон. 1890.
Hirschfeld, Gust.: Paphlagonische Felsengraber. Берлин. 1885; Die Felsenreliefs in Kienasien. Берлин. 1887; Athenische Pinakes im Berliner Museum // Festschrift fur Joh. Overbeck, с. 1-13. Лейпциг. 1883.
Hirth, Fr.: China and the Roman Orient. Лейпциг и Мюнхен. 1885; Ancient Porcelain. A study in chinese mediaval industry and trade. Лейпциг и Мюнхен. 1888; Chinesische Studien, I. Мюнхен и Лейпциг. 1889; Ueber fremde Einflusse in der chinesischen Kunst. Мюнхен. 1896. Ueber die einheimischen Quellen zur Geschichte der chinesischen Malerei. Мюнхен. 1897. Die Malerei in China. Entstehung und Urspruglegenden. Лейпциг. 1900.
Hochstetter, v.: Die neuesten Graberfunde von Watsh im St. Margarethen // Denkschrift der math.-naturw. Kiasse der Akademie der Wissenschaften, XLVII. Вена. 1883; Das Gurtelblech von Watsch // Mitteilungen der Anthropol. Ges, XIV. Вена. 1884.
Hoffmann, W. J.: The Graphic Art of the Eskimos // Report of the U. S. Museum for 1895. Вашингтон. 1897.
Holub, E.: Eine Kulturskizze der Marutse-Mambunda-Reiches in Sud-Zentralafrika. Вена. 1879; Siben Jahre in Sudafrika. Вена. 1881.
Hommel, F.: Geschichte Babyloniens und Assyriens. Берлин. 1885; Der Babylonische Ursprung der agyptischen Kultur. Мюнхен. 1892; Geschichte des alten Morgenlandes. Штутгарт (коллекция Гешена). 1895.
Homolle, Th.: Les archives de l’intendance sacree de Delos. Париж. 1887; Decouverte des Delphes // Gazette des beaux arts. Париж. 1894, II, с. 441-454; 1895, I, с. 207-216 и 321-331.
Hoernes, M.: Die Urgeschichte des Menschen. Вена, Пешт и Лейпциг. 1892; Die ornamentale Verwendung der Tiergestalt etc. // Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft zu Wien, XXII, 107-124, 1892; Zur prahistorischen Formenlehre // Mittheilungen der prahistorischen Kommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaffen, I. Вена. 1893; Untersuchungen uber Hallstatter Kulturkeis // Archiv fur Anthropologie, XXIII, ст. 481 и след. Брауншвейг. 1895; Urgeschichte der Menschheit. Штутгарт. 1895;
Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa. Вена. 1898.
Hulsen, Chr.: Jahresberichte uber romische Funde und Forschungen // Romische Mittheilungen des kaiserl. deutschen Ach. Instituts. Рим. 1889-1899; Le escrizioni del colombario di Villa Pamfili // Romische Mitteilungen, VIII, с. 145-165. Рим. 1893.
Humann, E., Puchstein: Reisen in Kleinasien und Nord-Syrien. Берлин. 1890; см. Conze.
Hutchinson, M.: Notes on a collection of facsimile bushman drawings // Journal of the Anthropological Society, XII, с. 464. Лондон. 1883.
Jensen, P.: Grundlagen fur eine Entzifferung der hatischen oder cilicischen Inschriften // Zeitschrift der deutschen Morgenland. Ges, XLVIII. Берлин. 1895.
Hittiter und Armenier. Страсбург. 1899.
Jirczek, см. Muller.
Joest, W.: Tatowieren, Narbenzeichnen und Korperbemalen. Берлин. 1887; Eine Holzfigur von der Loangokuste etc. // Festschrift fur Ad. Bastian, с. 117-127. Берлин. 1896.
Judeich, W.: Der Grabherr des Alexander-sarkophags // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Arch. Instituts, X, с. 165-182. Берлин. 1895.
Julien, Stanislas: Histoire et fabrication de la porcelaine chinoise. Париж. 1856.
Junghandel, Mah, Gurlitt, Corn.: Die Baukunst der Spanier. Дрезден. 1899.
Justi, F: см. Schnutgen.
Justi, K.: Zur spanischen Kunstgeschichte // Spanien und Portugal (Бедекера) Лейпциг. 1897.
Kabbadias: Fouilles de Lykosoura. Афины. 1890.
Kalkmann, A.: Archaische Bronzefigur des Louvres // Jahrbuch des kaiserl. Deutschen Archaol. Instituts, VII, с. 127-140. Берлин. 1892; Die Proportionen des Gesichts in der Griechischen Kunst // 53 Winckelmann-Progr. Берлин. 1893.
Kanda, T.: Notes on ancient stone implements of Japan. Токио. 1884.
Karabacek, J.: Das angebliche Bilderverbot des Islam. Вена. 1876. Die persische Nadelmalerei Sudandschird. Лейпциг. 1881.
Kekule von Stradonitz, R.: Die Balustrade des Tempels der Athena Nike. Лейпциг. 1869; Griechische Thonfiguren aus Tanagra. Штутгарт. 1878. Der weibliche Kopf von Pergamon // Museum (Шпемана), I, вып. 2. Штутгарт. и Берлин. Б. г.
Keller, F.: Berichte fur Pfahlbauten // Mitteilungen der Zuricher antiquar. Gesellschaft. IX, 1855, 2-й отдел, № 3; XII, 1859, № 3; XIII, 1860, 2-й отдел № 3; XIV, 1861-1863, № 1 и 6; XV, 1866, № 7; XVI, 1870, 2-й отдел № 3; XX, 1879, 1-й отдел № 3; La Tene // Mitteilungen der Zuricher antiquar. Gesell. XV, с. 293-307. Цюрих. 1866.
Kinkel, G.: Stonehenge und die Zeit Seiner Erbaung // Mosaik zur Kunstgeschichte. Берлин. 1876.
Klebs, R.: Der Bernsteinschmuck der Steinzeit Кенигсберг. 1882.
Klein, W.: Euphronios; 2-е изд. Вена. 1886. Die griechischen Vasen mit Meisternamen; 2-е изд. Вена. 1887. Praxiteles. Лейпциг. 1898. Praxitelische Studien. Лейпциг. 1899.
Klopfleisch, F.: Vorgeschichtliche Altertumer der Provinz Sachsen, вып. 1 и 2. Галле на С. 1883.
Klugmann, A., см. Gerhard.
Kobke, P.: Om Runerne i Norden. Копенгаген. 1890.
Kohn, Albin: Die Steinfiguren in den russischen Steppen und in Galizien // Zeinschrift fur Ethnologie, X. Берлин. 1878.
Koldewey, R.: Neandria // 51 Winkelmann-Programm. Берлин. 1891; и Puchstein, Otto: Die Griechischen Tempel in Unteritalien und Sizilien. Берлин. 1899.
Kondakoff, N., le Comte, S., Tolstoi, Sal. Reinach: Antiquites de la Russie meridionale. Париж. 1891.
Koenen, Konst.: Gefasskunde der vorromischen, romischen und frankischen Zein in den Rheinlanden. Бонн. 1895.
Koerte, G.: I rilievi delle urne etrusche, II. Берлин. 1890; Die phrygischen Felsdenkmaler // Mitteilungen, т. XIII, с. 80-153. 1898. Das Alter des Zeustempels zu Aizanoi // Festschrift fur Otto Benndorf, с. 209-214. Вена. 1898; см. Gerhard.
Kranse, E. (Carus Sterne): Tuisko-Land. Глогау. 1891.
Lamprecht, Karl: Deutsche Geschichte, т. I; 2-е изд. Берлин. 1894.
Lanciani, R.: The ruins and excavations of ancient Rome. Лондон. 1894.
Lange, Julius: Billedkunstens Fremstilling af Menneskeskikkelsen. Копенгаген. 1892; Darstellung des Menschen in der alteren griechischen Kunst; перевод с дат., изд. Ад. Фуртвенглера. Страсбург. 1899.
Lange, Konrad: Aegineten // Berichte der kgl. sach. Ges. d. Wissensch., II, с. 1 и след. Лейпциг. 1878; Haus und Halle. Лейпциг. 1885.
Lartet, E., Christy, H.: Reliquiae aquitanicae. Лондон, Париж и Лейпциг. 1865-1875.
Lassen, Chr.: Indische Altertumskunde, 4 т. Бонн. 1847, Лейпциг. 1861.
Lasteyrie, Ferd. de: Histoire de l’orfevrerie. Париж. 1877.
Layard, A. H.: The monuments of Nineveh. Лондон. 1849; Nineveh and its remains, II и II. Лондон. 1849; A popular account of discoveries at Nineveh. Лондон. 1851; A second series of the Monuments of Nineveh. Лондон. 1853; Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon. Лондон. 1853; Le Bon. G.: Les civilisations de l’Inde. Париж. 1887; La civilisation des Arabes. Париж. 1893.
Lehmann, E. F.: Zwei Hauptprobleme der altorientalischen Chronologie. Лейпциг. 1897; см. Belk.
Lentz, Osk.: Altarabische Ruinenstatte im Maschonaland // Mittheilungen der Geograph. Ges. zu Wien, 1897.
Lepsins, R.: Das Totenbuch der Aegypter nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin. Лейпциг. 1842; Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien; 12 т. Берлин. 1849-1858.
Lessing, Jul.: Orientalische Teppiche. Берлин. 1891; Gold und Silber. Берлин. 1892.
Lindenschmit, L.: Die vaterl. Altertumer der furstl. hohenzollernschen Sammlungen zu Sigmaringen. Зигмаринген. 1860; Das Graberfeld vom Hinkelstein bei Monsheim // Zeitschrift zur Erforschung der Rheinischen Geschichte und Altertumer, III. Майнц. 1868. Handbuch der deutschen Altertumskunde, I. Брауншвейг. 1880-1889.
Lippmann, Fr.: Eine Studie uber chinesische Emailvasen. Вена. 1870.
Lisch, L.: Uber die Hausurnen // Jahrbucher des Vereins fur mecklenburg. Geschichte, XXI. Шверин. 1856.
Lissauer, A.: Altertumer der Bronzezeit in der Provinz Westpreussen. Данциг. 1891; Hausurnenfund von Seddin // Globus, LXVI. Брауншвейг. 1894.
Loftus, Will. Kennet: Travels and researches in Chaldaea and Susiana. Лондон. 1857.
Loschke, G.: Altattische Grabstatten // Mitteilungen, IV, с. 36-44 и 289-306. 1879; см. Furtwangler.
Lubbock, Sir John: Die vorgeschichtliche Zeit (перевод на нем. Пассова с предисловием Вирхова). Иена. 1874.
Lucretius, Carus T.: De natura rerum, V, 1285.
Luschan, F. v.: Das Hakenkreuz in Afrika // Berliner Verhandlungen, XXVIII, с. 137. Берлин. 1896; Das Wurfholz in Neuholland und Ozeanien // Festschrift fur A. Bastifn, с. 129-155. Берлин. 1896; Altertumer von Benin // Verhandlungen der berl. Anthropolog. Ges., XXX, с. 140. Берлин. 1898.
Madsen, Karl: Japans Malerkunst. Копенгаген. 1883.
Maindron, M.: L’art Indien. Париж. 1898; Une page sur les arts decoratifs de l’Inde // Gaz. d. beaux arts. Париж. 1898, II, с. 511 и след.; 1899, I, с. 67 и след.
Makowsky, A.: Der diluviale Mensch im Loss von Brunn // Mitteilungen der Anthropolog. Gesellschaft zu Wien, 1892, XXII, с. 73-83.
Maler, Th.: Erforschung der Ruinen Yukatans (отд. оттиск из "Globus"). Брауншвейг. 1895.
Manatt, см. Tsountas.
Mariette, Aug.: Monuments divers recueillis en Egypte. Париж. 1872-1947; Album du musee de Boulaq. Каир. 1872; Les Mastabas de I’ancien empire. Париж. 1881-1887.
Martha, Jules: L’Art etusque. Париж. 1889.
Marye, Georges: L’Exposition d’art musulman // Gaz. d. beaux arts. II с. 490-499, 1893; I, с. 54-72. 1894.
Maspero, G.: Archeologie egyptienne; на нем. яз.: "Aegyptische Kunstgeschichte", перевод Г. Штейндорфа. Лейпциг. 1889; Histoire ancienne des peuples de I’Orient classique. Париж. 1895 и след; см. Scheil.
Matz, Fr.: Sarkophag aus Patras // Archaol. Zeitung, новое изд., V, с. 11-18. Берлин. 1873.
Mau, Aug.: Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji. Берлин. 1882; Pompejanische Ausgrabungsberichte // Romische Mittellungen, I, 1886; XIV, 1899; Besprechung von Wickhoffs "Genesis" // Romische Mitteilungen, X, с. 227-235. Рим. 1895; Fuhrer durch Pompeji. 2-е изд., 1896; Pompeii. Its life and art. Нью-Йорк и Лондон. 1899; см. Overbeck. Meissner, B., Rost, P.: Noch einmal das Bit-Hillani und die assyrische Saule. Лейпциг. 1893.
Menant, J. (Louis le Clereq et J. Menant): Collection de Clercq. I, Cylindres orientaux. Париж. 1888.
Merk, Konr.: Der Hohlenfund im Kesslerloch zu Thayngen // Mitteilungen der zuricher Antiquar. Ges., XIX. Цюрих. 1875.
Mestorf, J.: Vorgeschichtliche Altertumer aus Schleswig-Holstein. Гамбург. 1885; см. Milani, Muller, Undset.
Meurer, M.: Das griechische Akanthus-Ornament // Jahrbuch der kaiserlichen deutschen Archaol. Instituts, XI, с. 107-159. Берлин. 1896.
Meyer, A. B.: Bilderschriften des ostindischen Archopels und der Sudsee. Лейпциг. 1881; Jadeit- und Nephrit-Objekte ("Publikationen aus dem kgl. Ethnographischen Museum zu Dresden"). Лейпциг. 1882; Ein Rohnepnritfund // Ausland, Мюнхен и Штутгарт. 1883; Altertumer aus dem Ostindischen Archipel ("Publikationen aus dem kgl. Ethnogr. Museum zu Dresden"). Лейпциг. 1884; Gurina. Дрезден. 1885; Das Graberfeld von Hallstatt. Дрезден. 1885; Lung Ch’uan-Yao oder altes Seladon-Porcellan. Берлин. 1889; Die Nephritfrage kein ethnologisches Problem. Берлин. 1893; и A. Schadenberg: Die Philippinen. I, Nord-Luzon. Дрезден. 1890. II, Negritos. Дрезден. 1893.
Meyer, Ed.: Geschichte des Altertums, I. Штутгарт. 1884.
Meyer, Hans: Eine Weltreise. Приложение: Die Igorroten, с. 505-541. Лейпциг. 1885.
Michaelis, Ad.: Der Parthenon. Лейпциг. 1871; Vortrag uber alexandrinische Kunst // Verhandlungen der 39 Versammlung deutscher Philologen, etc., с. 34-44. Лейпциг. 1888; Springer’s Handbuch der Kunstgeschichte, I. Das Altertum. Нов. переработка 5-го изд. Лейпциг. 1898.
Migeon, G.: Le Musee Gernuschi // Gaz. d. beaux arts, II, с. 217-228. Париж. 1897; Les cuivres arabes; там же: II, с. 462-474. Париж. 1899.
Milani, L. F.: Frontoni di Luni, I. Флоренция. 1885.
Milchhefer, A.: Die Anfange der Kunst in Griechenland. Лейпциг. 1883; Zur jungeren attischen Vasenmalerei // Jahrb. des kaiserl. deutschen Arch. Inst. IX, с. 56-82. Берлин. 1894; Rede zum Winckelmann-Tage. Киль. 1896.
Missionaires, les, de Pekin: Memoires concernant les Chinois. Париж. 1782.
Montelius, O.: Antiquites suudoises. Стокгольм. 1873-1875; Sur les sculptures de roches de la Suede // Compte rendu du congres de Stockholm 1874. Стокгольм. 1876; Die Kultur Schwedens in vorchristlicher Zeit. 2-е изд., нем. перевод Арнеля. Берлин. 1885; Vortrag uber die altesten Wohnbauten de Menschen, gehalten in Innsbruck. 1894; La civilisation primitive en Italie depuis l’introduction des metaux., I. Стокгольм. 1895.
Morgan, J. de: Fouilles а Dahchour. Вена. 1895; Recherches sur les origines de l’Egypte. Париж. 1896.
Mortillet, G. de: Evolution quaternaire de la pierre // Revue mensuelle de l’Ecole d’anthropologie, VII, с. 18-29. Париж. 1897; и Abr. de: Mesee prehistorique. Париж. 1881.
Much, M.: Die Kupferzeit in Europa. Иена. 1893.
Muller, J. H.: Vor- und fruhgeschichtliche Altertumer der Provinz Hannover. Ганновер. 1893.
Muller, Sophus: Die nordische Bronzezeit, etc.; нем. перевод I. Месторфа. Иена. 1870; Die Tierornamentik im Norden.; нем. перев. I. Месторфа. Гамбург. 1881; Nordische Altertumskunde (нем. изд. О. Л. Ирцека), I. Страсбург. 1897; II, 1898.
Muller-Beek: Die Holzschnitzereien im Tempel Matsunomori in Nagasacki // Festschrift fur Adolf Bastian, с. 111-116. Берлин. 1896.
Munsterberg, O.: Japanische Kunst und japanisches Land. Лейпциг. 1896.
Murray, A. S., Smith, A. H., Walters, H. B.: Excavations in Cuprus. Лондон. 1900.
Myres, John L.: Mykenaean civilization // Classical Review, X, с. 350-357. Лондон. 1896.
Naue, J.: Die Ornamentik der Volkerwanderungszeit // Antiqua, с. 6-12. Страсбург. 1886; Die Bronzezeit Oberbayerns. Мюнхен. 1894. L’epoque de Hallstatt en Baviere // Revue Arch. Париж. 1895.
Niccolini: Le case ed i monumenti di Pompei. Неаполь. 1854 и след.
Nicholson, Ch.: On Rock Carvings Found in the neighbourhood of Sidney // Journal of the Anthr. Soc., IX, с. 31. Лондон. 1880.
Nimann, см. Benndorf и Conze.
Noack, F.: Studien zur griechischen Architektur, I // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Arch. Inst., XI, с. 211-247. Берлин. 1896; Studien zur griechischen Architektur, II: Griechisch-etruskische Mauern // Mitteilungen des kaiserl. deutschen Archaol. Inst. zu Rom, XII, с. 161-200. Рим. 1897.
Noeldeke, см. Stolze.
Nuesch, j.: Katalog der Fundgegenstande etc. beim Schweizerbild. Шафгаузен. 1893; Die prahistorische Niederlassung am Schweizerbild bei Schaffhausen. Цюрих. 1896.
Ohnefalsch-Richter, M.: Kypros. Die Bibel und Homer. Берлин. 1893; Neues uber die Ausgrabungen auf Cypern // Verhandlungen der Zeitschrift fur Ethnologie, XXXI, с. 29 и след. Берлин. 1899.
Oppert, Julius: Expedition scientifique en Mesopotamie. Т. II, Париж. 1859. Т. I, Париж. 1863;
Grundzuge der assyrischen Kunst. Vortrag. Базель. 1872.
Orsi, см. Halbherr.
Overbeck, Joh.: Pompeji. 4-е изд. (в сотрудничестве с А. Мау). Лейпциг. 1884; Geschichte der griechischen Plastik. Т. I и II; 4-е изд. Лейпциг. 1893.
Overloop, E. van: Les origines de l’art en Belgique; les ages de la pierre. Брюссель. 1882.
Paluologue, M.: L’art chinois. Париж. 1887.
Palliardi, Jar.: Die Neolithischen Ansiedlungen mit bemalter Keramik // Mitteilungen der prahistorischen Kommission, № 4. Вена. 1897.
Pander, Eug.: Das Panthejn des Tschangtsch Hutuktu. Ein Beitrag zur Ikonographie des Lamaismus, изд. А. Грюнведеля. Берлин. 1889.
Panthier, M. G.: Chine. Париж. 1837.
Penaffel, A.: Monumentos del arte Mexicanj antiguo, т. I и II. Берлин. 1890.
Pernice, E.: Geometrische Vase aus Athen // Mitteilungen, XVII, с. 205-228. 1892; Bruchstucke altattischer Vasen; там же: ХХ, с. 116-126. 1895; Die korinthischen Pinakes im Antiquarium zu Berlin // Jahrbuch des kaiserl. deunschen Archaol. Inst., XII, с. 9-48. Берлин. 1897; Zwei griechische Silberschalen aus Hermopolis // Zeitschr. fur bild. Kunst, нов. серия, X, с. 241-245. Лейпциг. 1899.
Perring, J. L.: The Pyramids of Gizeh. Лондон. 1830-1842.
Perrot, G., Chipiez, Ch.: Histoire de l’art dans l’antiquite. T. I, L’Egypte, Париж. 1882; T. II, Chaldee et Assyrie, 1884; T. III, Phenicie, 1885; T. IV, Judee, Sardaigne, 1887; T. V, Perse, Phrygie, Ludie et Carie-Lycie, 1890; T. VI, La Grece primitive, l’art Mycenien, 1894; T. VII, La Grece de l’epopee, La Grece archai que. Le Temple. Париж. 1898.
Peters, John P.: Some recent results of the university of Pennsylvania excavations at Nippur // American Journal of archaeology, X, с. 13-46, 352-368, 439, 468. Принстон. 1894.
Petersen, Eug.: Die Kunst des Pheidias. Берлин. 1873; Il fregio dell Ara Pacis // Romische Mitteilungen, X, с. 138-145. Рим. 1895; Vom alten Rom. Лейпциг. 1898.
Petrie, W. M. Flinders: Kahun, Gurob and Hawara. Лондон. 1890; Ten years digging in Egypt. Лондон. 1892; Medum. Лондон. 1892; Tell el Amarna. Лондон. 1894; и Quibell, J. E.: Nagada and Ballas. Лондон. 1896.
Philippi, Ad.: Romische Triumphal-Reliefs // Abhandlungen der kgl. sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, VI, с. 241-305. Лейпциг. 1874.
Piette, E.: см. Bertrand, A.: La Gaule Avant les Gaulois, 2-е изд. Париж. 1891; L’Anthropologie, т. V-IX. Париж. 1894-1898.
Place, V.: Ninive et Assyrie avec des essais de restauration par Felix Thomas, I-III. Париж. 1857.
Plath, J. H.: Die Religion und der Kultus der alten Chinesen // Abhandlungen der bayr. Akad. d. Wissensch., IX, с. 733 и след. Мюнхен. 1863.
Plinius Secundus, C.: Naturalis Historia, кн. XXXIV-XXXVII.
Pottier, E.: Les statuettes de terre cuite dans l’antiquite. Париж. 1890; Les dessins par ombre portee chez les Grecs // Revue de etudes grecs, с. 335-388. Париж. 1898.
Ponrvourville, A. de: L’art indo-chinois. Париж. 1894.
Presuhn, E.: Pompejanische Wanddecorationen. Лейпциг. 1877 и след.
Preuss, K. Th.: Kunstlerische Darstellungen aus Kaiser Wilhelms-Land // Zeitschrift fur Ethnologie, XXIX, с. 1-35, XXX, с. 74-116. Берлин. 1897-1898.
Prisse d’Aveunes, E.: Histoire de l’art egyptien d’apres les monuments. Париж. 1847 и след.; L’Art arabe d’apres les monuments de Kaire. Париж. 1869-1877.
Puchstein, Otto: Das ionische Kapitell // Winckelmann-Programm 47". Берлин. 1887; Pseudohethische Kunst. Берлин. 1890; Erklarung eines pompejan. Wandgemaldes // Arch. Anzeiger. 1896, с. 26 и след; см. Humann и Kolwey.
Pulszky, F. v.: Die Kupferzeit Ungarus. Будапешт. 1884.
Quibell, см. Petrie.
Ramsay: Studies in Asia Minor // Jorof Hellenic studies, III. Лондон. 1882.
Ranke, J.: Der Mensch, 2-е изд., Лейпциг и Вена. 1894.
Raoul, Rochette: Choix des peintures de Pompei. Париж. 1844-1853.
Raschdorf, см. Conze.
Rassam, Hormuzd: Excavations and discoveries in Assyria // Transactions of the Society of Biblical Arcgaeology, VII, с. 37-58. Лондон. 1889; Recent discoveries of ancient Babylonian cities // Transactions of the Society of Bibl. Archaeology, VIII, с. 164-177. Лондон. 1884.
Ratzel, Fr.: Volkerkunde, 2-е перераб. изд. Лейпциг и Вена. 1894-1895.
Rawlinson, G.: The five monarchies of the ancient eastern world, I. Лондон. 1862 и след.
Rayet, O., Collignon, M.: Histoire de la ceramique grecque. Париж. 1888.
Read, Charles H.: On the origin and sacred character of certain ornaments of the S. E. Pacific // Jornal of the Anthropological Institute, XXI, с. 139 и след. Лондон. 1892; и Dalton, O. M.: Antiquities from the city of Benin. Лондон. 1899.
Reber, Fr. v.: Ueber das Verhaltniss des mykenischen zum dorischen Baustil // Abhandlungen der kgl. bayr. Akademie der Wissenschaften". Мюнхен. 1896; Die phrygischen Felsendenkmaler // Abhandlungen der kgl. bayr. Akad. der Wissenschaften, III. гл. XXI. Мюнхен. 1896; см. Vitruvius.
Reichel, Wolfg.: Ueber vorhellenische Gotterkulte. Вена. 1897.
Reinach, Sal.: Antiquites nationales. Description raisonnee de Saint-Germain-en-Laye, I. Париж. 1889 и т. a; L’origine et les characteres de l’art gallo-romaine // Gaz. d. b. a., 1893, I, с. 369-380, 1894, II, с. 25-42; La sculpture en Europe avant les influences greco-romaines // L’Antropologie, V-VII. Анжер и Париж. 1894-1896; Statuette de femme nue de Menton // Anthropologie, IX, с. 26-31. Париж. 1898; см. Hamdy Bey и Kondakoff.
Reinecke, Paul: Ueber Beziehungen der Altertumer Chinas zu denen des skythisch-sibirischen Volkerkreises // Ethnol. Zeitung, XXIX, с. 141-163. Берлин. 1897.
Reisch, см. Dorpfeld.
Reiss, W., Stubel, A.: Das Totenfeld von Ancon in Peru, I-III. Берлин. 1880-1887.
Renan, Ary: L’Art arabe dans le Maghreb // Gaz. des beaux arts. Париж. 1891 и 1892.
Renan, E.: Mission de Phenicie. Париж. 1863-1874.
Rennie, J.: Die Baukunst der Tiere (перевод с англ.). Штутгарт. 1847.
Richly, H.: Die Bronzezeit in Bohmen. Вена. 1894.
Richthofen, Freih. Ferd. von: China, I-IV. Берлин. 1877.
Ridgeway, W.: What people produced the objects called Mycenaen // Journ. of hell. studies, XVI, с. 77-119. Лондон. 1896.
Riegl, Al.: Altorientalische Teppiche. Вена. 1891; Aeltere orientalische Teppiche, etc. // Jahrbuch der kaiserl. samml. des allerh. Kaiserhauses, XIII, с. 267-331. Вена. 1891; Stilfragen. Grundlagen zu einer Geschichte der Ornamentik. Берлин. 1893; Koptische Kunst // Byzantinische Zeitschrift, II, с. 114-121. Лейпциг. 1893; Ein orientalischer Teppich vom J. 1202 nach Chr. und altesten orientalischen Teppiche. Берлин. 1895.
Riviere, E. Comptes rendus de l’academie de Sciences, CXXIII. Париж. 1896.
Robert, C.: Bild und Lied. Берлин. 1881; Archaologische Marchen. Берлин. 1886; Die antiken Sarkophagreliefs. II, Берлин. 1890; III, Берлин. 1897; Die Nekyia des Polyghot // Hall. Winckelmann-Programm 16. Галле на С. 1892; Die Iliupersis des Polygnot // Hall. Winckelmann-Programm 17. Галле на С. 1893; Die Marathonschlacht in der Poikile // Hall. Winckelmann-Programm 19. Галле на С. 1895; Die Knochelspielerinnen des Alexandros // Hall. Winckelmann-Programm 21. Галле на С. 1897. Romanes, G.: Animal intelligence. 2-е изд. Лондон. 1880.
Romische Mitteilungen: Mitteilungen des kaiserl. deutschen Arch. Instituts, Romischer Abteilung. T. I, Рим. 1886; т. XIV, Рим. 1899.
Rossellini, Ipp.: Monumenti dell’ Egitto e della Nubia. Париж. 1832-1844.
Rost, см. Meissner.
Rydberg, V., см. Baltzer.
Sacken, E. von: Das Graberfeld von Hallstatt. Вена. 1869.
Salmon, Ph.: Age de la pierre (Bulletin de la Societe dauphinoise d’ethnol. et d’anthropol.). Гренобль. 1894.
Samter, F. F: Le pitture del colombario di Villa Pamfili // Romische Mittheilungen, VIII, с. 105-144. Рим. 1893.
Sarre, Fr.: Reise in Kleinasien. Берлин. 1896; Aufnahmen von Backsteinbauten in Vorderasien und Persien (каталог Дрезденской архитектурной выставки). Дрезден. 1800.
Sartel, см. Du Sartel.
Sarzec, E. de: Decouvertes en Chaldee. Publie par les soins de Leon Hensey. Париж. 1887-1896. (Publie par les soins de Leon Hensey. Париж. 1887-1896).
Saner, Br.: Altnaxische Marmorkunst // Mittheilungen, XVII, с. 37-71. 1892; Der Torso des Belvedere. Гиссен. 1894; Das sogenannte Theseion. Лейпциг. 1899.
Sayce, см. Wright.
Schack, A. F. Graf von: Poesie und Kunst der Araber; 2-е изд. Штутгарт. 1877.
Schadenberg, см. Meyer.
Scheil, Fr. V.: Incription de Naramsin, статья Масперо. "Note sur le basrelief de Naramsin" // Recueil de travaux relatifs a la philologie et a l’archeologie egyptienne et assyrienne, XV, с. 62-66. Париж. 1893.
Schnellhaas, P.: Die Gottergestalten der Maya-Handschriften // Zeitschrift fur Ethnologie, XXXIV, с. 101-121. Берлин. 1892; в виде отд. кн.: Дрезден. 1892.
Schielmann, H: Trojanische Altertumer. Лейпциг. 1874; Mykenae. Лейпциг. 1877 (Париж. 1878); Ilios. Лейпциг. 1880; Orchomenos. Лейпциг. 1881; Troja. Лейпциг. 1883; Ilios, ville et pays de troyens. Париж. 1885; Tiryns. Лейпциг. 1885.
Schmarsow, A.: Das Wesen der architektonischen Schopfung. Лейпциг. 1894.
Schmidt, E.: Vorgeschichte Nordamerikas. Брауншвейг. 1894.
Schnaase, K.: Geschichte der bidenden Kunste; 2-е изд., т. I-VIII. Дюссельдорф. 1869-1879.
Schnutgen, Alex.: Ein neu entdecktes Sassanidengewebe // Christliche Kunst, XI, с. 225-229. Дюссельдорф. 1898.
Schone, R.: Griechische Reliefs aus athen. Sammlungen. Берлин. 1872; Zu Polygnots delphischen Bildern // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Archaol. Inst., VIII, с. 187-217. Берлин. 1893.
Schrader, Hans: Die Gigantomachie aus dem Giebel des alten Athenatempels auf die XXII, с. 59-112. 1897.
Schreiber, Th.: Alexandrinische Skulpturen in Athen // Mitteilungen. X, с. 380-400. Афины. 1885; Die Wiener Brunnenreliefs. Лейпциг. 1888; Die alexandrinische Toreutik // Abhandlungen der kgl. sachs. Gesellsch. der Wissensch., XIV, с. 271-279. Лейпциг. 1893; Die Nekyia des Polygnot // Festschrift fur Joh. Overbeck, с. 184 и след. Лейпциг. 1893; Die hellenistischen Reliefbilder. Лейпциг. 1894; Die Wandbilder des Polygnot in der Lesche zu Delphi, I // Abhandlungen phil.-hist. Klasse der kgl. sachs. Akademie der Wissenschaften, XVII. Лейпциг. 1897.
Schubert von Soldern, Ritter Zdenko: Die Baudenkmaler von Samarkand // Allgemeinen Bauzeitung. Вена. 1898.
Schuhardt, C.: Schliemann’s Ausgrabungen, 2-е изд. Лейпциг. 1891; см. Bohn.
Schurz, Heinr.: Das Augenornament und verwandte Probleme // Abhandlungen der phil-hist. Klasse der kgl. sachs. Ges. der Wissenschaften, т. XV, № 2. Лейпциг. 1895.
Schweinfurth, G.: Im Herzen von Afrika, 2 т. Лейпциг. 1874; Artes Africanae. Лейпциг. 1875; Ueber den Ursprung der Aegypter und Beitrage zur Urgeschichte Aegyptens // Verhandl. der Ethn. Ges., XXIX. Берлин. 1897.
Seidlitz, W. von: Geschichte der japanischen Farbenholzschnittes. Дрезден. 1897.
Seler, E.: Der Charakter der aztekischen und der Maya-Handschriften // Zeitschrift fur Ethnologie, XX, с. 1-38 и 41-97. Берлин. 1888; Die sogen. sacralen Gefasse der Zapoteken // Veroffentlichungen des Berliner Museums fur Volkerkundo, I, 1889, тетр. 4; Reisebriefe aus Mexiko. Берлин. 1889.
Semper, G.: Der Stil. Франкфурт-на-Майне. 1860 и 1863; нов. изд. Мюнхен. 1878.
Semper, K.: Die Palau-Inseln. Лейпциг. 1873.
Siebold, K., см. Dorpfeld.
Siebold, Ph. Fr. v.: Nippon. 1-е изд. Лейпциг. 1832, 2-е изд. Вюрцбург. 1897.
Six, J.: Aurae // Journal of hell. studies, XIII, с. 131-136. Лондон. 1893; Ikonographische Studien // Romische Mitteilungen, VI, с. 279 и след.; IX, с. 103 и след.; XIII, с. 60 и след. Рим. 1891, 1894, 1898.
Smith, A. H.: Excavations at Amathus; см. Murrey.
Smith, Cecil: Polledrara Ware // Journal of hell. studies, XIV, с. 206-223. Лондон. 1894.
Smith, George: Assyrian discoveries. Лондон. 1875.
Smith, Vinc.: Graeco-roman influence on the civilization of ancient India // Journal of the Asiatic Society of Bengal, LVIII, с. 107-128. Калькутта. 1889.
Sogliano, A.: Le pitture murali campane scoperte, 1867-1879. Неаполь 1879.
Solling, см. Conze.
Spencer, Baldw., Gillen, F. J.: The native tribes of Cenral Australia. Лондон. 1899.
Spielberg, W.: Ein neues Denkmal aus der Fruhzeit der agypt. Kunst // Zeitschrift fur agypt. Sprache, XXXV, с. 7-11. Лейпциг. 1897.
Sprengel, см. Dawkins.
Steindorf, G.: Vortrag uber archaisch agyptische Statuen von Tell el Amarna // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Archaol. Instituts, VIII, с. 64-69. Берлин. 1894; Статья в путеводителе Бедекера по Египту. Лейпциг. 1897; Die alteste Geschichte und Civilisation Aegyptens // Verhandlungen der 24 Versamml. deutscher Philologen, с. 93-98. Лейпциг. 1897; Eine neue Art agyptischer Kunst // Aeguptiaca, Festschrift fur G. Ebers, с. 123-146. Лейпциг. 1897; Die Blutezeit des Pharaonenreichs. Билефельд и Лейпциг. 1900; см. Maspero.
Steinen, Karl von den: Unter den Naturvolkern Central-Brasiliens. Берлин. 1894; Prahistorische Zeichen und Ornamente // Festschrift fur A. Bastian, с. 247-288. Берлин. 1896.
Stevens, см. Grunwedel.
Stiller, см. Conze.
Stokes, J. L.: Discoveries in Australia. Лондон. 1846.
Stolpe, Hjlamar: Entwicklungserscheinungen in der Ornamentik der Naturvolker // Mitteilungen der Anthropol. Ges. in Wein, XXII, 1892.
Stolze, F., Andreas, F. C., Noeldeke, Th.: Persepolis. Берлин. 1882.
Strange, Ed. F. J.: Japanese Illustration. Лондон. 1897.
Strzygowski, F.: Die Kalenderbilder etc. von 354. 1-й доп. вып. к "Jahrbuch des kais. deutschen Archaol. Instituts". Берлин. 1888.
Stubel, A.: Ueber altperuanische Gewebenmuster, etc. (отд. оттиск из "Festschrift zur Jubelfeier der 25-jahrigen Bestehens des Vereins fur Erdkunde zu Dresden"). Дрезден. Б. г.; и Uhle, M.: Die Ruinenstatte von Tiahuanaco. Берлин. 1892; см. также Reiss.
Studniczka, Fr.: Attische Porosgiebel // Mittheilungen, XI, с. 61-80. 1886; Antenor, der Sohn des Eumares // Jahrbech der kaiserl. deutschen Archaol. Inst., II, с. 113-168. Берлин. 1887; Zum myronischen Diskobol // Festschrift fur Benndorf, с. 167-175. Вена. 1898; Ueber die Grundlagen der geschichtl. Erklarung der sidonischen Sarkophage // Jahrbech des kaiserk. deutschen Arch. Inst., IX, с. 204-244. Берлин.
Sybel, L. v.: Skopas // Zeitschrift fur bild. Kunst, neue Folge, II, 1891, с. 249 и след. и 291 и след; Kritik der agyptischen Ornaments. Марбург. 1883; Weltgeschichte der Kunst. Марбург. 1888.
Szombathy, J.: Die Tumuli von Gemeinlebarn // Mitteilungen der prahist. Kommission, I, с. 49 и след. Вена. 1893.
Taylor, J. E.: Notes jn the of Muqueyr etc. // Journal of the Royal Asiatic Society, с. 260 и след. Лондон. 1855.
Texier, Ch.: Description de l’Asie Mineure, I-IV. Париж. 1839-1849; Description de l’Armenie, de la Perse et de la Mesopotamie. I-II. Париж. 1842-1852.
Thomas, Cyrus: Introduction to the study of north american archeology. Цинциннати. 1898.
Thomas, Felix: Mitteilungen des kaiserl. deutschen Arch. Instituts, XIX, с. 380-394. Афины. 1894; см. Place.
Thompson, Wm. J.: The Ethnology and Antiquity of Easter Island // Annual Reports etc. of the Smithsonian Institute. Вашингтон. 1891.
Thraemer, см. Collignon.
Tischer, O.: Beitrage zur Kenntniss der Steinzeit Ostpreussens. Кенигсберг, 1883. Ср. с "Schriften der physikalisch-okonomischen Gesellschaft, XXIX, 1888.
Tokonosuke, Queda: La ceramique japonaise (введение Э. Деге). Париж. 1895.
Tolstoi, см. Kondakoff.
Trendelenburg, Ad.: Gegenstucke in der kampanischen Wandmalerei // Arch. Zeitung, neue Folge, VIII, с. 1 и след., 79 и след. Берлин. 1876.
Tren, G.: Ueber die Kopfe der tegeatischen Giebelgruppen // Mitteilungen der arch. Inst. in Athen, VI, с. 393 и след. Афины. 1881; Sollen wir unsere Statuen bemalen? Берлин. 1884; Die Nike von Delos // Verhandlungen der 42 Versammlung deutschen Philologen etc., с. 325-328. Лейпциг. 1894; Zur Entstehung der Akroterien und Antefixe // Jahreshefte des osterr. Arch. Instituts, II, с. 199-201. Вена. 1899; см. Curcius.
Tsountas, Chr.: Статьи в Πραχτιχα της ευ "Αοηυαις αρχαιογιχης εταιςιαςς" Афины. 1886 и след. и в "Εφημερις αρχαιολογιχη". Афины. 1888 и след., стр 1-22; – Μνχηναι. Афины. 1893; То же соч. в переводе на англ. Ирвинга Манатта, с предисловием В. Дёрпфельда: The Mycenaean age. Лондон. 1897.
Tumpel, K.: Der mykenische Polyp // Festschrift fur Johannes Overbeck. Лейпциг. 1893.
Uhle, Max: Holz- und Bambusgerate aus Nordwest-Neuguinea ("Publicationen aus dem kgl. Enthnogr. Museum zu Dresden, изд. д-ром А. Б. Мейером). Лейпциг. 1886; Ausgewahlte Stucke zu Archaologie Amerikas // Veroffentlichungen des Berliner Museums fur Volkerkunde, I, 1889. Вып. 1; см. Stubel.
Undset, Ingvald: Etudes sur l’age de bronze en Hongrie. Христиания. 1880; Das erste Auftreten des Eisens in Nordamerika. Перевод на нем. язык У. Месторфа. Гамбург. 1882; L’antichissima necropoli Tarquiniense // Annali dell’ Instituto, с. 104 и след. Рим. 1885; Archaologische Aufsatze uber sudeuropaische Fundstucke // Zeitschrift fur Ethnologie, XXI до XXIII. Берлин. 1888-1891; в особенности: Ueber die altesten Fibeltypen, 1889, с. 10 и след.; Ueber die altesten Schwertformen, 1890, с. 1 и след. и "Ueber italische Gesichtsurnen, 1890, с. 109 и след.
Urlichs, L.: Skohas Leben und Werke. Грейфсвальд. 1863.
Virchow, R.: Статья в "Korrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft fur Anthropologie, с. 86.
Берлин. 1877; Das Graberfeld von Koban. Берлин. 1883; Статьи в "Verhandlungen der Berliner Anthropolog. Ges.". 1883, с. 430 и 1884, с. 339; Ueber die kulturgeschichtliche Stellung Kaukasus // Abhandlungen der kgl. preuss. Akad. der Wissenschaften. Берлин. 1895; см. Lubbok.
Vitruvius: De architectura. 10 книг Витрувия об архитектуре; перев. на нем. язык Ф. Ребера. Штутгарт. 1865.
Vogue, M. de: L’architecture civile et ruligiuse en Syrie. Париж. 1866-1877.
Waitz-Gerland: Anthropologie der Naturvolker. Лейпциг. 1857-1872. 2-е изд. 1877 и след.
Wallis, H.: Notes on some early persian lustre vases. Лондон. 1885; Notes on some examples of early percian pottery. Лондон. 1887; La ceramique persane au XIII siucle // Gaz. d. b. a., II, с. 69-79. Париж. 1892; Typical examples of persian and oriental ceramic art. Лондон. 1893; Persian Lustre Vases. Лейпциг. 1899.
Walters, H. B., см. Murray.
Weber, G.: Guide du voyageur а Ephese. Смирна. 1891.
Weichardt, C.: Pompeji vor der Zerstorung. Лейпциг. 1897.
Weigel, J.: Bildwerke aus altslavischer Zeit // Archiv fur Antropologie, XXI, с. 41-72. Брауншвейг. 1892.
Weishaupl, R.: Die Anfange der attischen Grablekythos // Festschrift fur Benndorf, с. 89-94. Вена. 1891.
Weizsacker, Paul: Polygnots Gemalde in der Lesche der Knidier zu Delphi. Штутгарт. 1895.
Welcker, F. G.: Alte Denkmaler, I-V. Геттинген. 1849-1864.
Wetzstein, J. G.: Reisebericht uber Hauran etc. Берлин. 1860.
Weule, Karl: Die Eidechse als Ornament in Afrika // Festschrift fur Ad. Bastian, с. 167-194. Берлин. 1896.
Wide, Sam.: Das Nachleben Mykenischer Ornamente // Mittheilungen des kaiserl. deutschen Archaol. Inst. zu Athen, XXII, с. 233-258. Афины. 1897.
Wilser, L.: Germanischer Stil und deutsche Kunst. Гейдельберг. 1899.
Wilson, Th.: Prehistoric Art // Report of the U. S. National Museum for 1896, с. 325-664. Вашингтон. 1888.
Wincklemann, J. J.: Geschichte der Kunst des Altertums. 1-е изд. Дрезден. 1764.
Winckler, Hugo: Geschichte Babyloniens und Assyriens. Лейпциг. 1892.
Winter, Franz: Zur altattischen Kunst // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Arch. Inst., II, с. 216-236. Берлин. 1887; Der Kalbtrager // Mittheilungen, XIII, с. 113-139. 1888; Die Henkelpalmette auf attischen Schalen // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Arch. Inst., VII, с. 196-117. Берлин. 1892; Der Apoll des Belvedere // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Arch. Inst., VII, с. 164-177. Берлин. 1892; Archaische Reiterbilder // Jahrbuch des kaiserl. deutschen Arch. Inst., VIII, с. 135-156. Берлин. 1896; Die Sarkophage von Sidon // Archaol. Anzeiger, IX, с. 1 и след. Берлин. 1894; Ueber die griechische Portratkunst. Берлин. 1894; Die jungeren attischen Vasen und ihr Verhaltniss zur grossen Kunst. Берлин и Штутгарт. 1895; Eine Attische Lekytos des Berliner Museums // Berliner Winckmann-Programm. Берлин. 1895; Ueber Wickhoffs Wiener Genesis // Repertorium fur Kunst und Wissenschaft, с. 47-55. Берлин. 1897.
Wolfflin, H.: Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur. Мюнхен. 1886.
Wood: Discoveries of Ephesus. Лондон. 1877.
Wood, J. G.: Homes without hands. New ed. Лондон. 1892.
Wood, R.: The ruins of Palmyra. Лондон. 1753.
Woermann, K.: Pompejanische Anmerkungen // Archaol. Zeitung. Neue Folge V, с. 78-80. Берлин. 1873; Die Landschaft in der Kunst der alten Volker. Мюнхен. 1876; Die antiken Odysseelandschaften, etc. Мюнхен. 1877; Die Malerei des Altertums // Geschichte der Malerei, Вольтмана и Вёрмана. Лейпциг. 1879; Was uns die Kunstgeschichte lehrt. 4-е изд. Дрезден. 1894.
Whright, W., Sayce, A. H.: The empire of the Hittites. 2-е изд. Лондон. 1886. Zahn, Rob.: Vasenschreiben von Klazomenai in Athen // Mittheilungen, XXIII, с. 38-79. 1898.
Zahn, W.: Die schonsten Ornamente… aus Pompeji, etc. Берлин. 1828-1852.
Zimmermann, Ernst: Koreanische Kunst. Гамбург. Б. г.; Die japanische Abteilung der kgl. Porzellansammlung zu Dresden // Kunstchronik, Neue Folge, X, с. 513-519. Лейпциг. 1899.
Zimmermann, Max. G.: Kunstgeschichte des Altertums und des Mittelalters. Билефельд и Лейпциг. 1897.
История искусства всех времён и народов



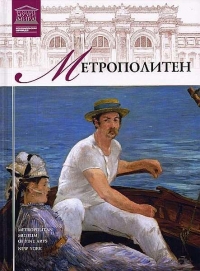


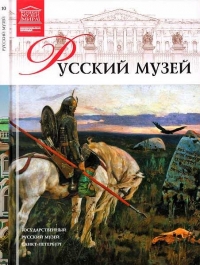

Комментарии к книге «История искусства всех времён и народов. Том 1», Карл Вёрман
Всего 0 комментариев