Духовные упражнения. Архимандрит Савва (Мажуко)
© ООО ТД «Никея», 2019
© Савва (Мажуко), архим., 2019
Властелин времени
Духовность — крайне опасная сфера. Любой, кто касается ее, подвергает себя серьезному риску. Для писателя этот риск удваивается ответственностью перед читателем и утраивается от пристального взора критиков и специалистов в духовной области. Последним скажу откровенно: то, что вы здесь прочтете, вовсе не очерк православной аскетики. Если кому-то захочется укорить меня, что мои размышления не соответствуют духу святоотеческого предания, возражать не стану и просто напомню, что я ни в коем случае не претендую на то, чтобы воспроизводить здесь учение древних отцов, это дело специалистов и знатоков патристики, к числу которых я не принадлежу. Мне интересно писать только о том, что пережил сам и в пользе чего убедился на собственном опыте, и, если угодно, принимайте название «духовность» в моем случае с оговоркой, это мое авторское понимание духовности без претензий на истину в последней инстанции и уж тем более на святоотеческий канон.
Упражнениями я называю свои опыты тоже с поправкой, потому что вещи сугубо практические будут перемежаться и сопровождаться теоретическими рассуждениями, без которых никак нельзя: у духовных практик должно быть свое богословское обоснование.
Тем, кто еще не разобрался, говорю напрямую: цикл «Духовные упражнения» — это мои личные размышления, личные проблемы, которыми я буду делиться и разрешать у вас на глазах. Если вы ищете сокровища святоотеческой мудрости, то вам не сюда, есть множество прекрасных авторов и исследований, к которым я и сам прибегаю с радостью и благодарностью.
Поскольку язык искусства мне ближе, чем научные штудии, позволю себе образ, который помогает мне понять самого себя. В 1986 году, десятилетним пионером, я увидел французский мультфильм «Властелины времени». Снят он по роману талантливого, но, к сожалению, малоизвестного фантаста Стефана Вюля. Маленький мальчик теряет в катастрофе отца и оказывается один на чужой планете, населенной злобными насекомыми. Единственное, что у него есть, — передатчик, который связывает его с друзьями отца, спешащими на помощь. Это его единственное утешение и защита. Особенно радостно и тепло малышу, когда с ним разговаривает старичок-астронавт, покалеченный и повидавший жизнь веселый дедушка. Он не однажды спасает малышу жизнь и даже поет ему бодрые песенки. Однако передатчик попадает в руки злодея, который выводит мальчика на поле кровожадных ос. Израненного и полумертвого паренька успевает спасти бродячий астронавт, вылечивший мальчишку и ставший ему вторым отцом. В конце мы узнаем, что наши герои попали в поле эксперимента Властелинов времени, и покалеченный старичок — это и есть тот самый малыш, только сильно повзрослевший и проживший долгую и полную приключений жизнь. Старик обращался к себе самому сквозь десятилетия. Мальчик слушал советы себя повзрослевшего.
Духовные упражнения, которыми я хочу поделиться, — это обращение меня, «старичка», к тому юному пареньку, который однажды забрел в этот опасный мир и не нашел рядом человека, который бы присмотрел за ним. Все, что я пишу, — это письма себе, подростку и юноше, то, что я хотел бы услышать, то, что мне надо бы услышать тогда, четверть века назад, но не было рядом такого человека, такого голоса, такого средства общения. Но я надеюсь, что мой голос, мои «ободряющие песенки» пойдут на пользу другому малышу, может быть, кого-то и мне посчастливится спасти от зловещих насекомых, от дикой злобы «повелителя мух».
Семь этажей духовности
— Савва, сделай духовное лицо. Ну, пожалуйста…
— Кому?
Скажу, как на духу, одним духом выдам: хоть я и духовное лицо, но вижу, что лицо у меня далеко не духовное, однако мне хватает духу принять то, от чего я бываю не в духе, пусть это и в духе нашего времени.
В одном предложении семь «духовных» слов, но значения их не совпадают. «На духу» значит откровенно, как на исповеди, к которой это старинное выражение и отсылает. «Духовное лицо» — это о моем социальном и юридическом статусе, ведь я священник, «служитель культа», и слово «лицо» здесь — индивидуум, субъект права. Но в зеркале я вижу не юридическое лицо, а переднюю часть головы, мой внешний облик, наружность, которая предательски выдает мое настроение, характер, внутреннее состояние. Полагают, что одухотворенное лицо свидетельствует об успехах духовного развития, но у меня «духовное лицо» долго не держится, сколько ни упражняйся.
«Не хватило духу» — это о воле, способности принимать решения, стойкости характера, мужественности.
«Быть не в духе» — это из сферы эмоций — о плохом настроении.
Не забыть еще и про целый куст значений, связанных с дыханием: «одним духом», «что есть духу», «дух захватывает», «испустить дух».
Навещаю старинную схимницу:
— Как вы, матушка?
— Ой, батюньчик! Дух не дышить, — тяжко вздыхает старушка.
Зачем нам погружаться в жаркое горнило семантики, тщательно «отслаивая» значения слов? Раз уж мы собрались говорить о духовных упражнениях, следует разобраться с тем, что такое духовность, что мы имеем в виду.
Упражнения требуют постоянства, системы, точности, самоотдачи. По утрам нужно делать зарядку. Это духовное упражнение? Как сказать. Зарядку делает тело, а дух есть нечто нематериальное, нефизическое. Но чтобы стать на зарядку, просто проснуться, открыть окошко, стряхнуть с себя сон и начать выполнять предписанный комплекс движений и делать так каждое утро, нужен характер, сила духа, бодрость духа, если не сказать духовная зрелость, духовное здоровье. Отчего и говорят: «В здоровом теле здоровый дух», и мы не станем спорить, что первично.
О крепости духа говорят, когда человек способен на поступок, на подвиг, что выводит героя за грань телесного и материального. Януш Корчак не смог оставить своих учеников лицом к лицу со смертью, одних, и сам предпочел смерть благополучному доживанию. Он просто не мог поступить иначе. К какому отделу анатомии отнести совесть и достоинство учителя? Какой химией эти качества определяются? Если нет ничего ценнее человеческой жизни, как этот мудрейший человек добровольно отдал себя в руки палачей?
Белорусский пионер Марат Казей, четырнадцатилетний мальчишка, которого никто не заставлял воевать, никто не обязывал, добровольно пошел в партизанский отряд и погиб, отстреливаясь от фашистов, подорвав себя последней гранатой. Что это, если не образец силы духа? Даже пионер понимал, что есть нечто нематериальное, что имеет право судить и взвешивать поступки существ из плоти и крови, и это нематериальное относится к сфере духовности.
Православный человек может возмутиться духом от таких слов. Ведь мы прекрасно понимаем, что духовность может быть только в Церкви, все остальное не более чем душевность, а то и обольщение, прелесть, тщеславие и нечистота.
— Марат Казей отбивался от врагов на глазах у всей деревни. Вот вам и мотив — тщеславие и гордыня. Все тут понятно.
— А христианские мученики умирали не на глазах у публики? Никому и в голову не придет подозревать их в славолюбии. Прояви уважение к герою!
Антон Павлович Чехов, будучи успешным писателем, мог себе позволить роскошные вояжи на Средиземное море, но вместо Греции сознательно выбрал Сахалин. Его записки о далеком острове, о жутком бесчеловечии тюремной системы, о несправедливости, царящей там, способствовали облегчению жизни заключенных. Чехов в одиночку провел перепись населения Сахалина! Подумайте только! И никогда не кичился этим. Это был скромный и застенчивый человек. Только после его смерти стало известно, сколько он сделал во время эпидемии холеры, превратившись из писателя снова в рядового врача, скольким помог во время голода, сколько построил школ. Скромность и благородство не вводятся внутривенно, они требуют духовного труда и напряженного усилия.
— Вы намекаете, что Януш Корчак, Марат Казей и Антон Чехов — святые?
— Ни в коем случае! Мне просто хочется показать, что рядом с христианской духовностью есть и другая духовность, универсальная, которой и мы, христиане, тоже причастны, и ею мы не можем пренебрегать. Пространство этой духовности охватывает мудрость предшествующих поколений, науку, искусство, музыку, мораль и просто правила хорошего тона, вежливость и учтивость, а также спорт, политику и даже дух предпринимательства. Ни одна из конфессий не вправе приватизировать ни одну из этих областей, они принадлежат всему человечеству как организму духовному, то есть выходящему далеко за пределы физического измерения.
Унижает ли христианство наличие где-то рядом универсальной, общечеловеческой духовности?
Эта претензия похожа на страх отразить в зеркале юридическое лицо. Духовность универсальная и духовность церковная — это две параллельные реальности, которые, однако, могут и должны пересекаться в жизни конкретного человека, но как и в каких безопасных пропорциях, нам предстоит выяснить.
Религиозный аутизм
Слово «духовность» я впервые услышал в связи с именем академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, выдающегося русского ученого и общественного деятеля. Он родился в 1906-м, умер в 1999-м. Ему выпало жить, может быть, в самый сложный период российской истории, но он прожил свою жизнь с достоинством великого человека, ничем себя не запятнав, став для многих образцом глубокой порядочности. В годы моей юности его слову внимали как слову мудреца. Не просто ученый, академик, влиятельная фигура, а именно мудрец — хранитель духовности. И если вы еще не потеряли надежды увидеть лицо по-настоящему одухотворенное, найдите портрет академика Лихачева.
Но вот у меня перед глазами другой образ: преподобный Серафим Саровский молится на камушке. Эта икона висела в комнате прабабушки, и я ее хорошо запомнил. Святой Серафим учил, что стяжание Духа Святого Божия есть цель христианской жизни: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Подлинной чистотой и безграничным милосердием веет от образа преподобного. Это лик прозорливца, подвижника, который познал страдание и вынес из него глубокую любовь к людям.
Два портрета: старец и академик. А теперь скажите: кто из них духовнее? Верующий человек, скорее всего, отдаст предпочтение святому, светский — академику.
— Старец Серафим творил чудеса, через него Бог открывал людям великие истины, он был сосудом благодати, а академик всего лишь добренький старичок. Кого он в своей жизни исцелил? Вряд ли бы смог профессор простоять на камне тысячу дней и ночей. А провести несколько лет в затворе? Ему даже и близко не подойти к таким подвигам! Да и молился ли он вообще? России нужны святые, а вы прославляете академиков!
— Дмитрий Сергеевич Лихачев столько сделал для сохранения и развития русской культуры! Это был настоящий подвижник и делатель. Его фундаментальные труды по истории древнерусской литературы являются золотым фондом науки. А знаменитая серия «Литературные памятники», которую он редактировал и просто спас своим авторитетом! Это мировой уровень работы с текстом и самое высокое качество научного издания, и это только одна из немногих заслуг Дмитрия Сергеевича!
Можно долго спорить и множить аргументы, но это ни к чему не приведет, потому что речь идет о двух разных духовностях. Сравнивать духовность старца и академика — то же, что искать ответ на вопрос «Что длиннее: белое или тяжелое?».
Старец и академик. Оба — подвижники, оба — мудрецы, оба — оплоты и маяки духовности, но и подвижничество, и мудрость, и духовность у них различной природы. Академик был апостолом универсальной духовности, старец — духовности евангельской. Различие двух духовностей — факт не азартного теоретизирования, а предельно осязаемой практики, наших жизненных стратегий и повседневного опыта.
Но вот вопросы: зачем нам, христианам, различать эти духовности? Нужна ли верующему человеку универсальная духовность? Не будет ли мне, христианину, достаточно духовности религиозной, подлинной и благодатной?
Мы различаем две духовности не для того, чтобы отречься от первой и защитить вторую, а чтобы научиться пользоваться преимуществами и той и другой, но к своему месту и ко времени. Речь идет не о философских спекуляциях. Мы — практики, и нас интересуют духовные упражнения. Задача духовного упражнения — привить и развить полезный духовный навык. А вот какой из духовностей принадлежит тот или иной навык, надо уметь распознать ясно и отчетливо. Если вы чувствуете пределы и возможности каждой из духовностей, вы будете точно знать, чего не надо искать там, где его не может быть, чего та или иная духовность дать вам не в состоянии.
Евангельская духовность единит нас с Самим Богом, учит богообщению, приобщает к величайшим тайнам, а в Евхаристии делает единокровными и единотелесными Христу, Воплощенному Богу. Но ни в Евангелии, ни в творениях отцов вы не найдете ответов на вопросы: что такое дружба, как научиться учиться, как правильно отдыхать, как руководить людьми без самодурства и подчиняться без раболепия, как справляться с провалами и отказами, как ладить со старшими, как воспитывать детей, как ухаживать за девушкой и многое другое, чего нет в Писании и не должно быть.
С другой стороны, в бескрайнем море универсальной духовности глупо искать описание опыта живого богообщения, того богооткровенного дара, который есть только в Церкви. Этот факт не возвышает Церковь и не унижает мир. Каждому свое.
Можно ли прожить, довольствуясь только одной из духовностей? Можно, и большинство обходится малым.
— Зачем нам академик Лихачев, если есть святой Серафим?
— Зачем нам саровские монахи, если у нас есть академики?
Даже и не подумаю убеждать светских людей, что им нужно Евангелие. Жажда услышать Слово Божие — это глубоко личное событие, и если этого не пережил, бесполезно пускаться в споры. Меня волнуют трудности церковных людей, в опыте которых обе духовности пересекаются, сбивая всех с толку. Нерешенные проблемы универсальной духовности вплетаются в вопросы религиозной жизни. И тут возможны трагические ошибки, а верующим свойственно все болезни лечить церковными средствами.
Но каждой болезни свое лекарство. Если ваша проблема из области универсальной духовности, то и решать ее следует соответственно. Предположим, что у вас не развит навык общения, вас не научили слушать, терпеливо объясняться, уметь быть правильно понятым, поддерживать разговор, а потом и дружеские отношения. И вот вы вдруг осознали пробел в своем духовном развитии, — а это проблема духовная, — и отправились к духовнику, а он посоветовал вам побольше читать Евангелие, потому что там все сказано, и чаще молиться. Но я не думаю, что вам это поможет. Здесь нужны другие средства, которые легко можно найти в поле духовности универсальной, и этот факт способен многих смутить.
— Значит, в Евангелии сказано не все?
— В Евангелии сказано все, что должно быть сказано в Евангелии. Но не надо искать в этой Святой Книге того, чего там быть не может. Евангелие — о Христе и о Церкви, а о проблемах коммуникации написаны другие книги.
Есть люди, которых это открытие по-настоящему выбивает из седла. Но проблема тут не в Евангелии, а в религиозном аутизме, который так же удобен, как и вреден. Кроме религиозного аутизма есть еще и светский культурный аутизм, но с ним пусть разбираются другие.
Мы, действительно, не найдем в наших религиозных текстах науки о дружбе, учтивости, вежливости, об искусстве ведения переговоров, организации времени и многом другом. Обижает ли священных писателей отсутствие в их текстах этой проблематики? А может ли их святые книги унизить отсутствие сведений об интегральном исчислении или основ картографии? У наших духоносных старцев были другие задачи, другое служение. Однако отвечая на вопрос, нужна ли верующему универсальная духовность, подумайте, каково изучать Писание человеку, которого не научили читать?
О чём молчат кошки?
Если мы говорим, что к сфере универсальной духовности относится мир идей, искусство, мораль, наука, политика, право, а также спорт и бизнес, может, речь идет о культуре, а не о духовности? В таком случае не лучше ли говорить о культуре и культурности, а слово «духовность» вернуть людям религиозным? Или это не более чем спор о словах?
На этот вопрос я бы ответил: и да и нет.
Да — потому что, действительно, это спор о словах.
Нет — потому что этот разговор имеет самые практические последствия.
Как бы я ни любил кошек, но мы живем с ними в параллельных мирах. Наш духовный мир, о котором кошки только смутно догадываются, я бы назвал областью подлинно человеческого. Когда мы хотим его описать, не для кошек, а для себя, мы даем ему названия в зависимости от того «центра тяжести», который актуален в данный момент.
Если речь идет о ценности человеческого творчества, о творческой активности человека, этот параллельный кошкам мир подлинно человеческого мы назовем культурой.
Если «центр тяжести» переходит в область этики, если мы описываем область подлинно человеческого в логике добра и зла, мы называем наш скрытый от кошек мир духовностью.
Кошки не догадываются о нашей духовности и культурности. Хоть что-то мы можем от них скрыть. Хоть где-то мы можем от них скрыться. Если вам и встречались религиозные коты, то, скорее всего, это были пожилые, дореволюционные личности, которые застали те времена, когда в школах еще преподавали Закон Божий. Или я что-то путаю? Да что кошки! Некоторые люди порой не догадываются о своей духовности!
Правда, какие-то зачатки духовности в кошках порой высвечиваются, но в большинстве своем кошки аморальны, точнее, вне-моральны, и те товарищи, которые зовут выйти за пределы добра и зла, на самом деле просто завидуют кошкам.
Религиозные люди — не кошки. Доказательству этого тезиса я посвятил свою докторскую диссертацию, а потому не стану приводить все аргументы, отослав читателя к тексту исследования.
Итак, религиозные люди — не кошки. Они люди. Значит, как и положено людям, они обитают в параллельном кошкам мире, в мире подлинно человеческого, дышат воздухом духовности и культуры. Не только дышат, но и выдыхают, влияют на атмосферу духовности и культуры вместе с другими людьми. Религия не выводит нас из области подлинно человеческого. Мы разделяем поле универсальной духовности со всем человеческим родом.
Моя приятельница работает в больнице. Однажды в четыре часа утра она услышала в больничном коридоре колокольный звон. Оказалось, что на лечение прибыла чрезвычайно набожная дама, привыкшая вставать очень рано. Каждое утро она включает на своем планшете колокольный звон, затем утренние молитвы и проповедь батюшки. Ей пытались напомнить, что в палате лежат еще пять человек и они бы хотели поспать, и, кстати, говорят, изобрели наушники. Богомольная дама удивленно вскидывала брови:
— Вы мне должны спасибо сказать, что я доношу до вас Слово Божие и к Церкви приобщаю. А колокольный звон очищает воздух. Вы тоже почувствовали?
И она права. Оставаясь в границах религиозной духовности, она абсолютно права. Но если вы напомните ей об учтивости, вежливости, уважении, она вам резонно возразит, что таких слов нет в нашем церковном лексиконе, и не погрешит против истины. Церковь не учит учтивости и такту. Не потому что Церковь — общество идейных грубиянов (хоть порой и создается такое впечатление). Просто учить вежливости не дело Церкви, у нее совсем иные задачи.
Что не так с этой дамой?
Она ведет себя неприлично. Она нарушает законы общежития. Дело не в ее религиозном энтузиазме, дело в том, что она дурно воспитана. Религия не дает санкции на грубость и наглость. Хотя мне довольно часто встречались церковные люди, исповедующие религиозно обоснованное хамство как важнейшую миссию Церкви.
Другими словами, можно достичь определенных высот в религиозной духовности, но остаться духовно неразвитым в духовности универсальной. Религиозный человек может быть некультурным и недуховным, духовно недоразвитым, и это выталкивает его из мира подлинно человеческого и сближает с миром параллельным, где хозяйничают звери.
Ведешь себя как свинья? Не удивляйся, если в тебя войдут бесы.
Вопроси тестя своего!
В юности я сильно смущался, подозревая в книге Исход следы комедии. Но подумайте сами, что же мне было делать, если некоторые сюжеты этой святой и серьезнейшей книги невероятно комичны. Пророк Моисей, который общается с Богом лицом к лицу, чудотворец, поразивший египетских магов такими чудесами, что эти профессионалы колдовства со стыдом скрылись даже со страниц истории, этот величайший учитель, временами смотрится нервным, усталым человеком, который тонет в болоте ежедневных забот.
В книге Исход есть сцена серьезного разговора Моисея с тестем. Так устроено человеческое ухо, что любое упоминание тестя или тещи способно сбить самый густой туман пафоса и торжественности. Самый главный из пророков израильского народа вышел судить тяжбы своих граждан, и нам представляется величественное судилище и седовласые мудрецы в широких ризах. Но тут в кадре появляется прозаическое лицо тестя, и музыка труб неприлично захлебывается.
— Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера? (Исх. 18:14).
И вместо торжественного заседания мы видим усталого пожилого человека, который дни напролет занят разрешением бытовых споров, и он один, а их много, и они идут к нему со всякими глупостями, и пророк разбирает дело каждого, а по-другому он не умеет, вот и тянет лямку жизни, мучаясь сам, истязая других. А перед уставшим пожилым человеком стоят измученные очередью люди, которые делают как сказано — не мы придумали, не нам менять, предки терпели, потерпим и мы.
И вот появляется тесть и ругает пророка и боговидца:
— Нехорошо это ты делаешь (Исх. 18:17).
Сказать такое человеку, которому Сам Бог дает законы! Как пророк может что-то делать нехорошо, неверно, неправильно? Выходит, может, раз Моисей смиренно принимает критику.
— Ты измучишь себя и народ сей, который с тобою; ибо слишком тяжело для тебя это дело: ты один не можешь исправлять его (Исх. 18:18).
Тесть дает совет Моисею, как правильно организовать судебное делопроизводство. Надо разделить функции: оставить себе служение посредника между Богом и людьми, то есть власть законодательную, а исполнительную и судебную передать тысяченачальникам, стоначальникам, пятидесятоначальникам и десятиначальникам и письмоводителям, выбрав для этого людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть (Исх. 18:21).
Прекрасное библейское описание качеств хорошего чиновника, не так ли? Четыре важнейшие черты: профессиональная пригодность, богобоязненность, честность и бескорыстие. Еще одно подтверждение того, что Библия — мудрейшая из книг!
В чем же причина моего смущения? Меня терзала мысль: Бог видел, как мучается Моисей, но ничего ему не сказал, не научил его, как правильно поступить. Господь говорил с Моисеем как с другом, но не дал ему такой простой совет, а ведь это не только облегчило бы всем жизнь, но и стало законом, ориентиром для организации жизни следующих поколений. Почему Бог ничего не сказал Моисею? Вместо откровения — унизительная отповедь тестя.
Мудрый и полезный совет пришел Моисею совне, не из недр его народа, и даже не из глубин его религии, он не был результатом откровения, но пророк принял его с благодарностью. Тесть Моисея принадлежал другому народу и к религии Моисея не примкнул, ведь Писание говорит о нем как о мадиамском жреце, который практиковал задолго до встречи с Моисеем. У своего зятя он был только в гостях — не присоединился к странствующему Израилю и, как сообщает книга Исход, после общения с семьей зятя возвратился в землю свою (Исх. 18:27).
Боговидец Моисей прислушался к совету священника другой религии и чужого народа. Экуменист ветхозаветный! Почему он не вопросил Бога о том, как работать с людьми? Почему Бог не вразумил Своего пророка, а вместо этого допустил унизиться ему, приняв совет от жреца-инородца?
Эта библейская история стала для меня первым шагом в избавлении от религиозного аутизма. Аутисту не интересен внешний мир, он для него не существует. Аутистом быть очень удобно, а в религии можно найти любое обоснование клинической лени и отупляющему нелюбопытству, просто повторяй мантру:
— Это не то, что нужно христианину!
Если вы пустынник и живете среди диких скал и диких коз, вам, действительно, все это только помешает, потому что будет отвлекать от молитвы и полного единения с Богом. Но раз вы читаете этот текст, вы точно не отшельник, и рядом с вами есть люди, и с ними надо научиться ладить, а если вы мужчина, отец, муж, начальник, вам надо научиться руководить, принимать решения, работать в команде. Все эти навыки принадлежат области универсальной духовности и культуры.
Тесть показал Моисею, как решать проблемы организации работы с людьми малой кровью, он поделился с ним житейским опытом, а этот опыт кристаллизируется и хранится в пространстве подлинно человеческого, которому принадлежит каждый человек, какой бы религии он ни придерживался.
А урок такой: не задавай Богу вопросов, на которые может ответить тесть.
Духовный статус торта
В день рождения дочери мой друг вывалился из окна. Спасли крепкие руки товарищей и вишня, что росла под окном. А ему всего-то хотелось вывесить флаг, чтобы вся улица знала, что сегодня родилась самая красивая девочка на свете.
Отсюда вывод: готовишься стать отцом — посади под окном дерево.
Папы обычно сходят с ума, когда рождается первый ребенок. Потому что человек переживает настоящее метафизическое перерождение. Был обычный парень, веселый, крепкий, забавный — просто чудесный цветок на родовом дереве, и вдруг — отец! Все изменилось, перевернулось, потому что мужчина кожей, нутром почувствовал, что он теперь не сам по себе, лихой бродяга, а находится у самого основания корня, он сам и есть этот корень, от которого разовьется большой род. Будто в разряде молнии на миг осветилось все дерево рода, и он почувствовал всех своих детей, внуков, правнуков, кожей ощутил и запомнил тяжесть каждого потомка.
Половина шестого утра. Стою в алтаре. Готовлюсь к литургии. Влетает приятель.
— Вы понимаете… Такое дело… Я ей говорю: дед у меня Алексей. Он на фронте погиб. Так он тоже вот такой был, мордастый. У нас все такие в роду. Казаки! А она: какой же Алексей, если сегодня Петр. И что, если Петр? Ведь тут, сам понимаешь, четыре сто, а она — Петр. Конечно, Алексей! Я и маме звонил. Взял такси и ходу.
— Ничего не понимаю. Какой Алексей, кто такой Петр? Чего шумишь? Пять утра!
— Если бы пять! Так ведь четыре сто! Это же только Алексей. Я сейчас опять туда. Надо же что-то делать! Надо что-то везти… Ведь Алексей — так лучше звучит, мужественней? А она: Петр…
Сразу до меня не дошло, что несколько часов назад у моего тихого и интеллигентного друга родился сынок. А ведь я подумывал звать санитаров. Пришлось дать задание ребятам срочно напоить папу, чтобы сохранить ему психическое здоровье.
Примечательно, что оба «перворожденных» отца рвались что-то делать. Одному срочно понадобилось водрузить на высотах стяг, другой готов был останавливать поезда и автомобили и даже идти крестным ходом. Если произошло нечто естественное и предсказуемое, зачем все эти лишние движения?
Потому что каждый человек понимает или, скорее, чувствует:
значительное должно быть означено.
С нашими папами произошли не рядовые естественные события, а значительные. Всякое значительное событие требует знака. Так устроен человек. Как говорил один покойный философ: «Человек — существо символическое». Мы живем в мире символов, мы их создаем и ниспровергаем, на место старых воздвигая новые, но обойтись без символов люди не могут.
От избытка сердца говорят уста (Мф. 12:34). Не только говорят уста, но и делают руки, танцуют ноги, толпы незнакомых людей собираются вместе и идут в далекие страны не ради дохода, а чтобы поцеловать старые камни.
Область символа и знака — это точка, где универсальная духовность так близко сходится с религиозной, что их порой невозможно различить. Но вопреки этой невозможности различать их все же придется. Если угодно, такое различение — одно из духовных упражнений, которое очень помогает нам, христианам, понять природу нашего религиозного опыта.
Учитель заходит в класс. Дети встают. Зачем? Какая в этом польза? Дети проявляют уважение к учителю. Обратите внимание на глагол «проявить», он очень важен. Мое поколение еще помнит процесс проявления пленки для фотографий. Сделал снимок? Прояви пленку и зафиксируй. Отдельные граждане запирались в темных ванных, и при свете красного фонаря творилось чудо: на матовых карточках постепенно проявлялись изображения людей, домов, деревьев — настоящее волшебство!
Уважение — категория духовной жизни человека. Почему духовной — потому что это состояние духа, его не видно, пока оно не облечется в тело знака. Уважение должно быть означено, проявлено, оно должно обрести форму, оформиться в осязаемый символ, жест, духовный опыт должен обрести воплощение в понятном людям образе.
Рядом с уважением стоит почтение, воздаяние чести. Человеку недостаточно просто проинформировать другого, послать уведомление об уважении по почте или на словах. Нужен знак. Знак необходим там, где человек переживает значительное, значимое событие. Значительное должно быть означено.
Если не означено, значит, не значительно
Поэтому так обижаются девушки, которым ухажеры не дарят букетов и тортиков. Если ваши чувства к девушке значительны, они просто обязаны быть означены, подтверждены знаком внимания. Нельзя обойтись фразой: «Но ведь ты и так знаешь, что я тебя люблю, зачем тебе еще это глупое колечко?» Глубина человеческого опыта несводима к информации, нельзя просто проинформировать или уведомить о своей любви к девушке. Настоящая любовь безбрежна и неисчерпаема, поэтому она жаждет разродиться не в знание, информацию, а знак, задача которого указать на глубину, обозначить ее, но не вычерпать до конца. Так обычный торт, обращенный в знак внимания, обретает духовный статус, становится символом глубоких и значительных чувств, вплетается в биографию целого рода, обретает бессмертие, даже растворившись в желудках влюбленных.
Цветы, торты, колечки бесполезны, временами разорительны, порой опасны и ведут к ожирению. Но когда мы вступаем в область значительного, другой счет деньгам и времени, другое измерение полезности. Помните «богословский диспут» из истории дяди Федора из Простоквашино? Мама героя вступает в дискуссию с мужем на предмет решительного удаления кота Матроскина из дома:
— Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Не иначе как дядя Федор кота притащил.
— Ну и что! Один кот нам не помешает!
— Ну, тебе не помешает, а мне помешает. Ну, ты сам подумай: какая от этого кота польза?
— Ну… почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картины на стене?
— От этой картины на стене очень большая польза: она дырку на обоях загораживает.
— Ну и что … И от кота будет польза! Он мышей ловить может.
— А у нас нет мышей.
— А мы заведем.
Любители кошек прекрасно понимают, что кошки, на самом деле, бесполезны, как и все подлинно прекрасное в этом мире, и если так уж нужно оправдать их пользу, мы готовы на разведение мышей. Кошка бесполезна, как, на самом деле, бесполезна картина на стене, но нельзя обойтись без кошки и без картины.
Прояви уважение!
Избыток сердца отражается в избыточности знака. Может Церковь обойтись без дорогих облачений, драгоценных окладов, затратных колоколен и дорогостоящих колоколов? Вполне. И временами Церковь «стряхивает» с себя все лишнее, проходит путь самоочищения, но колокольни и драгоценности появляются снова и снова, потому что, если ваше сердце взволновано верой по-настоящему, значительно, оно потребует осязаемого знака, дорогого, избыточного, бесполезного. Здесь действует та же логика, что и в универсальной духовности.
Уважение к подвигу погибшего героя в светском обществе означивается минутой молчания. Есть ли какая-то польза в том, что несколько десятков, а то и сотен взрослых дееспособных мужчин простаивают во время рабочего дня? Мы уже заметили на примере «безумия» отцовства, что человеку, переживающему значительное событие, необходимо выплеснуть избыток своего сердца в знак. Причем это должен быть не простой знак, обыденный, будничный, бытовой, а нечто особенное, если хотите, сакральное, выходящее за рамки обычной жизни.
Избыток сердца «разряжается» в знак, что вовсе не обосновывает полезность знака. Логика пользы здесь просто не работает. Это другое измерение человеческой жизни, измерение универсальной духовности.
Смотришь американский фильм. Народ собирается на похороны. Какой-то парень забывает надеть галстук. Его одергивают:
— Прояви уважение!
Если человек придет на похороны без галстука, кому от этого станет плохо? Покойнику? Ему все равно. Близким? Как мой галстук облегчит их боль?
Дело не в галстуке как изделии текстильной промышленности. В этом обществе, в этой ситуации галстук есть знак уважения, и хоть это и не единственный способ проявить уважение, но он понятен каждому.
— Зачем вы несете на кладбище куличи на Радоницу? Неужели вы думаете, что покойники станут ими разговляться?
— А зачем вы носите на кладбище цветы? Вы верите, что усопшие оценят их запах?
Верующий вы человек или неверующий, вы все равно живете в поле культуры, в том параллельном мире подлинно человеческого, о котором не знают кошки. В этом мире очень важны знаки, вы не можете обойтись без них, отказаться от проявления и означивания того опыта значительного, без которого трудно себя называть человеком.
Постмодернизм
В Москву мы ездим через Брянск. Старая брянская дорога. Там стоит знаменитый памятник военным шоферам. Никогда толком я не видел этот монумент, но всегда отчетливо его слышал. Есть обычай у шоферов, проезжая это место, сигналить в память фронтовых водителей. Такое место не пропустишь, не продремлешь.
— Зачем они это делают? Кому нужен этот неблагозвучный сигнал? Не пустая ли это трата сил, средств и внимания?
— А зачем горят по всей стране вечные огни? Так ли необходимо было бросать на параде 1945 года фашистские знамена к ступеням мавзолея?
Все это нужно — и знамена, и сигналы, и огни. От избытка сердца говорят уста (Мф. 12:34). Там, где человек переживает опыт значительного, опыт глубоко духовный, рождается потребность обратить его в знак.
Значительное должно быть означено
Однажды я привез букет цветов на братскую могилу в тихой белорусской деревушке. У нас почти в каждой деревне есть такие места. Много полегло ребят, защищавших Родину от нацистских злодеев. Совершенно незнакомый человек просил отвезти цветы на могилу дедушки. Внук жил далеко, но каждую весну навещал деда, а в тот год сильно заболел, важной даты пропустить не мог, и пришлось ехать мне, гомельскому попу. Многие из тех, кто лежат в этом холмике, были атеистами, и верный потомок героя тоже человек неверующий, но даже атеизм не способен вырвать из области подлинно человеческого, из сферы универсальной духовности.
Ты не веришь в духовный мир, но даже при твоем подчеркнутом материализме есть нечто, что ты любишь больше жизни, и нечто, что ненавидишь больше смерти. Умереть за правду, за правое дело, отдать жизнь ради справедливости, ради высокой идеи — это духовный опыт, хоть мы и не можем назвать его религиозным.
Что дороже жизни?
Советские дети очень любили балладу Стивенсона «Вересковый мед». Завораживающие стихи! Жестокий шотландский король захватывает земли сказочных пиктов, истребляя маленький народ полностью. Вместе с пиктами погибает и рецепт вкуснейшего эля из вереска. Но однажды удается выследить двоих, последних из выживших, отца и сына, прятавшихся за большим камнем. Их хватают и ведут на пытку, чтобы выведать секрет меда. Старший наконец соглашается открыть тайну, при условии, что сына бросят в море у него на глазах, чтобы не было свидетеля его старческого предательства. Когда мальчика поглотили волны, старик открылся:
— Правду сказал я, шотландцы, От сына я ждал беды. Не верил я в стойкость юных, Не бреющих бороды. А мне костер не страшен. Пускай со мной умрет Моя святая тайна — Мой вересковый мед!В детстве никому из нас даже на ум не приходило спросить: стоил ли кулинарный рецепт жизни двух последних представителей уникального этноса? Сегодня, когда я разбираю этот текст со студентами, этот вопрос звучит.
Почему? Что случилось? Это поколение менее духовно, менее восприимчиво и чувствительно к вопросам чести, правды, справедливости?
Все в порядке у наших ребят с духовностью и чувствительностью. Ничем они не хуже нашего поколения, а временами мне кажется, что и лучше. Просто им выпало жить в эпоху постмодернизма.
Оскудевшая современность
Наконец-то это модное или пост-модное слово появилось у меня перед глазами! Даже как-то дышать стало легче! «Постмодернизм» — термин настолько же популярный, насколько и многозначный. Чтобы понять его значение, я не бегу за томиком Деррида или Барта, а открываю «Дон Кихота» — самую яркую звезду постмодернизма всех веков и народов. Постмодернизм — это не исключительная привилегия нашей эпохи. Это явление духовной жизни человека и общества, которое случается с предсказуемой регулярностью. Не мы первые, хотя у всякого поколения есть шанс стать последними.
Постмодернизм — это кризис перепроизводства знаков, синдром культурного самоотравления. Случается этот кризис там, где культурное развитие достигает своего пика и расцвета, так что человек просто тонет в знаках, они умерщвляют в нем силу к жизни, вызывают разочарование и усталость. Нечто подобное я переживаю, когда попадаю в гигантский супермаркет, в котором решительно все есть. Это изобилие так подавляет меня, что я убегаю из магазина с пустой корзиной.
Разве это плохо, когда всего много и все под рукой? Еще раз: постмодернизм — это кризис перепроизводства знаков. Помните? Значительное должно быть означено.
А если знаков много, а значительного мало? Если за знаками нет значимого, нет значительного? Если все это не свидетельства подлинного и непреходящего, а маски, полые внутри? Вот и не удивительно, что приходит кому-то мысль, будто и нет никакого значительного, и все разговоры про справедливость, правду, истину и честь не более чем игра в слова, и все вокруг — карнавал пустых знаков в утомленном мире, не знающем ни пороков, ни добродетелей, ни святых, ни злодеев.
Пепел библиотек
Тот, кто, рискуя здоровьем, читал Петрония или утешался Диогеном Лаэртским, смутно догадывается о подлинных причинах пожара Александрийской библиотеки. Поджигателей на самом деле пугало не качество книг, а их количество. Дон Кихот — это продукт книг, человек, который превратил себя в бесконечную игру цитат, зеркальную комнату с бесконечным числом отражений. Не случайно на подвиги выходит не славный рыцарь, а немощный старик — скудость значительного при навязчивой претензии знака.
Пост — это скудость, оскудение. Конечно, это не имеет никакого отношения ни к семантике, ни к этимологии слова «постмодернизм», но мне слышится в этом названии усталость от пустоты и изобилия знаков, за которыми нет значительного, оскудение духа. Люди ждут героев и подвижников, а вместо них скачут безумные старики на древних клячах. Потому главная эмоция постмодерна — ирония, она помогает справиться с этим морем масок, не захлебнуться в нем.
— Но какое все это имеет отношение к духовной жизни христианина?
— А разве верующие живут в каком-то ином мире? Разве нас, современных христиан, не захлестнуло море знаков, за которыми нет значительного?
Недавно я выбежал в испуге из большого православного магазина в Москве. Повторилась паника супермаркета. Много! Очень много! Это хорошо и радостно, что издано столько книг, что доступны издания на разных языках, но как нам с этим справиться? Как пережить доступность и изобилие святынь, золото храмов и роскошь иконостасов? Нет ли здесь постмодернистской диспропорции между знаком и значительным?
После очередного книжного приступа доктор приказал слугам Дон Кихота заложить кирпичами дверь в библиотеку. Когда «доблестный рыцарь» пришел в себя, он по привычке стал искать заветную комнату с книгами. Вместо двери — гладкая стена, оклеенная свежими обоями.
— Где вход?
— Куда?
— В библиотеку.
— Какая библиотека? Не было тут никакой библиотеки. Придумали тоже!
Надо ли и нам сжигать библиотеки и раздать церковные богатства нищим? Это исключительная мера, тем более что у нее есть авторские права. Некто Иуда Симонов Искариот, человек гибкого ума и нерастраченных талантов, был возмущен поступком бедной женщины, выплеснувшей целый алавастр драгоценного мира на ноги Спасителя.
— Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? (Ин. 12:5).
Полезное и рационально обоснованное предложение. Но Христос принял сторону женщины, оправдал ее правоту. Никакой постмодернизм, никакое обнищавшее героизмом время не отберет у человека право на широкий и бескорыстный жест, который идет от избытка сердца. Был бы этот избыток! Оскудевшую современность не спасешь заколачиванием библиотек. Надо давать место поступку, подвигу и героизму, даже в малом, даже в обыденном, не боясь насмешек и желчной иронии. А потому в романтике Дон Кихота больше правды, чем в рационализме Иуды.
Как рождается взгляд?
Анна Андреевна Ахматова была настоящей дамой. Ее мнение ценили, перед ее взором трепетали. Однако была дама, которой смущалась сама Ахматова. По возрасту она бы годилась Анне Андреевне в бабушки, если бы не одно затруднение: дама была статуей. «Девушка с кувшином» — это фонтан в Екатерининском парке Царского Села. Невероятной красоты образ, который завораживал питерскую поэтессу:
Я чувствовала смутный страх пред этой девушкой воспетой.И девушка, и кувшин были старше Ахматовой, но гораздо младше Пушкина, однако именно Александр Сергеевич был первым певцом и пророком волшебного фонтана. У него есть знаменитое стихотворение «Царскосельская статуя»:
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печальна сидит, праздный держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; Дева, под вечной струей, вечно печальна сидит.И не важно, что скульптор изобразил сюжет басни Лафонтена, и кувшин был не с водой, а с молоком. То, что увидел Пушкин, — правда, с которой никто не станет спорить. Хотя нашелся один талантливый юноша, который через много лет «осадил» гения:
Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский, В урне той дно просверлив, Воду провел чрез нее.Озорника звали Алексей Константинович Толстой. Известный поэт и юморист. Но здесь я вспоминаю всех этих замечательных людей не для того, чтобы освежить славные страницы русской культуры. Мне интересно, как по-разному могут видеть люди одну и ту же картину, один и тот же образ. Кто из них прав, а кто заблуждается?
Оба правы. Каждый по-своему. У статуи есть автор, талантливый русский скульптор, есть инженер, который провел воду, используя законы гидравлики, есть художник, который грамотно и умело организовал ландшафт, и все это вместе производит волшебное впечатление, так волновавшее воображение поэтов.
Люди помнят Пушкина и Ахматову, но мало кто вспомнит имя автора фонтана. Почему? Потому что поэты — пророки универсальной духовности. У них есть дар видеть мир не так, как видят его обычные люди, и мы интуитивно понимаем, что их взгляд не более точен, а более правдив. В нем больше правды, чем во всех диссертациях ученых, что вовсе эти диссертации не перечеркивает.
Поэты — виртуозы сотворения знака, самые искусные мастера означивания. Так свой труд и служение определял, например, Александр Блок:
Ведь я — сочинитель, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка.Значительное должно быть означено, в данном случае — обрести имя. Поэты одарены способностью видеть значительное, проговаривать его, давать ему имена, обращать в пластичный и запоминающийся образ. Если бы Пушкин не научил нас видеть царскосельскую статую, мало кто заметил бы ее красоту.
Как мы смотрим? Как мы видим? Перед нами всего лишь система трубок и выполненный в соответствии с чертежом и технологией оплаченный заказ? Очень важная и опасная прибавка — «всего лишь».
Как возможно кощунство?
В самом начале девяностых годов я с удивлением слушал, как взрослые обсуждали необходимость прекратить подачу газа к Вечному огню. Каждый год мы ходили к памятнику всей школой и приносили наши скромные букетики тюльпанов. Краснели знамена, говорились речи, и мой дедушка в орденах очень красиво и мудро молчал, опустив голову. И тут решили потушить. Потому что это не рационально — расходовать газ безо всякой пользы. Правда, спорили вяло. Даже защитники были тогда страшно растеряны.
Спустя десятилетия спорили уже покрепче, обсуждая поступок подростков, жаривших на Вечном огне сосиски. В чем проблема? Ведь это всего лишь огонь, грамотно и рационально организованная газовая горелка, а дети проголодались. Что может быть священнее ребенка? И тогда прозвучало слово «кощунство».
В январе 201 7 года в Киргизии разбился самолет. Погибли более тридцати человек, большинство из них люди, которые жили недалеко от аэродрома в дачном поселке. На дома беспечно спящих людей рано утром упала огромная грузовая машина. Погибли дети, женщины, простые мирные люди. Президент объявил день национального траура. Горожане начали собирать для семей пострадавших вещи, продукты, одежду.
В эти дни преподаватель столичного университета написала на своей страничке в социальной сети, что удивляться и сильно расстраиваться по этому поводу не следует. Это всего лишь один из моментов естественного отбора. Идет чистка нации, ведь самолет упал как раз на тот поселок, где жили «понаехавшие» из неспокойных южных районов Киргизии мигранты.
За эту публикацию преподавательницу не только уволили из университета, но и возбудили уголовное дело. Людей возмутил такой неприкрытый цинизм. Девушку обвинили в кощунстве.
А что такого особенного сказала киргизская преподавательница? Она сослалась на естественный отбор. Не этому ли учит школа, не концепция ли дарвинизма доминирует в естественнонаучном мировоззрении вот уже более века? Так почему мы осуждаем человека, который был просто последовательным в своем мировоззрении? Что такое кощунство, почему оно вызывает у нас такой эмоциональный протест?
Этой темы не любят касаться люди нерелигиозные. В самой сердцевине нашей духовной жизни лежит интуиция святыни. Сейчас я говорю не о религии, а о сфере универсальной духовности, об области подлинно человеческого.
Об этом опыте универсальной духовности верующим людям тоже полезно помнить. Мы не любим, мы бурно протестуем, когда кто-то позволяет себе кощунство и оскорбление в адрес наших религиозных святынь, но, если быть до конца честным, сами христиане не часто проявляют уважение к чувствам людей «из внешних».
Молчание старца
Подчеркну: никто не смеет требовать от христианина «бросать горсть ладана на алтарь чужого бога». Уважение надо проявлять не к чужим богам, а к чувствам людей, к человеческому опыту значительного — такова максима универсальной духовности. Это очень спорное утверждение, и в ответ мне могут представить почтенный перечень свидетельств того, как бесцеремонно поступали святые с чужими богами.
Спор между религиями — отдельная тема, требующая особого подхода, но я сейчас говорю о духовности универсальной, а не о религии. Нас интересуют духовные упражнения, в связи с чем и ставится вопрос: можно ли развить способность видеть вещи, как их видят поэты, не оторвавшись при этом от реальности, но и не скатившись к близорукому «всего лишь».
— Царскосельская статуя и Вечный огонь — это, простите, две абсолютно разные истории. Тут — прихоть эстета, а там — народная скорбь.
— Никто не станет спорить! Мне интересно другое: как рождается взгляд?
Могилы героев, у которых горит Вечный огонь, — святыня в измерении универсальной духовности. Священники иногда возлагают цветы к Вечному огню, но это не религиозный жест, а жест уважения, выросший на поле универсальной духовности. Вечный огонь — знак, указывающий на значительное. Значительным его делает опыт страдания, выпавшего на долю наших предков. Сколько горя и боли вынесли люди в Великую Отечественную войну, нашему поколению даже сложно представить. Вечный огонь — это людская боль, воплощенная в знаке, и если кто-то не способен ее разглядеть, у него дефект духовного зрения.
У нас в монастыре жил старенький монах, отец Иоанникий. Он прошел всю войну, но никогда не рассказывал о том, что пережил. Однажды мы хотели сделать ему приятное и на 9 Мая включили ему телевизор с каким-то военным фильмом. Батюшка был в приподнятом настроении, шутил и с удовольствием смотрел концерт, но когда начался фильм, он неожиданно замолчал, резко поднялся и вышел. Никогда он не смотрел кино про войну. В этом суровом молчании было гораздо больше боли, чем во всех рассказах свидетелей.
Ослепший мир
У Чингиза Айтматова есть гениальная повесть «Белый пароход». Это история о том, как по-разному люди видят мир. На самом краю леса стоит домик лесника, человека циничного и злого. Он не любит зверей и деревья, он вообще никого не способен любить, а потому постоянно пьян и избивает свою жену, издевается над ее стареньким отцом и племянником, маленьким мальчиком, который растет здесь в лесу, восхищаясь своим невероятным дедом. Деда зовут Расторопный Момун. Он неисправимый добряк и труженик. Именно дед рассказывает мальчику историю их рода и легенду о белой матери-оленихе, которая когда-то спасла их народ, но теперь покинула эти места, потому что люди стали жадными и злыми. А малыш — мечтатель и поэт, он дает имена камням и деревьям, а сам мечтает однажды стать рыбкой, чтобы уплыть к своему отцу, который где-то плавает на белом пароходе.
Мальчик любит лес и смотрит на него своим взглядом, переживая за деревья и зверье, мерзнущее в суровые зимы. Он мечтает, чтобы мать-олениха вернулась и принесла счастье в их семью, чтобы дедушка отдохнул, чтобы вернулись мама и отец, а у тети родился ребеночек, которого она так долго ждет. И вот однажды мальчик увидел у лесной речки белую олениху с изящными тонкими рогами и олененка. Он так обрадовался, что даже заболел, слег в бреду и пропустил то, что случилось потом. Потому что взрослые тоже увидели красивых зверей, но если эта встреча родила в сердце малыша молитву, которая продолжалась даже в бреду, то восторг охотников вырвался фразой:
— Это же сколько центнеров мяса по лесу гуляет!
Молитва и — мясо! Малыш увидел образ легендарной спасительницы их древних предков, взрослые — просто мясо.
История заканчивается трагически. Мальчик идет на поправку и совсем слабеньким выходит во двор, где идет странная многолюдная пирушка. Все пьяные, даже его любимый дедушка. Взрослые ему дико рады, каждый старается его чем-то покормить, а посреди двора стоит нетрезвый дядя, который пытается вырубить рога из головы какого-то зверя. И паренек наконец видит голову белой матери-оленихи.
Он убегает из дома. Идет к реке. Чтобы стать рыбкой. Потому что в этом ослепшем мире ему нет места.
Человек не может без святыни. Чаще всего он и не задумывается, что живет только ею и ради нее. Не всегда природа этой святыни религиозна, но опыт святыни — это опыт значительного, опыт подлинно человеческого, тот самый опыт, который делает нас людьми. Здесь каждый, даже самый сильный, предельно уязвим, здесь самое хрупкое место человека, поэтому люди скорее предпочтут прикинуться циниками, чем открыть перед другими свои святыни. Иногда только в большом горе человек находит ту сердцевину, которой жил многие годы. Но стоит утратить ее, и жизнь теряет всякий смысл. Этот опыт, какова бы ни была его природа, достоин уважения и трепетного отношения, а значит, каждый из нас нуждается в воспитании взгляда, в духовно развитом искусстве видеть невидимое, но самое главное, в искусстве с трепетом и восторгом созерцать таинство святыни.
Можно ли простить Гитлера?
Педагогическая конференция — самое скучное занятие, которому мне доводилось предаваться. А что делать? Надо ходить. А иногда и читать доклады, потому что и Церковь, и школа озадачены проблемами духовно-нравственного воспитания. Долгое время я не мог понять смысла этой фразы. Духовное воспитание подразумевает нравственное развитие, не так ли? Тогда зачем эта тавтология — духовно-нравственное воспитание, — ведь духовное уже по определению нравственно?
— Может ли духовность быть безнравственной? Духовность со знаком минус?
— Конечно! Духовность — это в том числе и мир идей и их творческого воплощения.
Чем вдохновлялся Гитлер? Это был человек по-своему бескорыстный, и если вам нужно найти образец всепоглощающей идейности — это отличный экземпляр. Если кто и жил идеями, так это приснопамятный фюрер. Всякий идейный человек, какую бы систему взглядов он ни проповедовал, в конечном счете вдохновляется идеей всеобщего блага, другими словами, хочет всем добра.
— Почему же тогда некоторые товарищи говорят, что Гитлер есть абсолютное зло?
— Потому что ради воплощения своего идеального мира он убивал людей и преуспел в этом настолько, что мало кто в истории может с ним сравниться.
Безобидное греческое слово «идея» обрело философский вес благодаря Платону. Мы его любим всем сердцем. Платончик нам друг, и мы его никому не отдадим, а один английский дядечка даже как-то сказал, что вся история западной философии есть не более чем записки на полях платоновских рукописей. Но, читая «Государство», ловишь себя на мысли, что это описание идеального концлагеря с вполне нацистскими приемами генетического отбора, уничтожения семьи, тотального контроля и прочих безобразий, которые вызывают читательское умиление и порождают бесчисленное число восторженных диссертаций только потому, что никогда не были реализованы.
Не только воплощение, но и сами идеи могут быть глубоко безнравственны, однако, даже осуждая Гитлера, христианин никогда не позволит себе назвать его абсолютным злом. Почему?
Духовность универсальная отличается от духовности религиозной главным образом тем, что для религиозного человека мир духовного — это не столько сфера идей, концепций и культурных продуктов, сколько обитаемое царство, область, населенная духами. Можно даже сказать, что это область, перенаселенная духами, поскольку к миру бесплотных духов — ангелов и демонов — мы присоединяем и души умерших людей, а это, при самых скромных подсчетах, гораздо больше нынешнего населения земного шара, которое тоже через несколько десятков лет разнообразит собой мир предков. Как пел Александр Дольский:
И расстается тело с духом, Когда земля нам станет пухом.Мир духов для нас родной, при всей его пугающей загадочности. И дело не только в том, что нам предстоит там провести большую часть своего существования. Хотя мы и привыкли называть область духов миром сверхъестественного, по-христиански вернее было бы и эту сферу называть естественным, потому что вместе с миром духов мы все — и живые, и усопшие, и бесплотные духи — представляем семью сотворенных существ. Мы вместе с таинственными духами разделяем единую область тварного бытия.
— Придумаете тоже — ангелы, демоны, покойники… Выдумки все это!
— И каждый христианин с вами согласится. Ангелы — это чистой воды выдумка! Собственно, как и люди!
И ангелов, и людей, и весь этот мир придумал Бог. Бог — Творец этого мира, а мы — его создания, произведения, сотворенные существа. Ангелы такие же тварные сущности, как и люди, а значит, они не абсолютны. Даже демоны по своей природе, по своей nature, если угодно, тварному субстрату — не зло. Злой природы не существует. Есть злая воля свободных тварных существ, изначально сотворенных и задуманных добрыми. И самый нерв этой злой воли — человекоубийство.
Христос называет сатану человекоубийцей от начала и отцом лжи (Ин. 8:44). Самое ненавистное слово для злых духов — это не «добро», а скромный глагол «быть». Вся воля злых духов направлена против живого, им ненавистно все, что есть, существует, бытийствует, и в особенности живой человек — самое большое оскорбление для демонов — пророков и блюстителей идейной и бытийной стерильности.
Любое убийство есть зло. Но настоящий демонический оттенок оно приобретает, когда это убийство становится идейно бескорыстным. Любая русская женщина, встретив Гитлера, скорее всего, пожалела бы беднягу, а может быть, и усыновила. Но простить Гитлера нельзя. И дело не в нем самом, не в его судьбе в вечности, о которой нам ничего не известно, а в том, что некоторые имена и образы так глубоко врастают в события и поступки, что отделить личное от исторического уже совсем невозможно, и если мы никогда не оправдаем нацизм, то и Гитлеру нет прощения. Хотя человек религиозный смотрит чуть дальше, чем светский политолог и философ, видя за спиной диктатора багровую тень прародителя зла.
Но нам интересен не Гитлер и не Платон, а тот факт, что наши «минусы» не совпадают. Знак «минус» универсальной духовности не тождественен «минусу» духовности религиозной. Это два разных языка, описывающие два разных мира. Путаница тут недопустима. Фраза «абсолютное зло» на языке универсальной духовности возможна, но христианин, оценивая область духовного, не может себе позволить такого выражения.
Гораздо важнее для нас пойти дальше. Ведь тут мы впервые заговорили о разделении духовной сферы на сотворенную и нетварную. Эта тема требует подробного разговора, потому что касается самой сердцевины христианской духовности.
Нездешний Бог
— И что же старец тебе сказал?
— Всю правду, всю жизнь — от и до! И книгу подарил. Про Бога. С картинками.
Этому разговору четверть века, но каждый раз, вспоминая, я не могу сдержать улыбки: «книга про Бога с картинками». Интересно, как должна выглядеть «книга про Бога», да еще и с картинками? А если убрать улыбку:
Как возможна книга о Боге?
В моем детстве единственными доступными «книгами про Бога» были антирелигиозные издания, например, Лео Таксиль и его «Забавная библия» и «Забавное евангелие». Смешные книжки со смешными рисунками. Я собирал любые упоминания о Боге и Церкви, поэтому не ограничивался только текстами, у меня также хранились сборники атеистических карикатур, на которых Бог изображался старичком на облачке среди умилительных ангелов в белых ризах. Это странно, но вся эта литература никак не задевала моих зарождающихся религиозных чувств. Уже школьником я скорее предчувствовал, чем понимал, что все это к Богу не относится, потому что никакой Он не старичок в длинных ризах и мир ангелов — это не его мир.
Обычному человеку совершенно естественно умозрительно разделять мир на духовный и физический, потусторонний и наш уютный догробный мир, как его называл покойный Терри Пратчетт. Бога, ангелов, святых и демонов мы помещаем в мир духовный, а этот видимый мир — для нас, живых и зримых. Однако Евангелие говорит другое: Бог равноудален и от загробного, и от догробного мира, как и равноблизок каждому из миров, потому что настоящая бытийная пропасть пролегает не между миром духов и миром материальным, а между тварным и нетварным, созданным и несотворенным, и «Родина» Бога — нетварный мир.
Бог без Родины
Слово «тварь» в обыденной речи воспринимается или как ругательство, или как литературное клише. Мой приятель завел себе микрособаку чихуахуа, окружил ее заботой и любовью и от избытка нежности назвал «тварь дрожащая», поминая Достоевского всуе.
В богословском лексиконе «тварь» — один из важнейших терминов, без правильного усвоения которого невозможно понять христианское богословие. Тварь — это бытие сотворенное, сочиненное, сделанное, выдуманное Богом. Между нами и Богом принципиальная разница или, как говорят у нас в Гомеле, «онтологическая пропасть»: Бог — несотворенное бытие, наш мир, ангелы, демоны, люди и их призраки — сотворенное, тварное бытие. Это не игра в слова, а вывод, сделанный богословами, тщательно изучавшими Священное Писание.
Не одно поколение христианских мыслителей задавало вопрос: Христос — кто Он? Бог или человек? Ведь Писание называет Его и Богом, и человеком. Хороших и святых людей было немало, а некоторые из них обладали такой духовной силой и творили такие чудеса, что все истории о Христе смотрятся не так ярко, как хотелось бы нашим учителям. Но тексты Нового Завета настаивают на том, что Христос не просто святой пророк и праведник, Он — Бог.
Если мы кого-то называем Богом, что мы имеем в виду? Однажды я шел со своим приятелем по прекрасному гомельскому парку, рассуждая о противоречиях концепции истории у блаженного Августина. Малыш в зимнем пальтишке отважно ковырял лопаткой упругий сугроб, перебрасывая снег в соседнюю ямку. Тяжелый взмах, малыш резко повернулся и неожиданно узрел «светоносное видение»: два представительных батюшки в зимних рясах и меховых скуфьях проплыли мимо, увлеченные разговором о высоком. Мальчик выдохнул с восторгом:
— А-а-а!.. Бо-о-оги!
Нам удалось поразить воображение малыша, хоть и не собирались. Восторг и восхищение всегда вызывает сила и необычные эффекты, поэтому люди любят комиксы и супергероев — это современная версия языческих саг о людях «сильных и издревле славных». И нет ничего странного в том, что в современном кино плечом к плечу с супергероями весело резвятся греческие и скандинавские боги — они здешние, они необычные, милые, временами невыносимые, но мы их хорошо понимаем, тем более что порой они готовы прийти людям на помощь.
Бог в представлении христиан — это не один из бесплотных помощников. Даже имя «Бог» Ему не совсем впору, потому что это некое родовое понятие, а Творец — Единственный в своем роде. Наш народ постоянно обличают в двоеверии, в языческой интерпретации христианства, и оправдываться тут нечего, есть такая проблема. Очень тяжело мыслить Бога так, как проповедует Евангелие. Хочется найти ему место в бытийной иерархии космоса, но откровение о сотворенности мира видимого и невидимого Богом «из ничего» не позволяет сделать этот естественный вывод.
Ведь даже термин «дух» в отношении Создателя мы вынуждены употреблять с оговоркой. Бесплотные духи, населяющие сотворенный космос, все «сотканы» из «нитей» тварного мира, пусть даже об этой «ткани» мы практически ничего не знаем. Когда мы говорим, что Бог — Дух, подразумеваем — Иной, Другой, не из «ткани» этого мира. И тут же себя одергиваем, потому что Воплощенный Бог — это Бог, у Которого, в отличие от ангелов, есть осязаемое человеческое тело, которое стало Телом Бога навсегда.
Фродо пишет Толкину
Лично мне помогает лучше понять христианское учение о Боге чтение любимых книг. Например, «Властелина колец». Дело не в эпичности сюжета, а в условной «тварности» мира Средиземья. Давайте внедрим вопрос «как возможна книга о Боге» в пространство трилогии Толкина. Тогда он прозвучит так: что напишет Фродо Торбинс в книге о профессоре Толкине?
Мир Средиземья имеет своего творца. Между Фродо Торбинсом и Джоном Толкином лежит та самая «онтологическая пропасть», непроходимый бытийный разрыв, который не предусматривает какую бы то ни было связь между двумя мирами — «тварным» миром хоббитов и «нетварным» оксфордского сочинителя. Профессор Толкин — подлинный творец мира Средиземья, автор его судьбы, сюжетных поворотов его истории. По отношению к Фродо Толкин находится в духовном мире? Мы не можем так сказать, потому что во вселенной Средиземья есть свой «тварный» духовный мир, населенный высшими существами и душами усопших, духами героев и злодеев. «Коварный» Толкин дошел до того, что даже поместил бога-творца Илуватара на вершину бытийной иерархии этого мира. Но, привлекая христианские аналогии, настоящий бог для Средиземья не Илуватар, а профессор Толкин.
Осторожно напомню: это всего лишь аналогия, помогающая понять христианское учение о Боге. Аналогиями не следует увлекаться. Однако некоторые линии сравнения можно смело продолжить. Большинство писателей жалуются на сопротивление своих героев и признаются, что некоторые поступки сотворенных ими персонажей и повороты сюжета даже для матерых писателей бывают полной неожиданностью. Даже в творческом взаимодействии автора и его героя у «тварного» существа остается свобода действия или отношения к тому, к чему приговаривает его создатель.
Бог Воплощенный
Однако Евангелие передает совершенно уникальную историю, когда Автор Сам становится персонажем своего произведения, реально и действительно воплощается в ткани сотворенного мира, становясь навсегда его частью, при этом не переставая быть Творцом.
Что знал Фродо о существовании Толкина? Молился ли Фродо своему настоящему творцу, получал ли от него ответ? Попал ли Торбинс в мир своего автора после смерти?
Христос — Автор нашего мира. Между Творцом и творением лежит непроходимая пропасть, но из любви к людям Создатель эту пропасть переходит, навсегда соединяя мир тварный и нетварный, делая доступным для тварного мира приобщение к полноте Жизни Творца.
— Откуда мы это знаем?
— Из Откровения. Сам Бог открылся нам в Евангелии.
— Где доказательства?
— Крест и Воскресение — вот доказательства. Других нет.
Можно много спорить о том, как доказать, что Бог-Творец действительно стал человеком, исцелил этот мир, приобщил его Своей Жизни. Но мне кажется, это навсегда останется вопросом веры и личной встречи со своим Автором.
Даже мудрейший Гэндальф не подозревал о существовании Толкина. То есть Толкин и не существовал в том тварном мире, который населяли эльфы, хоббиты и валары, потому что он не воплощался во вселенной Средиземья, да и не мог.
До воплощения Творца мира пределом богословия была естественная догадка о нашем «внутримирном», имманентном «Илуватаре», но не о Создателе, иноприродном тварному миру. Но Бог стал человеком и открыл о Себе самое важное:
Бог есть Любовь. Бог есть Человеколюбец.
Однако оставим богословие людям ученым. Не богословские споры здесь для нас важны, а ясное понимание того, что духовная жизнь христианина сосредоточена не столько на исследовании тварной духовности, сколько на приобщении к миру несотворенному, той Подлинной Жизни, которую наши духоносные старцы открывали в сиянии нетварного света. Нетварная духовность или жизнь в Духе Святом — вот на чем строится духовность христианская.
Христианство и религия
Христианство начинается с откровения о Воплощенном Боге. Христос — это Автор нашего мира, Сочинитель, придумавший каждого из нас. Он добровольно и свободно решил разделить судьбу сотворенного Им мира, став причастным тварному бытию однажды и навсегда. Он не просто некий сверхъестественный Поэт, один из многих возможных создателей и выдумщиков, подобно тому, как в нашем мире есть множество писателей и художников, конструирующих свои «тварные миры». Евангелие говорит о том, что наш Бог — Автор самого авторства, Творец самого творчества, Он не один из многих богов и созидателей, Он Единственный. И самое главное откровение — это то, что Он — Любовь и Человеколюбец, и мы созданы по Его образу, а потому и наше естественное состояние — любовь и человеколюбие.
Любовь к людям и миру Бог открывает не в словах и поучениях, а самим делом. Как говорит апостол Павел: Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками (Рим. 5:8). Смерть и Воскресение Воплощенного Бога — реальная смерть и реальное воскресение — свидетельства Его Любви и откровение о нашей судьбе, потому что Он хочет сделать нас причастными Жизни Его нетварного мира, то есть причастными Жизни Божества. Однажды наш «выдуманный» мир вольется в мир несотворенный, приобщится Жизни Божественной, и эта новая жизнь называется в Писании Царство Небесное. Но христиане уже здесь, в тварном мире, могут пережить и переживают залог полноты этой Жизни, разделяя жизнь Церкви.
Христос пришел в наш мир, чтобы создать Церковь.
Христос — основатель Церкви. Но не религии.
Церковь и христиане
У меня на столе лежит небольшая книжечка, изданная в Петербурге в 1853 году. Автор — профессор Яков Космич Амфитеатров, известный и заслуженный духовный писатель. Книга называется «Беседы об отношении Церкви к христианам». И писатель, и его произведение вызывают у меня глубокое почтение, но речь сейчас не о содержании и идеях уважаемого богослова. Обратите внимание на название: «Беседы об отношении Церкви к христианам».
— Возможен ли в наше время текст с таким заглавием?
— Конечно, сейчас возможно все, но выглядеть это будет не совсем уместно.
— В какой ситуации естественна и законна такая фраза?
— Когда Церковь мыслится отдельно от сообщества христиан. Ведь мы привыкли считать, что христиане — это и есть Церковь. Однако если мы исследуем современное словоупотребление, обнаружим, что даже в языке людей религиозных слово «Церковь» означает клерикальную структуру, иерархию или корпорацию священнослужителей. Проще говоря, Церковь — это попы, а люди — это люди, верующие или неверующие — все одно.
Поэтому когда журналисты задают дежурные вопросы: как Церковь относится к Булгакову, к отстрелу жирафов, к веганским продуктам, — они хотят услышать мнение клерикальных кругов. Для людей «внешних», как и для большинства верующих, христианство — это религия, конечно, мировая и влиятельная, но именно религия, одна из множества.
У термина «религия» более двухсот определений, но для рядового человека совершенно ясно, что в большинстве случаев имеется в виду определенное мировоззрение, вера в нечто сверхъестественное и, обязательно, система поведения, включающая культ, то есть конкретные символические действия.
Создал ли Христос религию? Является ли христианство религией?
Возможны разные ответы, и каждый зависит от выбранной «системы координат».
Уютный мир религии
Некто Чацкий, помнится, говорил: «Блажен, кто верует! Тепло ему на свете». Религия помогает человеку объяснить мир, понять его, принять и оправдать. Верующий человек комфортнее чувствует себя, чем безбожник, ему действительно тепло на белом свете, ведь он живет в понятном мире. Религия управляет его временем и организует ритм жизни, обосновывает мораль и право, примиряет с болью, объясняет таинственное, утешает перед неизбежным.
В центре религиозной жизни православного человека — Пасха. К ней ведет Великий пост. Это время, когда нужно обязательно исповедоваться и причаститься, посетить красивейшие службы, подготовиться к празднику, а потом уж и правильно разговеться. А за Пасхой будет Радоница — поедем к нашим покойничкам. Потом — Вознесение, Троица, Петров пост, Успенский пост — будем святить яблочки на Спаса, молиться перед Плащаницей Божьей Матери, а там и осенние праздники и снова пост — Рождественский с его предпраздничными хлопотами, а за ним уже Богоявление со святой водичкой и Сретение с освящением свечей. Стройный и веками освященный календарь.
И так каждый год.
И так каждый век.
Родился малыш — крестим. Подрос — на исповедь и в воскресную школу. Встретил девушку — венчание! Святому Спиридону молятся, чтобы были деньги, преподобному Сергию, чтобы детки хорошо учились. Заболел дедушка — батюшку к нему! — исповедь, причастие, а там уж, как и у всех, — отпевание и поминки в третий, девятый, сороковой. Это уютный и понятный мир.
Есть у нас храмы, монастыри, чтимые святыни. Священническая иерархия — епископ, священник, дьякон. Вероучительные тексты, и главный — Символ веры. И стройная система богословских наук, со своей онтологией, гносеологией, антропологией, нравственным и каноническим богословием.
— Тут какой-то подвох! Уж не хотите ли вы сказать, что все это лишнее и мешает?
— Ни в коем случае! Ведь я сам — человек религиозный и даже священник. Вот только мы понимаем, что и в других религиях обязательно найдем те или иные универсальные формы, в которые выливается религиозный опыт.
Почти в каждой развитой религии непременно появляются эти универсалии: храм, священный текст, духовенство, святыни, аскеты, календарь, обряды годового цикла и связанные с ключевыми жизненными обстоятельствами (рождение, инициация, брак, смерть) и прочие формы, потому что религия, в моем понимании, это именно оформленность, воплощение в знаке и символе интенсивного духовного опыта.
Значительное должно быть означено. Если ваш духовный опыт охватил вас по-настоящему живо и целиком, так что вы не можете жить, как прежде, он потребует воплощения в знаке, а поскольку мы живем в обществе, знаки должны быть понятны для других, должны единить людей, разделяющих один религиозный опыт. Это очень смелое упрощение, но оно, как ни странно, помогает понять силу подвига первых учеников Христа, которые имели счастье быть христианами и жить Церковью, когда христианской религии еще не было.
Еврей от евреев
Некоторые товарищи, которых мы не будем поминать к ночи, полагали, что настоящий создатель христианства — это не Христос, а апостол Павел, и кое в чем они были правы. Апостол Павел совершил настоящую революцию: он вывел благовестие Христа из религиозного и культурного поля иудаизма на вселенский простор.
Не случайно Деяния апостолов принято внимательно читать в Великую Субботу, в канун Христовой Пасхи. Большая часть этой удивительной книги посвящена не деятельности двенадцати учеников, а благовестническим трудам апостола Павла. Он совершил то, на что не решились «самовидцы» Распятого Учителя, он дерзнул отделить христианство от религии.
Двенадцать апостолов проповедовали только в иудейской среде. Господь давал удивительные знамения, звавшие благовестников ко всем людям, потому что Воплощенный Бог — Сочинитель и римлян, и русских, и китайцев, и африканцев — у Него нет лицеприятия, Его Любовь к людям не знает разделения на расы, народности, возраст и пол. Все люди — дети Божьи, братья и сестры — друг другу и Воплощенному Богу. Однако ученики с невероятным упорством держались берегов иудейской общины.
Вспомните первые главы книги Деяний. Верующие продолжали посещать Иерусалимский храм, исполнять все положенные обряды. Исключением было преломление хлеба по домам — Евхаристия — единственный обряд, завещанный Учителем. Своих детей иудеохристиане продолжали обрезывать, приносить в храм, и мы можем предположить, что и религиозный календарь, и обряды брака и погребения у них сохраняли специфически иудаистские черты.
Апостолы творили невероятные чудеса. Дух Святой был с ними. Но даже эти откровения с большим трудом подвигли апостола Петра навестить сотника Корнилия, который не был иудеем, и апостол, согласно Закону, не должен был с ним общаться и уж тем более приобщать его к великой тайне Мессии. Но пока Петр колебался, Дух Святой сошел на Корнилия, и это случилось до того, как он был крещен.
Эта история «перевоспитания» святого Петра очень помогла апостолу Павлу на знаменитом Иерусалимском соборе, где первоапостолы решали судьбу христиан из язычников.
В результате проповеди «апостола языков» Церковью стали люди неиудейского происхождения. Это значило, что они вышли из своих традиционных языческих общин, отказались от религии и привычных обрядов — от календаря, понятного ритма жизни, практически необходимых обычаев, имеющих, кроме всего прочего, серьезное психотерапевтическое значение, в особенности ритуалов, связанных с рождением ребенка, браком, погребением, и собрались в общину, у которой еще не было религии.
Вещественные начала
Мы привыкли подчеркивать исповеднический и мученический подвиг первых христиан, но меня не менее восхищает эта почти самоубийственная для того времени решительность, с которой они практически отказывались от религии. Не случайно язычники обвиняли первых христиан в безбожии.
У них не было не только храмов, но даже и потребности их строить, не было клерикальной структуры — трехчастная иерархия появилась столетием позже, — не было никакого Символа веры, священных предметов, календаря и, конечно, годовой структуры праздников, не было даже Священного Писания, ведь первые новозаветные тексты написал тот самый апостол язычников, и лишь к IV веку они собрались в канон. Самое сложное, как мне кажется, это было отсутствие обрядов погребения и поминания усопших, ведь первые христиане не собирались задерживаться в этом мире и ждали возвращения Учителя каждый день.
При этом апостол Павел еще и успевал бороться с «религиозным дурманом». Людей можно понять: не все выдерживали эту символическую неоформленность, ведь так устроен человек — он не может без религии, это его природная особенность, законное желание облекать свой духовный опыт в язык символа, означивать значительное. Бывший фарисей из колена Вениаминова жестко «прижигал» эти поползновения: Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы (Гал. 4:9–10).
В те благословенные первохристианские времена возможно было не только существование Церкви без религии, но и мирное сосуществование христианства в двух различных религиозных «редакциях» — иудейской и эллинской. Фактически то была одна вера в двух религиях, и этот факт требует вдумчивого богословского осмысления.
Покойный Гораций мудро заметил: «Гони природу вилами, она вернется все равно». Религия — природная особенность человека, воля к оформленности и организации внутреннего духовного опыта, опыта встречи с Богом. Нормальный человек обычно не отличает религию от веры, ведь здоровый не станет думать, как он дышит и не забыл ли в этот раз выделить желудочный сок. Из наших размышлений о «безрелигиозной» жизни первых христиан не следует делать вывод против религии хотя бы потому, что религия у них все-таки была: Крещение и, самое главное, Евхаристия были сердцевиной жизни христианской общины, впрочем, как и теперь.
Однако такие размышления или, если угодно, духовные упражнения следует позволять себе, потому что жизнь верующего опасна и сложна. Бывают моменты, когда нужно дать честный и точный ответ на вопрос: что главное, а что вторичное, что относится к естественной духовности — тварной и универсальной, — а что есть подлинный залог Царства Небесного? Что я могу упустить без вреда, а что убьет меня как христианина?
Что моя жизнь — Христос или религия?
Христианство без Христа
— Мы же друзья, мне-то ты можешь признаться! Ты ведь тоже, как и я, считаешь, что Христос — это никакой не Бог. И не ты один, зачем притворяться?
Этот вопрос я услышал от человека, с которым много лет дружил.
Что же, он не знал, что я священник? Очень хорошо знал! Отлично знал! Потому что он и сам был священником. Уважаемым, талантливым, невероятно харизматичным батюшкой, которым я восхищался. А потом он торжественно объявил, что во Христа не верит, и самое странное — это не мешало ему оставаться в сане, совершать литургию, строить храм, общаться с людьми. Через некоторое время он все-таки отказался от служения и ушел из Церкви, разбив сердце не только своим друзьям, но и духовным детям.
Таких трагедий немало. Они были и — увы! — будут, потому что, как говорил один старичок: «Враг в отпуск не пошел!»
Был и такой разговор:
— Как же ты, не веря во Христа, совершаешь Евхаристию?
— А что тут такого? Мне очень нравится литургия. Такая подвижная, веселая служба, особенно великий вход и проскомидия. Это очень красиво. К тому же бодрит и поддерживает.
Верующий человек хватается за голову: как так можно?
Оказывается, можно. И жизненный опыт, и церковная история показывают, что религия вполне может обходиться без Бога. Иногда Он только мешает.
Зелёные помидоры
Весной и летом на наших подоконниках селились помидоры. Сперва это была рассада, тонкая и ранимая, а ближе к осени вальяжно и без стеснения тут располагались пузатые зеленые помидоры. Мама боялась за их здоровье, поэтому отправляла вызревать в домашних условиях.
Есть мысли, которые требуют долгого вызревания в покое и уюте. Они обязательно созреют, вы их только не тревожьте. Один из моих зеленых помидоров — это вопрос о том, почему современное общество стало таким секулярным, почему молодые люди спокойно обходятся без Церкви? Было бы у них хотя бы безбожие или азарт спора, философская взволнованность, — нет! Сонное равнодушие.
Пока этот помидор я отложил до лучших времен, но некая догадка у меня все же пробивается. История христианской культуры — это хронология эмансипации. Средневековое общество было цельным и монолитным. Бросая «светлый луч аналитического метода на темные стороны тогдашней конъюнктуры», мы с трудом можем отличить богословие от философии, мораль от религии, политику от веры, национальность от религии и науку от теологии. Как говорил один немецкий кардинал: «Все во всем под формой каждого». Правда, он имел в виду бытие, а мы применяем его афоризм к средневековой культуре. Философия, психология, медицина, музыка, политика, экономика — все было единым стройным и отлаженным организмом. Коснись любого органа, и он свяжет тебя с любым другим. Стройная и понятная система. Добрый и уютный мир, где у всего есть его законное и заслуженное место.
Этот слаженный космос, устроенный словно дивный готический собор, созидался веками, и, казалось, последние камни и шпили сложить в грандиозное строение — и останется только любоваться. У всего свое место. Все собрано в стройный хор. Даже Богу отведено свое место, и Он, кажется, вполне оправдал все ожидания, заняв подобающую нишу, исполняя свою партию. Но что-то пошло не так, и послушные дети стали стремительно покидать «родительский дом».
Наука «потребовала свою долю» и отделилась, не переставая дробиться на отдельные направления знания, ушло в автономное плаванье искусство, политика отбилась от рук и перестала нуждаться в религиозном обосновании, философия потребовала развода с теологией и выиграла процесс, мораль потребовала автономии от веры. Каждый из этих разводов сопровождался апокалиптическими срывами, ожиданиями конца времен, но люди продолжали жить и плодить культурные продукты, которых стало так много, что они вполне удовлетворили потребность человека в смыслах и символах. Церкви начали пустеть, некогда многолюдные монастыри закрывались, зарастали бурьяном тропы пилигримов.
И христиане снова вспомнили, что Учитель с самого начала называл их малым стадом. Но ведь раньше было так много людей, была такая крепкая вера. Мне кажется, все это торжество и многолюдство было связано с тем, что многие из человеческих запросов в те времена решались только религиозно, других способов просто не было. Университеты были церковными, наука развивалась при монастырских школах, священники были психологами, психиатрами и учителями, библиотеки и больницы были при обителях, и одинокому человеку часто просто некуда было идти, и, чтобы не умереть с голоду, он шел в монахи.
Сегодня у нас есть система здравоохранения, государственные школы и научные центры, консерватории и филармонии, досуговые центры и психологические тренинги, а главное, все умеют читать и нужду в высоком удовлетворяют тем, что не так пугает. Потребность в смыслах и мистике можно успокоить литературой, кино и компьютерными играми. И, признаться, я этому только рад. Если в Церкви вы ищете психологической помощи или эстетических восторгов, лучше сходите к врачу или навестите музей. Евангелие не об этом.
Немного сахара
Мой торопливый и сильно скупой набросок истории христианской культуры не более чем авантюра и упрощение. О средневековой культуре написаны целые библиотеки книг. Зачем нам вглядываться в эти пыльные фолианты? Какое отношение это имеет к духовным упражнениям?
Самое прямое. Мы умозрительно различаем христианство и религию. Христианство несводимо к религии, которая есть врожденная нам способность оформлять и означивать наш опыт веры. Религиозные и культурные формы, символические одежды, в которые мы облекаем наш духовный опыт, универсальны, они принадлежат области естественной духовности, тварной или имманентной. Религия — это кристаллизация опыта веры, оформление глубоко интимного опыта личной встречи с Богом.
Вера и религия между собой соотносятся как мед и сахар. Мед постоянно засахаривается, и от верующего требуется постоянное усилие в том, чтобы добраться до сути. Каждый раз мы вынуждены взламывать застывшую сахарную корку, чтобы понять, зачем все это. Это постоянное духовное упражнение, непрерывная внутренняя работа, которая необходима как для всего церковного общества, так и для каждого христианина в отдельности. Нельзя позволить своей вере застыть и «завершиться».
Вера — это процесс, динамическое состояние, постоянное вопрошание:
кто я?
в вере ли я?
верующий ли я человек или просто религиозный?
Но большинству достаточно сахара.
Приручение Бога
В XVII веке Русская Церковь пережила трагедию, раны от которой кровоточат до сих пор. При патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче произошел церковный раскол, который называют старообрядческим.
Говорят, что и у патриарха, и у царя были большие политические проекты, которые почему-то требовали унификации обрядов Русской Церкви с обычаями православных греков. Так появилось троеперстие, тройное аллилуия, изменения в богослужебном уставе и прочие новшества, совершенно не принципиальные, не касающиеся веры. Но они всколыхнули народ, тем более что вводилось все это грубой силой, варварски и без церковного обсуждения. Доведенные до отчаяния люди стали устраивать гари: заколачивались в церквях и срубах с женами и детьми и сжигали себя, ожидая скорого конца света.
Люди шли на смерть ради верности обряду. Почему они так болезненно принимали обрядовые изменения? Потому что это сфера религии, область тонких духовных переживаний. Мы порицаем людей, жарящих на Вечном огне сосиски, называем их кощунниками, потому что память войны — это память страшной человеческой боли, и если у тебя нет сочувствия к страданиям миллионов, может, у тебя и вовсе нет сердца?
Религиозная символика и обрядность — это тоже область глубоко интимных переживаний. Здесь требуется деликатность и учтивость, которой не отличалось правительство Алексея Михайловича. И пострадало много невинных людей. Но у этой трагедии есть и духовное измерение. Старообрядчество было одним из самых первых диссидентских движений в России.
Они боролись за свои права. Но их нельзя назвать христианскими мучениками, потому что они шли на смерть не ради Христа, а ради религии, умирали за обряд. И при всей симпатии к этому движению христианским его назвать не могу.
Мировоззрение старообрядцев вполне средневековое. Это упорядоченный космос, иерархически устроенный, и на вершине этой иерархии — Бог. У Него есть свое законное место. Но христиане верят в Нездешнего Бога. Ему нельзя указать Его место, Его нельзя «приручить» или посадить на цепь. Он — не часть тварного мира.
У Рильке есть пророческое стихотворение «Бог в Средние века».
И они Его в себе несли, Чтоб Он был и правил в этом мире, И привесили Ему, как гири (Так от вознесенья стерегли), Все соборы о едином клире Тяжким грузом, чтобы Он, кружа Над Своей бескрайнею цифирью, Но не преступая рубежа, Был их будней, как часы, вожатый. Но внезапно Он ускорил ход, Маятником их сбивая с ног, И отхлынул в панике народ, Прячась в ужасе от циферблата, И ушел, гремя цепями, Бог.Читаю и думаю о том, что Средние века никогда не закончатся, потому что религиозному человеку проще «приручить» Бога, найти Ему место в своей уютно организованной религии, чем довериться Ему, оставив себе вместо железобетонной уверенности религии хрупкость христианской надежды.
Игра в православие
Из советского детства держу в памяти:
Я волком бы выгрыз бюрократизм.В роли волка пламенный Владимир Маяковский. В те благословенные времена вся страна дружно боролась с бюрократизмом, и самое мудрое, что в ответ могли придумать бюрократы, — это присоединиться к борьбе и даже ее возглавить.
Согласно Ушакову, бюрократия — это «система управления, в которой власть принадлежит чиновнической администрации (бюрократам) без всякого сообразования с реальными интересами масс», и вариант: «чрезмерная забота о формальностях, канцелярских условностях, в ущерб сущности дела». Если кратко: отрыв от реальности и формализм.
Самым известным исследователем феномена бюрократии был английский сатирик Сирил Паркинсон, автор книги «Законы Паркинсона». Это очень смешной текст, но всякий, кто сталкивался с волшебным миром бумагооборота, с магией канцелярий, сладкой лихорадкой отчетов и гипнозом диаграмм, получит истинное наслаждение от удивительной проницательности автора и глубоких познаний в области анатомии офиса.
Среди закономерностей, выведенных Паркинсоном, есть такое наблюдение: в своем развитии всякий бюрократический организм достигает точки, когда он становится административно самодостаточным, то есть вполне может обходиться без контактов с внешним миром, что не только не отражается на жизни учреждения, но даже обеспечивает улучшение показателей работы.
Музыка игры
С бюрократией боролись не только в Советском Союзе, это проблема мирового масштаба. Ее истинные причины, как мне кажется, не в злонамеренности или корыстолюбии отдельных управленцев. Истинная причина бюрократии — сладострастие игры. Бумажная игра, как ни странно, может быть не только бескорыстна, но даже идти в ущерб самому пленнику игры, у которого завораживающая мистика отчетов и графиков выбивает из глаз слезы умиления.
Игра — это ритм, игра — это музыка. Если бы меня попросили дать имя той субстанции, из которой соткан наш мир, я бы назвал ее музыкой. Каждый человек погружен в музыку и игру, каждый сотворенный движется в ритмичном танце бытия, и в этом нет ничего плохого, такова природа тварного мира. Более того, люди, которым удалось «оседлать» этот ритм, овладеть им, бессознательно чувствуют, куда им надо идти и что делать, и обычно не ошибаются. Но так уж устроен человек, что он всякую благую вещь может обратить себе на погибель.
Побороть бюрократию окончательно, видимо, никогда не удастся, потому что это разновидность наркомании, вернее, игромании. Есть поэтические натуры с особой чувствительностью к «музыке бумажных сфер». Таких я встречал неоднократно, и, самое странное, наряду с негодованием я испытывал неожиданное восхищение бескорыстной страстью этих жрецов бюрократии, вспоминая, что где-то еще я видел это сладострастие игры во взгляде.
Синдром религиозной самодостаточности
Все сферы нашей жизни пронизаны игрой, и это нормально. Наука, политика, образование, медицина, искусство — везде вы найдете не только полнокровное здоровье игры и творческого порыва, но и «административную самодостаточность», игру ради игры. Игра архаична и примитивна, поэтому ее первыми жертвами становятся самые интеллектуально нестойкие. Однако этот список будет неполным, если мы не дерзнем включить в него религию.
Религия — это способность человека выявлять внутренний опыт веры. Если этот опыт достаточно интенсивен, он требует воплощения в знаке, символе, мифе или ритуале. Значительное должно быть означено. В этом смысле религия есть один из видов творчества, подчиняющийся своим внутренним законам, со своей музыкой и ритмом, со своей игрой.
— Звучит вызывающе: религия и игра!
— Но ведь мы говорим не просто об игре, как о чем-то несерьезном и фальшивом. Мы имеем в виду, что игра есть универсальный принцип человеческой деятельности, она лежит в самой основе творчества. Игра — это, если угодно, «шум бытия» со своим «мелодическим рисунком», со своими закономерностями, и как всякая музыка, простая в своей гениальности, игра может завораживать, замыкаться на себе, превращаясь из средства в цель, из инструмента в кумира.
Религия оформляет и организовывает опыт веры, встречи человека с Нездешним Богом. Вера — это «избыток сердца», который жаждет разрешиться в осязаемый символ, нуждается в знаке. Вера не может без религии. Вера — это всегда «выход из берегов», потребность в «новом русле». Но опыт показывает, что религия вполне может обходиться не только без веры, но даже и без Бога.
Паркинсон вывел закон, по которому учреждение, достигшее определенного градуса бумагооборота, может достигать успехов в работе, не нуждаясь в контакте с внешним миром. Каждый верующий человек, как и церковная община, тоже находится в опасности незаметно скатиться в состояние «религиозной самодостаточности».
Религия на месте Бога
Начинается все с вполне законного и понятного отделения верующего от мира. Если мир лежит во зле, если человек испроказился и «оскуде преподобный», то следует создать свой мир, который будет безопасным островком в этом бушующем море апостасии. Так религиозные люди создают для себя культурные и культовые гетто. У живого человека есть множество потребностей, которые понуждают его вступать в контакт с внешним миром. Чтобы этого избежать, у нас есть православное кино, православное фэнтези, православные психологи, православный футбол и даже православный дресс-код. Когда я был школьником, один епископ заставил меня расстаться с невероятно удобной сумкой:
— Сними! Это не по-православному! Ничего личного. Просто религия.
И это совершенно понятные вещи. Это нормально. Так религиозное общество проходит путь борьбы за идентичность. «Религиозное сладострастие» появляется чуть позже и далеко не у всех, но каждому следует помнить об этой опасности, потому что ни одна религия не может обойтись без своих «бюрократов».
Апостол Павел в своих посланиях неоднократно поминает группу людей, доставлявших ему неприятности. Это верующие, которые постоянно занимались бесконечными богословскими спорами:
Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере (1 Тим. 1:3–4).
Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны (Тит. 3:9).
В России таких товарищей называли начетчиками. Для них смысл религиозной жизни сводился к своеобразной «игре в бисер», интеллектуальному сражению с перестрелкой цитатами, источниками, одним словом, к борьбе, теологическому спорту, в котором есть свои чемпионы и допинговые скандалы.
Именно этот вид игры могут «подхватить» люди, увлеченные борьбой за чистоту православия, противники экуменизма и сект. Дело, которым взволнованы эти люди, очень важное и серьезное, но и опасность велика. Мне встречались православные, которые не были христианами, и ревнители веры, которые спокойно обходились без Христа.
Игра в спасение
Однако кроме богословских состязаний религия может предложить и другие формы игры, и самая известная из них — это «игра в спасение». Целый букет эмоций! Бесконечный сериал, в который вы можете включить не только родственников, детей и знакомых, но даже и своего духовника. Сосредоточьтесь на подготовке к исповеди. Сколько азарта в составлении перечня грехов! Есть даже специальные пособия и таблицы с диаграммами! Удивляюсь, почему до сих пор не появились удобные мобильные приложения?
И надо бы смеяться, да не смешно. Какое жалкое зрелище — человек религиозный, но уже давно не верующий, человек, у которого религия вытеснила веру. Бюрократ, загипнотизированный игрой бумаг, папок и статистики, жалок, но он всего лишь играет в одну из многих взрослых игр, обретая смысл жизни в этой мелочной суете и круговращении. Верующий человек, увлекаясь сладострастием игры в религию, совсем не замечает, что в какой-то момент он начинает обходиться без людей, а потом и без Бога, и это никак не мешает ему спасаться.
С живыми людьми не оберешься хлопот. С Живым Богом жизнь становится сложна и непредсказуема. Бог должен знать свое место и не выходить за рамки своего «иконного оклада». Бог не должен мешать моей религии!
Слово «религия» обычно переводят как «связь» — связь между человеком и Богом. Бывает так, что религия вместо связи становится препятствием между мной и Богом, и это самое грустное, что может случиться с христианином.
Один мой приятель, рассуждая о нашей религиозной суете, о захватывающих землетрясениях в нашей «церковной песочнице», сказал грубо, но точно: «Такое чувство, что Христос у нас как тот владелец „хаты на Новый год“: все празднуют, веселье в разгаре, застолье и танцы, а про хозяина уже давно забыли».
Если в аду есть уровни, то самое дно отведено для отправления точного религиозного культа, для «религиозных игроманов», которым не нужны ни люди, ни Бог. Как не пропустить у себя в глазах этот огонек религиозного сладострастия? Ведь борьба с игрой сама может превратиться в игру.
И так страшно бывает спросить себя:
кто я — христианин или геймер восьмого уровня?
Где спастись от жизни?
В древности храмы были не только местом молитвы, но и единственным пристанищем спасения. В буквальном смысле. В храмах прятались. Храмы давали прибежище. Кто бы ни гнался за тобой, главное — успеть добежать до церкви и ухватиться за рога жертвенника. Были такие эпизоды в ветхозаветной истории. Но и церкви христианские спасали жизни отдельным товарищам. Некоторые меровингские короли и их наследники годами жили в церквях, вокруг которых рыскали недруги с топорами и ножницами, поджидая момент, чтобы уж если не отрубить наследнику голову, то по крайней мере состричь его длинные кудри, считавшиеся знаком королевского достоинства.
В старину в церквях прятались от смерти. Пришло время, и в храмах стали скрываться от жизни.
Как-то рано утром я стоял на братском молебне и вспоминал одного престарелого инока. Назовем его отец Икс или, по-церковному, Иксий. Он был человек клиросный и любил богослужение. Но еще сильнее он любил церковный устав. Каким вдохновением загоралось его лицо, когда он говорил о тонкостях совмещения разных служб, о количестве повторения стихир и способе чтения канонов, вычитке правила и положенных на трапезе блюдах!
Наш первый Великий пост в монастыре. Отец Иксий принес на клирос ложку-подсвечник, старинную, залитую древним воском, и мы читали каноны, меняя на этой ложке огарки свечей, словно мы отшельники в занесенном снегом скиту, тогда, в седую старину-старинушку, в старозаветные времена. А потянись рукой — вот тебе выключатель, электрический свет, удобный, и хорошо видно.
Эта зачарованность у меня очень быстро прошла, или, лучше сказать, сошла с меня романтика старины, испарилась. А в келье отца Иксия она царила всегда. Мне так казалось, когда я сам был романтиком. Но моего романтизма хватило ненадолго, он рассеялся в первый год монастырской жизни, хотя это было хорошее время, и в религиозном романтизме я не вижу ничего плохого. Более того, он полезен — в нужное время, в нужном месте.
В юности ошибаться легко и приятно. Энтузиазм отца Иксия оказался не романтикой, а другим мотивом, о существовании которого я тогда не подозревал.
Жизнь — это не просто биение сердца. Это биение сердца сейчас. Живое только в настоящем. Прошлого нет, его не существует. Есть только то, что есть сейчас. Тому, кто прячется от жизни, претит настоящее. У отца Иксия вся келлия была увешана старинными иконами, древними лампадами, дореволюционным фарфором и намоленными книгами. Все старое было для него оправдано и свято своей стариной. Тут царила не романтика, а нервозное неприятие живого, жизни.
Он признавался, что с детства хотел побыстрее состариться, очень любил общаться со стариками, точнее, со старухами. Конечно, это можно объяснить тем, что он рос среди старушек-монашек, а старина его привлекла, потому что он потомственный старовер. Но сейчас я понимаю, что этот человек никак не мог себе простить, что он жив, — вот в чем была его религия. Был ли он христианином? Кто я, чтобы отвечать на этот вопрос! Но в церкви очень удобно и уютно прятаться от жизни.
Даже интерес к апокалипсису у таких людей не бескорыстен: поскорее бы все закончилось, сколько можно ждать, сколько можно тянуть эту лямку постылого существования?
А кабы к утру умереть, Так лучше было бы еще.
За религией легко спрятаться от жизни. По своей природе религия консервативна, она должна хранить старину, поддерживать традиции. Человек, который не может себе простить, что он жив, комфортно устроится в религии, ведь она постоянно говорит о мире загробном, зовет все мысли и надежды направить туда, в тот лучший мир.
Что ждет там никогда не живших — это не самый горький вопрос. Куда важнее спрашивать себя сейчас, пока жив:
чего я ищу в Церкви — Христа или убежища от жизни?
Господь принимает всех. Даже если ты пришел под своды Его храма не ради Христа, а чтобы спрятаться. Я верю, что Бог рад даже такому гостю, и в Своем Небесном Царстве Он утешит и исцелит искалеченные души тех, кто Его не искал. В Его милосердии у меня нет сомнений. Нашему Богу можно доверять.
— Зачем же нужен разговор об этих прятальщиках?
— Чтобы избежать соблазна принять страх перед живым за сущность христианства. Религия — область сложная и туманная, а там, где много тумана, легко торговать подделками. Самодурство можно выдать за норму духовного руководства, лакейство за смирение, мазохизм за кротость, ненависть к людям за подлинную аскезу, тупость за святую простоту, безразличие за бесстрастие, «комсомольский задор» за ревность о чистоте православия, а боязнь жизни за отречение от мира. И эта ложь так удобна всем, что сами обманутые бодро становятся на ее защиту.
Ах, обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад.Только ведь вера — это то, за что люди идут на смерть. Умереть за Христа — благородно, это честь, которую надо заслужить. Но умирать за это?
Остерегайтесь подделок.
Зёрна коррупции
В системе богословского знания есть наука с умилительно-конфетным названием «амартология». Звучит, будто это учение о разведении фиалок или способах приготовления джема. Можно попробовать это слово на язык: «кафедра амартологии», «исследования в области амартологии», «научный прорыв в амартологии», а есть еще, наверное, «амартологический», «амартологично».
Чем занимается профессиональный амартолог? Амартология — это богословская наука о грехе, поэтому ученый-амартолог — это греховед, специалист в области греховедения.
— Веселая, должно быть, наука!
— Скорее трагичная, потому что это учение не о проступках человека, а о первородном грехе и его последствиях.
Ленивый молитвенник
Было время, когда вечерние молитвы я читал по английскому молитвослову. Дело не в любви к Британии, а в лени, в обычной лени: в этой книжечке молитв было значительно меньше, чем в нашем обычном Правильнике.
В вечернем правиле у меня есть любимая молитва — вторая молитва святого Антиоха «Вседержителю, Слово Отчее». В этом древнем тексте есть такие слова:
Иисусе, Добрый Пастырю Твоих овец! Не предаждь мене крамоле змиине, И желанию сатанину не остави мене, Яко семя тли во мне есть.Последняя строчка меня особенно волнует — «яко семя тли во мне есть» — то есть внутри меня живет зерно растления. «Тлеть» значит «гнить», «разлагаться». Каким бы ни был человек хорошим, в нем все равно обитает нечто опасное и разрушительное, живет как возможность, зерно, закваска. Проснется или нет — как повезет, как сложатся обстоятельства жизни, но оно все время там, внутри, его нельзя окончательно истребить, и каждый носит его в себе с рождения до последнего вздоха.
В английском варианте эта фраза звучит так:
for the seeds of corruption are in me.
«Во мне — зерна коррупции». Английское corruption имеет не только значение продажности или, буквально, коррупции, но обозначает порчу, гниение, разложение, например, разложение трупа — corruption of the body.
Святой Антиох назвал «семенем тли» то, что в богословии известно как последствия первородного греха. Это загадочная тема, как и сама история грехопадения, описанная в книге Бытие. В богословской традиции существует множество толкований того, что же произошло с Адамом в Эдемском саду. Для нас ясно одно: это трагедия, последствия которой переходят по наследству ко всем детям первого человека. Как взывает автор таинственной Третьей книги Ездры:
О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, Но и нас, которые от тебя происходим.
(3 Езд. 7:48)
Что это за падение? Не думаю, что кто-то до конца исчерпывающе может ответить на этот вопрос. Есть попытки описать первородный грех языком юриспруденции, как правовое преступление человека перед Творцом, есть версии, выписанные языком этики и даже психологии.
Святой Антиох был иноком монастыря преподобного Саввы Освященного; в своей молитве он открыл, как восточные монахи мыслили этот феномен. Для них грех был органическим повреждением природы человека, хроническим наследственным заболеванием, с которым рождается человек. Угроза этой болезни такова, что потребовалось Воплощение Создателя, чтобы спасти человеческий род от истребительного насилия этой заразы.
Естественно было бы предположить, что амартология — раздел этики. Ведь именно этика — это философская рефлексия по поводу нравственности и морали. Этик мыслит мир, поскольку в нем есть Добро и Зло. Однако тут все сложнее. У богословов все не как у людей.
Теология первородного греха — это не раздел этики, это ответвление богословской антропологии, учения о человеке. Для обычного гражданина антропология — это о черепах, костях, надбровных дугах, то есть вещах осязаемых, «трогательных». Богослов-антрополог занимается не нравами людей, а самой природой человека, и в этом учении для христианского мыслителя есть две отправные точки:
1) человек есть образ Божий;
2) человек есть поврежденное творение Божие.
Из второго пункта и растет амартология.
Как я могла?
Наш монастырь находится рядом с железной дорогой. Не самое удачное место для обители. Но есть и свои плюсы. Мимо церкви приходится идти не только пассажирам, но и самоубийцам. Представьте, в наше время есть еще люди, которые бросаются под поезд.
Как-то весенним деньком, когда наш сад белел от яблоневого цвета, я услышал возле церкви женский плач, такой надрывный и отчаянный, что просто вынимало сердце. Рыдала интеллигентная дама, которую я робко стал расспрашивать и утешать. Она тоже пришла ложиться под поезд, но струсила и пошла набраться храбрости в церковь. Она работает в школе, уважаемый учитель, потомственный педагог, ее ставят в пример, но теперь вся жизнь пошла прахом — попалась на взятке за какое-то сочинение.
— И зачем брала? И деньги-то глупые! Стыдно людям в глаза смотреть! Что скажет мама? Что будет с сыном? Я не хочу в тюрьму! И главное — как я могла?
И действительно — когда она успела стать коррупционером?
Как становятся коррупционерами?
У меня перед глазами множество портретов хороших людей, которые совершали жуткие поступки, неожиданные для самих себя. Человек полон сюрпризов. По наблюдениям Мити Карамазова, в каждом из нас невероятным образом уживается идеал содомский и идеал Мадонны. Но мудрость состоит в том, чтобы отдавать себе отчет — каким бы приличным человеком ты ни был, «семя тли» живет внутри тебя и до самой смерти не оставит в покое.
Проявляет себя «семя тли» внутренним конфликтом между двумя идеалами, которые описал Достоевский. Вот Медея мучается по Язону:
Желаю я одного, но другое твердит мне мой разум. Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь.
(Овидий. Метаморфозы. 7, 20)
Как это знакомо, не так ли? Стремлюсь к доброму, хвалю его, люблю всем сердцем чистоту, непорочность, святость, а тянусь к грязи, пороку, как зачарованный. Мне кажется, у апостола Павла эта «разодранность» выписана еще драматичнее:
Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех (Рим. 7:18–20).
И далее с отчаянным воплем:
Бедный я человек!
Кто избавит меня от сего тела смерти? (Рим. 7:24).
Почему апостол, рассуждая о грехе, поминает смерть? Потому что это «семя тли» есть воля к самоубийству, к небытию. Грех — это болезнь к смерти, как говорил другой апостол. В грехе человек самоубивается, и дело не просто в поступке — в самую сущность человека внедрена какая-то таинственная сила, что сладострастно влечет его к смерти. И трудность в том, что эта болезнь не операбельна. Можно бы вырезать, но что?
Грех — это болезнь свободы. Мы ведь не можем обвести мелом свободу и сказать: вот это она и есть, красавица, я ее по синим глазкам узнал. Свобода — это не «что», а «как», это способ существования, и однажды свобода в человеке «заболела», и «зараза» стала передаваться по наследству.
Ночной сеятель
Читаем Евангелие от Матфея. Некий человек посеял доброе семя, а ночью пришел враг, рассыпал между пшеницей плевелы и удрал. Когда взошла зелень и уже показался плод, пробились и сорняки. Люди стали удивляться и довольно резко спрашивать хозяина:
— Разве ты не пшеницу сеял? Откуда тут плевелы?
— Это сделал враг человека.
— Если хочешь, мы все повыдергиваем.
— Нет. Станете дергать сорняки — повредите пшеницу. Когда придет время жатвы, пусть жнецы соберут плевелы, свяжут в снопы и сожгут, а пшеницу уберут в житницу (Мф. 13:24–30).
Эта притча предупреждает наши недоумения:
откуда во мне «семя тли», если Бог сотворил все так хорошо?
почему от этой болезни страдаю я, получивший это в наследство?
неужели нельзя эту заразу как-то нейтрализовать, выдернуть из меня?
«Семя тли» — загадочная болезнь, о которой мы не всё знаем. Именно по этой причине все, что нам говорится, сообщается языком образов. Первородная порча не предопределяет мои поступки, это некий раскол внутри меня, склонность, диссонанс, но с этим можно жить, если научишься постоянно противостоять болезни.
Зрение греха своего
Откройте первые главы Бытия и почитайте историю падения Адама. Целые полки книг написаны, чтобы уяснить, что же тогда произошло, но исчерпать этот вопрос мы не сможем, поэтому даже прозорливые люди, размышляя о «семени тли», говорили языком образов. А святым людям открывалось многое.
Одно из духовных упражнений, за которое брались опытные подвижники, называлось «зрение греха своего». Это подвиг далеко не для всех, и понять его суть могут не многие, потому что это упражнение выполнялось под надзором опытного руководителя, который сам был научен своим учителем и прошел все подготовительные ступени. Видимо, преемственность прервалась, и теперь мы можем только догадываться, что же созерцали старцы.
Мне кажется, эти святые люди по мере очищения от власти страстей постепенно проникали в своем созерцании в самые глубины человеческой природы, где все наши «корни» сплетаются в единый организм Всечеловека. Мы даже не подозреваем масштабов этой порчи. Нам эта трагедия открывается лишь частично, потому что мы беспечно парим в своей ежедневной эмпирии и не знаем, что есть еще неоткрытые «этажи» человеческой природы, которые настолько больше меня эмпирического, как подводная часть айсберга больше открытой верхушки. Старцы видели всё. Поэтому плакали в своих пустыньках, проливали свои священные слезы над истерзанным болезнью человечеством.
«Семя тли» для нас тайна. Нам дано лишь знать необходимое, но самое важное.
Предупрежден — значит вооружен!
Первое: не надейся на свою праведность. Каждый, даже самый приличный человек носит в себе «семена тли», поэтому я постоянно перечитываю «богословский трактат», написанный Борисом Заходером, как напоминание о мне самом:
Слоненок сказал, Увидав человека: — Да это же просто какой-то калека! У бедной, Бескрылой, Бесхоботной мошки Оторваны обе Передние ножки! А мама Сынишку Похлопала хоботом И проговорила Внушительным шепотом: — Обманчива, милый, Наружность убогая. Способно на многое Это двуногое!Второе: греху нужно противостоять постоянно. Быть хорошим очень тяжело. Это ежедневный труд. Все наши духовные упражнения направлены на то, чтобы быть готовым к неожиданным сюрпризам скрытой и опасной болезни.
Одна моя приятельница каждый год отправляла сына в санаторий.
— Особых изменений я не чувствовала, и как-то сын на оздоровление не поехал. Вот тогда я и почувствовала, как ему нужно было это лечение: всю зиму провалялся.
Духовные упражнения, которыми мы себя поддерживаем в форме ради противодействия нашей наследственной хвори, очень просты, но они требуют постоянства и навыка. Это реальная борьба «даже до крови», жесткая и опасная.
Третье: мудрость милосердия, «милость к падшим». Наши великие старцы, погружаясь в «зрение греха своего», выносили из этого подвига глубокое милосердие к людям и грешащим, и кающимся. И это, может быть, самый важный урок из всех рассуждений о зернах коррупции:
мера мудрости есть мера снисходительности.
Гороскоп для епископа
Моя приятельница гадает на Бродском. Берет пухленький томик в зеленом переплете, зажмуривается и открывает наугад, чтобы ткнуть в случайную строчку. И так привыкла, что даже из дому без Бродского не выходит.
— Ты должен попробовать. Все открывается. Все тайны. Вот, загадай что-нибудь.
Смеюсь и соглашаюсь. Мелькает пророческий переплет. Читаю:
С риском быть вписанным в святотатцы, Стану просить, чтоб расширить святцы.— Вот видишь! Тебе как батюшке свое открылось. А что бы это значило? Ты понял?
Не отвечаю. Просто хохочу. А моя впечатлительная гадалка решает убрать Бродского в бархат. Из благодарности и благоговения.
— Чтобы как Библия — священно и трепетно. Нормальный священник должен был обличить, а мне просто смешно. Страсть людей к гадалкам и прорицателям — милая забава, если этим не увлекаться всерьез. Гадания можно терпеть, если их помещают в разделе «Юмор». Почему бы не посмеяться? Мы в монастыре иногда читаем гороскоп — исключительно ради смеха, потому что знаем, что в нашем городе эти тексты составляют профессиональные психологи, для которых газетные пророчества — одна из возможностей поднять людям настроение, а иногда и правильно мотивировать.
Особенно забавно читать гороскопы начальства. Например, ваш митрополит — Лев, и тут пишут, что в начале недели Львам придут новые идеи и неодолимое желание путешествовать. Едва сдерживая смех, узнаем, что владыка действительно решил поездить по приходам, фонтанируя замыслами и смелыми проектами.
— Это звезды так предсказали?
— Нет. Просто грамотные психологи, которые умеют ловко жонглировать общими фразами, чтобы развлечь и отвлечь людей. Это не пророчество. Просто шутка.
Православному человеку гадать по Бродскому — страшный грех, который и на исповеди не скажешь, так стыдно. Поэтому гадают на Евангелии, предварительно помолясь и выпив три стакана святой воды — иначе не сработает.
— А это разве не безобразие?
— Ну, я же не просто так! Я волю Божию хочу о себе узнать.
Воля Божия! Это уже серьезно. Тут пусть умолкнет всякий критик.
Стоит ли идти в аспирантуру? Купить ли акции «Газпрома»? Жениться ли на этой черненькой или вон на той беленькой из третьего подъезда? Продавать ли дачу под Ниццей? Идти ли на операцию? Соглашаться ли на эту роль? Не пора ли постричься?
Миллион вопросов! И в каждом можно погрешить, пойти против Божьей воли!
Поэтому разумные люди не по Библии гадают, а ищут надежных старцев, проверенных в деле, с хорошими рекомендациями. Приходские батюшки счастливы, потому что ни один здравомыслящий священник не хочет попасть в оракулы.
— Какой же вы батюшка? Вы мне вчера благословили помидоры сажать, а ночью — мороз! Всю ночь пробегала, кустики в газеты кутала! Как вам не стыдно?
Не открылась отцу воля Божия о помидорах! Видно, осуетился батя, правило не дочитал!
Нет ничего хуже, чем анатомия юмора. Но здесь без нее не обойтись.
Почему мы смеемся над фразами «гороскоп для епископа», «воля Божия о помидорах»? Потому что мы сводим в одном высказывании вещи несопоставимые. Оттого и смешно. Этим кормится вся юмористическая литература. Однако важно заметить, что воля Божия и помидоры — такие же несводимые вещи, как и воля Божия и квартира, аспирантура, дача под Ниццей, женитьба, акции и операции.
— Но разве мы не верим, что Господь благословляет каждую мелочь нашей жизни, каждый незначительный ее момент, вплоть до того, что Он радуется, если у нас получился пирог, или удачно подошли обои, или родились очаровательные котята? Почему бы Ему и о помидорах не позаботиться?
— В этом и парадокс. Наш Бог-Человеколюбец — я в этом уверен! — радуется каждой нашей радости и оплакивает всякую нашу утрату, вплоть до продрогших помидоров, но воля Божия — это о другом.
Чего Бог хочет от человека? Чтобы он был святым? Чтобы мы соблюдали заповеди? Чтобы мы после смерти восполнили число падших ангелов?
Господь любит нас бескорыстно. Ему от нас ничего не нужно. Воля Божия о человеке — это то, что лежит в самой основе нашего бытия. Мы крепко запомнили слова Спасителя:
Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14:6).
Христос — путь, Христос — истина, но самое главное для нас — Христос есть Жизнь, и Его Воплощение имело одну цель:
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10:10).
Сотворенный мир начал увядать, потому что главная особенность греха — он убивает живое. И вот Творец приходит, чтобы насытить состарившийся мир Своей Жизнью.
Воля Божия о человеке заключается в одном-единственном повелении:
БУДЬ!
Господь хочет, чтобы мы были. Он бескорыстно дарит нам возможность быть, потому что это невозможно как хорошо — быть! Он хочет видеть нас живыми. Мы часто поминаем Десять заповедей, но забываем, что самой первой заповедью было плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте… (Быт. 1:28). Смысл этой первобытной заповеди и заключается в одном слове — будь!
Быть — хорошо! И Господь просто хочет, чтобы каждый из нас приобщился этой невероятной полноте и радости бытия. В этом и есть воля Божия о человеке. Живое право тем, что оно живо. Жизнь — самый удивительный дар. Бог щедро и расточительно раздает этот дар всему сотворенному.
Главная заповедь — будь! Все остальные — чтобы защитить живое, и для нас важно, что Десять заповедей даны не отдельному человеку, а народу — здесь подсказка для нас, потому что каждый из нас — не сам по себе, он — часть большого дерева, и мое добро, как и мое зло, благословляет или отравляет жизнь всему всечеловеческому организму.
Человек — особое существо в этом мире. Он — пророк и священник Божий для всего сотворенного космоса, поэтому ему и дано право владеть, а значит, не только заботиться о сотворенном мире, но и отвечать за него перед Богом.
Под угрозой любви
Вот вам сюжет, от которого должно таять сердце: он ухаживает за ней, дарит ей подарки, окутывает знаками внимания; им весело вдвоем; бейсбольный матч, он достал билеты; тысячи зрителей, острый момент, ликование трибун; и тут она видит себя на большом экране — все камеры на них, он опускается на колено и протягивает ей миленькую бархатную коробочку с чудесным перстнем; публика умиленно вздыхает, дамы не в силах сдержать слез.
Какая пошлость! В присутствии посторонних людей шантажировать девушку! А если ей надо подумать? А если она не готова? Но для нее так же невыносимо обидеть этого славного парня, который все так красиво устроил. Зачем все это?
Знойная Клава
О том, что Бог меня любит, мне сообщила знакомая баптистка. Мое православное сердце кипело от негодования:
— Как такое могло прийти в голову? Чему там учат у этих протестантов?
Исходя из своего двухгодичного церковного опыта и консультаций с богословски подкованной старушкой Лаврентьевной, я лично анафематствовал опасное заблужденье. К тому же лицо у этой проповедницы было такое масленое и голос такой приторный. Где-то я уже видел такие лица. Ничего доброго эти сладкие речи не сулят.
В школе я подвергался жестоким преследованиям. К сожалению, не из-за веры. Особенно мне доставалось от одноклассницы, которую я про себя называл «Клава». Силы были неравны. Клава была на голову выше и, думаю, раза в три больше, а я был маленький и, как у нас говорят, дробненький. Приходилось спасаться сложными маневрами или благородным бегством. Она была отчаянно влюблена в меня, и это было очень страшно.
Ужас! Ужас! Ужас! Эти три понятия как нельзя лучше описывают мое состояние, когда я увидел Клаву в пионерском лагере. Охота началась! Целью было «загнать дичь» в угол, глядеть с умилением и плавиться, повторяя:
— Ну, Ди-и-ма-а-а! Я тебя так люблю-ю-ю! Дава-ай дружить!
Да, у меня было трудное детство!
И после такого кошмара я снова слышу, что кто-то меня любит без моего ведома, и это почему-то должно приводить в восторг. Кто-то, кто гораздо больше и сильнее, ставит меня перед фактом: я тебя люблю. Мне это показалось не только фальшивым и наигранным, но и возмутительным: меня снова преследуют своей любовью, хотя я никого ни о чем не просил, и мое мнение никого не интересует.
Правильная Роулинг
На протестантской церкви повесили гигантский плакат: «Бог любит тебя таким, какой ты есть!» Всякий раз, проходя мимо, я чувствовал, как во мне просыпается некто Афанасий Фет. У этого поэта была привычка, проезжая мимо Московского университета, останавливать кучера. Фет открывал окно кареты и торжественно плевал в сторону университетского здания, а потом продолжал поездку в улучшенном настроении. Не знаю его мотивов, но тогда эта надпись на церкви казалась мне самым верхом пошлости и лицемерия.
Претензии к этому лозунгу есть и у атеистов: — Как же! Любит! А Освенцим? А дети Африки? А Чернобыль? Это такая у Бога любовь?
Для меня здесь никогда не было проблемы, и все эти фразы мне тоже кажутся пошлостью. На эту тему написано множество книг, но для меня вся глупость этих претензий становится очевидной, если на место «подсудимого» Бога и Творца поставить, скажем, Джоан Роулинг.
Она автор книг о Гарри Поттере. Она создала его мир, его судьбу и подвергла и мальчика, и его близких всем тем испытаниям, о которых мы хорошо знаем. Смерть Дамблдора на ее совести. И не только добрый профессор, но и родители Гарри, и зверски замученные отец и мать Долгопупса, и многие другие — за все ответственна одна только Роулинг. Однако ты никогда не станешь хорошим писателем, если не в состоянии принести боль и страдание своему герою. Древние греки уверяли, что прекрасное трудно, и если ты хочешь научиться играть на гитаре, будь готов к боли в пальцах. Писателей-чистоплюев никто не знает, потому что они не писатели. Может, надо было вот так:
в одной английской семье, обеспеченной и благополучной, родился здоровый и талантливый мальчик, который с самого детства был окружен любовью и заботой; у него были чудесные друзья, и он учился в престижной школе, а потом удачно женился на прекрасной однокласснице и у них родились здоровенькие детки, и добавить к этому нечего, настолько все было весело и безопасно.
Думаю, не только читатели захотели бы расправиться с автором этой «сладенькой саги», но и среди персонажей созрел бы заговор. Бог — Автор этого мира, и Ему одному видна вся картина, нам же остается только догадываться о Его замыслах и сюжетных поворотах.
Итак, не претензии чувствительных атеистов поставили меня в число борцов с известным лозунгом.
Латентный исламист
Почему в семнадцать лет я воевал против этого плаката?
Во-первых, по причине латентного исламизма. Сейчас я пытаюсь понять, как я верил, во что верил, кто я был по своим взглядам. Как определить религиозные взгляды моей юности? Отвечу так: православный ислам.
— Даже самому страшно такое читать! Пишу и удивляюсь!
И это чистая правда! Оказывается, вера — это процесс. Она находится в постоянном развитии. Как ни странно, верующий человек живет в непрерывном движении внутреннего развития. Вера — это не факт, а движение, не статика, а динамика. Невозможно просто поверить и успокоиться. Если ты не двигаешься, не развиваешься, не открываешь новые глубины и высоты, что-то идет не так.
Поэтому полезно спрашивать себя: если ты веришь в Бога, какое из Имен Божиих для тебя сейчас самое дорогое, самое важное? В семнадцать лет Бог для меня был Правдой и Справедливостью, а также Силой. Я знал, что Он может наказывать и миловать, и этим очень восхищался. От меня требовалась верность и покорность, и если бы пришлось умирать за Бога, я был готов.
Но Бог для меня был далеко. Гораздо ближе были «старшие товарищи» — святые подвижники, аскеты и мученики, житиями которых я зачитывался. Надо соблюдать заповеди, не важно почему. Бог так хочет. Да хотя бы потому, что можно попасть в ад; я ходил под впечатлением «Мытарств Феодоры» и тщательно выписывал на исповедальный листочек все возможные погрешности и мысли, тянущие на «загробный срок».
Конечно, я читал Евангелие, потому что положено в день прочитывать одну главу, но Бог-Любовь впервые обозначился именно на исповеди. Прочитав «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», я решил исповедоваться по рекомендациям этой книги и начал:
— Каюсь в том, что не люблю Бога…
Мой духовник даже подхватился:
— Не любишь Бога? Что Он тебе сделал?
И этот вопрос мгновенно меня отрезвил. Почему-то сразу стало понятно, что все мои любимые преподобные жили любовью к Богу, их лица светились глубоким целомудрием любви. Но это было так не похоже на эмоциональную взвинченность, которая меня отпугнула у протестантов.
Есть истины, о которых Христос не говорит напрямую. Мне кажется, основа христианской религии — добродетель благодарности. Помните, как похвалил Спаситель благодарного самарянина, вернувшегося поблагодарить за исцеление от проказы? Десять было исцелено, и только один пришел сказать спасибо. А ведь Христос не давал такой заповеди. Да и как бы это звучало из уст Творца: будьте благодарны! Господь не говорит того, что за Него должны сказать апостолы. «Бог есть Любовь» — это слова не Христа, а его ученика, апостола Иоанна. О Своей любви к людям Бог говорит иначе. Здесь не помогут слова. Поэтому у нас перед глазами стоит Крест. И мы молчим.
Безглагольный богослов
«Бог любит тебя таким, какой ты есть!» Прошло столько лет, а я по-прежнему считаю этот слоган пошлостью, а аргументы в его защиту слабыми. Я редко думаю об адских муках, но для меня они не черти со сковородками, а обязанность слушать проповедника-зануду, целую вечность вещающего о любви Божией. Это самая жуткая из казней, придуманных людьми!
О любви может говорить только тот, кто имеет на это право. Это высший пилотаж речи, для которого требуется сердце поэта. Упомянутый Афанасий Фет написал одно из самых удивительных стихотворений о любви:
Шепот, робкое дыханье. Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья. Свет ночной, ночные тени, Тени без конца. Ряд волшебных изменений милого лица, В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря, И лобзания, и слезы, И заря, заря!..Найдите в этом тексте хотя бы один глагол. Ни одного! «Безглагольный Фет» — так называли поэта знатоки его творчества. Он нашел верную тональность для разговора о любви, а любовь — это самое святое в человеке, а потому и самое уязвимое для пошлости и подделок.
Евангелие — откровение о Боге-Любви, о Боге-Человеколюбце. Самое главное, что мы знаем о Боге. Перед богословом и перед рядовым христианином всегда стоит вопрос: как сказать об этом, как донести евангельскую весть, не опошлив ее, не превратив Христа в Иисусика? Блаженный Августин, преподобный Симеон, старец Силуан и многие другие находили и нужные слова, и верные интонации, но для каждого времени, для каждого человека они свои, а значит, невозможно создать универсальный язык проповеди, он должен изобретаться всякий раз заново. И главное — честность перед самим собой.
Одно из моих духовных упражнений — отвечать себе на вопрос: какое из имен Божиих для меня самое важное? Сегодня это имя — Творец. О Творце я и говорю. И молчу о Любви.
Откуда доброта за оградой Церкви?
Философы элейской школы отрицали возможность движения. По правде говоря, мысль их была сложнее, но как бы вы себя повели, если бы нашелся умник, убедительно доказывающий, что быстроногий атлет не только не догонит черепаху, но даже с места не сможет тронуться, поскольку это логически невозможно? Всякий нормальный человек развернулся бы и ушел и тем самым опроверг сомнительную теорию. Так и у Пушкина:
Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить; Хвалили все ответ замысловатый.Этот аргумент в классической философии называется «ткнуть носом» (не помню, как это по-латыни). Применяется он с большим успехом, хоть и является до сих пор недостаточно исследованной проблемой философской логики.
Один ирландский епископ по имени Джордж Беркли (по-православному владыка Георгий) так увлекся борьбой с обнаглевшим материализмом, что написал диалог, в котором постулировал, что никакой материи вообще не существует, нет материальной субстанции, нет никакого материального мира, только мир духовный, то есть Бог.
Кто дерзнет возразить такому тонкому мыслителю, да еще и архиерею? Некто Сэмюэль Джонсон, эсквайр, большой спорщик и правдолюб, возмутился выводами преосвященного и со всей силы пнул ногою камень, возгласив «историческим голосом»:
— Я опровергну это вот так!
И снова был использован аргумент «ткнуть носом», правда, в несколько новаторской манере.
Когда благонамеренные христиане начинают рассуждать о том, что вне Церкви невозможны истинные добродетели, обязательно найдется какой-нибудь «эсквайр», который укажет на конкретный и живой пример из жизни, на известного ему человека, добродетельного, но при этом не религиозного, чем поставит в неловкое положение оппонента. И за это надо сказать спасибо, поскольку «ткнуть носом» — это одно из эффективнейших духовных упражнений.
Последний язычник
У Джека Лондона есть чудесный рассказ «Язычник». Это история дружбы Чарли и Отоо. Два совершенно разных человека: белолицый и чернокожий, христианин и язычник с острова Бора-Бора. Отоо неоднократно спасал жизнь своему юному другу, и, что более важно, по признанию Чарли, именно Отоо сделал его приличным и уважаемым человеком. Язычник вырастил из лихого бродяги достойного гражданина, мужа и отца. Отоо был верным другом и ненавязчивым педагогом, настоящим ангелом-хранителем, и его забота была совершенно бескорыстной. После его смерти стало известно, что все свои сбережения он оставил Чарли. И умер он, спасая друга. Отоо был на корабле, когда лодка с Чарли перевернулась в заливе, кишевшем акулами. Чтобы спасти друга, Отоо бросился в воду, отвлекая акул. И погиб. Это была его последняя и добровольная жертва.
Мы говорим о литературном произведении. Однако в жизни можно найти массу похожих историй и о благородных нехристях, и о подлых христианах.
— Отоо был хороший человек?
— Да.
— Но ведь он не был крещен. Как такое возможно — бескорыстная доброта и язычество?
— Возможно. Потому что поля религии и нравственности не совпадают.
Ничто так не обижает христиан, как наличие хороших людей за оградой Церкви. Однако факты — вещь упрямая. Доброта, совестливость, отзывчивость и самопожертвование не знают конфессиональной принадлежности. И это как-то надо объяснить.
— Все их добродетели пропитаны гордынькой и тщеславием. Не надо обольщаться добротой «по стихиям мира сего». Они не добрые, а «добренькие». Все, чтобы понравиться и обольстить.
— Значит ли это, что религиозная гордыня и высокомерие более угодны Богу, чем надменность неверующих?
Временами так и хочется крикнуть в голос:
— Товарищи! Почему вы так плохо думаете о Боге?
Неужели вы не знаете, как много негодяев среди людей религиозных? Почему так происходит? Почему жизнь ломает наши красивые и удобные богословские схемы о нравственности верующих и аморализме людей нецерковных? Как объяснить наличие примеров высокой нравственности среди людей светских и безнравственность воцерковленных?
Бастионы морали
Мы вчитываемся в «богомольные книги» и видим, что никакого добра за церковной оградой быть не может. Если что-то доброобразное попадается, то это все нечисто и соблазнительно. Но все наши стройные конструкции рассыпаются при появлении Отоо из соседней квартиры — нецерковного, но надежного, щедрого, доброго.
Читаю письмо воспитателя детского сада:
«У меня в группе два мальчика одного возраста. Один из церковной семьи, другой из неверующей. Оба равной одаренности и одного уровня развития. Один регулярно ходит к Причастию, молится перед вкушением пищи, второй растет среди людей нерелигиозных. И как вы думаете, кто из них честнее, добрее, душевнее?»
Ответ очевиден. Я просто должен его подтвердить. Но на самом деле я не знаю. Религиозное воспитание вовсе не гарантия нравственного поведения.
Один покойный англичанин по имени Дэвид Юм всякий раз настораживался, если ему говорили о верующем человеке, поскольку считал, что среди религиозных людей невероятно много негодяев.
Уважая покойного, тем не менее с ним не соглашусь. Думаю, что недостойных людей приблизительно поровну по обе стороны церковной ограды. Почему? Потому что поля религии и нравственности не совпадают. Религия не делает человека подлецом, но и не гарантирует ему статус бастиона морали.
Воцерковленность не есть гарантия нравственности. Религиозный не значит нравственный. Это не синонимы. Церковные люди имеют не больше прав на мораль, чем нецерковные, однако мы привыкли сферу нравственности считать своей монополией. Это заблуждение. Единственное, на что верующие имеют права, — это область Закона Божьего, тех моральных ориентиров, что зафиксированы в Писании, но ими не исчерпывается область морали, и они не дают нам право полагать, что нравственность обитает только в Законе.
— Как же нам быть?
— Прежде всего, смириться. Говорят, это очень полезно.
В тени белых роялей
Апостол Павел в Послании к Римлянам пишет, что у язычников есть свой закон, который написан в сердце. Голос этого закона — совесть (Рим. 2:15). Этот естественный закон живет и в сердце религиозного человека. Просто кроме него у нас есть «подсказка», которая помогает отличать добро от зла. Эту «подсказку» мы и называем Законом. Однако это преимущество не дает нам основания считать себя нравственнее людей нецерковных.
Наличие в вашем доме белого рояля еще не делает вас выдающимся пианистом. Навык музыканта требует постоянной работы, терпеливого усилия и подтверждения. Нравственность тоже требует ежедневных упражнений. Об этом читаем у апостола Павла. Называет он этот регулярный труд «постоянство в добре» (Рим. 2:7).
Если поля религии и нравственности не совпадают, значит, мы должны тратить усилия и на религию, и на нравственное развитие, укреплять тот закон, что написан в нашем сердце, сверяя его с Законом Божиим.
Нравственный закон живет в сердце абсолютно любого человека. Это наш «параллельный мир», в который нет доступа кошкам, мир добра и зла. Этот закон называют естественным, потому что человеку, сотворенному по образу Божию, естественно быть добрым, и даже скажу больше, ему естественно быть святым. Эту потребность в доброте и святости невозможно в человеке истребить, хоть многие века мы и пытаемся это сделать. Если этот закон — общечеловеческое достояние, то христианину не зазорно брать уроки и у людей светских, даже у язычников, ведь мы не вере у них учимся, а тому, в чем они преуспели. Подобным образом гитарист берет уроки у мастера, не спрашивая о его философских взглядах, перенимая лишь полезные навыки и приемы.
Зерно доброты и святости требует постоянной заботы и труда. Бывает, что у человека все силы уходят на религию, так что на попечение о нравственной жизни уже ничего не остается. Молитва, чтение Писания, посещение храма, участие в таинствах — важнейшие моменты нашей религиозной жизни, но они не обязательно делают нас добрее, честнее, надежнее. Внутрицерковные духовные упражнения способствуют духовному росту, но он связан с нравственностью лишь косвенно. И даже более: нравственно недоразвитый человек не сможет воспринять те духовные дары, которые дает Церковь.
Душевное и духовное
Опыт нравственности — опыт всечеловеческий. Это поле универсальной духовности. И очень важно, чтобы градус нравственной жизни совпадал с градусом жизни религиозной.
— Зачем нам, христианам, эта универсальная духовность? Ведь это на самом деле и не духовность, а душевность, которую порицали апостолы.
— Даже тонким лингвистам и богословам не всегда понятно, что имеют в виду апостолы, употребляя термины «духовный» и «душевный». Это зависит и от культурно-исторического контекста времени, и от аудитории, и просто от ситуации.
Откуда взялся этот раскол, это странное разделение на духовность религиозную и универсальную? В нас живет память древних предков, которые жили в пространстве единой духовности, когда всякая человеческая активность — в политике, экономике, искусстве, общественной жизни — имела религиозную санкцию. Мир наших предков был простым и понятным, и к этой простоте мы тоже интуитивно стремимся, не только верующие, но и светские люди. Но случилось одно событие, которое навсегда и принципиально разделило единый мир на две области: в небольшом палестинском городке родился Бог, и все стало сложно.
Духовность, о которой говорит Церковь, — дар нетварной благодати, дар Духа Святого, «энергия» не из этого мира. Люди духовные в церковном смысле — это духоносцы, стяжатели «нетварного света». Источник этой духовности по ту сторону сотворенного мира.
— Вот мы и должны заботиться о стяжании Духа, а не о «тварной духовности».
— Если помните, явление Духа Божия в момент крещения Иисуса было в видении голубя, а это древний библейский символ. Первое появление голубя в Писании связано с историей Ноя и его ковчега.
Современники Ноя погрузились в какое-то нечеловеческое нечестие, в скверну греха, о которой даже Библия стесняется говорить. И все живое погибло под толщей воды. Чтобы узнать, не просохла ли земля, Ной выпускает из ковчега голубя:
Но голубь не нашел место покоя для ног своих
И возвратился к нему в ковчег
(Быт. 8:9).
Это не просто история о находчивости Ноя. Здесь есть и духовный смысл.
Не мерою дает Бог Духа (Ин. 3:34).
Дары духовные даются каждому из нас, но этому Голубю Нетварного Мира негде «присесть» на нашей затопленной страстями душе. Его отпугивает всякая грязь, жестокость, злоба, зависть, невнимательность, небрежность, грубость. Не находит он покоя для ног своих. Поэтому и верующим необходимы усилия в области универсальной духовности. И средства здесь должны быть соответствующие. Вежливость и такт — это результат навыка, духовного упражнения, но их нельзя воспитать чтением акафистов и земными поклонами, эти средства хороши для других целей.
Если кто-то при мне говорит, что он знает, чего хочет Бог, меня охватывает бессознательное желание подальше спрятать острые предметы. Религия — оружие, которое опасно доверять людям нравственно ущербным. Когда на орбите стыкуются два космических корабля, они некоторое время ждут выравнивания атмосфер. Давление в обоих кораблях должно быть одинаковым. Это вопрос безопасности и выживания. Так и в жизни духовной требуется деликатное равновесие между универсальной и религиозной духовностью.
Самое страшное, что можно представить, — это когда религиозное рвение охватывает человека нравственно недоразвитого и ущербного. Так рождается фанатизм, а жестокость и бесчеловечие получают религиозное обоснование. Ничего уродливее люди еще не придумали. А потому верующему человеку нужно быть внимательным к своей духовной жизни вдвое, не позволяя себе бросать надменные взгляды за церковную ограду.
Благородная нетерпимость
Семья из Эфиопии перебралась в Израиль. Папа, мама, два братика и сестричка. Африканские иудеи. Однако после переезда случилось несчастье, и дети остались сиротами. Одно из израильских изданий написало о судьбе негритят в надежде, что найдется семья, которая возьмет сразу троих — не разлучать же деток! В первый день публикации в редакцию обратилось шестьсот семей — и мне хочется выделить это красным, синим, зеленым, фиолетовым и поставить сотню восклицательных знаков, так я впечатлен! Еще раз эти цифры: шестьсот семей в первый день захотели взять себе сразу троих детей! Чужих немаленьких детей другой расы! И для службы опеки главной проблемой стали не дети, а необходимость выбора среди такого количества желающих.
Это не чрезвычайная ситуация или результат активной пропаганды. Рядовая израильская история. Просто для евреев дети — самое ценное и самое дорогое. И дальше, наверное, должны следовать слезные восклицания: «не то что у нас», «что у нас за страна такая», «живут же люди». Но я не клинический диссидент и не желчный критик, а Израиль мне симпатичен не только потому, что я из Гомеля. Хорошая у нас страна, и люди у нас хорошие. Просто у нас другой климат. У нас холодно, и реки зимой сковывает лед. Но страны отличает не только температура воды и рельеф местности, и люди дышат не только воздухом. Жизнь человеческого сообщества определяется еще одним климатом, который называется нескладным словом «мораль».
Туман морали
Изобретателем морали считают Цицерона. Точнее, он придумал слово. Надо было как-то перевести на латынь греческий термин ethos, означавший «в отношении характера, стиля жизни, поведения, нрава». Так в цицероновском трактате «О судьбе» впервые появляется свежеиспеченное слово moralis, которому предстояло проделать долгий путь в истории европейской мысли, приобретая и теряя на этом пути разные значения и контексты.
Для советского школьника это слово чаще всего означало некий урок, вывод, как в басне Михалкова:
Мораль сей басни такова: Иной ярлык сильнее льва!Кроме популярного значения, этот термин имел и свою особую эмоциональную окраску: мораль — это нечто скучное, надоедливое, назойливое, избитое и затасканное. В юности часто слышал, а иногда и сам говорил: «Не читай мне морали». Не будет преувеличением сказать, что нормальные люди вообще это слово не любили и не любят, и не только потому, что оно навевает зевоту и образы старых дев.
Люди порой склонны мстить словам за то, что они не в состоянии передать то значительное, на которое должны указывать. Это значительное настолько велико, что, какое бы слово или образ вы ни взяли, каждое будет не впору и очень быстро «засахарится», станет помехой, постылым посредником. Так случилось со словами «любовь», «добродетель», «благочестие», «дружба», «нравственность» и многими другими. Любое из них указывает на важнейший, жизненно значимый для человека опыт, но из-за частого и неверного употребления слова становятся приторными, лживыми. И без них сложно, и с ними противно — вот мы и мстим словам за наши личные промахи.
Очень часто «мораль» употребляется как синоним слов «этика» или «нравственность», и это вполне корректно. Однако я имею полное право на некое авторское своеволие, поэтому позволю себе нагрузить эти термины разным значением. Нравственность — это закон добра и доброты, который естественно присущ каждому человеку. Мораль — это нравственность, только уже не в личном, а в ее общественном измерении, нравственность человеческого общества, единого общечеловеческого организма. Нравственность — личное измерение морали, мораль — общественное измерение нравственности. Этика — философская рефлексия по поводу морали и нравственности.
Для меня мораль и нравственность — это пространство бессознательных этических реакций человека и общества. Когда эти реакции осознаются, рефлексируются, отражаются в сознании, они становятся этикой. Этика — это мораль и нравственность, отраженная в области сознания. Этика — это мораль и нравственность, ставшие предметом мысли, обобщения, анализа.
— Ну вот! Начались «морали»!
— Куда же без них?
Это сильное и, возможно, не очень корректное упрощение, но без него никак нельзя, потому что оно имеет отношение к жизни, и вот с какой стороны.
Ручки трудовые
Мораль — это нравственный воздух общества, атмосфера, в которой мы живем и движемся. Мы не просто «дышим» моралью, но и мораль «дышит» нами, она ставит границы, задает характер поступков, допустимых реакций и общественных навыков. При этом только единицы имеют желание изучать этот «воздух», подвергать сомнению его границы, сопротивляться ему, влиять на него, освежать атмосферу.
Воздух морали изменчив, и я хорошо помню время, когда дышалось по-другому. Атмосфера, в которой прошло мое детство, — это кислород советской морали. Лучшим описанием химического состава, которым мы дышали, была песня, озвученная бодрым голосом Толкуновой:
Жила к труду привычная Девчоночка фабричная, Росла, как придорожная трава. На злобу не ответная, На доброту приветная, Перед людьми и совестью права!Люди, которые пели такие песни, больше всего ценили правду и справедливость, поэтому честность была одной из высших добродетелей. Это были люди идейные, но при этом — люди труда. Они действительно крепко трудились, и у меня перед глазами их честные рабочие руки. Как-то наша соседка рассказывала моей маме, как забраковала жениха:
— У него руки, как у девчонки, белые, гладкие — аж противно!
Человека оценивали по рукам! Причем жили не по заветам ленинской морали, она была чем-то абстрактным, жили так, чтобы было по-людски — вот то самое слово!
Перед людьми и совестью права.
Записки адвоката
Давно замечено, что русские люди не любят читать юридические документы. Это пытка для рядового человека! Нам ближе и понятнее решать вопросы по-людски, а это и есть этика естественного закона, написанного в сердце, о которой говорил апостол Павел в Послании к Римлянам, закона, который говорит голосом совести — к ней советский человек и апеллировал. И что самое удивительное, к ней апеллирует и Христос, когда описывает Страшный суд в знаменитой 25-й главе Евангелия от Матфея.
Это описание для нас тем более важно, что его озвучивает непосредственно Сам Судья, а Он говорит, что спрашивать будет не о вероисповедании, расовой принадлежности, политических взглядах, эстетических пристрастиях, и, более того, Он не будет судить по кодексу Десяти заповедей, что есть совершенный скандал! Трибунал самый простой: голодного накормил? Жаждущего напоил? Бездомного приютил? Больного посетил? Это все можно заменить вопросом: ты поступал по-людски, по-человечески?
Христос будет судить не по библейским законам — ни по ветхозаветным, ни по новозаветным, ни по церковным канонам. Он взывает к естественному закону нравственности, написанному в сердце каждого человека. Однако даже нравственно одаренный человек не может не дышать тем воздухом морали, которым дышит его окружение.
При всех достоинствах советской морали, она накапливала свои яды, и однажды их стало так много, что люди буквально начали задыхаться в этой атмосфере.
Мораль — это сфера поступков, их оценки, терпимости к пределу допустимого и порицания недопустимого.
Однажды я исповедовал одну даму, которая просила меня задавать ей вопросы.
— Воровали?
— Мы не воруем. Мы берем. Это банки воруют. А мы берем.
Еще один из вариантов:
— Воровали?
— У людей — нет.
Ответ предполагает, что у государства или, в наше время, у организации можно. То есть единый климат морали был таков, что возможность воровства не только не порицалась, но к концу восьмидесятых годов даже одобрялась и ставилась в пример: человек умеет крутиться. У меня был приятель, который умудрился стащить дорожный знак и спрятать его на даче. Он не смог объяснить зачем, но был убежден, что раз можно унести, значит, надо. Несли все, что попадалось, и священное по-людски было подвергнуто незаметной редакции.
Команда одиночек
Все это я разбираю не с тем, чтобы оправдать или опорочить советский строй. Просто мы дышим воздухом морали, химический состав которого формировался в том числе и в годы советской власти, и когда мы сегодня обсуждаем проблемы церковной жизни, не надо забывать, что внутри церковной ограды тот же моральный воздух, которым дышит все общество, нам никуда не спрятаться. Выход только один — активно влиять на состав моральной атмосферы.
Почему у нас с таким трудом развиваются церковные общины? Приходская жизнь пестра и активна, а общины все нет. О внутрицерковных причинах говорят много, но забывают о том, что мы не изжили некоторые позднесоветские яды. Спокойная и предсказуемая жизнь в Советском Союзе воспитала народ-ребенка, привыкшего к роли пассивного и послушного стада. Народ, потерявший навык к самоорганизации, утративший один из важнейших социальных рефлексов — работу в команде. А это уже моральная инвалидность, «иконой» которой, как ни странно, стал футбол. Группа талантливых игроков, которые не умеют работать вместе, сообща, команда одиночек. И дело вовсе не в футболе, над которым так жестоко все потешаются. Все наше общество — команда одиночек, а потому и Церковь наша — команда одиночек. Если даже священники не интересны друг другу, чего вы ждете от прихожан?
У нас любят ругать церковные власти, которые собирают людей по разнарядке. Это отвратительно. Но это не вся правда. Мы не умеем собираться. У нас атрофирована воля и потребность быть вместе. И теперь нужно крепко всем трудиться над тем, чтобы воспитать в обществе этот важнейший из социальных навыков.
Везут меня в машине. Стоим в пробке. Водитель открывает окно и выбрасывает пустую банку.
— Что вы делаете?
— А что? Я налоги плачу. Пусть убирают.
Но ведь это наша земля! Как же я могу жить на этой земле и гадить? Мне бывает так больно заезжать в лес, особенно летом, и видеть настоящие горы мусора, оставленные, на самом деле, неплохими людьми, которые даже не чувствуют, что совершают преступление. Не перед законом. Перед совестью. И каждому человеку следует вырабатывать благородную нетерпимость к таким вещам.
Парение похоти
Мы терпимы к грязи вокруг нас, к мусору, бурьяну вдоль дорог, уродливым зданиям, но так не должно быть. Эта грязь не уйдет с принятием нужных законов. Чтобы появился закон, воздух морали должен накалиться от благородной нетерпимости к этой грязи.
Мы терпимы к самодурству, к показухе, к вранью и пошлости. Надо не стесняться выражать свое порицание, кто бы себе ни позволял такие поступки. Политик врет, ругается матом, жестоко оскорбляет оппонентов, и это не от темперамента, а потому что мы позволяем ему. Надо выработать благородную нетерпимость к подобным вещам, чтобы человек понимал, что от него все отвернутся, если он позволит себе такое.
Коррупцию не одолеть только страхом тюрьмы и конфискации. В обществе можно воспитать благородную нетерпимость к взяточничеству, кумовству, лакейству, потому что мораль — это не только воздух, который мы вдыхаем, но и наши выдохи, каждый из нас влияет на состояние климата, и самой малой возможностью воздействовать на него нельзя пренебрегать. Нужно так жить, чтобы одно упоминание о том, что можно за деньги заказать диссертацию, было чем-то предельно неприличным, даже в голову не приходило.
Насилие в семье, пьянство напоказ, безразличие к несчастным, особенно к детям и старикам, хамство — это все лечится. Но в этой борьбе важен каждый человек, каждый голос, каждый «вздох» благородной нетерпимости.
Мораль — это дело, касающееся каждого человека, потому что мы дышим одним воздухом, нам никуда от него не скрыться, не спрятаться. Нельзя выделить закрытую линию кислорода лично для вашей семьи, а потому нельзя терпеть, если кто-то отравляет воздух, которым дышите вы и ваши дети. В Писании есть гениальные слова:
Парение похоти пременяет ум незлобив (Прем. 4:12).
Здесь говорится о том, что воздух морали полагает границы как греху, так и святости, и если вы не собираетесь бежать в пустынную келлию, вам надо позаботиться о составе этого воздуха. Это вопрос жизни и смерти. Буквально.
История с израильскими негритятами — это одна из проб воздуха морали, которым дышит общество, на треть состоящее из бывших советских граждан. Если им удалось оздоровить моральную атмосферу своей страны, и у нас тоже все получится. Работы много. Каждый труженик на счету.
Закон Божий vs закон свободы?
Оказывается, я — законник. Вот уж не думал! Это мне поляки сказали. На их языке монах — законник. Значит, я не какой-то архимандрит, а законник Савва. Непривычно. Потому что мне всегда претили строгие правила, регламенты, режимы, приказы, инструкции.
Христианство — благовестие свободы. И тут тревожный парадокс: если христианство — это одна из религий, а религия по определению есть система строгих ограничений, запретов и заповедей, имеем ли мы право называть веру Христову благовестием свободы? Как в Церкви уживается призыв к свободе и закон заповедей?
Не только для меня, но и для многих моих друзей Евангелие стало даром свободы. Бог есть Любовь, и Бог есть Свобода. Что еще нужно молодому человеку, если не любовь и свобода? Однако кто-то вас схватит за рукав и проговорит доверительным шепотом:
— А вам нельзя причащаться. Вы живете в гражданском браке, а это вообще никакой не брак, а блудное сожительство. Вам нельзя к Чаше.
— Неужели Богу интересно, с кем я сплю? Кому какое дело? Бог есть Любовь. И вообще вы, православные, — народ темный. Я к католикам пойду.
— Выбор ваш. А вы знаете, что у них все еще строже? Если вы разведетесь с женой, вы отлучаетесь от Причастия на всю жизнь и сможете приобщиться только в случае смерти.
— И это религия свободы?
Типичный разговор. Многим знакомый. Интонации современные, но мне кажется, с подобным недоумением столкнулись христиане первых веков.
Апостол под конвоем
Историки спорят, в каком году прошел первый церковный собор, названный Иерусалимским, — 49 год или 51-й? Для нас эти цифры не так важны. Куда важнее ход дискуссий и решения. Поэтому своим студентам я даю задание сделать детальный репортаж об этом собрании, как о нем сообщает 15-я глава книги Деяний.
Какая проблема заставила апостолов собраться? Христиане из язычников — что с ними делать? Пока христианская община находилась в пределах иудейской религии, все было понятно и вопросов не возникало. Но случилось то, что потребовало срочного богословского ответа: апостол Петр был послан почти «под конвоем» с проповедью к язычнику Корнилию. Пока святой рыбак слушал рассказ сотника и решал, стоит ли крестить неиудея, Дух Святой сошел на всю семью римского офицера, и это было действительно сильным теологическим аргументом.
«Казус Корнилия» был не единственной историей. Малоизвестный проповедник по имени Савл, бывший гонитель Церкви, без санкции высших апостолов, самовольно благовествовал Христа язычникам, и вот — полноценные общины, с которыми что-то нужно делать, и самое простое решение — обратить их в иудаизм.
Апостольский век — удивительное время в истории Церкви, когда люди одной веры принадлежали двум разным религиям. Иерусалимский собор решил не обременять христиан из язычников исполнением Закона Моисеева и обрядов, особенно обрезания. Все требования собора к новообращенным собратьям свелись к четырем запретам и одной заповеди: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите (Деян. 15:29).
Уникальная ситуация: есть религиозная община, но у нее нет ни храмов, ни календаря, ни жреческого сословия, ни устава богослужения, ни священных текстов, ни обрядов погребения, венчания, ни системы этики. О последнем пункте и идет речь. Если бы нас попросили набросать эскиз христианской морали, мы бы привели Десять заповедей — это ключевой текст нашего нравственного богословия. Даже популярные книжечки о подготовке к исповеди выстроены вокруг нарушения Декалога. Но апостолы даже не вспоминают об этом кратком и лаконичном своде. Они ограничиваются четырьмя негативными и одной позитивной рекомендациями, при этом положительная заповедь не есть изобретение Закона Моисеева, но, если угодно, достояние человечества, известное с самых древних времен.
«Не делай другим того, чего себе не хочешь» — это золотое правило нравственности, по которому жили и в древнем Китае, и в Индии, и в других частях света, где только были люди. Другими словами, апостольский собор апеллировал к универсальной морали, общечеловеческому закону, написанному в сердце каждого человека, а не к Ветхому Завету.
И все это очень хорошо ложится на наши представления о христианстве как благовестии свободы. И, видимо, так думали и христиане из язычников, этические воззрения которых неожиданно оспорил сам апостол язычников.
Измождение плоти
Одна из тем Послания к Коринфянам — дело о кровосмешении.
Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего (1 Кор. 5:1).
Апостол Павел, человек большой внутренней свободы, духоносец и чудотворец, вдруг предъявил коринфянам такую претензию, и, судя по всему, читатели письма были в некотором недоумении, которое мне очень понятно. Это были вчерашние язычники, которые обратились в христианство, а значит, добровольно вырвали себя из привычного строя жизни.
Мы так привыкли к секулярному обществу, что с большим трудом представляем себе жизнь, целиком построенную на религиозных основах. Религия обосновывала и легитимировала абсолютно все сферы жизни человека, в том числе право, мораль, торговлю, политику, искусство, науку, семейный и бытовой уклады, этикет. Чтобы стать христианином, еврею не требовалось менять религию, он оставался иудеем, и вся жизнь его выстраивалась вокруг Храма и Закона. Христиане-эллины и рады бы поменять религию, но никакой христианской религии, стройной и систематически выстроенной, тогда не было. Христианская вера была, христианской религии не было, а значит, не было христианской морали. Может быть, поэтому уже в первые века церковной истории появились секты, проповедовавшие разврат, якобы разрешенный новой религией свободы.
— Подумаешь, парень женился на своей мачехе. А если они полюбили друг друга? Двое взрослых людей. Кому какое дело? Разве сам апостол Павел не проповедовал любовь и свободу?
— Безусловно. Только этот же апостол вынес очень жесткое порицание этому поступку: предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа (1 Кор. 5:5).
При этом апостол подчеркивает, что христиане допустили то, что даже по языческим меркам неприлично. Он снова вспоминает универсальную мораль.
Апостольский собор освободил христиан из язычников от исполнения Закона Моисеева, но, как показывает история, эта тема не была полностью исчерпана и стала одной из центральных в посланиях апостола Павла.
Лукавая совесть
Читать письма апостола Павла — занятие непростое. Особенно это касается Послания к Римлянам, большая часть которого посвящена вопросу согласования закона благодати и Закона Моисеева. На эту тему написаны целые шкафы книг, и это не предел, не сомневайтесь. Тема невероятно сложная, а сам автор не очень старался быть понятным, как это и принято у гениев.
Однако нам нужны ответы. Апостол настойчиво повторяет:
Вы не под законом, но под благодатью (Рим. 6:14).
Евангелие — откровение Бога-Человеколюбца, который оправдал человека, очистил и усыновил его Богу. И все эти дары — не по нашим заслугам. Заслужить любовь Божию и усыновление в Духе — невозможно. Это дар благодати. Но если соблюдение закона не приближает нас к Богу, зачем он вообще нужен? В чем ценность Закона Моисеева?
Законом познается грех (Рим. 3:20).
Послание к Римлянам начинается с апелляции к естественному закону добра, который написан в сердце каждого человека. Но люди осуетились, онечестились так, что достигли полной моральной путаницы, потеряли чувствительность, перестали понимать, где добро, а где зло.
В молитве, которую священник читает во время Херувимской песни, есть такое прошение:
И очисти мою душу и сердце от совести лукавыя.
Личная испорченность и нравственная порча, поражающая общество, в котором мы разрешаем себе всякие незаметные и невинные вольности, приводит к тому, что совесть «сходит с ума», теряет нравственную чувствительность и беспристрастный голос. Люди оскотиниваются незаметно, под шутки, песни и здоровый смех, поэтому должны быть какие-нибудь объективно существующие критерии, ориентиры, с которыми и человек, и общество могли бы сверять свою жизнь, настраивать свою совесть. В иудейском обществе такую роль выполняло Писание, и евреи очень хорошо понимают, что их народ жив только благодаря уважению к Закону Моисея.
Путь жизни и путь смерти
Почему современный человек так легко позволяет себе нарушать заповеди, даже христианин? Что-то случилось с нашим обществом. Оно стало расколотым. Теперь в цене личные свободы и личные ценности. Ценность рода или народа если и не исчезла вовсе, то потеснилась, уступив первые позиции интересам индивидуума, человека-атома.
Господь на Синае давал заповеди не отдельным «продвинутым» пророкам, а еврейскому народу. Закон дается не человеку, а народу. Это очень важно понимать. Закон Моисея — главное сокровище евреев. Этот древний народ пережил почти все современные ему государства и нации, сохранил веру, историю, религию, традиции, уберег память, жив до сих пор, развивается, восстановил государственность, процветает. У этого народа были могучие и страшные враги. Но где сегодня египтяне, ассирийцы, вавилоняне, докучные филистимляне и предприимчивые финикийцы?
Империи подымали свои твердыни, воздвигались стены и башни неприступных бастионов и снова обращались в прах. Варварские королевства прорастали на древних развалинах, а потом сами превращались в легенды и становились пылью на собственных руинах. Из глубин Азии шли орды алчных кочевников, стиравших с лица земли могучие царства, а потом и сами захлебывались в собственных войнах. Крестоносцы рубились с арабами, захватывали города, а потом уходили в сказку. Но древний семитский народ, потомок усталого странника, родом из Ура Халдейского, печальным взором наблюдал за расцветом и упадком и юных и древних народов, только по временам отвлекаясь от чтения Торы.
Заповеди даны народу, именно народу. Почему? Потому что эти заповеди — залог его сохранения. Они суровы, их сложно исполнить, но именно верность Закону сохранила еврейский народ среди всех бурь и смерчей исторического времени. Он жив до тех пор, пока помнит и, по крайней мере, старается соблюдать заповеди Божии.
Все те запреты, которые Бог начертал Моисею на каменных скрижалях, являются предупреждением от самоуничтожения. Отступив от заповедей Божиих, народ начинает самоубиваться. Почему следует почитать родителей, почему нельзя изменять жене, воровать, завидовать, лжесвидетельствовать, и главное: почему надо помнить, кто наш Бог и чтить Его? Потому что нарушение этих простых правил причиняет столько боли и страдания, что под угрозой оказывается ни много ни мало — существование большой семьи, а порой и целого народа.
Вопрос соблюдения заповедей — это не разговор на абстрактную и скучную тему, а вопрос жизни и смерти. Буквально. Во Второзаконии так и сказано:
Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа, Бога Твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа, Бога Твоего, ходить по всем путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог Твой, на земле, в которую ты идешь (Втор. 30:15–16).
Единственное, чего хочет от нас Бог, — это чтобы мы были. Все заповеди Божии стоят на страже живого, они берегут жизнь народа. Иногда ценой отдельных его членов. Не надо ломиться в открытую дверь, не надо каждому поколению повторять ошибки своих предшественников, чтобы понять, что народ, который забывает заповеди Божии, превращаясь в племя развратников, постепенно вымирает, и гораздо скорее, чем может показаться.
Мудрый распутник
Разврат — это то, что по-настоящему и гарантированно убивает народы. Выбрав Себе «народ избранный», то есть евреев, Господь делал все, чтобы этот народ выжил и не потерялся в истории, потому что именно из этого народа должен был родиться Спаситель мира Христос. Евреи выжили и не растворились в истории и продолжают населять землю, потому что Господь воспитывал этот народ в соблюдении заповедей. Декалог спас его, не дал раствориться, потеряться в круговороте истории. Сегодня угроза самоубийства нависла над европейскими народами, которые устали от заповедей и постепенно, но уже очень заметно превращаются не просто в безбожников, но и в племя развратников, которые вот-вот увидят свое последнее поколение.
Только честные развратники знают, что их разврат и безобразия возможны лишь потому, что есть люди, которые живут по Закону Божию, и эти мудрые грешники боятся новоявленных свобод, а своих детей предпочитают воспитывать в страхе Божием. «Каждый мужчина голосует за свободную любовь до тех пор, пока у него не родится дочка».
Бывает, человеку совсем не совладать со своими пороками и дурными привычками. Это жизнь, она полна боли. Однако для грешника есть покаяние и снисхождение, что вовсе не означает оправдания греха или подмены понятий. Зло нужно честно называть злом. Есть вещи, значение которых порой невозможно разглядеть в перспективе одной биографии и даже жизни семьи, настолько велик их масштаб. Закон — это то, что спасает целый народ. По инерции Закона, на беззаконии можно пережить свою жизнь, этой инерции может хватить на жизнь одного-двух поколений, а потом народ начнет просто самоубиваться.
Без-Законные христиане
Однако мы помним, что апостол Павел «указал» Закону на его «законное место». Христианам Закон не нужен. Закон — это инструмент обнаружения греха, азбука нравственности для несмышленышей. Ученики Христа призваны к большему, чем просто соблюдение предписаний, а Закон говорит о вещах, даже названия которых должны быть невозможны в Церкви. Закон — не для праведников, а для грешников.
А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника,
но для беззаконных и непокоривых,
нечестивых и грешников,
развратных и оскверненных,
для оскорбителей отца и матери,
для человекоубийц,
для блудников,
мужеложников,
человекохищников
(клеветников, скотоложников),
лжецов,
клятвопреступников,
и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено (1 Тим. 1:8–11).
Нужен ли христианам Закон? Еще раз пробегитесь глазами по списку. В нашем крещеном народе с этим нет проблем? Ответ очевиден.
Другими словами, повторяя, что Закон христианам не нужен, апостол не развязывает руки своим последователям, а, наоборот, задает более высокую нравственную планку. Между Воплощенным Богом и Его учениками не может быть законнических отношений. Конечно, при условии, что христиане не нарушают Закон.
Говорят, Муссолини часто повторял:
Друзьям — все. Остальным — закон.
С необходимыми поправками это применимо и к христианам. Апостол был о нас высокого мнения. Он полагал, что откровение Бога-Человеколюбца уже само по себе должно исцелить наше общество от всех пороков. Но мы все еще нуждаемся в «мягкой пище» и, кажется, за две тысячи лет не сильно повзрослели.
Этика меньшего зла
«Академия смерти» — один из самых тяжелых фильмов, которые мне доводилось смотреть. Это история паренька, который благодаря спортивным успехам получил возможность учиться в школе, где ковалась будущая элита Третьего рейха. Парень попал в среду военных, а это довольно суровое общество. Но речь не об этом. Каждое утро начиналось с издевательств над мальчиком, страдавшим энурезом. Над ним жестоко шутили и учителя, и одноклассники. Типичный школьный козел отпущения, затравленный зверек.
На одном из занятий ребята должны были метать гранаты. Не муляжи, как было в нашей школе, а настоящие боевые снаряды. Целая группа учеников сидит в окопе. Каждый по очереди отрабатывает норматив. Вдруг кто-то из кадетов случайно роняет свою гранату на дно окопа. И нам показывают растерянные лица мальчишек, кто-то пытается выбраться. Один из ребят быстро ложится на гранату, и в следующее мгновение мы видим взрыв и забрызганных кровью детей. Один из метателей стал героем. Ценой своей жизни спас от гибели целый класс. Это и был тот самый школьный уродец, над которым издевалась вся академия.
Эту историю я вспоминаю часто, потому что только те события, которые не дают времени сделать выбор, способны показать, кто ты есть на самом деле. И школа, и Церковь учат нас тому, что мы должны делать выбор между добром и злом, но в реальной жизни эта схема работает не всегда. Приходится выбирать не между добром и злом, а между большим и меньшим злом. И вам еще крупно повезет, если жизнь даст вам время сделать выбор. Чаще всего выбор — непозволительная роскошь, и приходится действовать молниеносно, интуитивно, в одно мгновение показывая, чем ты жил, во что верил всю свою предшествующую жизнь.
Немецкий мальчик пошел на самоубийство, что, безусловно, большое зло, но гибель целого класса — куда страшнее. Он совершил героический поступок, которого от него никто не ожидал. Думаю, что даже для него это было откровением.
Муки Одиссея
Как бы мы ни притворялись, но мы живем в этике меньшего зла. Это практическая наука, не кабинетная. Если дети еще не подозревают об этом испытании, то взрослые прекрасно осведомлены. Особенно те, кому довелось быть руководителем.
Если бы мне пришлось украшать «музей этики меньшего зла», первым на стене появился бы портрет Одиссея. Личность известная, и пересказывать его биографию нет смысла. Помяну лишь один сюжет, который для меня стал «иконой» этики меньшего зла, и будь я преподавателем этой дисциплины, мои ученики — будущие руководители — обязаны были бы тщательно проанализировать, а лучше выучить наизусть некоторые строки из двенадцатой песни гомеровской «Одиссеи».
После Троянской войны царь Одиссей никак не доплывет до родной Итаки. Приключения затянулись на многие годы, но моря кишат циклопами, богами и привлекательными нимфами, которых никак нельзя пропустить. Мудрая нимфа Цирцея наедине предупреждает Одиссея, что ему придется плыть мимо Сциллы и Харибды. На утесе, что стоит над узким проливом, живет Сцилла, шестиголовое чудовище. Миновать пролив нельзя, хотя можно бы держаться подальше от жуткого места, но напротив Сциллы периодически вскипает Харибда — жуткий водоворот, засасывающий в свои глубины все, что рядом. Нимфа советует озадаченному царю плыть ближе к утесу и смириться с тем, что шесть из его товарищей будут схвачены ненасытным зверем. Пусть умрут шестеро, но спасутся все остальные. Так решил Одиссей.
Гениальный Гомер рассказывает о терзаниях, через которые прошел царь Итаки. Ведь он все знал, но умышленно ни слова не сказал товарищам. Это решение было его личным крестом, и непросто читать, как Одиссей вел корабль сквозь мрачный пролив, как повелел держаться утеса, как стоял в его ушах крик шестерых друзей, с которыми он прошел войну, а теперь их выхватили с корабля жадные челюсти, и, умирая на зловещей скале, несчастные тянули к нему руки, выкрикивая его имя.
Такова судьба всякого руководителя, и, если вам хоть раз в жизни приходилось кого-то увольнять, вы поймете муки Одиссея.
— Если по-человечески, то он должен был им все сказать, объяснить все риски, принять решение сообща, разделить ответственность.
— Скорее всего, это привело бы к панике, которая иначе проходит среди мужчин, обремененных холодным оружием.
Я хорошо помню, как мне впервые пришлось уволить нескольких сотрудников. У меня были с ними очень хорошие отношения, и я прекрасно понимал, что это будет удар и для нашей дружбы, и для их кошелька. Но эти люди портили жизнь всему коллективу, мешали работать, и мне пришлось сделать то, в чем я не раскаиваюсь, но что далось непросто.
А если вам придется уволить близкого друга? А если это будет родной брат? А если речь идет о больших цифрах в масштабе целой страны, и ваше бездействие и желание понравиться скажется на жизни миллионов, сломает на многие годы стабильность в целом регионе? И как тут не ошибиться? Как не заиграться, оправдывая собственный садизм этикой меньшего зла?
Семя раздора
Жизнь чаще всего предлагает нам делать выбор не между добром и злом, а между большим и еще бо́льшим злом. Так устроена жизнь политиков. Смертная казнь — меньшее зло или большее? Скрывать от прессы какие-то государственные секреты — меньшее зло или большее? Начать военные действия — как это оценить с точки зрения этики меньшего зла?
Однако бремя меньшего зла — не исключительный удел руководителей. Просто там, где есть власть и ответственность, наиболее ярко проявляется острота той трагедии добра, в которой живет наш падший мир. На самом деле меньшее зло — это крест для каждого взрослого человека. Потому что невозможно прожить жизнь и не вымазаться.
Хочешь остаться чистым — впадай в кому, это надежно сохранит твою непорочность. Кома — оплот нравственной стерильности и чистоты.
Хочешь делать — будь готов испачкаться.
— Как-то вызывающе! Не противоречит ли это Библии?
— Писание помнит немало ветхозаветных царей, которые в совершенстве владели этим искусством. Но что сказал Христос?
Однажды у Него спросили, что Он думает о разводах, ведь в Законе Моисеевом описана даже процедура этого действия, а Закон Моисеев — это и есть Закон Божий.
Слова Христа хорошо известны:
Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так (Мф. 19:8).
Или версия евангелиста Марка:
по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь (Мк. 10:5).
Христос однозначно порицает разводы и считает их злом, но заповедь о разводах есть меньшее зло, и мы вынуждены к ней прибегать, когда брак превращается в настоящий ад, в Харибду, затягивающую в свой водоворот все живое.
— Почему мы не можем выстроить жизнь на принципах чистого добра?
— Потому что в нас живет «семя тли», мы — «порченые твари»:
Ибо зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначала, и сколько нечестия народило оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не настанет молотьба (3 Езд. 4:30).
Эта порча бродит даже в маленьких детях, почему и приходится применять этику меньшего зла и к детворе, это больно и тяжко, но последствия бездействия еще страшнее.
Убивать людей — зло, но в нашем безумном мире невозможно обойтись без армии и полиции. Кто такой солдат? Это профессиональный убийца, и сами ребята прекрасно знают, что они обязаны, просто обязаны убивать, когда надо, даже если они потом никогда в жизни не смогут нормально спать. Это их жертва, жертвоприношение собственной души, потому что в этом сошедшем с ума мире убийство человека может быть меньшим злом. Что же тогда большее?
Каждый мужчина — солдат запаса, то есть потенциальный убийца, готовый в буквальном смысле этого слова «душу положить за ближних» — именно душу, потому что зло поражает душу, коверкает ее портит. Убийца навсегда останется убийцей, даже если человек идет на это из самых благородных мотивов — защиты слабых, обороны. Но если мужчина не готов убивать, когда необходимо, он может потерять и семью, и Родину, и ему, как Одиссею, следует сделать правильный выбор. И выбор этот делается не в момент объявления войны или нападения. Его делают в детстве на уроках истории, или над любимой книжкой, или в разговоре с дедом. Готовность умереть за Родину похвальна.
Но у этого подвига есть и обратная сторона — готовность убивать за Родину. А потому перед каждым мужчиной рано или поздно встают три важнейших вопроса:
ради чего я живу?
ради чего я готов умереть?
ради чего я готов убить?
Это очень страшно, но подлинную цену никогда не назовешь, если тебе не откроется трагедия больного добра.
Лишняя добродетель
Если попросить рядового прихожанина перечислить известные ему добродетели, вам выдадут список, хорошо известный православному человеку. На первом месте будет, скорее всего, смирение, потом кротость, воздержание, целомудрие, страннолюбие, терпение, милосердие и любовь.
— Могу назвать еще пять!
— Весьма обяжете.
Откуда родом этот реестр? Из монашеской литературы. Это книги, написанные величайшими подвижниками. О высоте и напряженности их духовной жизни мы можем только догадываться. Большинство их наставлений касаются духовных упражнений, многие из которых мы даже не можем воспроизвести, потому что они требуют приобщения к монашеской школе, к традиции, передававшейся от старца к ученику по цепочке длиной в столетия. Не понимая подлинного смысла монашеских духовных практик, мы наделяем их своим додуманным смыслом, а тут не обойтись без недоразумений. Ненависть к собственному телу выдают за целомудрие, забитость за смирение, бесхребетность за кротость, депрессивность за страх Божий, а лень за память смертную.
— Что тут скажешь? Бывает!
В церковных списках добродетелей чаще всего не хватает одного слова, которому надо бы стоять в самом начале.
Право на злость
Невероятный Зиновий Гердт! Один из моих любимых советских артистов! Слава и всенародная любовь пришли к нему в весьма зрелые годы. Однако в юности он был еще более невероятным, чем в славном возрасте. Гердт был королем розыгрышей. Как-то раз он решил подшутить над своей соседкой и вступил в преступный сговор с товарищами. Каждый из шутников должен был в течение дня звонить старушке с просьбой позвать Николая Семеновича, и бабушка устала снимать трубку, терпеливо объясняя, что тут такой не живет. В ответ озорники настойчиво требовали передать, чтобы он перезвонил по такому-то номеру. Этот истеричный спектакль великий Карлсон назвал бы «курощение плюшками и низведение блинами». Правда, тут «курощали» телефонами. В довершение всего это безобразия поздно ночью позвонил сам остроумный Зиновий:
— Алло! Это Николай Семенович. Мне никто не звонил?
Какой, вы думаете, была реакция старушки?
— Ой! Слава Богу! Николай Семенович, миленький, сейчас же записывайте номер! Вас тут полгорода ищет!
Зиновий Гердт вспоминал этот случай из далекой молодости как откровение, которое очень крепко врезалось ему в память и во многом определило его характер и отношение к жизни. Вместо того чтобы озлобиться, устроить скандал, соседка всем сердцем порадовалась за мифического гражданина, по милости которого целый день не отходила от аппарата. А ведь она имела полное право на злость и даже ненависть к отчаянным сорванцам. Это было непростое время: недавно закончилась Гражданская война, досыта не ели хлеба, жизнь была неустроенной. Но и среди ожесточившегося мира были люди, никогда не предававшие доброты. Гердт так и воспринял эту историю — как откровение доброты.
Доброта и есть та самая «лишняя добродетель», которой мы никак не можем найти места в наших православных реестрах добродетелей. Не оттого ли духовная жизнь церковного человека полна уродливых изгибов, что не лежит в ее основании простая человеческая доброта?
Что сказал Антоний?
Когда у тебя три брата, это очень весело. Детство превращается в какой-то шумный карнавал с самым непредсказуемым сценарием. Очень хочется верить, что родителям так же весело. Ведь воспитание — это настоящее сражение между детьми и взрослыми. И в этих семейных баталиях я неоднократно слышал от мамы гениальную фразу:
— Просто зла не хватает!
Например, мы с братьями по очереди воруем тесто из тазиков, где подходят пасхальные куличи.
Или притащили раненую галку и пытаемся скрыть ее шумное присутствие.
Или порваны совершенно новые штаны, привезенные с огромным трудом из Армении.
Или каким-то чудом на обоях остались следы варенья, хотя все согласны, что это удачно оживило интерьер.
— Просто зла не хватает!
Мне страшно нравится это восклицание! Ведь это так хорошо, когда у человека не хватает зла. Значит, его переполняет доброта.
— Почему у нас в церкви так мало говорят о доброте?
— Потому что мы говорим по-славянски.
Русское слово «доброта» есть перевод славянского «благость». Добрый — благой. В молитве, с которой начинается наш день, мы говорим, что Дух Святой есть сокровище добрых людей — именно так можно перевести «сокровище благих». Хотя чаще переводят «сокровище всякого добра». Первая версия мне ближе. Может быть, потому, что апостол Любви говорит: Кто делает добро, тот от Бога (3 Ин. 1:11).
— Выходит, добренькие безбожники тоже от Бога?
— Все вопросы к апостолу.
Мне потребовались годы церковной жизни, чтобы понять: если не положишь в основание своей духовной жизни доброту, все аскетические опыты и эксперименты пойдут только во вред, но доброта сама по себе приближает к Богу.
Не верите мне, послушайте самого первого монаха: «Единственный способ познания Бога есть доброта» (Преп. Антоний Великий. Наставления. 2.29).
Удивительно! Сколько раз приходилось читать эти строки, и почему-то не обращал внимания на такую простую и гениальную мысль! Если цель христианской жизни состоит в богопознании, то, выходит, человеку достаточно заботы о поддержании доброты, чтобы расти в ведении Бога. Это та добродетель, которая не требует долгого обучения у опытного старца. Не обязательно прятаться за древние стены монастыря. Просто — будь добр!
Добро и доброта
Интересно, что святой Антоний понимал доброту не как природное свойство, а как некий навык, сознательно сформированный подвижником, то есть доброте надо учиться, это не врожденная особенность характера, а искусственно выработанный рефлекс. Пианист работает над моторикой пальцев, подчиняя себе свое тело, постоянно борясь с инерцией ленивой и косной материи. Так и доброта требует ежедневных усилий и подтверждений, она требует духовного упражнения, оставив которое можно легко вернуться к простоте и предсказуемости реакций озлобленного зверька.
«Кто незлобив, тот совершен и богоподобен. Он исполнен радования и есть покоище Духа Божия. Как огонь сожигает большие леса, когда понебрежешь о нем, так злоба, если допустишь ее в сердце, погубит душу твою, и тело твое осквернит, и много принесет тебе неправых помышлений; возбудит брани, раздоры, молвы, зависть, ненависть и подобные злые страсти, отягчающие самое тело и причиняющие ему болезни. Поспешите стяжать незлобие и простодушие святых, чтоб Господь наш Иисус Христос принял вас к Себе, и каждый из вас мог с радостью сказать: мене же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред Тобою во век (Пс. 40:13)» (Преп. Антоний Великий. Наставления. 1. 71).
Товарищи, изучавшие философию, всегда рады посмеяться над фразой «человек по природе добр». А я не стану. Потому что христиане действительно верят, что человек добр по своей природе. Доброта — это наше естественное состояние. Но кроме доброты в нас еще и проросло «семя тли», «цветы зла», и, как ни странно, чтобы оставаться естественным, теперь требуются культурные усилия. Ведь само слово cultura подразумевает заботу о поле, труд агронома, борющегося с сорняками. Доброту надо «культивировать». Злоба — наши «сорные травы». У каждого на поле свои. Не станешь бороться — зарастет, задушит все хорошее. А потому до последнего издыхания — сражение за доброту. Помирать помираешь, а пшеничку сей.
Зерна злобы такие коварные, что поражают даже добро. Собственно, зло и есть порченое добро. Поэтому нам приходится различать добро и доброту. Это не одно и то же.
Добро — это идея.
Доброта — это событие.
В романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» один из героев, по фамилии Иконников, находясь в концлагере, произносит удивительно мудрые слова: «Там, где есть насилие, — объяснял Иконников Мостовому, — царит горе и льется кровь. Я видел великие страдания крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я верю в доброту».
Просто подумайте над этими словами:
Я не верю в добро, я верю в доброту.
Человек изловчился так убедительно врать самому себе, что даже идея Добра, возведенная на пьедестал, может неожиданно потребовать кровавых жертвоприношений. И самое грустное, она их всегда дождется.
Гитлер с легкостью отдавал приказы убивать миллионы, будучи бескорыстным служителем идеи Добра для немецкой нации.
Сесиль Родс и его «рыцари Круглого стола» из любви к Англии развязывали войны и с готовностью убивали десятки тысяч, стоявших на пути процветания империи.
Голод в Бенгалии, химическое оружие во Вьетнаме, атомная бомба в Японии и множество других зверств — всё ради торжества Добра и Справедливости.
Как же крепко надо держаться доброты в мире, где даже Добро требует крови!
Презумпция доброты
Если вы еще не читали «Древний патерик», так отложите все и найдите эту жемчужину. Впервые я открыл это сокровище в шестнадцать лет. Старушка Лаврентьевна выдала мне книгу без начала и конца, но заботливо обернутую в синюю бумагу. Это собрание историй из жизни египетских монахов. Время от времени я перечитываю патерик, потому что он стал моим личным мерилом духовного развития (или деградации). Каждое новое прочтение приносит сюрпризы: чего-то раньше не замечал, что-то больше не трогает, а что-то раскрывается в совершенно новом свете. Думаю, у каждого есть своя «та самая книга», которую боишься перечитывать, но все равно читаешь, чтобы понять, куда и как далеко зашел.
В патерике есть коротенький рассказ из жизни некоего ревностного инока. Он проживал недалеко от своего собрата. Был такой обычай в Египте — подвижники селились недалеко друг от друга, чаще всего на расстоянии брошенного камня. У каждого своя келлия, свой устав, свои подвиги. Жили соседями, но общались в основном только в церкви, куда собирались в субботу и воскресенье. Вмешиваться в жизнь другого подвижника считалось неприличным. Однако тут был особый случай. Брат стал замечать, что соседа, по всем признакам, навещает дама. Осуждать нельзя. Это нехорошо. Лучше уж помолись тихонько да и смотри за собой. И монах долго держался этого правила. Но тут началось что-то уж совсем неприличное: эти двое, потеряв всякий стыд, предавались непотребствам прямо на улице. Конечно, надо было еще присмотреться, соседний домик стоял не близко, но сомнений быть не могло — никакого спасения!
Представляю, как этому несчастному иноку приходилось бороться со своими мыслями. С осуждением справиться легче, чем с гневом, а гнев всегда греет, если он праведный — в монастыре и такое! В конце концов, не выдержав внутренней брани, брат пошел к соседу и со всей силы пнул ногой в парочку, мирно расположившуюся на земле.
— Да перестаньте же, наконец!
Оказалось, что это были всего лишь два кем-то забытых снопа пшеницы.
Поторопился. У благочестия глаза велики. Растрепанные снопы разбудили воображение. Картинку дорисовал сам, домыслив сюжет в понятной логике.
В чем была ошибка инока? Видимо, он был внимательный подвижник и выводы сделал правильные, потому что о таком происшествии можно было узнать только от него самого. А вывод простой: не торопись осуждать. Но это еще не все.
Дело не только в осуждении, хоть это урок, который виден невооруженным глазом. Инок, годы потративший на подвижнические труды, упустил из виду важнейший из навыков, который надо воспитывать с самого начала. Этот навык — презумпция доброты.
Слово «презумпция» мы слышим часто в связи с судебными разбирательствами. Презумпция есть предположение, признаваемое истинным, пока не будет доказано обратное. «Презумпция невиновности» — правовая установка, которая запрещает относиться к человеку как к преступнику, пока не будут предъявлены убедительные доказательства его вины.
Если вам не нравится слово «презумпция», можете пользоваться выражением из лексикона восточных монахов — «хюполэпсис доксис». Это из первого тома «Добротолюбия». Евагрий монах пишет: «Начало любви — υπόληψιϛ δόξηϛ — взаимное оказание чести (или доброе друг о друге мнение, или предположение славных в другом достоинств)».
Выражаясь проще, одним из первых духовных навыков, которые ставились молодым инокам в древних обителях, была простая доброжелательность. В каждом человеке учили видеть прежде всего достоинства, и именно в этой доброжелательности и предположении всяческих достоинств в другом — начало любви, то есть залог духовного совершенства.
Это один из иноческих навыков, который без особых опасений и оговорок необходимо прививать каждому христианину. Не по душе вам латинское «презумпция» и греческое «хюполэпсис», возьмите призыв, который я повторяю себе каждый день:
Прежде чем осудить — оправдай!
Следовать этому правилу непросто. А добрым вообще быть непросто. Но другого пути у нас нет. Без этого навыка нам нечего браться за духовные подвиги. Благо что жизнь предоставляет множество поводов для тренировки презумпции доброты.
У этой добродетели есть свой алгоритм, который хорошо изложен в Книге Иисуса, сына Сирахова. Если бы инок из «Древнего патерика» следовал ему, с ним бы не приключилась такая забавная история. Вот отрывок, который можно выписать на листочек и перечитывать как инструкцию, когда у вас проснется острое желание «выяснить отношения» или пламенно обличить:
Расспроси друга твоего, может быть, не сделал он того; и если сделал, то пусть вперед не делает.
Расспроси друга, может быть, не говорил он того; и если сказал, то пусть не повторит того.
Расспроси друга, ибо часто бывает клевета. Не всякому слову верь.
Иной погрешает словом, но не от души; и кто не погрешал языком своим?
Расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему, и дай место закону Всевышнего (Сир. 19:13–18).
Это прекрасный образец того, как работает в мудром человеке навык презумпции доброты. Заметьте, что здесь не просто мягкость характера, но мудрость, снисходительность, милосердие и принципиальная доброжелательность — целый комплекс добродетелей. Но Сирах умоляет: не торопись осуждать! Всегда начинай с оправдания и с искреннего желания понять человека.
В реальной жизни для долгого цикла рассуждений у нас нет времени. Поэтому нас призывают не «протоколу» следовать, а воспитывать навык. Духовный навык — бессознательная, привычная реакция, сформированная годами духовных упражнений.
Добродетель есть доброта, обращенная в навык. То есть это результат постоянного усилия и напряжения. Добрый человек — произведение искусства, шедевр, над которым трудятся годами. Добрым быть трудно. Это настоящий подвиг. Но иного пути у нас нет. Христианин без доброты — религиозное недоразумение.
Добродетель отказа
Из двух зол надо выбирать лучшее. Или меньшее? Совсем запутался! Главное и самое грустное — это то, что приходится выбирать, а выбор — всегда утомительно. Научно доказано, что выбор — одно из самых энергетически затратных деяний. Совершая сознательный выбор, люди так устают, что им не хватает сил насладиться результатом. Выбор вычерпывает силы человека. Особенно выбор моральный. Но люди научились «нравственной экономии». Так появилась этика добродетели. Работает она и в христианстве.
Добродетель — доброта, обращенная в навык. Чтобы не изнурять себя непрестанным конвейером выбора, следует позаботиться о воспитании навыка, бессознательной реакции на вызовы жизни. Об этом читаем у апостола:
Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла (Евр. 5:14).
Духовный чад
Каждый священник знает, что такое пытка духовными чадами, которые любят звонить в два часа ночи, задавая самые дикие вопросы:
— Батюшка, а я забыла, что воскресенье, и голову помыла. Это мне грех будет?
— Ногти покрасила и, думаю, пока сохнут, молитвы вычитаю. Грех?
— Я начал с девушкой встречаться. А можно нам целоваться? А как?
— У меня на работе краска осталась, я домой взял. Не пропадать же? Или грешно?
— Сейчас пост, а меня в Египет везут. Мне там поститься или потом на исповеди сказать?
Вопросов таких миллионы, и правильно поступают те священники, которые отключают телефон после восьми. Можно до бесконечности упражняться в тонкостях религиозных волнений трепетной богомольной души, но ответ один, и он дан в Писании:
У совершенных чувства навыком приучены к различению добра и зла.
Вот идеал, к которому надо стремиться. Не упражняться в поиске причудливых ответов, а ставить навыки, которые позволят вашему духовному чаду обходиться без вас. Выработать верное нравственное чутье, которое само будет задавать стиль жизни и благочестия.
Смысл педагогики — научить человека быть свободным. Пастырская педагогика преследует ту же цель. У преподобного Иоанна Лествичника есть гениальная фраза, в которой заключено все пастырское богословие:
«Истинный сын познается в отсутствие отца» (Слово к пастырю. 12.4).
Чем раньше христианину будет поставлен навык добродетели, чем быстрее он сумеет обходиться без подсказок духовника, тем успешнее педагогика.
Богоданный тиран
Среди важнейших навыков я бы выделил одну универсальную добродетель, которая лежит на пересечении этики меньшего зла и этики добродетели. Это искусство говорить «нет». У подавляющего числа христиан, даже у самых продвинутых, с этим большие проблемы. Потому что отказывать всегда больно, а порой и стыдно. А совесть у верующих, говорят, очень чуткая. Поэтому мы предпочитаем терпеть и смиряться, только бы кого не обидеть. Ведь сказать человеку «нет» — это то же, что нанести обиду. И как потом с этим жить? Однако умение отказать — меньшее зло, а потому я позволю себе назвать это искусство добродетелью отказа.
Не освоив эту добродетель, мы рискуем превратиться в объект манипуляций. Одна моя знакомая умудрилась стать крестной в многочисленном цыганском семействе. Точное количество своих крестников ей установить так и не удалось, потому что она не сумела устоять перед очарованием индийской грусти, побоялась отказать — и стала на кривую дорожку. В процесс спасения богемной семьи был вовлечен и муж, и другие родственники с чувствительной душой. На том этапе отношений, который застал я, общение выглядело так:
— Ой, милая, золотая! Да мой Руслан и пошел бы работать, да ты знаешь, какое у него было детство! Сирота! Голодный! Простуженный! Сердце слабое! Разве он выглядит на свои сорок? Сердце кровью обливается! Вот если бы вы ему машину купили…
И они таки купили ему машину. Влезли в долги, и сорокалетний сирота разъезжал по району, правда, работать так и не пошел. Но это манипуляция, которая лежит на поверхности. К тому же чужие люди.
Но вот передо мной стоит измученная женщина и кается в том, что осудила мужа. А она ведь христианка. Как она могла назвать богоданного супруга лентяем? Оказывается, этот товарищ уже пять лет лежит на диване, а верная жена работает на двух работах, чтобы ему хватало на пиво и сигареты. Дома она постоянно слышит упреки в том, что в ней нет смирения и кротости. Как она думает идти на суд к Богу, если не только не любит мужа, но еще и дерзка и непокорна. Этот диванный богослов заставит несчастную овечку просить прощения за дерзость. И она просила. И на исповедь отправил ее именно он. Каков красавец?
Дело не в мазохизме, который очень удобно прикрывать православной аскезой. Все очень просто: надо уметь говорить «нет». Для личного пользования я вывел правило:
Не бойся казаться сволочью!
Мне очень помогает! Быть сволочью — плохо и недостойно. За это горят в аду. Казаться сволочью — порой жизненно необходимо. Это меньшее зло. Оттого что оно меньшее, оно не перестает быть злом, но в таком трагичном мире мы живем.
Как надо было вести себя чуткой крестной с ловкими цыганами?
Что надо было ответить измученной супруге наглому мужу?
Вы найдете ответы без труда. Подсказывать не стану. Кроме того, правильных решений — больше одного.
Воспитание чувств
Надо уметь говорить «нет». Иначе вы узнаете все ужасы дружбы из жалости, любви из сочувствия, фальшивой радости и натужных восторгов. А самое противное — превратитесь в безотказную куклу, которой все вертят, как хотят, но никто не уважает.
Мир полон людьми, которые хотят нами манипулировать. Наши родители — в первых рядах. В их желании нет ничего преступного. Просто так устроен мир. Если вы не указали человеку на его предел, не прочертили четкой границы, чего же вы обижаетесь, если он беспардонно лезет в вашу жизнь?
Одна моя знакомая годами терпела издевательства мужа. Каждый день был похож на предыдущий. Она прибегала с работы, чтобы успеть разогреть ужин. Супруг возвращался уже под газом, или, как говорят у нас в Гомеле, «с уверенностью в завтрашнем дне». В этом состоянии он любил поиздеваться над безвольной и безответной хозяйкой, и она часто ходила с синяками. Однажды ее терпению пришел конец, но вместо того, чтобы как-то решить этот вопрос, она покормила мужа, дождалась, пока он заснет, взяла веревку и отправилась вешаться. Вскарабкалась на стул и затянула петлю.
— Прости, Господи! Нет моих сил!
И перекрестилась. И тут заметила, что в дверях кто-то стоит. Маленький. Черненький. И облизывается.
— Так это ты меня ждешь? Хочешь с собой утащить? Так — хрена!
И скрутила ему хорошую пролетарскую фигу.
Русские женщины — это, наверное, самое удивительное, что есть на свете! Никогда не перестану ими восхищаться!
Она спокойно сняла веревку и прибрала все следы преступления. А на следующий день повторилась привычная история. Пьяный муж вернулся с бранью и оскорблениями. Уселся за стол, не переставая обзывать ее грязными словами. Жена смиренно слушала, наливая ему борщ. Раз — и борщ у него на голове!
— Помогите! Убивают! Люди! Спасите!
Он даже не заметил, как оказался на лестничной клетке, облитый и опозоренный. Жена казалась спокойной и безразличной:
— А ну, козел, пошел в хату!
Тут я оборву рассказ. Добавлю только, что с этого дня мир и взаимопонимание воцарились в доме, а супруг даже начал ездить на дачу и за год достроил дом, который стоял в руинах десяток лет.
Аскетические опыты
Чтобы поставить навык отказа, не обязательно прибегать к таким экстравагантным приемам. Самое главное, не надо ситуацию доводить до такого градуса напряжения. Эта женщина чудом избежала петли и сумела сделать правильные выводы. А скольких петля не миновала? Поэтому не станем ждать, а возьмемся за дело.
Для воспитания добродетели отказа самое подходящее место — модный магазин. Это очень бодрит — не находите? — отправиться в бутик не за покупками, а чтобы стяжать добродетель. Русский человек очень сердечный. Такое у нас воспитание. Откажешь — замучаешься от чувства вины. Поэтому начните с укрепления воли.
Подойдет к вам хорошенькая девушка в салоне:
— Что вам показать?
Ни в коем случае не говорите, что сами все посмотрите. И очень важно закрепить правильное положение тела: держите величественную осанку и смотрите прямо в лицо, не отводя взгляд. Просите показать самую дорогую шубу. Хорошенько и основательно примеряйте. Со вкусом. Придирчиво рассматривайте пуговицы и мех. Выведайте все о производителе и не кормят ли там норок генно-модифицированными морковками. Подберите к шубке симпатичные сапожки и сумочку в тон. Пусть перед вами рассыпаются бисером. «Подпустите поближе». И в самый решающий момент — отказ.
— У меня дядя работает на норковой фабрике. У нас этих норок — завались!
Только помните, что в салонах калачи тертые и торг — это разновидность спортивного состязания. Есть такие умельцы, которые могут даже слона продать, эксплуатируя ваше природное чувство вины. Чем сильнее соперник, тем надежнее укоренится добродетель отказа.
Никому не раскрывайте наш секрет. Главное, не забыть, что вы идете в бутик ради духовного упражнения. И продолжайте ходить, пока навык не окрепнет.
Добро с кулаками
Закройте глаза и внятно произнесите: «добродетель», «добродетельный», «добродетельная».
Что вы увидели?
Какие образы, жесты, фразы, лица пришли на ум?
С кем и с чем они связались?
Что разбудили в памяти?
Современный человек, скорее всего, автоматически, бессознательно помещает эти слова в иронический контекст. Это образцы устаревшей лексики, выдохшиеся термины, увядшие понятия.
Илья Стогов — католик. Будь он в нашей Церкви, его книги читали бы охотнее православные товарищи. Своему обращению он посвятил небольшую книжку «Тринадцать месяцев». Питерский журналист с бурным прошлым принимает христианство и отправляется в свой первый крестный ход, многодневный и многотрудный. Они идут по Беларуси к Будславской иконе Божией Матери, идут долго и тяжело, так что к вечеру просто валятся без сил на землю.
В одной из белорусских деревушек вокруг их стихийного лагеря начинает кружить любопытная местная детвора. Илья, распростершись на травке, замечает русую голову, которая, мелькая тут и там, очевидно приближается к нему по затейливой концентрической орбите.
— Дядь, а вы кто?
— Мы — христиане.
— А кто такие христиане?
— Христиане — это красивые, но верные женщины и сильные, но добрые мужчины.
Гениальный ответ, не так ли? Лучше и не скажешь. Но малыш продолжает:
— Дядь! А зачем быть добрым, если ты сильный?
Вот вам — краткий очерк этических взглядов маленького язычника. И не только его. Это исповедание морали целого поколения: крепкая убежденность в том, что быть добрым — значит показывать слабость, записать себя в компанию лузеров.
— Добро — удел слабаков и трусов. Добродетель — ширма для мелких душонок, которые боятся жить и прикрывают громкими лозунгами свою нравственную тщедушность и бессилие. Страх Божий — это просто удачно названная трусость. Вы боитесь грешить не потому, что это нарушает заповеди, а потому что силенок маловато, и вы свою малокровную мораль навязываете здоровому и сильному большинству, попутно запрещая и завидуя тем, кто жить умеет и делает это со вкусом. Вся христианская нравственность, все так называемые добродетели вырастают из чувства, которое французы называют ressentiment — поищите в словаре значение. Ты праведный, потому что грешить уже не в состоянии, но другим завидуешь, вот и запрещаешь, душишь живое!
Узнали «пророка»? Приблизительно так христианскую мораль оценивал Ницше, пожалуй, самый издаваемый сегодня философ. Это блестящий стилист и остроумный мыслитель, и его критику христианину читать непросто, но временами полезно. Сегодня его назвали бы опытным троллем. Однако кое в чем он действительно прав. Христиане проглядели тот момент, когда добро и добродетель перестали считаться силой и были отданы в полное владение кислым старухам и завистливым неудачникам. Мы не заметили, как стали отождествлять добродетель с запретом на грех, будто нам подарили не поместье, а всего лишь забор, убивающий движение в любую сторону.
Однако добродетель — это сила и энергия. Быть добрым и быть сильным — одно и то же. Подлинная христианская этика — это кодекс рыцаря, это символ веры, доблести и отваги, решительности и риска, азарт состязания и веселое бесстрашие.
Всю христианскую мораль можно уместить в один абзац честертоновского эссе «Кусочек мела»:
«Добродетель — не отсутствие порока и не бегство от нравственных опасностей; она жива и неповторима, как боль или сильный запах. Милость — не в том, чтобы не мстить или не наказывать, она конкретна и ярка, словно солнце; вы либо знаете ее, либо нет. Целомудрие — не воздержание от распутства; она пламенеет, как Жанна д'Арк. Бог рисует разными красками, но рисунок Его особенно ярок (я чуть не сказал — особенно дерзок), когда Он рисует белым».
Virtus — латинское слово, которое мы переводим как «добродетель». Вы заметили корень vir? Это важно, потому что vir на латыни значит «мужчина». Добродетель — это не «бабье», не затхлое и слезливое. Добродетель — это отвага и мужество, в том числе и мужество женщины, и мужество ребенка. Довольно часто этот латинский термин переводят как «доблесть» и «достоинство», потому что в настоящей добродетели есть и доблесть и достоинство, а там, где их нет, не давайте себя провести. Целлофановые добродетели — на свалку!
Греческий эквивалент virtus — αρετη, и вы не ошибетесь, если предположите связь этого слова со знакомым термином «аристократия» — «власть лучших». Добродетель — это наилучшее, отборное, предельно живое, не объедки жизни, а самое сердце ее горения. В древности αρετη означало «добротность», «высшее качество». Это был жест восхищения. Мы бы воскликнули: «Какая вещь! Первый сорт! Супер!» А древний грек брал в руки хорошо сделанный нож, вещь добротную и надежную, и ставил оценку: αρετη! Если бы мы помнили это значение, то безошибочно определяли добродетельного человека как человека с большой буквы. А если не с большой — то и о добродетели говорить нечего!
Апостол Павел пишет к Тимофею:
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия (2 Тим. 1:7).
Целомудрие и кротость — не боязнь и трусость, а доблесть, заработанная трудом, сокровище, добытое у врага боем. Быть добродетельным — огромный риск. Это итог большого труда, это мужество, выкованное перед лицом опасности.
Добродетель не дар природы, не врожденное свойство. Добро — результат тяжелого, кропотливого многолетнего труда. Не случайно в нашем русском слове два корня: «добро» и «делать».
Добродетель есть навык отвечать на вызовы судьбы делом, деланием добра.
В библейской Книге Судей собраны истории из жизни евреев в один из самых смутных периодов их истории, когда они находились под властью жестоких и циничных захватчиков, так что у некоторых людей даже появилась обида на Творца:
— Куда смотрит Бог? Как Он попускает такие страдания Своему народу?
Подобные мысли кипели в голове юноши по имени Гедеон, когда он торопливо готовился к бегству, потому что орда мадианитян была на подступах к его деревне. И ему явился ангел в виде странника с обычным приветствием:
— Господь с тобой, муж сильный!
— Господь с нами? Тогда откуда все эти беды? Старики говорят, что Бог вывел нас из Египта. Что-то не заметно, чтобы Он спешил к нам на помощь в этот раз!
— Так ведь ты — мужчина! Иди и спаси Израиль!
Ангел дал ему ответ, гениальный в своей очевидности: доблестный муж отвечает на вызовы жизни делом и поступком, и доблесть только крепнет, становится еще сильнее от брошенного ей вызова. Добродетельный — не трус и не паникер, но человек, всегда готовый к сражению.
Внимательно перечитайте библейские истории о призвании святых на подвиг. Призвание — это не только благословение Бога, но еще и ответ человека, готовность идти на дело Божие, отвага и презрение к боли.
И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? И кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня (Ис. 6:8).
На призыв Бога Исаия ответил готовностью к делу, не уточняя, что нужно делать, какие гарантии и шансы на победу.
Вот я, пошли меня!
Это слова мужчины!
Добродетель — это навык отвечать делом добра на атаки судьбы. Навык надо воспитывать, ставить, формировать, и это не вопрос одного дня.
— Каким образом?
— Учитесь у сильнейших.
Люди добра и добродетели окружают нас повсюду. Не стесняйтесь брать уроки даже у людей светских и неверующих. Среди них немало доблестных мужей и благородных жен. Только не надо забывать, что первый шаг к доблести — готовность переносить боль и неудачи.
Путь добра труден. Но в конце его вы увидите нечто совершенно прекрасное: красивых, но верных женщин и сильных, но добрых мужчин.
Человек сопротивления
Отовсюду летят новости. Читаю и грущу.
Мальчик двенадцати лет покончил с собой. Разбил дорогой телефон и испугался гнева родителей. Нашли в петле.
Семнадцатилетний подросток повесился на школьном дворе. Бросила девушка.
Студентка пыталась прыгнуть с моста. Не сдала сессию.
Заведующий кафедрой отравился в гараже, узнав о потере должности.
Настоящая эпидемия самоубийств. В некоторых областях суициды вышли на первое место среди смертей от несчастных случаев. Самоубийц больше, чем погибших на дорогах.
Отчего народ так легко и охотно расстается с жизнью? Причин много. Отмечу только одну, но самую главную. Мы очень комфортно устроились и забыли, что жить — это больно — вот фраза, над которой следует поразмышлять.
Жить — это больно
Произнесите десяток раз, постепенно меняя интонацию от горького драматизма до задорного комизма. Перед вами не просто дешевый лозунг, а лакмусовая бумажка для проверки состояния внутреннего развития, тест на зрелость.
Что вы слышите, что чувствуете, проходя этот тест? Отчаяние, одиночество, вам припоминается вся горечь предательства, людской подлости и несправедливости, или в вас просыпается спортивный азарт и жажда полнокровной жизни с желанием все перепробовать и наброситься на жизнь с еще большей жадностью? Такой широкий спектр взаимоисключающих переживаний будит одна и та же фраза у разных людей.
Читаю в первой части «Тихого Дона», как братья Мелеховы отправились на поле и стали по дороге дурачиться. Чуткие соседи, наблюдая со стороны, поняли все превратно и сообщили отцу, что сыновья устроили драку. Батька, не сильно разбираясь, прыгнул на коня, догнал сорванцов и успел перетянуть одного из них плеткой, прежде чем они скрылись в высокой пшенице.
Ставлю на место братьев современных подростков. Унижение почти взрослых ребят на глазах всего села. Несправедливость — ведь папка даже не спросил, что случилось, сразу схватился за кнут. Обида на клеветников-односельчан. Домашнее насилие, отец-тиран, психологическая травма на всю жизнь и, как ее наследие, зажатость в отношениях с людьми и особенно с девушками.
А как отреагировали герои Шолохова? Прячась в поле, братья посмеивались, потирая ушибленные бока:
— А у батьки-то рука еще о-го-го какая, крее-епкая! Так хватил, чуть кнутовище не переломилось! Хорошо припечатал!
Вместо жалоб и угроз — восхищение силой удара!
— Боль одна, а реакции на нее разные. Почему?
— Люди другие. Мелеховы выросли в деревне, с детства привыкли к труду, а труд — это всегда боль. Нравы были круче. Во всем была простота и грубость. Хорошо это или плохо — не знаю. Как бы я ими ни восхищался, все же предпочитаю этому патриархальному колориту наше время и наше окружение. Я счастлив, что нравы смягчились и мне не приходилось прятаться от буйного папаши в бураки.
Жесткость нравов, отсутствие удобств и новокаина. При всех недостатках казацкого быта, дети тогда получали то, что ставит их в преимущественное положение по сравнению с их нынешними одногодками. У этого преимущества есть название.
Искусство держать удар.
В традиционном обществе воспитанию этого навыка уделялось большое внимание. Жизнь была сложной, страданий и смертей было больше, поэтому научить ребенка правильно реагировать на боль было вопросом выживания.
Человек, претендующий на вступление во взрослую жизнь, должен был обосновать свою зрелость, пройдя обряд инициации, а это всегда испытание болью. Умеешь переносить боль, значит, уже не дитя. Спартанские юноши мужественно терпели безжалостную порку, лежа на холодном камне, но нельзя было проронить ни звука, ни слезинки. Если не умеешь терпеть боль, как тебе можно доверить женщину, детей, государство?
Снова о казаках. С чего начинается «Тарас Бульба»? После годовой отлучки с учебы возвращаются дети Тараса. И отец, и мать обожают своих славных сыновей, но как проходит встреча? Радостный папка больно задирает сына с огромным желанием затеять драку, и он ее получает. Долгожданная встреча превращается в потасовку, из которой и отец, и сын выходят в приподнятом настроении. Батя в восторге от крепких кулаков наследника, а сынок получил веское удостоверение, что батька еще в силах и здоровьем Бог не обидел. Короче, все счастливы!
Как сказал бы Александр Сергеевич:
Мой друг, таков был век суровый. И предок твой крепкоголовый Смутился б рыцарской душой, Когда б тебя перед собой Увидел без одежды бранной, С главою миртами венчанной, В очках и с лирой золотой.Сегодня нравы смягчились. Порог боли сместился в сторону большей чувствительности. Навык держать удар выпал из числа важнейших. И напрасно. В моем пионерском детстве довольно часто звучало выражение «морально-волевые качества». Не просто апелляция к морали, но и к воле, то есть способности принимать решения, действовать быстро и реагировать правильно. Держать удар — значит суметь правильно отнестись к неудаче, к падению, принять свою ошибку и ее последствия, пережить предательство и жестокость без мстительности и озлобления, но со здоровым азартом — хорошо припечатал!
Шахматисты говорят: хочешь научиться играть, играй с сильнейшим и проигрывай. Красивый проигрыш — бесценный опыт, его не возьмешь из книжек. Настоящий тренер обязательно ставит своему ученику навык правильно переносить поражение, с достоинством и без истерик. Хороший педагог знает, что именно с этого и надо начинать. Потому что жизнь состоит не только из побед, но за каждым достижением стоит труд, а значит, боль и страдание, и переносить неудачу с достоинством — это знак подлинной доблести.
Неудача и поражение дают нам более адекватное представление о том, как устроен мир, но, пожалуй, самое главное, этот опыт знакомит нас с собой. Поражение — опыт самопознания, освоение своих пределов и границ.
Жизнь — это боль. Можно остановиться на этом и выбрать одно из двух: терпеть или жаловаться. А можно пойти дальше и принять бой. Потому что жить — значит сражаться — занятие опасное, но очень веселое. С поля брани не сбежишь, но от тебя зависит, будешь ты трусливо прятаться или дерзко нападать. Люди делятся на тех, кто отбивается от мяча, и тех, кто ведет игру. Если уж никуда не деться, почему бы не попробовать тактику нападения?
Гитарист идет через боль, но по-другому невозможно подчинить себе инструмент.
Гимнаст покоряет себе свое тело, превозмогая боль, но это усилие дарит ему ни с чем не сравнимую радость полета и гибкости.
Писатель обрекает себя на муку каждый день прорываться через инерцию языка, обуздывая слово, разбивая косность мысли, и в конце концов побеждает или падает, но не сдается.
Политик выходит сражаться на арену с «голодными львами», слыша, как за спиной наглухо закрывается дверь, и пути обратно нет, да он и не вернется, потому что веселье в самом разгаре.
Бизнесмен бросается в «воду, кишащую акулами», зная, что без ранений не обойтись, но такие уж тут правила, и, будьте уверены, он дорого продаст свою жизнь.
— В каком опасном месте мы живем! Почему нельзя как-то устроиться без боли и сражения?
— Откуда нам знать тайны Божии? Таков наш мир, и мы его благословляем, а Писание говорит о христианах как о людях сопротивления:
Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 6:12).
Но здесь апостол говорит об отрицательном измерении брани, на которую каждому предстоит выйти. Это вечная распря между человеком и человекоубийцей-врагом. Однако это не вся правда об устройстве мира. Жизнь — это борьба, но у борьбы есть и положительное измерение, и именно в нем работают политик, бизнесмен, спортсмен, писатель и музыкант и вообще каждый из живущих. Живое всегда сражается. Христианин не может не воспитывать в себе навык держать удар. Каждый из нас — солдат, и конца брани не видно. Расстраиваться из-за этого или ликовать?
Бог в доспехах
Читая жития святых, поражаешься, сколько приходилось терпеть этим людям. Преподобный Амвросий Оптинский страдал почти всю свою жизнь, так что довольно часто был вынужден принимать людей лежа. Батюшка Серафим Саровский тяжко хворал с детства, а нападение разбойников превратило его в калеку. Матушка Манефа Гомельская с детства была инвалидом, но трудилась всю жизнь и умела приободрить и шуткой, и наставлением.
Среди угодников Божиих практически нет людей благополучных. Все они прошли через страдания и муки, но с каким достоинством!
— Почему люди святой жизни, дававшие другим исцеление, сами себе не могли помочь?
— Потому что между святым и Богом открывается недоступная нашему пониманию тайна ратоборства.
Был удивительный поэт Эзра Паунд. У него есть загадочная «Баллада мрака», в которой он обращается к Богу не как Творцу и Искупителю, а как к галантному сопернику (gallant foe), с которым предстоит вступить в схватку. История отношений с Богом — история любви. Сначала человек любил Бога, как дитя, отдыхая на руках Господа. Потом он любил Бога, как женщина любит своего возлюбленного, но вскоре ему открылся лучший путь любви:
Возлюбить Его, словно Бог — твой враг И сокрыт покровом при этом, Мы сходились в ночи, где безвиден мрак, Как ветра за Арктуровым светом.Это образ, который нам хорошо известен из книги Бытие. Патриарх Иаков, хранимый Богом беглец, встречает на закате Того, Имя Которого чудно, и всю ночь сражается с Ним и проигрывает бой, но получает новое имя — Израиль — богоборец — имя, которое обозначает не ниспровергателя Бога, а того, кто так близко подошел к Нему, что имел честь попробовать Его силу.
Кто Богу, как муж в бою, проиграл, Тот в конце концов превозмог.Боль и борьба лежат в самом основании всего прекрасного.
Творчество есть борьба.
Любовь есть сражение.
Дружба есть ратоборство.
Познание есть битва.
Художник бросает вызов природе, сражаясь с немотой холста и однозначностью красок. Скульптор ломает природные формы, чтобы вызвать к жизни нечто невиданное. Поэт объявляет охоту на летучие образы и праздные слова, и, если он хороший ловец, у него будет целый табун объезженных пегасов.
Любящий вступает в состязание с любимым с риском потерять все или найти жемчужину, блеск которой он однажды разглядел и теперь идет по следу, не глядя на ранения и оклики разумных и премудрых. Друзья, дети, любимые — участники большого турнира любви, который составит честь любому рыцарю.
В поисках истины люди пускаются в путь, бросая вызов великанам, дерзко хватая гениев за подол платья крепкими и жадными руками. Хочешь понять мудреца, вызови его на бой и проиграй. Как только ты открываешь книгу великого, ты бросаешь ему перчатку, и будь готов с достоинством вынести поражение. Но лучше проиграть великану, чем всю жизнь трястись в углу, прячась от жизни.
Жить — хорошо!
Жить — больно!
Жить — весело!
Церковь и общество. Муки неразделенной любви
В 1995 году я принял постриг и стал священником. С этого времени я всегда и везде хожу в традиционной монашеской одежде. Рынок, книжный магазин, поликлиника, троллейбус — всюду я остаюсь собой. Стою ли в очереди, иду ли по улице, читаю лекцию в аудитории — на мне одежда, которую называют подрясник, пояс и иногда священнический крест, и над всем этим — борода и длинные волосы. Один молодой человек, увидев меня в университете, выпалил от неожиданности:
— Вы что — священник?
— Что меня выдало? — отшутился я.
Однако жить и действовать в таком экзотическом образе далеко не шутка. Быть священником или, ради точности, являться священником — это сильнейшее эмоциональное напряжение, поэтому я с пониманием отношусь к батюшкам, которые вне храма носят обычную светскую одежду. Человеку естественно стремиться смешаться с толпой, быть своим среди людей, не выделяться. Замечательный Джонни Депп как-то сказал, что для него свобода — это прежде всего анонимность. Очень трудно быть круглые сутки при исполнении, не всякому это под силу, поэтому большинство священников ищут отраду и отдых в анонимности, принимают ее как благословение, и никто не смеет порицать их за это. Потому что жизнь в подряснике — настоящее испытание.
В первый год своего священства я решил всегда быть в своей монашеской одежде. Во-первых, так честнее, ведь я — священник и монах, как же я еще должен одеваться? Во-вторых, мне было просто лень переодеваться и к тому же покупать, примерять и где-то хранить светский гардероб, поэтому свою верность подряснику я не принимаю как подвиг. Честно говоря, так было проще, естественнее, натуральней.
Духовник говорил, что мои походы в город в монашеских одеждах есть форма проповеди. Белоруссия в годы советской власти поставила себе целью стать самой атеистической республикой и, похоже, добилась впечатляющих успехов, по крайней мере, в своей восточной части. Можно было бы написать обстоятельное научное исследование на основе моего опыта хождения по городу. Реплики, взгляды, мимика, жесты, неожиданные разговоры и, если не самое главное, мои личные эмоции — это живая и пестрая картина, в которой отражаются все противоречия, пронизывающие диалог Церкви и общества. Мой скромный подрясник, словно реактив, выявлял градус напряженности этих отношений, скрытых тенденций, накопленных претензий, удобных стереотипов, уютно устроившихся по ту и другую сторону.
Голос приживалки
Идем с моим другом по рынку. Он тоже священник, полноват, страдает диабетом и, как и я, всегда ходит в подряснике. Ему тяжелее, чем мне: почти на каждой такой прогулке он слышит комментарии по поводу лишнего веса.
— Попы жиреют на народном горе!
— Поститься, батюшка, не пробовали?
— Это на копейки старушек такое пузо отъел? Мой приятель, человек невероятной кротости, как-то не выдержал:
— Да, разжирел! Тебя объел!
И тут же вызвал восхищение самих критиков. Душа народа — загадка!
Можно все это списать на обычное хамство. Но это не так. Рядовому человеку ты не станешь задавать вопрос:
— А почему это вы такой толстый? Потрудитесь объясниться! Общество взволновано и требует немедленного ответа!
Или так:
— Какая у вас зарплата? А за прошлый месяц? Вот этот автомобиль на какие средства куплен?
Обратиться с такими вопросами к незнакомому священнику не считается хамством. Почему? К таким вещам я отношусь с юмором и не собираюсь обижаться или давить на жалость. У меня исключительно научный интерес: как так получается, что верующие, в большинстве своем очень хорошие люди, не могут найти общий язык со своими светскими визави, которые чаще всего тоже очень хорошие люди?
Христиане — народ, склонный к самокопанию. Мы приучены сразу искать свою вину. Поэтому так много разговоров о свирепых старухах и невежественных священниках, о строгих монашках и неповоротливости нашей церковной бюрократии. И мы с жадностью ищем знаменитостей, принявших христианство, собираем целые каталоги высказываний известных людей — вот и этот актер нас похвалил, вот и эта писательница, смотрите, как тепло отозвалась о Церкви!
Меня глубоко оскорбляет это нелепое попрошайничество! Словно целое общество замечательных людей вдруг поразил некий «холопский ген», комплекс старухи-приживалки!
Батюшка в осаде
Каждый день выходить в город в подряснике — это испытание. Нервное занятие. Люди бессознательно указывают тебе на твою неуместность. Не потому что они плохие, просто общество стало слишком секулярным, и серьезное отношение к религии принимается как опасное чудачество. Человек верующий вынужден тратить значительную часть своих сил на сопротивление этому глухому давлению отчуждения. Другими словами, просто быть верующим в наше время требует огромной затраты сил. Это можно сравнить с теми эмоциональными затратами, которые уходят, скажем, у начинающего писателя или музыканта на преодоление сопротивления со стороны близких и родных, которые стройным хором смеются над его увлечением, стыдят, призывают быть как все и «тупо зарабатывать деньги».
Человек — существо социальное. Без поддержки тех, кто рядом, без их одобрения и ободрения очень непросто. Этот барьер отчуждения хорошо знаком людям, неожиданно для близких решившим заняться спортом или танцами. Просто выйти на пробежку первый раз — это целое приключение! Вот об этом я говорю, когда пытаюсь описать эмоциональное напряжение, в котором живет верующий человек.
Почему так важно отдавать себе отчет в этих эмоциональных затратах? Если сопротивление среды достаточно высоко, то на его преодоление уходит порой столько сил, что на творчество уже почти ничего не остается. Я это подчеркиваю, потому что мы, люди, склонные к самоедству, имеем привычку предъявлять себе завышенные требования. Но наш эмоциональный заряд не безграничен. Если вы его почти целиком тратите на сопротивление давлению светского окружения, не ждите от себя великих прорывов.
Я годами находился в такой эмоциональной осаде, гуляя в своем «вызывающем наряде» по городу. И вдруг что-то случилось. Видимо, я повзрослел. Неожиданно мне открылось, что этот город, по которому я хожу, такой же мой город, как и тех, кто ходит рядом. Я не нуждаюсь в снисходительных взглядах, я не обязан отчитываться ни перед кем. Это моя страна, это мой город, и я такой же гражданин, как и все прочие. Я не приживалка, выпрашивающая объедки в ожидании, что ее кто-то подберет или приютит. И самое главное: я не обязан ни перед кем оправдываться.
Оправдание — жанр, к которому церковные люди так привыкли, что уже и не замечают его противоестественности. Любая дискуссия между священником и светским журналистом превращается в бесконечный и унизительный поток оправданий Церкви перед широкими народными массами, которым чаще всего и дела нет ни до Церкви, ни до ее оправданий. Они просто развлекаются.
Вертикальный диалог
Будь моя воля, я бы исключил слово «апология» из церковного лексикона. Наше дело не апология, а Евангелие. Мы несем людям истину о Христе, благовестие вечной жизни. Это достоинство и великая честь. Невозможно нести благовестие с виноватым видом. Истина говорится с высоко поднятой головой. Истину говорят самозабвенно, так что не надо вспоминать на каждом шагу о своем недостоинстве. Когда речь идет не обо мне, а о Христе, я не стану прятать глаза и оправдываться.
Откуда это желание понравиться светской публике? Откуда это заискивание перед людьми безразличными?
— Да, но на вас кровь, пролитая инквизиторами, и шельмование Галилея!
— А на вас кровь тысяч убитых священников!
И к чему приведет этот спор? Количество дураков по ту и другую сторону одинаково, и если мы продолжим диалог в жанре апологии, он ни к чему не приведет, потому что Церкви не в чем оправдываться перед обществом, как и обществу перед Церковью, потому что речь идет об одном и том же.
Мы привыкли мыслить диалог Церкви и общества «вертикально»: вот общество и вот Церковь — два обособленных субъекта, два антагониста. Общество предлагает, Церковь осуждает. Общество рвется вперед, Церковь плетется в хвосте и с подозрением относится ко всем добрым начинаниям и порывам в сторону прогресса и просвещения. Очень удобная схема! Простая и понятная! Поэтому так трудно от нее отказаться. В реальности все иначе. Диалог Церкви и общества проходит по горизонтали. Церковь — это часть общества, а общество — часть Церкви. На самом деле диалог идет внутри одного и того же общества, а если это так, то никто не вправе ставить себя на трибуну судьи. Диалог — это не судебное разбирательство, а бескорыстная и доброжелательная попытка объясниться с собеседником, искренний интерес и деликатное любопытство.
Общество не монолит. Это живой организм пестрых и разнородных жизней и мнений, а с живым всегда сложно. Куда проще руководствоваться стереотипами и понятными схемами. И мы, христиане, имеем к этому слабость. Но этой слабостью грешат и наши секулярные собеседники. Им тоже свойственна косность и зашоренность в оценке действий христиан. Верующих обвиняют в категоричности, в отсутствии здорового и искреннего интереса, в нежелании идти на диалог. А наши секулярные оппоненты в этом не повинны? Всякий христианин, которому приходилось участвовать в дискуссиях, по опыту знает, сколько терпения и сил требуется на то, чтобы вывести диалог из порочного круга стереотипов и обобщений.
Собрание непохожих
Вот мой знакомый батюшка едет в маршрутке. Пьяненький мужичок сразу затевает разговор на «божественные темы» и закругляет:
— А ведь я католик. Но к ним — ни ногой!
— Отчего же вы не ходите в костел?
— Они Жанну д'Арк сожгли!
Забавный разговор. Но его комическое зерно есть в каждом нашем споре со светской аудиторией, которая не хочет слышать и свое нежелание или неспособность к диалогу прикрывает, крепко держась за старинные анекдоты или журналистские штампы.
Общество — собрание непохожих, и это прекрасно. Церковное общество тоже не монолит. Внутри православия есть и свое левославие — христиане, имеющие склонность к здоровому анархизму, что никак не делает их менее православными, чем, скажем, монархисты или христиане с коммунистическими убеждениями. Потому у нас так много православных журналов, сайтов, сообществ. Есть сайт «Православие и мир», есть «Благодатный огонь». Есть община отца Георгия Кочеткова, и есть община отца Димитрия Смирнова. И это прекрасно. Многообразие — это хорошо!
Мы часть общества, и порой мне проще найти общий язык с моим другом-атеистом, чем с человеком, с которым я вместе причащался от одной Чаши. Мне легче найти общий язык с таким же левым, как и я, но светским человеком, чем с православным, но правым. Но это не разрушает нашего церковного единства. Это нормально. Потому что наше единство иного порядка. Правда, объяснить это светскому человеку так же непросто, как и верующему. Потому что все это усложняется апелляцией к Церкви как к институту, с его иерархическим, бюрократическим и финансовым устройством.
Человек — существо социальное. Ему нельзя без институций, но наличие таких институций не означает, что все верующие ходят стройными шеренгами и повторяют наказы вождей. И наоборот: ни одна из групп этого церковного сообщества не смеет объявлять монополию на суждение относительно вопросов, не касающихся евангельского учения. Церковь есть общество непохожих людей, следующих за Христом. И ни одна из групп не смеет приватизировать голос Церкви. Когда от Церкви требуют заступиться за некоего активиста, отождествить себя с политической партией, стать на стороне некой группы в том или ином споре, нужно быть очень осторожным. Да, эта осторожность нам дорого обходится. Нас непременно почисляют в штат «прислужников режима» или адвокатов капитала. Ничего страшного. На самом деле это проблема не церковного общества, а людей, которые не умеют и не хотят слышать оппонента, людей, которым претит многообразие.
Похороны кузнечика
Диалог Церкви и общества — это не тяжба клерикальной институции с обществом, это разговор внутри самого общества: его верующая часть обращается к секулярной. И этот диалог, как и всякий диалог, требует равносубъектности. Христиане не должны выпрашивать себе местечко, не должны постоянно оправдываться, потому что они часть этого общества. Они в политике, науке, искусстве, общественной жизни, а потому причастны к достижениям и ошибкам. Кстати, именно поэтому так сомнительно звучат привычные сюжеты о конфликте науки и религии, Церкви и культуры. И в науке, и в искусстве, и в политике всегда были и будут верующие люди, а значит, на них и слава, и вина за все, что происходит в нашем мире.
Однако о равносубъектности в этом диалоге внутри общества следует помнить и христианам, у которых тоже есть немалый опыт религиозного высокомерия. Но и обратное не лучше. Принимать на себя роль назойливой приживалки никуда не годится. Выпрашивать внимание, как подачку, снисходительную похвалу и ленивое одобрение — это недостойно нашего звания, так у нас никогда не сложится.
Долгое время я был регентом хора. Как-то я услышал спор певчих по поводу произведения одного нашего композитора, автора очень сильного и сложного, скажу, сочинения. Сопрано пустились в критику и всеми силами манкировали спевку. Один престарелый бас молча терпел этот глупый протест и в конце концов изрек:
— Ты можешь написать лучше? Нет? Так закрой рот и пой!
Если бы мне пришлось искать фразу, которая передает всю суть претензий светского общества к Церкви, лучше и не найти: «Закрой рот и пой». Дорогая машина у священника? Вор и обманщик! Батюшка в стареньком подряснике едет в троллейбусе? Лузер и неудачник!
— Почему Церковь не высказывается по политическим вопросам?
— Зачем Церковь лезет в политику?
Закрой рот и пой!
Всё по Евангелию:
Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали (Лк. 7:32).
Историки говорят, что евангелист упоминает здесь старинную игру, которая называлась «похороны кузнечика». Нам навязывают роль в дурной пьесе и обижаются, если мы даем реплики не по сценарию. Если вы хотите понравиться, если, словно побирушка, ищете одобрительный кивок, диалог не состоится. Это изначально неверная стратегия. «На каждый роток не накинешь платок», — говорил наш покойный настоятель. Поэтому не надо тратить свои силы на задабривание дешевых клоунов, на бесконечные оправдания, которые никто не слышит. Надо просто и с достоинством делать свое дело и общаться с достойными.
Дружба возможна только между равными.
Дружба возможна только между людьми достойными.
Если мы сами себя не уважаем, кто станет уважать нас?
Диалог Церкви и общества — это уважительное и доброжелательное общение церковной части общества с его секулярной частью. Этот диалог требует терпеливого и тактичного вслушивания, воспитанной культуры дискуссии и искреннего желания понять собеседника. Все эти качества не есть обязанность какой-то одной стороны, но совместное обоюдное усилие, может быть, весьма затратное, но оно того стоит.
Петр и Павел: одна икона на двоих
Когда я показываю детям иконы нашего храма, мне всегда приятно видеть их удивление перед Августовской иконой Божией Матери, которая очень почитается в наших краях. Ее особенность в том, что она написана по обету русскими солдатами, спасенными из окружения явлением Богородицы. Дело было в Первую империалистическую, поэтому солдаты на иконе изображены по моде того времени: усы а-ля Сальвадор Дали, винтовки, портупеи, револьверы.
— Как же так? На иконе — и вдруг современные одежды и прически? Ведь это же икона!
Почему нас так это удивляет? Дело в привычке воспринимать церковное как нечто архаичное и законченное, даже, скорее, завершенное. Но ведь это ошибка. Церковная полнота — не только сонм прославленных святых, но и мы, ныне живущие, и те, кто придет после нас. Поэтому и возникает дерзкая до головокружения мысль:
Без меня нет Церкви!
Подумайте над этим, произнесите снова: Без меня нет Церкви!
Страшно! Ответственно! Но это правда нашей церковной жизни. Не только без меня, но и без тех людей, что стоят со мной рядом на службе, тех, кто молился здесь в прошлом веке, и, более того, тех, кто еще не родился, но будет молиться здесь через столетие, — без нас нет Церкви! Без нас она еще не проявлена, не открыта!
Иконное искусство смело вбирает в себя меты времени, включая одежду, стиль жизни и даже технику. Но самое важное в иконе не это. Икона не памятник и не летопись. Ее дело — являть лик и быть местом присутствия. Это понятно даже малоцерковным людям. Но есть в иконе и иное откровение, которое вместе и озадачивает, и пугает. Это откровение настигло меня в не самый подходящий момент моей монастырской биографии.
Под одним окладом
Монастырь — это семья. В семье бывает всякое. Всякое было и у нас. Один начальствующий брат просто спать не мог, так невзлюбил меня, и это продолжалось годами. Ничего тут страшного нет. Мы всего лишь люди. Один старенький монах, наблюдая эту распрю, повторял:
— В дурь бросае! В дурь!
С каждым может случиться, что уж тут говорить. Но мне приходилось несладко, потому что весовые категории были неравны. Однажды после очередной «спрэчки» я стоял перед иконой апостолов Петра и Павла и вдруг подумал: если бы сейчас в наш храм ворвались злодеи и зверски замучили за веру меня и «возлюбленного брата», нас бы непременно прославили как мучеников, написали книги, защитили диссертации, и мне бы пришлось делить с этим человеком одну икону. Всё ссоримся, ругаемся, но держимся приличий, а тут — мученичество, мощи в одном гробу и образ под одним окладом. И ведь с иконы не сбежишь! Святые себе компанию не подбирают! И это навсегда! Хоть икона — это только образ Вечности, но образ верный!
А Петр и Павел смотрят с иконы. У одного ключи, у другого меч. Один с длинной черной бородой, другой седой и лысоватый. Но разве во внешности дело? Два абсолютно разных человека и под одним окладом!
Будни святых
Рыбак-пролетарий и ученый-аристократ. История знает редкие случаи дружбы между людьми из разных социальных миров. Сразу вспоминаются товарищ Ленин и рабочий Иван Бабушкин, которые своей живой дружбой удивляли современников. Но с апостолами сложнее. Если мы внимательно перечитаем не средневековые жития, а оставленные ими тексты, откроется нечто не совсем житийное.
Церковная традиция невозможна без интуиции иерархии. В богослужебных текстах хорошо видна иерархия святости: Христос, Богоматерь, Предтеча, ангелы, апостолы, святители и так далее. Здесь апостолы — высшее звено иерархии. Как говорят мои маленькие ученики: «Самые святые святые». А святые, как известно, должны не ходить и говорить, а «ступать» и «молвить». Однако новозаветные тексты говорят о другом: среди ближайших учеников Христа случались «огорчения».
Сегодня мы смотрим на икону святых апостолов и кадим святым ладаном, и два светильника веры молятся за нас перед престолом Божиим. А каких-то две тысячи лет назад апостол Павел рассказывал своим ученикам, как в Антиохии лично противостал (Гал. 2:11) апостолу Петру, обличив его в лицемерии. И не только это послание, но и другие тексты пестрят свидетельствами о непочтительном отношении апостола Павла к верховным апостолам. Он иронически называет их знаменитейшие (Гал. 2:2) и совершенно не дорожит знакомством и связями с этим уважаемым кругом предстоятелей.
Однажды в полдень на дороге в Дамаск его встретил Христос. Для Павла это была настолько важная встреча, что в книге Деяний рассказ об этом событии повторяется трижды во всех деталях. С момента этой встречи всё, кроме Христа, для Павла превратилось просто в пыль:
Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор (Флп. 3:8).
А ведь ему было от чего отказываться! Павел был иудейским аристократом самого высокого ранга, но ради Христа он вменил в прах и тлен не только свои аристократические преимущества, но даже и религию отцов.
И вспоминается Петр, которого Господь посылает проповедовать язычнику Корнилию. Апостола настигает видение сосуда, спускающегося с небес, и он трижды слышит повеление: «Заколи и ешь!», и трижды препирается с Повелевшим:
Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого (Деян. 10:14).
Это просто что-то невероятное! Бог в видении трижды велит что-то сделать, а он еще и в спор вступает! Так глубоко сидело в человеке религиозное воспитание, что даже Богу было непросто его поколебать!
Икона Церкви
С одной стороны апостол язычников, с другой — апостол для иудеев. Здесь — ученый муж, десятки лет потративший на изучение иудейской и эллинской премудрости, тут — рыбак, человек простой и религиозный, просветленный Духом Святым. Два очень разных человека, но оба — ученики Христа и чудотворцы. Тень Петра исцеляет больных, головные платки Павла отгоняют недуги. Они пророчествуют, наставляют, рукополагают и без устали делятся евангельской вестью. И при этом — не понимают друг друга! Петр находит в посланиях Павла нечто неудобовразумительное (2 Пет. 3:16).
Конечно, вокруг текстов апостолов ведутся споры. Исследователи по буквам просеивают древнейшие манускрипты, регулярно делая сенсационные заявления то о подлинности текстов, то об авторстве, то о литературных влияниях. Это все важно и нужно. Но для меня не менее важно то откровение, которое несет икона апостолов, потому что это икона Церкви.
О чем можно говорить с человеком, не читавшим Шмемана?
Как можно молиться рядом с гражданином, который держит дома книги Шмемана?
Мой монастырский оппонент едва не развязал гражданскую войну, узнав, что я даю читать книги Льюиса.
— Соблазняет братию протестантом-еретиком!
Вы скажете, что это очень далеко от Петра и Павла? Вовсе нет. Это было наше маленькое «огорчение». Здесь мы ничем не превзошли век апостольский. И не надо обижаться. И не торопитесь проклинать. Не жалко потратить годы и десятки часов бесед и молитв, чтобы приобрести брата своего, который тоже — дитя Божие, и нам обоим приготовлен наш родной отеческий дом.
Церковь — оправдание многообразия. Всегда были и будут люди, которым претит эта пестрота жизни и мнений. Еще античные философы заподозрили в многообразии сущего какой-то непорядок и вызов их стерильному мышлению. Мы очень разные, и это хорошо. Церковное многообразие — это настоящее испытание для верующего человека. Нам естественно искать стройные и понятные схемы, четкие формулы, которые отрезают от Церкви все лишнее, но очень часто это всего лишь человеческие мерки.
Церковное многообразие — не просто вопрос терпимости и хорошего воспитания. Апостолы Петр и Павел смотрят на нас с иконы. Два очень разных человека жили Христом и только Христом и проживали эту Христову жизнь очень по-разному, порой даже совершая ошибки, иногда не понимая друг друга. При всей непохожести это были невероятно близкие люди, потому что их единство было единством во Христе. Не в политической программе, не в культурных пристрастиях, не в философских системах, не в ритме благочестия или литургической практике. Они жили Христом, и именно из этого нам надо исходить, когда мы встречаем в Церкви так вызывающе непохожих людей. Если он живет Христом — он мой брат, за кого бы он ни голосовал на выборах.
Если среди «самых святых святых» случались огорчения, что уж говорить о нас? Мы тоже ссоримся, ругаемся, подозреваем. Но оглянитесь — с этими людьми вам коротать вечность! Что, если вы угодите со своим «заклятым другом» на одну икону?
Церковь — сообщество непохожих. Случается, что мы не в состоянии найти общий язык с братом во Христе, но мы вместе в одной Церкви, под одним главою Христом, у одной Чаши Господней, а в вечности — на одной иконе Церкви Торжествующей.
Забвение Креста
В романе одного мудрого колумбийского писателя есть история о том, как целое селение накрыла волна забвения. Люди стали забывать самые элементарные и вместе с тем самые важные истины. Поэтому они решили повсюду вешать себе напоминания, и одним из них была надпись «Бог есть». Кажется, в реальности быть такого не может, но если вы внимательный человек, то обратили внимание, что есть вещи, которые люди предпочитают забывать, хотя скорее это происходит бессознательно, без дурных намерений.
Школьник и богомыслие
Богомыслие Креста — самое трудное из духовных упражнений. Мы читаем о подвижниках, которые предавались этому подвигу постоянно. Они не просто созерцали Крест в молчании, но их молитва непостижимым образом соединялась с мыслью о Кресте, становясь молитвенным богомыслием.
Наверное, это очень странно, но впервые я погрузился в это богомыслие на уроке химии. Конечно, мне было далеко до откровений старцев, но именно тогда я неожиданно задумался над тайной Креста.
Дело было в последних классах школы. Пожилая учительница надрывно рассказывала что-то важное о полной горьких превратностей жизни химических элементов, но буйные подростки предавались более волнующим темам, и класс гудел, словно растревоженный улей. Наконец у наставницы сдали нервы:
— Перед кем я тут распинаюсь?
Дети стыдливо притихли, бросая друг на друга укоризненные взгляды, но стыда хватило ненадолго, и уже через минуту вернулся привычный гул.
Вот тогда я и обратил внимание на эту фразу — «Перед кем я тут распинаюсь?», и давно я уже не в школе, но не отпускают меня эти слова, напоминая о самом трудном из духовных упражнений.
Крест над городом
Святой Константин Великий видел Крест на небе. Святая Елена искала Крест под землей.
Святой Андрей воздвигал крест над киевскими холмами, а потом и сам был распят на апостольском кресте.
Великие зодчие ставят кресты на шпилях церквей, художники вырезают знамение Распятого на скалах и саркофагах, иконах и фресках. Крест украшает и драгоценные ризы царей, и бедные одежды схимника. Его вешают на хрупкую шейку крещеного малыша, а мужественные коптские христиане выжигают крест на запястье, и где-то в далеких африканских деревушках женщины-христианки носят татуировки креста на лице. Русские не так суровы, зато непрестанно крестятся во время молитвы, прикладываясь к святыне, принимая пищу, заходя в храм, открывая Евангелие и даже задаваясь вопросом:
— А зачем столько крестов? Не слишком ли много напоминаний о Распятии? Не обесцениваем ли мы то уникальное событие истории, которое требует благоговения тишины и простого человеческого уважения?
И это справедливые вопросы.
Или нет?
Что такое Крест? Ответ на поверхности: это орудие казни.
А если не на поверхности? Если остановиться и позволить себе труд созерцания Креста, труд тяжелый и пугающий?
Ответ Бога
Много лет я задавался вопросом: что же чертил на песке Христос, когда к Нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии? Мне все время казалось, что это были слова, непременно слова, какая-то сокровенная мудрость, которую так бездарно упустили и ученики, и летописцы. Один старый священник сказал мне, что Христос чертил на песке ответ Бога людям на все их вопросы.
— Что же это за ответ?
— Знамение Креста!
Крест — ответ Бога.
Крест — самое убедительное свидетельство Любви и Человеколюбия.
Крест — откровение о Боге-Любви.
Крест — свидетельство о смирении Бога.
— Но откуда мне знать, что Бог есть Любовь? С чего вдруг вы поверили, что Богу вообще есть до нас дело?
— Посмотри на Крест! Бог дал Себя убить, чтобы спасти человека!
Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками (Рим. 5:8).
Христос распинался перед теми и за тех, кто плевал Ему в лицо, зверски избивал и своей клеветой и ложью привел к казни.
Христос распинался за тех, кто остался скучать во дворце, малодушно умыв руки, и за тех, кто предал Его на смерть или просто сбежал от испуга и неожиданно для себя отрекся при свидетелях у Него на глазах.
Христос распинался за тех, кто даже не заметил ни Его служения, ни Его смерти, ни Его Воскресения, и за тех, кто продолжает жить так, будто никогда не было Креста и Воскресения.
Ответ ученика
Тайна Креста открывается не всем, не каждому дается это напряженное созерцание крестной тайны мира. Но о том, что важно для каждого, говорит Евангелие:
Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня (Мф. 10:38).
Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником (Лк. 14:27).
Вот это звучит по-настоящему больно! Не беру свой крест, значит, не ученик, не христианин, не Христов! А что значит «взять свой крест»?
Взять крест — пойти против природы, которая отовсюду кричит, что мы должны пожирать друг друга, что человеку естественно рваться вперед, не озираясь на трупы поверженных врагов.
Взять крест — жить, как Христос, любить, как Христос, верить в людей и бескорыстно служить Добру.
Взять крест — облечься во Христа, так, чтобы Его чувства стали моими, Его любовь к людям стала моей, Его доброта раскрылась в моей жизни.
Крест — это бескорыстная любовь к людям! За такую любовь мстят! Такое не прощают! И не только люди!
Но любить людей очень трудно! Мы читаем о том, как вели себя жители Иерусалима во время казни Христа, и думаем: «Господи! Перед кем ты распинался!»
Тише! Посмотрите вокруг! Боже мой, да не обязательно вокруг — посмотрите в зеркало! Нас повсюду окружают кресты — Христос продолжает распинаться — за нас распинаться, праздных созерцателей, уже привыкших к этому откровению любви.
Христос перед нами распинается! Перед нами и ради нас! И что нам на это ответить? И кто в состоянии на это ответить? Только тот, кто берет свой крест и идет за Христом. А это значит, вопреки самым сильным свидетельствам о том, что мир лежит во зле, а люди — мелкие и подлые животные, которые предадут, обесчестят, растопчут при первой же возможности, — вопреки всему этому, с последним крестным юродством, с безумием Креста продолжать свидетельствовать о любви и доброте как единственном естественном состоянии человека и мира, замысле Божием о творении.
Это люди придумали Освенцим, это они строили лагеря в Сибири, морили голодом нищих в Бенгалии, рубили руки рабам в Конго, травили индейцев в Америке, мучили детей в Беслане, и много зверств совершается и по сей день под прикрытием ночи и изящной болтовни. И все же мир стоит на любви и доброте, хоть всякому, кто станет апостолом Доброты, придется взойти на крест. В этом трагедия нашего мира.
Праведнику не миновать креста!
Добро обязательно будет распято!
Поэтому так больно смотреть на Крест. Поэтому так быстро заволакивает нашу память забвение о Кресте, и, чтобы напомнить себе о Его правде, нам приходится так часто и настойчиво напоминать себе об этом знамении победы.
Священное юродство доброты
Мне рассказали историю, которая произошла в наше время на глазах у миллионов зрителей. Это был выпуск новостей египетского телевидения, прямой эфир. Популярный телеведущий вел обычную новостную программу и привычно сообщал об очередном убийстве христиан в одной из отдаленных деревень. Это уже так часто случалось, что перестало быть сенсацией. Поэтому действовали по классической схеме: зачитать текст, связаться с корреспондентом на месте, бегло опросить очевидцев. Но в этот раз журналистам удалось подвести к камере мать убитого юноши-христианина, и в типичном сюжете появилась острота! У женщины было всего несколько секунд, чтобы высказаться в эфире, и ей было что сказать:
— Сегодня у меня убили сына! Тот, кто это сделал, где-то рядом и, может, даже слышит меня в эту минуту. Хочу ему сказать: сынок! я знаю, как тебе тяжело, с каким грузом на сердце ты ходишь, и я хочу, чтобы ты знал: я тебя прощаю!
Что бы вы почувствовали, окажись в этот миг перед экраном? Совсем других слов ожидал зритель, и даже ведущий не был готов к такому повороту: взрослый мужчина, опытный журналист, он расплакался прямо перед камерой, причитая: «Что за люди эти христиане? Откуда в них столько доброты?»
Когда мы сами свидетельствуем о своей вере, это красиво и достойно.
Когда о нашей вере свидетельствуют люди внешние, свидетельство обретает небывалый вес.
Исламского журналиста поразила эта неземная доброта и милосердие, которое невозможно, неестественно для обычной земной женщины, и только христиане, настоящие ученики Христа, способны нести такое всесокрушающее свидетельство.
Нас окружает такое облако слов, идей, образов, что порой и не пробиться сквозь него, чтобы понять, за кем идти. Вот в такие времена нужны свидетели подлинного христианства, апостолы доброты и всепрощения. А если нет живых свидетелей, у нас есть Крест, на котором распят Тот, Кто ради любви к людям пролил Свою кровь.
Христос умирал на Кресте не только ради будущих апостолов, святых и прозорливцев, составивших славу Церкви. Он отдал Себя на смерть и за тех, кто обрек Его на казнь, кто плевал Ему в лицо и с детской тщательностью подбирал самый колючий терновник для венка Осужденного. Милосердие Бога — для всех! Это и есть путь подлинного христианства, по которому вслед за Христом идут Его ученики.
Царица Небесная — самый первый апостол Доброты, и каждый христианин очень ясно чувствует Ее апостольское свидетельство. Может быть, поэтому на Руси так почитаем этот странный, нам самим непонятный праздник — Покров Богородицы.
— Разве нам так дорога память избавления далекого и полумифического Константинополя от нашествия захватчиков?
— Вовсе нет! Что нам до военной истории Средневековья!
— Неужели мы так почитаем святого Андрея, чтобы каждый год вспоминать его видение?
— Что вы! У нас есть более чтимые имена!
Так в чем же дело? Я думаю, сам образ Покрова есть величайшее откровение, икона, которая без слов, священным языком искусства, говорит больше, чем любые самые правильные слова. И эта проповедь доходит до самых потаенных глубин сердца. Посмотрите на икону.
Вот дьякон стоит на амвоне греческой церкви.
Вот император и его двор склонились в молитве перед алтарем.
Вот юродивый показывает мальчику на то, что в этот момент происходит в Небесной Церкви: Царица Ангелов простирает Свой покров над всеми молящимися.
— Почему из всей истории наши предки запомнили лишь слово «покров»?
— Потому что он протянут над всеми!
В те времена практически все граждане империи были прихожанами церкви, не было нецерковных людей. Скажите: все эти люди были достойными, праведными, благочестивыми? Никто не изменял женам, не избивал детей, не брал взяток, не издевался над слабыми, не отбирал последнее у вдов и сирот? Память православной Византии полна ужасов беззаконий, и царский двор по жестокости мог поспорить с вертепом разбойников, и в этот день в храме стояли не только праведники.
Царица Небесная простирает Свой покров над всеми. Можно было собрать только непорочных и аскетов, логичнее было бы заступиться за людей святых или хотя бы приличных. Матерь Божия жалеет всех и добра желает каждому, пусть он и последний злодей.
Найдется ли смелый художник, который дополнит икону Покрова фигурами Пилата, Иуды, римских насмешников и иудейских истязателей, за которых — я верю и знаю! — воистину по-матерински болело сердце Царицы Небесной? А ведь это и есть тот беспредельный предел доброты, к которому и призывает нас Евангелие.
Богоматерь — первый апостол Доброты, первый свидетель милосердия! Поэтому не случайно силуэт Богоматери, простирающей Свой покров над людьми, так напоминает Крест. Верность Христу — это верность пути доброты и милосердия ко всякому человеку. Верность до смерти.
— Нет, это нечто невместимое! Какое-то неслыханное юродство и безумие! Как можно не только прощать убийц сына, но и от всего сердца желать им добра, искренне сочувствовать их утратам?
— Но это и есть учение Христа. У христиан нет права на ненависть. Поэтому самая простая версия христианского служения — приумножай доброту в мире, а если не можешь, хотя бы не умножай зло на земле, так тоскующей по доброте и нежности.
Если нет оснований жить
Не надо удивляться, что таких, как я, не пускают в календарную комиссию. Во-первых, у меня плохо с цифрами. Во-вторых, мне трудно скрыть личную заинтересованность. Одним словом, я собираюсь протащить в наш месяцеслов новый праздник и отмечать его с самым неистовым размахом. И этим днем пусть будет Шестое октября — День Раненого — праздник, главным образом, городской, но охватывающий все новые слои и социальные группы.
— День Раненого? Это про ветеранов?
— Нет, это именно о Раненых. О тех, кто страдает одной заразной болезнью, которая медленно и неотвратимо лишает человека силы жить.
— Таких болезней много.
— Не хочу ее называть. Тухлое слово! Давай так: распространенное заболевание, сопровождающееся чувством угнетенности и подавленности. Восемь букв.
— Геморрой?
— Ну я же серьезно! Де-прес-си-я!
— Так тут девять букв! Кстати, педикулез тоже подходит. И при чем же тут раненые?
— Это все из-за Толкина. По-моему, он описал это состояние лучше всех! Читаем:
«Однажды вечером Сэм заглянул в кабинет к хозяину; тот, казалось, был сам не свой — бледен как смерть, и запавшие глаза устремлены в незримую даль.
— Что случилось, господин Фродо? — воскликнул Сэм.
— Я ранен, — глухо ответил Фродо, — ранен глубоко, и нет мне исцеления.
Но и этот приступ быстро миновал; на другой день он словно и забыл о вчерашнем. Зато Сэму припомнилось, что дело-то было шестого октября: ровно два года назад ложбину у вершины Заверти затопила темень»[1].
Событие, которое с ужасом вспоминал Сэм, назвали битвой на горе Заверть, хотя это скорее была не битва, а избиение. На храбрых, но беззащитных хоббитов напали назгулы — бесплотные прислужники Зла. Один из них, король-мертвец, ранил Фродо колдовским моргульским клинком, осколок которого остался в груди Торбинса и неотступно продвигался к самому сердцу. Только чудом удалось спасти раненого от неминуемой гибели и последующего развоплощения. Но каждый год приступы повторялись снова и снова, и бедный Фродо опять захлебывался мраком одиночества и отчаяния, и это случалось не только осенью, но и весной:
«В начале марта его не было дома, и он не знал, что Фродо занемог. Фермер Кроттон тринадцатого числа между делом зашел к нему в комнату: Фродо лежал, откинувшись, судорожно сжимая цепочку с жемчужиной, и был, как видно, в бреду.
— Навсегда оно сгинуло, навеки, — повторял он. — Теперь везде темно и пусто»[2].
Конечно, это всего лишь гениальная сказка. Но как же точно она описывает то состояние, что высасывает все силы жить даже из здорового молодого человека!
Теперь везде темно и пусто!
Для меня это очень личная и многолетняя проблема. «Властелин колец» дорог мне тем, что неожиданно подарил «икону» моей болезни, вылепил ее пластичный образ, а значит, дал возможность видеть ее целиком, в объеме и границах. Пытаясь разобраться, я читал самую разную литературу, как светскую, так и церковную, и понял, что от этого чтения мне становится еще хуже. Делу вредил сам стиль и манера речи, ведь есть вещи, для разговора о которых годится только язык образов, мифов, художественного слова.
Он словно выводит проблему на безопасное расстояние, погружая ее в сотворенный мир, иноприродный нашему, а потому глухо и безопасно изолированный. Все наши «имманентные» описания Ранения очень опасны, потому что только подкармливают болезнь. Поэтому я не буду останавливаться на том, откуда в нас берется депрессия и как протекает, — больному понятно, а здоровому не стоит увлекаться.
Хотя вот какой образ депрессии рисуется в памяти: после какой-то болезни у меня надолго пропали вкусовые ощущения: что ни ешь, все на один вкус, вернее, вообще без вкуса, чувствуешь только самые грубые моменты — рыхлую структуру хлеба, жидкую субстанцию молока, липкость апельсина, но того радующего душу вкуса — совсем нет, будто жуешь целлофановый пакет. Депрессия — черная дыра внутри человека, она высасывает из него силы жить и радоваться. Не живешь, а пластиковый пакет жуешь.
И никакие утешения не помогают, и вместо музыки — вороний хрип.
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
Однако нужно помнить главное — это просто болезнь. Верующие люди пытаются отыскать духовные корни и греховные предпосылки, но это именно болезнь, причиной которой может стать химия вашего тела, наследственность, детские травмы или что-то иное, чего уже нельзя изменить, как невозможно отменить битву на вершине горы Заверть. Вы уже ранены, и время не повернешь вспять. Это болезнь, которая с вами навсегда. Фродо смог исцелиться, только отправившись в Последнюю обитель Запада, вот и мы себе окончательное здоровье вернем только в Царстве Отца. И все, что нам остается, — научиться с этим жить. Поэтому Шестое октября — это праздник примирения с депрессией, и в качестве эмблемы — круглый чайный стол, уставленный тортами и чашками, за которым мы вдвоем — я и моя лютая подруга-болезнь.
Вес улыбки
Почему торты и чашки? Потому что так это лечится. Бывают состояния совсем тяжелые, когда нужен врач. Об этом я писать не буду. Это удел специалистов. Одно замечу: не надо бояться врачей, ведь речь идет о болезни, значит, доктор — ваш союзник и помощник. Есть вопросы, в которых следует разбираться не батюшкам и матушкам, а профессионалам, которые этому обучены. Вот почему мы своих прихожан отправляем к знакомым психиатрам или психологам — пусть разбираются специалисты!
И вот вопрос: почему среди верующих немало случаев депрессии? Ведь человек церковный должен, кажется, быть здоровее? Все очень просто. По моим наблюдениям, депрессия очень уютно себя чувствует, если жертва склонна к самокопанию и всячески поддерживает чувство вины, а именно эти два момента ошибочно принимаются религиозными людьми за основу духовной жизни.
Разве я открыл Америку? Сколько у нас прихожан, которые искренне считают, что заниженная самооценка и вечная виноватость, самостийно переименованные в смирение и сокрушение, приятны Богу, особенно наши кислые и серые лица, давно отвыкшие от улыбки?
Депрессия — болезнь, и нечего искать своей вины в том, что вы не можете, как все здоровые люди, трудиться, молиться и выкладываться на все сто. Я хорошо помню, как себя просто изгрызал за то, что вот ведь люди как люди — трудятся, приносят пользу, а мне дойти до двери, открыть книжку, поднять трубку — настоящий подвиг. Хорошо, что рядом со мной нашлись люди, относившиеся ко всему с простотой и веселым нравом:
— Хочешь полежать? Полежи! Никуда дела не убегут! Не можешь читать, кино посмотри. Надо бы чего-нибудь вкусненького съесть.
— Так ведь пост!
— Когда это нас останавливало!
Раненые могут быть подозрительны, злы, агрессивны, и счастье, если близкие поймут, что это не человек злится, а болезнь, и нужно время, просто время и покой, чтобы рана затянулась. А если вы услышите:
— Депрессия? Чего только люди не придумают, чтобы не работать! Пусть не придуриваются!
Только тот, кто пережил такую напасть, знает, сколько сил требуется, чтобы просто улыбнуться, и как тяжело носить в себе эту черную дыру, когда не с кем поделиться.
Жаль, что нельзя создать общество Раненых. Депрессия — такая болезнь, которая требует карантина. Раненым нельзя собираться вместе! Ни в коем случае! Болезнь начнет резонировать с большей силой. И подкармливать ее тоже нельзя. Например, я заметил, что чтение Достоевского затягивает меня в настоящий омут, и нужна неделя, а то и месяц, чтобы прийти в себя. Выход простой: не читай! Новости расстраивают? Не смотри! Си-минорная месса Баха вводит в депрессию? Не слушай! Дело не в Достоевском и не в Бахе — они гении! — просто больному опасно то, что здоровому никакого вреда не причинит. А если уж у вас был опыт Ранения, надо беречь себя до конца жизни.
Несмертельный грех
Если однажды попался депрессии в лапы, считай, что вшили тебе под кожу бомбу — вытащить невозможно, умрет она только с тобой. Но есть техника безопасности: нельзя делать «резких движений», нельзя жить слишком беспечно и свободно, как раньше, но жить можно, причем хорошо жить, счастливо, радостно и даже свято. Соблюдаешь осторожность — все будет хорошо, иначе — подорвешь и себя и близких.
— Но ведь это же грех! Один из смертных! В этом надо каяться!
— …И копаться в себе, развивая и поддерживая чувство вины, — именно то, к чему и ведет болезнь. Давайте назовем депрессию смертным грехом, только что это нам даст, кроме гибели еще одного человека? Депрессия — заболевание, которое может быть связано с недостатком йода в организме или с неправильной работой внутренних органов. Как это ни вызывающе прозвучит, но сегодня мы знаем о человеческом организме гораздо больше, чем святые пустынники раннего Средневековья, а потому и не станем называть болезнь грехом.
— Может, и йода не хватает. Но почему не хватает? Ведет греховную жизнь — вот и отразилось на теле!
— Это очень популярная гипотеза. Но всего лишь гипотеза. Может быть, она когда-нибудь и подтвердится. А пока у нас есть вот этот конкретный больной, и одно я знаю точно: призывать его к покаянию или анализу своей жизни возможно только тогда, когда он придет в себя и поправится. В другом случае ваши призывы и наставления только добьют его и без того хрупкую психику, что у нас в церковной среде случается нередко.
И что же делать? Больному — пережить болезнь с помощью врачей и внимательных близких. А тем, кто справился, научиться встречать во всеоружии хворь, которая любит возвращаться.
Читая Псалтирь, я открыл метод «уготовихся и не смутихся». То есть я знаю, что приступы могут повториться и обязательно повторятся, но теперь они не застанут меня врасплох.
Курс выживания
Самое первое и самое простое — режим дня. Не смейтесь! Я и сам раньше просто отмахнулся от такого совета. Но, как ни странно, это работает. Ритм жизни у каждого человека свой — уникальный и неповторимый, — поэтому этот ритм нельзя просто себе навязать, копируя известного блогера или модного коуча. Надо присмотреться и прислушаться к себе, услышать свое тело, понять его эмоциональную жизнь, его сокровенный ритм. Режим — это именно уникальный ритмический рисунок вашего тела, если хотите, его бытийный танец.
Как мне кажется, депрессиям подвержены люди мнительные и впечатлительные, контингент особенно ранимый в эпоху избытка информации и космических скоростей. Могу предположить, что депрессия может быть защитной реакцией на это изнурительное изобилие впечатлений, которое нас окружает, поэтому надо щадить себя и свои силы, не брать на себя сверх меры, а для этого надо меру свою обнаружить и давать себе и работу, и отдых по силам.
Распорядок дня — это многолетний поиск. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас бывают срывы. Знаменитый Иммануил Кант, соблюдавший режим дня так точно, что жители Кенигсберга сверяли по нему часы, нашел свой распорядок далеко после сорока лет. И даже если вам за пятьдесят, вы еще все успеете.
Правило номер два: «проветривать» себя. Для меня, человека ранимого и впечатлительного, общение с людьми всегда было вызовом и опасным событием, поэтому я под любым предлогом скрывался и отлынивал. Оказывается, для людей моего склада очень важно «проветривать» себя в общении с людьми. В каждом из нас бродят свои яды — мысли, сомнения, воспоминания, — и, если дать им волю, они просто не оставят человеку ни капли радости. Поэтому важно отвлекаться, переключаться на других людей, поддерживать в себе детское любопытство к другому человеку, учиться общаться с людьми, воспитывать в себе благородную отзывчивость, которая от неиспользования может даже и атрофироваться.
Правило номер три: «разогнать тело». Как лечил свою депрессию Кафка? В 1913 году он записался добровольцем на полевые работы. Если у вас burn-out, вперед на прополку овощей! Не знаю, сильно ли это помогло Кафке, но я заметил, что состояние тела очень сказывается на самочувствии души. Много сидишь — и душа, и ум начинают цепенеть. Много валяешься в постели — дух становится рыхлым и беззащитным. Регулярные прогулки, пробежки, футбол и вовсе мне недоступное — танцы! — очень полезная вещь, если вы готовитесь к разговору на равных со своей депрессией. Чистота тела, прямая осанка, легкая подвижность, свободные и широкие жесты — очень помогают духу держаться и чистоты, и свободы, и подвижности.
Вот что пишет замечательный детский писатель Юрий Лигун:
Хороша она, ей-богу, Эта дальняя дорога! Бритва утром Бреет, бреет. Чашка с чаем Греет, греет. А свежайшие носки Избавляют от тоски!Представляете? «Свежайшие носки избавляют от тоски» — чем не лекарство от депрессии? Лечите депрессию свежими носками!
Кстати, кроме носков, есть еще сумочки, шляпки, костюмы и автомобили, но лично мне очень помогает лечение кошками. Раз уж я взялся подтверждать свои слова стихами, позволю себе терапию от Бориса Заходера:
Порою С пути нам случается сбиться (Кругом темнота, и не видно ни зги), Но нам не дадут Насовсем заблудиться — Мордочка, хвост и четыре ноги! Пусть в чаще Свирепые хищники воют — Тебе не страшны никакие враги. — Не бойся, мы рядом! — тебя успокоят Мордочка, хвост и четыре ноги. А если порою Тоска тебя гложет (Бывает такая тоска, хоть беги), Поверь, Что никто тебе так не поможет, Как Мордочка, хвост и четыре ноги.Плановая депрессия
Вы, наверное, догадались, каким будет правило номер четыре? В версии моего дяди оно звучит так: «Сделай лицо попроще!» — не относись к себе и своим проблемам слишком серьезно! Ты всего лишь человек, а с людьми случается всякое. Поэтому надо научиться смеяться над собой. В православной духовности слишком мало внимания уделялось такому духовному упражнению, как смех. А в том, что смех — духовное упражнение, у меня нет никаких сомнений. Может, чувство юмора и есть нечто врожденное, но я изучал эту дисциплину много лет, учась у лучших, подражая своим педагогам, которые и понятия не имели, что дают мне уроки.
Люди религиозные почему-то полагают, что нашими учителями могут быть только святые. Смеяться над собой я учился у самых простых людей, часто даже и нецерковных. Просто копировал их манеру переносить болезни, трудности, предательство. Рядом с вами обязательно есть такие бодрые люди. Депрессия заразна, но смех еще заразнее. Вперед! Этим не стыдно заразиться! Чувство юмора — это навык, который можно воспитать и нужно поддерживать, и, слава Богу, всегда есть у кого учиться!
Смейтесь не только над собой! Смейтесь над своей депрессией! У западных христиан есть чудесный праздник Хэллоуин, когда дети наряжаются скелетами, вампирами и прочими ужасами. На самом деле, это сильнейшая терапия против паники смерти — не здоровой памяти смертной, а паники, парализующей ум и сердце молодого человека, которому однажды предстоит осознать и принять свою финальность. Почему бы нам не устроить Шестого октября плановую депрессию — день пародии на свою лукавую болезнь? Начнем болеть с самого утра со вкусом и излишествами, доводя до дикого гротеска и предельного абсурда все то, что так нас пугает. Можно даже придумать специальное меню для депрессивных застолий: леденящий душу чай, рыдальные подушечки, пирог-воздыхатель, вялотекущий кисель. А если возьмемся за костюмы, тогда это уже коммерческое предприятие. Не забудьте поделиться процентами!
Немного солнца
И последнее, но, может быть, самое главное. Весь мой опыт борьбы и мысли помещается в одно скромное, но мудрое слово — благодарность! Трудно благодарить, когда у тебя совсем не осталось сил жить и даже основания жить закончились. Но стоит подождать совсем чуть-чуть, хотя бы дождаться солнышка, и, кажется, совсем ниоткуда вдруг родится надежда.
Благодарность — способность удивляться. Это не просто эмоция, а воспитанный навык. Впервые я это понял, когда у нас в монастыре больше полугода вовсе не было воды, и нам приходилось носить ведра и чайники, чтобы умыться. Вот тогда и родилась моя утренняя молитва: «Спасибо, Господи, за водичку!»
Вокруг так много удивительных вещей, к которым мы привыкли, которых не замечаем по своей глупой близорукости. Благодарный человек будет рад даже депрессии, если хотя бы через нее он познакомится с самим собой, поймет себя и заново откроет все краски жизни. Своей депрессии я благодарен за то, что именно она научила меня благодарить и удивляться. Наверное, есть и другие, более безопасные пути к этой мудрости, но у меня был такой, и, как ни странно, я рад, что все это со мной случилось.
Поэтому Шестое октября не просто День Раненого, но День примирения с депрессией — учительницей мудрости, если она через горечь и мрак способна возвратить нам подлинный вкус жизни и детскую благодарность.
Священная тишина Троицы
Дом.
Дерево.
Скала.
И Три Чаши в окладе неба.
Икона жертвенной немоты.
Образ удивленного молчания.
Икона Троицы не в числе чтимых икон. Кто слышал об исцелениях у Троицы? О толпах паломников к творению Рублева? Это шедевр не для всех. Он открывается только тем, кто научился смотреть и слышать. Не святым и не праведникам, а искалеченным душам, уязвленным красотой. Немощным грешникам, «книжным детям», которые видят иначе и мучаются смыслами, мудрецам, всегда чреватым истиной и никогда не могущим ее родить, детям Валаама, у которых только и есть что открытое око. Начало ХХ века озарилось откровением о Троице: рублевская икона начала говорить, вернее, нашлись люди, способные ее услышать.
Говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но открыты очи его (Чис. 24:15–16).
У каждой иконы есть своя музыка. Она идет откуда-то из глубины. Достаточно затаиться, разрешить образу говорить и быть готовым слушать. И будет чудо: обнажится сокровенная жизнь образа, икона зазвучит и даже запоет. Только один образ всегда молчит, потому что художник удалил из него все, что может проговориться. Творение болтливо, и если ты дерзаешь написать портрет Того, Кто не создан, будь готов принять Его оглушительную немоту.
Преподобный Андрей Рублев, скромный инок Сергиева монастыря, писал икону в похвалу своему наставнику, который с детства посвятил себя служению Святой Троице.
— Как написать образ Троицы?
— Есть канон: явление ангелов у дуба Мамврийского старцу Аврааму. Это традиционное изображение, богатое своим библейским символизмом, многофигурное и избыточное. Вот ангелы с посохами, вот дуб, и шатер, и старушка Сарра, и упирающийся теленок, которого вяжут отроки патриарха. Известный сюжет! Икона гостеприимства!
— Разве преподобный Сергий служил гостеприимству? Он был назван обителью Святой Троицы — Отца и Сына и Духа Святого — Бога, сотворившего этот мир, спасшего, освятившего и усыновившего все сотворенное. Только Сам Бог не сотворен. Он не часть этого мира, и, если кто-то решится писать Троицу, он должен создать портрет Творца, «не обремененного творением».
И преподобный Андрей решился. На иконе Троицы нет ни Авраама, ни Сарры, ни слуг. Есть три ангела, поразительно схожих друг с другом, и только внимательно всмотревшись, начинаешь их отличать.
Удивительная пластичность фигур! Трое за столом. С достоинством старцев и изяществом юношей. В центре Некто в одеждах Христа — красная рубашка и лазурный плащ. Если это Христос, почему его иконный лик так необычен? Где мягкая бородка и длинные волосы галилейского странника?
Инок Андрей писал Троицу, творящую мир. Художник «схватил» тот «момент», когда тварного мира еще нет, а значит, и вовсе ничего нет. Кроме Бога. Поэтому от иконы Троицы исходит такое неожиданно оглушительное молчание. Некому шуметь. Творение не вошло в бытие, оно покоится в добытийной дреме. Мир вот-вот появится. Его еще нет, но Богу уже открыты все пути сотворенного космоса, и Ангел в одеждах Христа благословляет Чашу с головой жертвенного животного — жест, в котором весь Новый Завет, все евангельские истории от Рождества до добровольной Крестной Жертвы, Пасхи, Вознесения и Второго Пришествия. В этом благословении — добровольное согласие Творца разделить Свою Жизнь с жизнью тварного мира, желание Воплощения — необратимого и таинственного, готовность к жертве и смерти.
И с двух сторон Благословляющего Ангела окружают такие похожие на Него фигуры. Их изящная гибкость не случайна. Потому что Чаша на столе не единственная. Две боковые фигуры сами повторяют контур жертвенного сосуда, и вдруг замечаешь, что центральный Ангел не просто благословляет Чашу, Он Сам находится внутри Чаши, и это Вторая Чаша, смысл которой свидетельствовать, что и творение мира, и его искупление — дело всей Святой Троицы, и это великая тайна, глубину которой мыслью не исчерпать, можно лишь только указать целебным и утешительным словом — Любовь.
Образ Отца — огненные ризы, пламенеющий царственный порфир! Его десница — в благословении, и два других Ангела почтительно склоняются перед этим жестом в изящном полупоклоне.
Лик Духа Святого выдают одежды Подателя Жизни — софийная лазурь, укутанная в изумруд зелени — цвет неудержимости жизни и изобильного многообразия. Он — единственный из Трех, чья десница не благословляет. Правая рука просто вытянута, и кажется, будто она праздно покоится на ослепительно-белом столе. Но всмотритесь, и вы увидите, что белый цвет под десницей Духа Святого повторяет изгиб человеческой руки. Будто кто-то, кого нет среди Нетварных, держится за руку Третьего Ангела, и это не случайность, потому что на иконе оставлено место для сотворенного. Его нет. Но место ему уготовано. Это самое утешительное, что есть на этой чудесной иконе и что на ней умышленно отсутствует — человеческая рука впору руке Бога! Там, где должна быть рука человека, еще не вошедшего в бытие, оставлено для него место, как раз в его меру и размер.
Предвечная человечность Творца! Предвечная божественность человека! Этот контур руки оставлен для меня, и для всякого, кто разглядит на иконе Третью Чашу.
Потому что есть на иконе еще один Потир. Его рельеф вычерчивают контуры престолов боковых Ангелов. Снова — только контур, потому что ничто из сотворенного не может быть на этой иконе. Эта Чаша, которой нет, но которая ожидается, — вход в жизнь Святой Троицы для сотворенного, место моей биографии, еще не вписанной, потому что не только рука Бога, но и моя рука пишет мою историю.
Каждому предстоит испить свою чашу и пройти своим путем жизни и страдания, и поэтому не случайно еще одно праздное, незаполненное, оставленное для чего-то место в самом столе, за которым пируют Ангелы, странная выемка под Престолом, которая воскрешает в памяти слова Апокалипсиса о душах, умученных за Агнца, почивающих под жертвенником Божиим (Откр. 6:9), и о пришедших к Агнцу от великой скорби, которым дано предстоять престолу Божию (Откр. 7:15).
Три Ангела. Три Чаши. И три образа, которые будто растут из Ангелов:
Дом. Дерево. Скала.
Кто построил Дом?
Кто посадил Дерево?
Кто огранил Скалу?
Ничего из сотворенного нет на этой иконе. Только образы подлинно сущего, мира нетварного, от века ожидающего тех, кто вышел из рук Творца.
Над образом Отца — Дом. Это обители детей Божиих, настоящая отчизна, о которой вздыхает все сотворенное, место радостного покоя и полноты жизни, разделенной с Источником Жизни:
В доме Отца Моего обителей много (Ин. 14:2).
Образ Сына расцветает деревом — знак Евхаристии, дерева Жизни, древа Исцеления:
Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3:3).
Святой апостол и тайнозритель Иоанн видел это дерево посреди Небесного Иерусалима, последней обители, места отрады и покоя:
Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов (Откр. 22:2).
Скала — символ Церкви, того неколебимого и таинственного единства, к которому призвано все сотворенное от начала мира. Церковь — сам фундамент тварного мира. Образ церковной скалы возвышается над фигурой Духа Святого, в чью десницу вложена рука человека. Церковь — откровение о взаимовходности мира тварного и нетварного, о человечности мира Божественного, о богообразности человека и человечности Бога, благовестие того единства, ради которого сотворен и к которому призван мир:
Да будет Бог все во всем (1 Кор. 15:28).
На престолах сидят Ангелы. В руках — царственные посохи. Жезлы и престолы — символы власти и силы. Это достоинство не узурпатора, а природного государя, служить которому — честь и слава для всего сущего.
Вся история мира — в одной иконе. Все Евангелие. Все пророки и наставники.
Епифаний Премудрый, создавший первое житие преподобного Сергия Радонежского, одной фразой сумел передать то, что чувствовал всякий, кто общался со старцем:
тишина неизглаголанная.
Святой Андрей Рублев написал икону Троицы в похвалу своему наставнику и раскрыл источник этой тишины — жизнь в Боге, приобщение к жизни Творца. Эти удивительные люди не оставили ученых трактатов, лекций или проповедей. У них была иная привилегия: они не говорили о Боге, они жили в Боге и Богом.
Потомкам Валаама, усталым «книжным детям» открыто слишком много. Они научились зорко видеть и красиво говорить. Только жить боимся. Страшно вписать свою историю в контуры Третьей Чаши, боязно вложить руку в десницу Третьего Ангела. Одна надежда: Троица Сама выступает из своих нетварных берегов, и так страшно, и так утешительно читать обещание:
Мы придем к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14:23).
Об авторе
Архимандрит Савва (Мажуко) (род. 1976) — богослов, педагог и религиозный публицист.
Родился и вырос в Гомеле в нецерковной семье; пришел к Богу, прочтя книгу о Сергии Радонежском. В 1995 г. принял монашеский постриг в гомельском Свято-Никольском монастыре. В том же году был рукоположен во иеромонаха; с 2013 г. — архимандрит.
Автор книг «Любовь и пустота» (2014), «Апельсиновые святые» (2016), «Неизбежность Пасхи. Великопостные письма» (2018), «На руках у Бога. О радости быть христианином» (2018).
Примечания
1
Толкин Дж. Р. Р. Властелин колец. М., 2002. С. 963–964.
(обратно)2
Там же. С. 962.
(обратно)
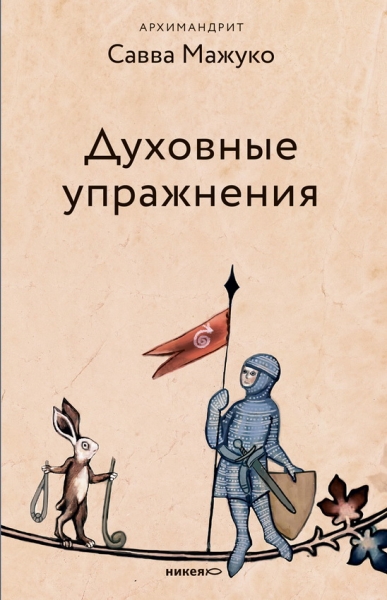


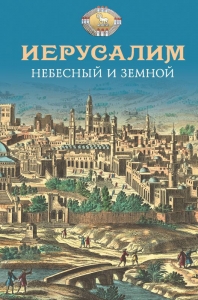

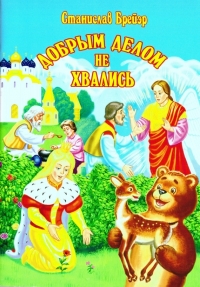
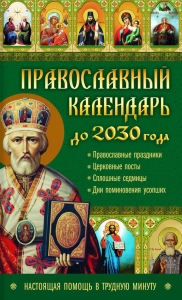


Комментарии к книге «Духовные упражнения», Архимандрит Савва
Всего 0 комментариев