Предисловие к русскому изданию
Я очень рад появлению «Этики Нового Завета» на русском языке. Я очень надеюсь, что эта книга поможет христианам России в их стремлении к открытой проповеди Евангелия. Хотя культура России веками формировалась под воздействием православного христианства, последние десятилетия ее проходили под влиянием марксистского мировоззрения. Теперь, в данный момент истории Церкви, в России особенно важно с новой силой услышать голос новозаветного свидетельства, чтобы понять, как в соответствии с ним строить церковную жизнь перед лицом новых вызовов культуры.
С момента первой публикации английского издания эта книга получила множество отзывов, как положительных, так и отрицательных. Здесь не место отвечать на критику, однако можно со всей честностью заметить, что книга была в основном хорошо принята теми, кто считает, что церковная жизнь должна строиться в соответствии со свидетельством Писания. И напротив, самая острая критика исходила от тех, кто отвергает те или иные специфические нравственные учения Нового Завета в частности, по вопросам насилия и сексуального поведения. Я же совершенно убежден, что стремление тщательно следовать новозаветному представлению о жизни в послушании Богу представляет для нас огромную ценность даже тогда (и в особенности тогда), когда это представление входит в конфликт с культурными нормами и предпосылками современности.
Я хотел бы напомнить читателю, что я вовсе не намеревался написать учебник, который давал бы ответы на все этические проблемы. Эта книга скорее представляет собой большое эссе о том, каким образом Новый Завет может формировать христианскую этику. Книга приглашает читателей прислушаться к Писанию, чтобы понять, как библейское представление о верности может отразиться в нашей жизни. Поэтому я надеюсь, что читатель не станет начинать чтение сразу с пяти последних глав, посвященных конкретным вопросам нравственности (насилие, развод, гомосексуализм, антисемитизм, аборты). Эти главы гораздо лучше поймут те, у кого хватит терпения прочитать первые части книги об этических представлениях авторов Нового Завета (часть I), о путях синтеза этих представлений (часть II) и о методах их использования в нравственном богословии (часть III).
Пять проблем, к которым я обращаюсь в части IV, выбраны не обязательно потому, что это наиболее важные этические темы в Новом Завете, но потому, что они представляют собой пример различных подходов новозаветных писателей к нравственным проблемам.
Я очень надеюсь, что детальное изучение того, как новозаветные писатели решали вопросы своего времени, может помочь христианам современной России, тем более, что задачи Российской церкви, насколько я понимаю, не намного отличаются от задач ранних христиан — жизни в общине, движимой Святым Духом, и свидетельства о Божьей любви в обществе, во многом чуждом христианской вере. (Конечно, богатое христианское прошлое России делает это сравнение не вполне точным.)
К сожалению, нужно сказать, что сам я принадлежу к нации, которая, хотя и называет себя христианской, на деле почти потеряла представление о нравственном богословии Нового Завета, особенно в вопросах насилия. (Недавняя безрассудная война в Ираке еще более обострила положение на Ближнем Востоке.) Сегодня Соединенные Штаты обладают международной властью, подобной той, которой обладала Римская империя в Средиземноморье I века н.э. Именно поэтому я думаю, что мы можем многому научиться у российских читателей, поскольку они лучше меня могут слышать вызов новозаветной этики, обращенный к тем, кто обладает силой, и ее утешение, обращенное к тем, кто вместо этого молится о наступлении Божьего Царства.
В любом случае я бы очень хотел, чтобы эта книга способствовала делу Евангелия как в России, так и в других странах, где говорят по-русски. Пусть христиане России и Соединенных Штатов вместе отвечают на призыв Евангелия жить так, чтобы в нас были «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп 2:5).
Ричард Б. Хейз
Дарем, Северная Каролина, США
22 июля 2004 г.
Предисловие
Эта книга выросла из многолетних размышлений совместно со многими студентами и коллегами по служению над вопросом о том, как может помочь нам Новый Завет в наших вечно несовершенных стараниях исполнять Божий призыв Церкви к совместной жизни в ученичестве. Я не выдаю свои толкования и аргументы за истину в последней инстанции о современных нравственных проблемах. Они - лишь предварительные наброски того, как применять Новый Завет в реальной жизни.
Конечно, при написании подобной книги неизбежно осознаешь опасность: тебя могут неправильно понять или использовать в своих собственных корыстных интересах. От тебя могут и просто отмахнуться. Поэтому я приглашаю читателей к тому же, к чему я призываю своих студентов - к вдумчивому и критичному разговору, в котором мы предстоим суду и наставлению Писания. Я не рассчитываю, что моя книга положит конец всем спорам. Я лишь надеюсь, что она облегчит читателям понимание новозаветной Вести и творческое устроение в соответствии с ней своей жизни. Тех же, кто на какие-то конкретные вопросы смотрит иначе, чем я, я призываю вместе со мной стараться как можно внимательнее прислушиваться к новозаветным свидетельствам и предлагать собственные толкования в назидание церкви. И я уверен: от последующей дискуссии мы все сможем многому научиться.
Книга шла довольно туго. Так уж устроены ученые: норовят залатать каждую возможную прореху в аргументации, процитировать каждую подходящую по теме книгу и статью, рассмотреть каждое мыслимое направление рассуждений. И они очень медлят выносить вердикт. Между тем моя книга охватывает широкий спектр проблем, по которым написано море научной литературы! Многое приходится оставить за скобками. Работы, процитированные в примечаниях, - лишь часть литературы, от которой я многому научился, и еще меньшая часть литературы, которая была издана. Мой анализ новозаветных текстов и конкретных нравственных вопросов неизбежно остается слишком схематичным... Тем не менее я убежден: в какой-то момент экзегет должен решиться и предложить-таки какое-то определенное толкование этических заповедей Нового Завета. Церковь не может медлить с суждениями до бесконечности, - от нее требуется действие. И призвание церковного библеиста состоит в том, чтобы помочь ей знаниями в этих суждениях и действиях. Если ученые заботятся не только о своих собственных интересах, то те из нас, кто затратил годы на изучение Нового Завета, должны пойти на риск. Мы должны проявить дерзновение и заговорить в церкви о смысле этих текстов для нас и об их требованиях от нас. В своей книге я как раз пытаюсь - после долгих лет научных мучений - пойти на риск, на который идут каждое воскресенье пасторы: сказать о конкретном значении Слова Божьего для верующей общины. И я глубоко надеюсь, что книга поможет тем, кто служит в приходе или кто только готовится там служить.
Эта работа создавалась на протяжении двенадцати лет, с тех пор как я в 1984 году стал преподавать новозаветную этику на богословском факультете Иельского университета. За это время мне помогли многие. В первую очередь я благодарен Pew Charitable Trusts, выделившим крупный грант на исследования, отпуск для работы над рукописью (весенний семестр 1993 года) и организацию важной конференции в Дьюкском университете на тему «Новый Завет и этика: проблемы и перспективы» (весна 1995 года). Конференция и сопутствовавшая ей дискуссия очень помогли мне уточнить свои аргументы.
Я также благодарен Остинской Пресвитерианской Богословской Семинарии за приглашение прочитать в ней лекции памяти Томаса Карри (30 января-1 февраля 1995 года). Для этих лекций я подготовил наброски ряда мест рукописи. Интересные беседы после лекций принесли мне огромную пользу. Я благодарен также президенту Джеку Л. Стоттсу и членам факультета за проявленное ими радушие и гостеприимство.
За несколько последних лет другие части книги также были представлены в лекционном формате и в научной, и в церковной среде. Сюда вошли: совет богословского факультета Иельского университета (1989); Пасторская неделя богословского факультета Дьюкского университета (1991); Богословские лекции AMBS в Объединенных Менонитских библейских семинариях в Гошене, Индиана (1993); Симеоновские лекции в Епископальной пасторской школе Троицы в Эмбридже, Пенсильвания (1993); Норт-паркский симпозиум по богословской интерпретации Писания (1994); Лундские лекции в Норт-паркской богословской семинарии в Чикаго (1994); пленарное обращение на собрании Общества христианской этики в Александрии, Виргиния (1995). Хочу поблагодарить также следующие организации за возможность провести лекции по тем или иным аспектам новозаветной этики: Пасторскую школу Ежегодной Оклахомской конференции Объединенной методистской церкви (1988); Католическую библейскую ассоциацию в Нью-Йорке (1989); Оттавскую летнюю школу библейских и богословских исследований (1989); Аспирантуру по современной христианской мысли в колледже св. Иосифа в Хартфорде, Коннектикут (1992); Пасторскую школу Ежегодной Флоридской конференции Объединенной методистской церкви (1992). Во всех этих случаях я многому научился от вдумчивых откликов людей, которые меня слушали и иногда со мной спорили. Эти дискуссии обогатили идеи книги, сделали их продуманнее.
Я благодарен также редакторам нескольких журналов, которые разрешили опубликовать в пересмотренном и исправленном виде материалы, некогда вошедшие в различные статьи. Я включил материалы, адаптированные из следующих ранее опубликованных работ: «Relations Natural and Unnatural: A Response to John Boswell's Exegesis of Romans 1» Journal of Religious Ethics 14/1 (1986): 184-215; «Scripture-Shaped Community: The Problem of Method in New Testament Ethics» Interpretation 44 (1990): 42-55; «Awaiting the Redemption of Our Bodies» Sojourners (July 1991): 17-21 (впоследствии расширено, пересмотрено и издано в Jeffrey S. Siker, ed., Homosexuality in the Church: Both Sides of the Debate [Louisville: Westminster/John Knox, 1994]: 3-17); «Ecclesiology and Ethics in 1 Corinthians» ExAuditu 10 (1994): 31-43; «New Testament Ethics: The Theological Task» Annual of the Society of Christian Ethics (1995): 97-120.
Если мы, как я утверждаю, действительно должны искать воли Божьей в верующей общине, то очевидно: подобного рода книга могла быть написана только при поддержке и ободрении других людей, которые старались вслушиваться в Слово и отвечать на него. Здесь невозможно перечислить всех, кто повлиял на мое понимание новозаветной этики, но я хотел бы поблагодарить, по крайней мере, тех, кто читал части рукописи на разных этапах моей работы, предлагал советы и ценные замечания. Хотя я не всегда следовал этим советам, они меня многому научили.
Некоторые коллеги изучили черновой вариант рукописи и внесли целый ряд мелких и крупных предложений по ее улучшению. За это я выражаю глубочайшую признательность Даниелю Буарену (Калифорнийский университет в Беркли), Нэнси Дафф (Принстонская Богословская Семинария), Кэтрин Грин-Макрейт (Иельский университет), Кэтрин Гриб (Виргинская Богословская Семинария), Люку Тимоти Джонсону (Университет Эмори), Грегори Джонсу (Колледж Лойолы), Джорджу Линдбеку (Иельский университет), и моим аспирантам в Дьюкском университете - Брюсу Фиску и Одри Уэст. Оговорка, которую делают в подобных случаях авторы книг, в данном случае как нельзя более уместна: никто из этих друзей и коллег не несет ответственности за мои суждения. Некоторые из них серьезно расходятся со мной и по методическим вопросам, и по одному или нескольким нормативным положениям в последнем разделе книги. Тем не менее я почитаю за честь называть их коллегами и учиться у них.
Не могу не поблагодарить друзей, коллег и студентов, которые читали некоторые части рукописи в процессе ее создания или оказывали помощь по конкретным вопросам. С благодарностью перечисляю их имена: Джим Бакли, Аллен Верхей, Регина Планкет Даулинг, Джина Джаннини, Тимоти Джексон, Кристофер Зайц, Барри Зельцер, Джоан Вальжак Клоц, Стив Крафчик, Дейл Мартин, Кэрол Олдермен, Бен Олленбургер, Салли Пурвис, Джефф Сайкер, Джордж Стеффи, Диана Суонкат, Уилард Суортли, Скотт Сэй, Сондра Уилер, Марвин Хейдж, Джуди Хейз, Крейг Хилл, Элен Черри.
Особо следует упомянуть Стэнли Хауэрваса и Джона Говарда Иодера, которые любезно прочли мою работу и высказали свои критические замечания. Даже там, где мы по-прежнему расходимся во взглядах, их отклик углубил мою позицию и сделал ее четче. Выражаю также признательность группе коллег из Иельского университета, которые иногда собирались в конце 1980-х годов для обсуждения вопросов, касающихся взаимоотношений между Писанием и этикой: Леандр Кек, Дэвид Келси, Абрахам Малерб, Уэйн Микс, Роберт Уилсон, Джин Утка, и Маргарет Фарли. Мне принесли пользу не только их замечания по первым наброскам этой книги, но и дискуссии по поводу их собственных исследований в данной области.
Работа над рукописью не могла быть завершена без неустанных трехлетних трудов моей ассистентки Одри Уэст, без получения гранта Pew Charitable Trusts. Очень компетентная, всегда в хорошем настроении, она отслеживала библиографические ссылки, делала ксероксы статей, проводила анализ ряда проблем, заполняла пробелы и всячески облегчала процесс работы. Без сомнения, ей будет приятно увидеть книгу законченной, и она сможет заняться собственными исследованиями. Я благодарен также Россу Вагнеру, который проделал кропотливую работу над Указателем цитат из библейских и других древних текстов, а также Указателем современных авторов.
Единственный человек, который будет рад завершению проекта больше, чем Одри, - моя жена Джуди. Она ждала этого момента с необычайным, поистине святым терпением. В своей работе я не смог бы обойтись без ее заботы и поддержки. Когда в главе 15 я говорю, что «брак нелегок», у нее есть все основания добавить: «Особенно для жены профессора-новозаветника!» Наше с ней совместное паломничество, длящееся уже четверть века в старании следовать за Христом и жить в подлинно христианском общении, привело меня к тому, что я смог написать эту книгу. Любовь и долготерпение моей жены укрепляют каждую страницу книги.
Наконец, несколько слов о тех, кому книга посвящена, - о студентах богословского факультета Иельского университета, которым я преподавал с 1981 по 1991 год. В течение этих лет я осознал необходимость написания такого исследования, и его план родился именно в бесчисленных часах оживленных дискуссий с моими студентами, в учебной аудитории и вне ее. Какими разными и непредсказуемыми они были! Представители разных конфессий, с разных концов света, они задавали острые вопросы, предлагали смелые ответы, воодушевляли молодого преподавателя, ломавшего голову над трудными проблемами новозаветной этики. Так и получилось, что очертания этой книги сложились и выкристаллизовались в спорах с блестяще мыслящими студентами. Им я посвящаю свой труд в надежде, что он поможет в служении, к которому они призваны.
Ричард Хейз
Дарем, штат Северная Каролина
10 августа 1995 года
Введение. Задача Новозаветной Этики
1. Новозаветная этика как проблема
Дьявол может цитировать Писание в своих целях», - говаривала моя бабушка. Мы, ученые, предпочитаем высказываться иначе: «Текст имеет неисчерпаемый герменевтический потенциал»[1]. Однако, как ни крути, проблема одна и та же. Несмотря на почтенную христианскую веру в Писание как в основу церковной веры и обычаев, апелляции к Библии вызывают подозрение: Библия содержит разные точки зрения, а разные методы интерпретации приводят к различному пониманию любого текста.
Особенно тревожит ситуация в этике. Яркая иллюстрация -президентские выборы в США в 1988 году. В президенты безуспешно баллотировались два христианских пастора - Джеси Джексон и Пэт Робертсон. Оба они ссылались на Библию, но при этом отстаивали совершенно разные подходы к христианской морали. Во время кампании 1992 года Библию цитировали меньше, но соперничающие стороны все же заявляли о библейской основе своих этических программ. Многие республиканцы говорили о библейской санкции отстаиваемых ими «семейных ценностей». Билл Клинтон же в своей речи на съезде демократической партии, выражая согласие баллотироваться в президенты, привел несколько вольных библейских цитат, а свою политическую программу назвал (не без некоторого нахальства) «новым заветом».
Клинтон выборы выиграл. В инаугурации решил участвовать сам Билли Грэм. Некоторые консервативные христиане были в шоке. Они направили Грэму письмо протеста, призывая его не молиться за Клинтона[2]. В письме говорилось: «Клинтон вел избирательную кампанию как открытый сторонник добровольных абортов и узаконил гомосексуальность... Конечно, мы сознаем, что других президентов поддерживали церковные лидеры, не во всех вопросах занимавшие библейскую точку зрения.[3] Однако давно уже на высший пост в стране не избирался человек со взглядами, столь явно противоречащими Библии»[4]. Грэма протест не остановил. Он принял-таки участие в инаугурации и имел возможность слышать, как Клинтон увенчал свое обращение ссылкой на Послание к Галатам: «Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».
Такое использование Библии в политической риторике демонстрирует неизбывную проблему: на Библию притязают все[5]. Основывать в той или иной мере на Писании свои этические учения и обычаи считают важным самые разные христиане, даже те, кто не очень верит в его боговдохновенность[6]. Христиане с разных концов этического спектра - от Оливера Норта до Дэниела Берригана, от Филис Шлэфли до Элизабет Шюсслер Фьоренцы, от Джерри Фэлвелла до епископа Джона Шелби Спонга - утверждают, что их понимание промысла Божьего сформировалось под влиянием Библии. Разумеется, проблема не в политической «правизне» или «левизне»: приведенные примеры лишь демонстрируют степень расхождений между серьезными христианами. Как я далее постараюсь показать, этические проблемы, возникающие перед христианами, ищущими в Писании волю Божью, гораздо сложнее, чем можно подумать из простой дилеммы между консервативностью и либеральностью. Одна из причин столь горьких разделений в Церкви по поводу нравственных вопросов состоит в принятии общиной веры категорий популярного американского дискурса о данной проблематике - принятии некритичном и не продуманном в свете внимательного прочтения Библии.
Возьмем для иллюстрации еще один случай с Билли Грэмом. В январе 1991 года начиналась война в Персидском заливе. Грэм отправился в Белый дом молиться с президентом Джорджем Бушем, который развертывал операцию «Буря в пустыне». Несколько часов спустя Эдмонд Браунинг, председательствующий епископ Епископальной церкви (деноминации самого Буша!) присоединился к экуменической группе христиан, стоявших со свечами в демонстрации протеста за оградой Белого дома. Они молились не о военной победе, а о мире. Вопрос: какие из этих христиан, внутри президентской резиденции или вне ее, верно поняли Слово Божье?
Ввиду столь глубоких разногласий относительно Вести и применения Писания, можно понять скептицизм аутсайдеров. Не глупо ли со стороны христиан утверждать, что Библия способна давать нравственные наставления? Однако еще острее выглядит эта дилемма изнутри общины веры: сможет ли Церковь руководствоваться Писанием, даже если искренне этого захочет? Те, кто прибегает к слогану «Бог сказал это, я верю этому, - вопрос закрыт», не видят, что эта формулировка оставляет вопрос открытым: ведь Слово нужно еще и истолковать! Это наивная герменевтика, и она, конечно, нам не подходит.
К сожалению, и тщательная экзегеза не решит всех проблем. Да, она раскроет перед нами кроющееся в Писании идеологическое многообразие, историческую дистанцию между нами и первоначальными общинами (в древнем Израиле и ранних церквах), которым были адресованы эти тексты. Однако это скорее увеличит трудности. Вот почему студенты семинарий подчас уходят с занятий по библеистике смущенными, с потревоженным миром в душе. Оливер О'Донован как-то заметил: толкователи, мнящие себя способными определить применение Библии в этике только с помощью продуманной экзегезы, похожи на людей, уверенных в своей способности полететь, хорошо помахав руками[7].
Нам нужно выработать систему, метод: как мы идем от текста к этическим суждениям. Иначе наши апелляции к авторитету Писания будут несерьезными и неубедительными. Поэтому в своей книге я ставлю цель как можно четче сформулировать позиции, позволяющие заниматься новозаветной этикой[8] как нормативной богословской дисциплиной. Я постараюсь прояснить, какой строгий и добросовестный способ прочтения Писания может помочь Церкви руководствоваться им в своей жизни.
2. Четыре задачи Новозаветной этики
Проект изучения новозаветной этики многогранен. Наша задача распадается на четыре критические операции: дескриптивную, синтетическую, герменевтическую и прагматическую. Эти операции отчасти пересекаются, но в эвристических целях целесообразно их разграничить, ибо их смешение часто приводит к путанице[9].
(А) Дескриптивная задача: внимательно прочитать текст
Дескриптивная задача носит глубоко экзегетический характер. Чтобы понять новозаветную этику, требуется сначала подробноописать учение каждой из индивидуальных книг канона[10], не пытаясь пока их гармонизировать между собой. Идя этим путем, мы замечаем характерные для каждой книги темы и особенности: скажем, Лука особенно заботится о бедняках, а Пасторские послания подчеркивают необходимость в общине порядка и стабильности. Аналогично, на дескриптивном уровне мы работаем и, задавая какой-то специфический вопрос, например, «что означает слово porneia в оговорке, которую добавляет Матфей к Иисусову запрету на развод?»[11]
На этом последнем примере хорошо видно, насколько сложно исследовать новозаветную этику даже на дескриптивном уровне: моя формулировка предполагает, что упомянутая оговорка принадлежит не историческому Иисусу, а Матфею или преданиям его общины. Стало быть, дескриптивная задача требует внимания к истории развития нравственного учения в каноне[12].
Однако здесь мы не вправе ограничиваться эксплицитным нравственным учением новозаветных текстов. Нравственный мир Церкви проявляется не только в «дидахе», но и в рассказах, символах, социальных структурах и обычаях, формирующих этос общины. Возьмем, например, Евангелие от Иоанна. Этических наставлений как таковых там практически нет. Однако его рассказ о «человеке с неба», который приходит, чтобы открыть неверующему миру волю Божью, имеет и этический смысл[13]. Таким образом, работа исторического критика предполагает проведение «густой дескрипции» символического мира общин, которые создавали и получали новозаветные тексты[14].
Часть I данной книги посвящена именно дескриптивному обзору основных новозаветных книг: как каждая из них изображает этическую позицию и ответственность общины веры? В наши цели не входит исчерпывающее описание этического содержания Нового Завета. Задача скорее состоит в том, чтобы сделать набросок особенностей нравственного подхода в каждом из этих текстов.
(Б) Синтетическая задача: поместить текст в канонический контекст
Если в наших занятиях новозаветной этикой нас волнует богословская проблематика, необходимо далее спросить о степени когерентности между различными свидетельствами. Таким образом мы переходим от дескриптивной задачи к синтетической. Существует ли в многообразии канона единая этическая позиция[15]?
Уэйн Микс считает эту задачу нерешаемой. По его мнению, идеологическое многообразие канона не редуцируемо[16]. Если так, то действительно пора кончать разговоры о «новозаветной этике», а вместо них заняться этосом и обычаями индивидуальных общин, представленных новозаветными документами. Однако я считаю выявление когерентности в каноне делом и возможным, и необходимым. Трудность же здесь - методологического плана: какой метод позволит выявить когерентность?
Иногда к делу подходят через попытку примирить противоречия. Противоречит ли требование Матфея более высокой праведности (Мф 5:27) Павлову благовестию об оправдании нечестивцев (Рим 4:5)? Придает ли забота Луки о последующем существовании Церкви в истории радикальную эсхатологическую этику ранней Церкви? Как соотносится заповедь «выйдите из среды их и отделитесь» (2 Кор 6:14-7:1) со знаменитыми трапезами Иисуса с грешниками и сборщиками податей? Как сочетается принцип, что во Христе «нет ни мужского пола, ни женского» (Гал 3:28) с конкретным пасторским наказом, повелевающим женщинам в церквах молчать (1 Кор 14:34-35) и подчиняться мужьям (Еф 5:22-24)? Что есть государство: служитель Бога ко благу (Рим 13:1-7) или зверь из бездны, идущий войной на святых (Откр 13)?
Если мы хотим гармонизаций ненадуманных, то необходимо рассматривать такие частные случаи внутриканонических нестыковок в контексте общей природы новозаветных нравственных тем и подходов[17]. К сожалению, в работах по новозаветной этике не всегда можно встретить соответствующий адекватный анализ. Есть ли в этих разных текстах нечто общее в плане руководства к нравственной жизни? Если есть, то что[18]?
Некоторые толкователи, обращавшиеся к этой проблеме, пытаются выделить единый принцип - основу нравственного учения Нового Завета. Иногда в качестве такого великого императива, стоящего в центре новозаветного свидетельства, называют любовь. Здесь можно ссылаться, например, на Мк 12:28-34 и 1 Кор 13. Тем не менее далее я попытаюсь показать: понятие любви не обеспечивает когерентность новозаветной этики[19].
В части II я аргументирую, что ни один принцип не объясняет единства новозаветных текстов. Вместо этого для решения поставленной задачи нам необходим кластер ключевых образов. Их следует брать не откуда-то извне, а из самих текстов. И они должны давать связующую канву, которая помогает интерпретировать индивидуальные тексты. Избранные мною ключевые образы - община, крест и новое творение. Об их значении и применении к нашей задаче мы поговорим в части II.
(В) Герменевтическая задача: соотнести текст с нашей ситуацией
Допустим, нам удалось предложить удовлетворительное описание этического содержания Нового Завета. Все равно мы стоим на краю устрашающей бездны - временной и культурной дистанции между нами и текстом. Можем ли мы переправиться через эту пропасть? Такова герменевтическая задача. Как применить к нам новозаветную Весть?
Эту проблему остро поставил передо мной один методистский пастор из Канзаса. На трехдневном занятии по Посланию к Римлянам я объяснял слушателям: это послание не богословский трактат о личном спасении. Павел в первую очередь говорит о соотношении между евреями и язычниками в промысле Божьем об искуплении человечества. Он настаивает: Евангелие не отменяет верности Бога Израилю. В последний день один из пасторов сказал: «Профессор Хейз! Вы убедили меня в своей правоте относительно Римлян, но теперь я просто не представляю, как проповедовать по этому посланию. У нас, в западном Канзасе, где я служу, людей не так уж сильно волнует судьба Израиля, и в пределах сотни миль от церкви нет ни одного еврея». На это возражение требуется дать вдумчивый ответ.
То, что этот пастор сказал о Послании к Римлянам, верно применительно к Новому Завету в целом. Первые адресаты новозаветных текстов - не американские граждане конца XX века. Когда мы читаем письма Павла церквам, мы читаем почту людей, которые умерли 19 веков назад. Когда мы читаем Евангелия, мы читаем рассказы, написанные для древних общин, чьи обычаи и проблемы сильно отличались от наших[20]. Только историческое невежество или культурный шовинизм способны предположить, что для понимания этих текстов нам не потребуется герменевтический «перевод». Чем глубже наше понимание, тем яснее мы видим, что вопрос, заданный канзасским пастором, оправданн: как проповедовать по этим текстам? Как черпать нравственные уроки из мира, столь не похожего на наш? Если новозаветные учения неотъемлемы от социального и символического мира общин I века, как они могут что-то сказать нам? Хуже того, не обречена ли на провал сама затея почерпнуть из этих текстов руководство? Может быть, она несерьезна или представляет собой репрессивную гетерономию?
При решении герменевтической задачи нам не обойтись без помощи воображения. Это приходится делать даже тем, кто такую роль воображения отрицает: со страхом и трепетом должны мы строить жизнь в верности Богу через ответственное и творческое усвоение Нового Завета в мире, очень далеком от мира его авторов и первых слушателей. Поэтому, когда мы апеллируем к авторитету Нового Завета, нам приходится изобретать метафоры, мысленно помещать нашу общинную жизнь в мир, к которому обращаются тексты[21]. Совет звучит просто: надо прибегать к аналогиям. Однако воплотить его в жизнь куда труднее. Четкий алгоритм соотнесения ситуации с текстом выработать, конечно, невозможно. Но установить некоторые принципы вполне в наших силах. Это мы далее и попытаемся сделать. Иллюстрация из области музыки: когда в блюзе джаз-банд импровизирует, ведущий музыкант импровизирует в определенных рамках: тональность, тактовый размер и порой даже набор аккордов - стабильные конфигурации, в пределах которых солист играет свободно. В своей книге я как раз и пытаюсь определить эту структуру новозаветной этики, в рамках которой может происходить творческая импровизация нравственного суждения.
В части III рассматривается подход некоторых исследователей богословской этики к герменевтической задаче. Я сопоставлю их различные стратегии обращения с Писанием, а затем предложу ряд собственных герменевтических принципов, позволяющих критически оценить нормативные апелляции к Новому Завету.
(Г) Прагматическая задача: прожить текст
Последняя наша задача - прагматическая: воплотить библейские императивы в жизнь христианской общины. Без этого живого воплощения Слова предыдущие размышления обессмысливаются. После всей тщательной экзегетической работы, после вдумчивого размышления о единстве новозаветной Вести, после творческого соотнесения нашего мира с миром Нового Завета остается последний тест. Он-то и покажет, какую ценность имеют затраченные нами богословские усилия. Вот этот тест: «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые... по плодам их узнаете их» (Мф 7:18, 20). Цену нашей экзегезе и герменевтике определит их способность приводить людей и общины в правильные отношения с Иисусом Христом, а значит, делать их угодными Богу[22].
Прагматическая задача, в отличие от герменевтической, легче в теории, чем на практике. Как мы увидим, согласно многим новозаветным текстам не бывает истинного понимания без послушания, и наоборот. Обе задачи можно объединить под заголовком «применение»: герменевтическая задача - это когнитивное/концептуальное применение новозаветного учения к нашей ситуации, а прагматическая задача - это реализованное (enacted) применение новозаветного учения к нашей ситуации.
Прожить Новый Завет можно только в общине. В книге это невозможно. Однако в наших силах указать, как интерпретации и предложения, изложенные здесь, могут претвориться в действия. Последняя часть книги содержит некоторые конкретные суждения о том, как Новый Завет может помочь Церкви конца XX века решить актуальные нравственные проблемы - проблемы насилия, разводов, гомосексуализма, расизма и абортов. Читатели увидят, как моя точка зрения по этим спорным вопросам вытекает из моей интерпретации новозаветных текстов и предпринятых ранее методологических решений.
3. Возможные возражения
Любое решение структурировать обсуждение новозаветной этики иным, чем избранным мной, способом, принесет и плюсы, и минусы. Очевидно, что мой подход вызовет серьезные нарекания со стороны людей самых разных взглядов. Поэтому, прежде чем приступать к анализу, мне хотелось бы остановиться на некоторых возможных возражениях против моего рабочего метода и предварительно дать на них краткий ответ.
Во-первых, некоторые сочтут искусственным разделение задачи на четыре операции. Может, я создаю иллюзию, что экзегеза - объективная наука, а герменевтическую проблематику можно отложить до более позднего этапа интерпретации? Конечно, на практике эти четыре задачи пересекаются. Описание и синтез не получится полностью отделить от герменевтической деятельности. Кроме того, если мы правы в своих предыдущих суждениях о воплощении Слова, практическое осуществление нами указаний Библии окажет серьезнейшее влияние на интерпретацию. Поэтому нельзя полагать, что эти четыре задачи - просто последовательные шаги; когда Писание используется в церкви, то, как и при проповеди, интерпретатор их объединяет. Однако в аналитических целях избранное нами деление полезно. Такой эвристический шаг помогает нам систематически пересматривать суждения и использование Нового Завета.
Более радикальный вариант этого возражения могут высказать интерпретаторы, находящиеся под влиянием постмодернистской герменевтики: дескать, не существует «текста», внешнего по отношению к традициям и нормам интерпретации, принятым среди тех или иных групп читателей[23]. Развернутую критику я предложу далее, в анализе трудов Стэнли Хауэрваса (раздел 12.4), а пока ограничусь следующим замечанием: последовательное развитие этой мысли противоречит не только подлинной функции Писания в богословском дискурсе классического христианства, но и всеобщей человеческой убежденности в том, что тексты обладают ограниченным диапазоном смысла[24]. Да, всем толкованиям сопутствуют свой культурный контекст и своя традиция. Однако это не означает, что текста не существует или что текст не обладает властью рождать или ограничивать интерпретации. Исторически Церковь смотрела на Писание как на Слов о extra nos, голос, способный корректировать и критиковать традицию. Именно такой подход к Писанию был основополагающим для Реформации. Отказ от него влечет за собой далеко идущие богословские последствия. Между тем люди, глубоко погруженные в Писание, часто свидетельствуют: они слышат, как текст им говорит вещи, которых они не знали и не ждали, к которым их не подготовила их церковная традиция, которых они, быть может, слышать и не хотят. Как относиться к такому опыту? Как к самообману? Или к ощущению силы Слова Божьего? Или существует более скромное и основанное на здравом смысле объяснение: тексты имеют определенный диапазон семантических возможностей, и можно провести четкую грань между миром сигнификации текста и его интерпретацией в традиции? В данной книге я принимаю последнюю из упомянутых возможностей. Традиция глубоко влияет на наше прочтение, но между традицией и текстом сохраняется постоянное творческое напряжение. У Писания есть собственный голос, и долг добросовестного интерпретатора - прислушиваться к этому голосу, осмысливая его как с помощью его собственной традиции, так и без нее.
Еще одно возможное возражение: могут сказать, что я обращаю слишком мало внимания на исторический контекст и развитие новозаветных этических учений. Не искажаем ли мы картину жизни раннехристианских общин, фокусируя внимание на канонических документах? Здесь заслуживают внимания три момента.
Первое. Следует ли новозаветной этике заниматься тем, что находится вне текстов? Представители исторической критики часто видели свою основную задачу в том, чтобы выявить истоки тех или иных идей, содержащихся в текстах. При таком подходе исследователь новозаветной этики занимается преимущественно источниками, реальными и гипотетическими, возможно, уделяя особое внимание реконструкции этического учения Иисуса и отличию его от канонических представлений о нем[25].
Второе. Следует ли новозаветной этике заниматься очерчиванием траекторий развития раннехристианского этического учения? Тут, конечно, каноническими текстами ограничиваться нельзя. Историк должен взвесить и ту информацию, которую содержат внеканонические материалы[26].
Третье. Следует ли новозаветной этике заниматься социальным этосом и обычаями раннехристианских общин? Исследователь, преследующий такие интересы, будет смотреть на новозаветные тексты как на окно, через которое можно увидеть, хотя бы через тусклое стекло, социальный мир и повседневную жизнь христиан І века[27].
Все эти вопросы сами по себе интересны, но на них сложнее дать определенные ответы, чем порой полагали прежние поколения новозаветников.
Читатель легко увидит, что я стою на плечах других исследователей. Мое прочтение канонических документов использует результаты научных работ по источникам, развитию и социальному контексту этих документов. Все это относится к тому, что я называю дескриптивной задачей. Серьезному исследователю текстов без внимания к таким факторам просто не обойтись; в книгу нельзя не включить результаты исторической критики. Однако моя основная задача состоит в другом: рассмотреть богословскую проблему того, как следует формировать этические нормы и обычаи современной Церкви на основе Нового Завета. Вопросы об историческом контексте Нового Завета здесь отходят на второй план. Мой ответ критикам звучит так: я не игнорирую историческую проблематику, а включаю ее в более глобальный проект интерпретации. Детально же анализировать исторические вопросы в рамках настоящей книги невозможно. Читатели, которые хотят ознакомиться с более подробным исследованием конкретных исторических проблем, могут обратиться к литературе, указанной в сносках.
Следующее возможное возражение: почему я не рассматриваю Ветхий Завет? Если Церковь считает Ветхий Завет священным Писанием, разве не естественно при обсуждении библейских этических норм рассмотреть весь канон? Нет ли у меня какого-то маркионитского предубеждения против Ветхого Завета? На это я должен ответить: читатель легко убедится, что я считаю Новый Завет постижимым только как герменевтическое усвоение Писаний Израиля[28]. Поэтому, хотя отдельно рассматривать ветхозаветные тексты здесь нет возможности (для этого надо писать отдельную книгу, гораздо большую, чем эта), в своей интерпретации Нового Завета я попытаюсь показать: убеждения его авторов сформированы свидетельством Ветхого Завета. (Подробнее см. в разделе 13.4.)
И последнее возможное возражение против моей методологии: почему я приписываю такой исключительный авторитет новозаветному собранию документов без обстоятельной аргументации? Что ж, я исхожу из того, что канонические тексты - norma normans для церковной жизни, а прочие источники нравственного наставления (церковное предание, философские размышления, научное исследование, современные притязания на религиозный опыт) - norma normata. Поэтому нормативная христианская этика - предприятие глубоко герменевтическое: оно должно начинаться и заканчиваться толкованием и применением Писания для жизни верующей общины. Конечно, не все со мною согласятся[29], но такова классическая вероисповедная позиция кафолического христианства (особенно в традициях Реформации). Поэтому в этой книге я не буду заниматься формальным апологетическим обоснованием авторитета Писания. Читателям, которые спрашивают, с какой стати мы наделяем Библию таким нормативным статусом, придется обращаться к другим книгам. Здесь я исхожу не только из неизбежности ограничений вследствие объема и многогранности темы, но и из богословской интуиции: самый сильный аргумент в пользу истинности Писания - община людей, воплощающих любовь и силу Божью, которые они узнали через Новый Завет. Без свидетельства таких общин формальные аргументы в пользу авторитета Писания не убедительны. Соответственно, книга написана преимущественно для читателей, которые находятся в общине, верящей в нормативность Нового Завета. В такой общине эти подлинно важные и актуальные вопросы влияют на устроение церковной жизни по Новому Завету. Таким читателям эта книга покажет, как Церковь может последовать своему призванию - жить по Писанию.
Часть первая: Дескриптивная задача: представления о нравственной жизни в Новом Завете
Первая задача новозаветной этики - описать содержание индивидуальных текстов новозаветного канона. Однако как это сделать? Систематический экзегетический анализ этических учений Нового Завета может занять несколько томов[1]. Поскольку эта книга пытается выйти за пределы простого описания и осуществить синтетическую, герменевтическую и прагматическую задачи, нам придется ограничиться резюме этических представлений основных новозаветных свидетелей. Соответственно, мы будем брать по очереди каждую группу текстов (например, послания Павла, Иоаннов корпус) и спрашивать: какая нравственная логика диктует суждения автора о жизни перед Богом? Какие основные символы, темы и заботы находят выражение в тексте? Какие мы находим исходные предпосылки и убеждения относительно характера христианской жизни? Иными словами, мы сделаем набросок нравственной позиции, заключенной в каждом из этих текстов.
Наш подход будет не всеобъемлющим, а избирательным. Мы сфокусируем внимание на текстах, которые представляют собой особую важность вследствие своего содержания и исторического влияния, - Посланиях апостола Павла, четырех Евангелиях,
Деяниях Апостолов и Откровении[2]. При этом мы не будем подробно рассматривать все послания Павла: «девтеропаулинистские» послания (к Колоссянам, Ефесянам, Пастырские послания) мы окинем лишь беглым взглядом. Иоанновы послания будут рассмотрены вместе с Евангелием от Иоанна. Послание к Евреям и Соборные послания (Иаков, 1-е и 2-е Петра, Иуды) вообще не включены в обсуждение. Если в текстах, которым в данном обзоре было уделено мало внимания, содержатся этические эмфазы и учения, не вполне согласующиеся с другими новозаветными текстами, мы рассмотрим их в части II «Синтетическая задача». (Хотя, на мой взгляд, Новый Завет предлагает очень цельное видение.) Повторюсь: наша цель в первой части книги состоит не в том, чтобы дать полное описание этического содержания Нового Завета, а в том, чтобы проиллюстрировать дескриптивную задачу и выделить ряд материалов, с которыми мы будем работать, обсуждая новозаветную этику.
Несколько слов о порядке рассмотрения текстов. При обзоре новозаветной этики обычно начинают с исторической реконструкции этики Иисуса, а затем прослеживают, как развивалась традиция до своей фиксации в Евангелиях[3]. Я же избрал иной путь и начал с Посланий Павла. Почему? У меня есть на это три веские причины.
Первое. Если мы начнем с Евангелий, то возникнет искажение перспективы. Ведь самые ранние христианские тексты, самые ранние новозаветные тексты - это послания Павла. И начиная с Иисуса и евангельских преданий, мы волей-неволей создаем впечатление, что Павел интерпретирует Евангелия или дает на них ответ. На самом же деле известные нам Евангелия были написаны намного позже смерти Павла, и Павел лишь несколько раз вскользь упоминает об учениях Иисуса (например, 1 Кор 7:10; 1 1:23-25). Практически полное отсутствие у Павла отсылок к синоптическим преданиям об Иисусе - одна из классических проблем новозаветной науки. Правда, некоторые исследователи находят у Павла отрывки, где апостол, по их мнению, намекает на те или иные учения Иисуса[4]. Однако в данной книге у нас нет возможности анализировать их аргументацию, да и в любом случае у нас гораздо больше шансов понять нравственные суждения Павла, если рассматривать его послания до евангельских материалов.
Второе. Из всех новозаветных авторов Павел наиболее полно и открыто занимается этическими вопросами. Читая его корреспонденцию, мы видим, как он реагирует на конкретные проблемы и как находит решения. Его нравственная логика открыта, лежит на поверхности, и нам легко наблюдать за ходом рассуждений. Поэтому по эвристическим причинам начать с посланий Павла полезно: мы сможем разработать аналитические категории, которые облегчат рассмотрение тех новозаветных текстов, где логика нравственной аргументации выражена менее явно.
Третье. Задача моей книги - не описание развития раннехристианской этики, а критическое размышление над этическим значением канонического Нового Завета. Как экзегетов нас в первую очередь интересует не гипотетическая предыстория текстов, а их окончательная форма и последующая интерпретация[5]. Историческая реконструкция - вещь ценная, интересная и, наверное, необходимая, но для задач новозаветной этики как богословской дисциплины - второстепенная. Имеет ли значение для нормативных этических размышлений Церкви, действительно ли Иисус из Назарета рассказал притчу о немилосердном заимодавце (Мф 18:23-35) или она представляет собой творчество общины Матфея? Как бы то ни было, она входит в канонические тексты, а значит, имеет в христианской традиции нормативный авторитет. Поэтому, не умаляя сложности и значимости попыток понять первоначальную историческую среду новозаветных текстов, я сосредоточиваю внимание на свидетельстве канонических документов.
Могут спросить: почему же в таком случае анализ Евангелия от Марка предваряет анализ Евангелия от Матфея? Почему я не следую канонической последовательности текстов? Опять-таки мое решение вызвано желанием избежать искажения перспективы. По многим причинам большинство новозаветников считают Евангелие от Марка самым ранним из канонических Евангелий[6]. Индивидуальные эмфазы Матфея и Луки будут лучше заметны, если рассматривать их портреты Иисуса как адаптации и дополнения портрета, нарисованного Марком. С другой стороны, очередность анализа текстов - всего лишь вопрос эвристической ясности. Основная наша задача состоит в том, чтобы услышать индивидуальный голос каждого из свидетелей. И если порядок рассмотрения будет иным, принципиальных различий не возникнет.
Глава 1.Павел: koinonia его страданий
1. Имеет ли этика Павла богословскую основу?
Павел был прежде всего миссионером, организатором по всему Средиземноморью маленьких общин, объединявших людей в поразительном исповедании: Бог воскресил из мертвых распятого человека, Иисуса, и тем самым положил начало новой эпохе, в которую всему миру суждено преобразиться. Послания Павла, дошедшие до нас в составе Нового Завета, - его пастырское общение с этими миссионерскими аванпостами. Находясь вдалеке от них, он не прекращал увещевать и советовать, как им вести совместную жизнь «достойно благовествования Христова» (Флп 1:27).
Все послания, кроме Послания к Римлянам, адресованы общинам, которые основал сам Павел и которые были хорошо знакомы с его проповедью и учением. Поэтому он многих вещей не оговаривает, предполагая, что они разумеются сами собой. Нам же, по прошествии многих веков, остается лишь строить догадки: как Павел проповедовал им первоначально? Какие нормы поведения он уже старался им привить? Какие общие предпосылки были столь фундаментальны, что не требовали пояснения в посланиях? Пробелов много, и мы словно пытаемся понять телефонный разговор, слушая только одну сторону... Сами послания содержат некоторые ключи, и при вдумчивом прочтении мы обнаруживаем, какой колоссальный вызов заключался в этом невысказанном.
Павел нигде не дает систематического изложения «христианской этики». Не дает он и «устава общины», полного свода правил по организации общины и обязанностям ее членов. В древнем мире такие уставы были довольно распространенным явлением. Характерные примеры - кумранский «Устав общины» (1QS), изложение Иисусова учения в Евангелии от Матфея, Дидахе, кодификация еврейской галахи в Мишне. Однако у Павла мы ничего подобного не находим. И, как мы увидим далее, у него были на то богословские причины. Каждую пастырскую проблему, возникающую в одной из его церквей, он решает индивидуально. Должны ли уверовавшие язычники делать обрезание? Должны ли новообращенные разводиться со своими неверующими супругами? Должны ли христиане подчиняться римским властям? На все эти вопросы Павел дает ответы.
Основаны ли эти ответы на некоем цельном богословском видении[1]? Может быть, Павел просто заимствовал нравственные нормы из традиционных источников? Или в их основе лежит специфическая логика благовестия?
Некоторые новозаветники отрицают наличие прямой связи между этическими наставлениями Павла и его богословской Вестью. По мнению Мартина Дибелиуса, одного из основателей форманализа, блоки нравственных рекомендаций в конце Павловых посланий следует понимать как parenesis, общие собрания максим, взятых из популярной эллинистической философии[2]. Согласно Дибелиусу, ранние христиане ожидали наступления конца истории буквально с минуты на минуту, а потому формулированием этики не занимались. Когда, вопреки ожиданиям, парусии не произошло, они заполнили этический вакуум, усвоив философский parenesis. Дибелиус считал, что, например, этические учения в Гал 5-6 и Рим 12-15 не имеют внутренней связи с Павловым благовестием и не почерпнуты в «откровении» (см.Гал 1:12); они лишь используют расхожие в эллинистической культуре представления о нравственности[3].
Хотя характеристика, данная Дибелиусом этическому материалу Павла, подверглась в науке острой критике[4], его разделение между богословским и этическим аспектами посланий продолжало находить сторонников. Например, Ханс Дитер Бец в крупном комментарии к Посланию к Галатам пишет следующее о Гал 5:1-6:10:
Павел не дает галатам специфически христианской этики. Он обращается к христианину как к образованному и ответственному человеку. Он не ждет от христианина чего-то большего, чем от любого другого образованного человека в эллинистической культуре своего времени. Довольно примечательным образом Павел подстраивается под этическую мысль современников[5].
По мнению Беца, Павлово благовестие может послужить мотивацией правильного поведения, но не предполагает специфически христианского представления о том, что правильно, а что - нет; Павел заимствует нравственные нормы, из окружающей его образованной культуры.
Значение подобного анализа очевидно: если отсутствует внутренняя связь между этикой Павла и его богословием, то нормативный статус тех или иных его конкретных этических наставлений оказывается под вопросом. Получается, что, когда христианское благовестие переходит во времени и пространстве в другую культуру, оно без труда может воспринимать ее нормы. (Часто можно слышать, как в этом ключе рассуждают при обсуждении Павловых воззрений на сексуальную этику.) И напротив, если этика Павла самым непосредственным образом связана с его богословием, то нормативный характер его нравственного учения неразрывно связан с авторитетом его благовестил. Конечно, эти герменевтические соображения сами по себе не предопределяют результат анализа, но неплохо представлять, что именно поставлено на карту.
Таким образом, при исследовании Павловой этики перед нами возникают следующие критические вопросы: основаны ли этические нормы Павла на его благовестии? Из чего он исходил в своих пастырских советах? Походил ли Павел на современных авторов передовиц или ведущих газетных разделов «Советы», апеллирующих при обсуждении нравственности к здравому смыслу и пристойности? Или его рекомендации формировались его благовестием? Требует ли истина его благовестия именно тех ответов, которые он давал?
Далее я попытаюсь показать укорененность этических учений Павла в его богословской мысли. Лишь отстранившись от реального содержания Павловых посланий, можно постулировать дихотомию между его богословием и этикой, или между керигмой (провозвестием Евангелия) и дидахе (учением о нормах поведения), или между индикативом (то, что Бог сделал во Христе) и императивом (то, что призваны делать люди). Чем внимательнее мы читаем послания Павла, тем менее обоснованными кажутся эти знакомые дихотомии. В этих текстах трудно провести четкую грань между богословием и этикой[6]. Они спаяны воедино: специфические пасторские проблемы в Павловых церквах вызывают его богословские размышления. И богословие развивается буквально на наших глазах. Павел не просто повторяет старые доктрины, но богословствует в процессе создания послания[7], богословствует с целью привить церквам определенное поведение. Для Павла богословие никогда не было абстрактным, отвлеченным от реальной жизни занятием. Оно всегда было средством построения общины.
Павла влечет богословская мечта необычайного размаха: все рассматривается в свете Евангелия, решения всех пастырских проблем отыскиваются в свете Евангелия. Павел высказывается по всем вопросам - идоложертвенная пища, правильное поведение во время общинных трапез, дар языков, сексуальная жизнь супружеских пар. Однако сам же Павел отмечает, что за различными его ответами на проблемы, возникающие в ходе попыток общины жить богоугодной жизнью, стоит определенная цельная Весть[8]. Он пишет коринфянам: «И когда я приходил к вам, братья и сестры, приходил возвещать вам свидетельство Божие не к превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор 2:1-2). С этой единственной вестью о Христе распятом Павел и приступает к решению всех конкретных проблем поведения, возникающих в его молодых общинах... Однако каким именно образом благовестие о распятом Христе решает все этические вопросы? Об этом мы вскоре поговорим подробно.
Поскольку реакция Павла обусловлена конкретными ситуациями, при исследовании Павловой этики лучше всего рассматривать их по очереди: проблема и ответ на нее апостола[9]. К сожалению, объемы исследования не позволяют провести здесь индуктивный экзегетический анализ индивидуальных посланий. Вместо этого мы сделаем краткий набросок нравственной позиции Павла, рассмотрев свидетельство всех его посланий[10]. Наша дискуссия будет структурирована следующим образом.
Первое. Сначала мы обратим внимание на три повторяющихся и взаимосвязанных богословских мотива, которые в этическом богословии Павла являются как бы каркасом, несущей конструкцией: эсхатология, крест и новая община во Христе. Без этого общего описания Павловой мысли не обойтись, поскольку, как отметил Виктор Ферниш в своем крупном исследовании «Богословие и этика у Павла», изучение этики Павла должно начинаться с «богословских убеждений, которые лежат в основе его конкретных увещеваний и наставлений»[11].
Второе. Следующий шаг - ряд аналитических вопросов относительно внутренней логики: почему необходимо послушание Богу? К чему призывает нас благовестие? Как исполнять волю Божью после того, как мы ее узнали? Можно перевести эти вопросы на обычный язык этического анализа: каково основание для послушания Богу? Каковы нормы поведения? Каков источник сил для нравственной жизни?
Третье. Мы уделим особое внимание учению Павла относительно секса в браке и роли мужчины и женщины в служении. Хотя эти вопросы не занимают центрального места в Павловой этике, они очень волнуют читателей в конце XX века, и на их примере хорошо можно показать, как богословствует Павел, как он приходит к определенным советам для общин, получивших его свидетельство.
2. Богословская канва этики Павла
(А) Новое творение: эсхатология и этика. Согласно Павлу, смерть и воскресение Иисуса были апокалиптическим событием, которое знаменовало конец старого века и начало нового века. Нравственную позицию Павла можно понять, только если постоянно помнить об этом его апокалиптическом мировоззрении[12]: свою идентичность и призвание Церковь должна обрести, увидев собственную роль в космической драме, в которой Бог примиряет мир с собой.
Мы убеждены что если один умер за всех, то все умерли. А он за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти... Итак, если кто во Христе, - есть новое творение: древнее прошло, теперь - все новое! Все же от Бога, Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения (2 Кор 5:146-18).
Образ «нового творения» принадлежит миру еврейской апокалиптики. Одним из основных апокалиптических верований было представление о «двух веках»: нынешний век зла и страдания должен смениться славным мессианским веком, в котором Бог победит несправедливость и учредит праведность в восстановленном Израиле[13]. Павлово упоминание о «новом творении» -аллюзия на пророчество Исайи о надежде.
Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю,
и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце.
А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю;
ибо вот, Я творю Иерусалим веселием,-
и народ его радостию.
И буду радоваться об Иерусалиме
и веселиться о народе Моем;
и не услышится в нем более голос плача
и голос вопля (Ис 65:17-19).
Когда мы читаем 2 Кор 5 в контексте горячего профетического упования Исайи на обновление мира, мы понимаем, что Павел возвещает: Церковь уже вошла в эсхатологический век.
К сожалению, старые переводы иногда мешают увидеть апокалиптизм 2 Кор 5. К примеру, в «Исправленной стандартной версии» ключевая фраза из ст. 17 передана так: «Он - новое творение» (he is a new creation). Еще хуже в Библии короля Якова: «Он - новая тварь» (he is a new creature). Эти переводы существенно искажают мысль апостола, создавая впечатление, что он говорит только о личной трансформации человека через опыт обращения. Однако в греческом тексте нет ни подлежащего, ни сказуемого, и, если переводить дословно, то «новое творение» можно рассматривать как промежуточное восклицание: «Если кто во Христе, - новое творение!» «Новая исправленная стандартная версия» внесла небольшую редакцию: «Если кто во Христе, - есть новое творение!» (if anyone is in Christ, there is a new creation). Ведь Павел говорит не просто о субъективном индивидуальном опыте обновления через обращение: для него «ктисис» («творение») относится ко всему тварному устройству (см. Рим 8:18-25). Он возвещает апокалиптическую Весть о том, что через Крест Бог уничтожил «космос» греха и смерти и привел к бытию «космос» новый. Вот почему Павел может описывать себя и своих читателей как людей, «на которых встретились концы эпох» (1 Кор10:11)[14]. Старый век уходит (см. 1 Кор 7:31б), а новый век явился во Христе. Церковь же стоит на стыке между ними.
Однако Павел делал важную оговорку: пока Церковь находится на этом стыке, она должна ждать полного завершения надежды. Завершение произойдет лишь при парусии, славном пришествии Господа Иисуса Христа. Его пришествие будет сопровождаться всеобщим воскресением из мертвых и последним Судом (1Фес 4:13-18; 1Кор 15:20-23). Таким образом, нынешнее время Павел считает неким аномальным промежутком, когда «уже» и «еще не» искупления сосуществуют в диалектическом напряжении[15]. Концы веков наложились друг на друга.
С одной стороны, старый век еще силен: остаются в силе земные обязанности (например, брак, послушание властям), грех и страдание восстают на Церковь. Павел неоднократно проводит эту мысль. В Рим 8, признавая «нынешние страдания», он говорит об искуплении как о будущей надежде: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться?» (Рим 8:24-25).
С другой стороны, в отличие от большинства форм еврейской апокалиптической мысли, новое творение - не просто будущая надежда: искупительная сила Божья уже действует в настоящем, и форма этого мира уже проходит. Присутствие Святого Духа в церкви - эсхатологический знак, предвкушение и гарантия обетованного искупления. В 2Кор 1:22 и 5:5 Павел метафорически говорит о Духе как об arrabon, «залоге», гарантирующем последнюю выплату. Церковь, которой дарован Дух, пребывает в веке нынешнем как знак грядущего, предвестие ожидаемого ею искупления.
Каково влияние этой радикальной эсхатологической точки зрения на этику Павла? Современные критики, для которых апокалиптическая эсхатология - мир дикий и чужой, часто находили связь эсхатологии и этики проблематичной. По их мнению, ожидание скорого Конца обессмысливает этические суждения. Например, Джеймс Лесли Хоулден считает эсхатологические убеждения Павла источником «непоследовательных нравственных суждений», поскольку вера в близость Конца «наносит увечье обычному процессу этической аргументации»[16]. Другой вариант: по мнению некоторых ученых, ожидание близкого Конца привело к возникновению некой «восторженной» промежуточной этики, которая в последующей церковной истории была смягчена. Например, одобрение Павлом целибата (1Кор 7:8, 25-35) отчасти основано на той предпосылке, что время истекает (1Кор 7:29-31). Соответственно, многие полагают, что радикальная эсхатология ведет либо к нравственному квиетизму (будем спасать собственную душу, а мир пусть катится к чертям), либо к нравственному фанатизму.
Да, в современную эпоху эсхатологические чаяния скорого Конца действительно порой приводили к отказу от социальной ответственности. Однако мы не должны проецировать эти реалии на I век и толковать Павлову эсхатологию в анахронистическом ключе. Рассмотрим несколько отрывков, чтобы увидеть, как работают у Павла эсхатологический язык и образы, когда он пытается привить церквам определенное поведение.
Первое Послание к Фессалоникийцам. Это самое раннее из дошедших до нас посланий Павла. Эсхатологические чаяния играют в нем заметную роль. В вводной части (1:2-10) Павел благодарит Бога за то, что принятие благовестия фессалоникийцами стало ярким свидетельством остальным, которые услышали, как они «обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1:96-10). Без сомнения, в этих словах сконцентрировано содержание первоначальной миссионерской проповеди Павла. Павлово резюме подчеркивает апокалиптические мотивы: воскресение Иисуса из мертвых и ожидание, что Он скоро снова придет с небес спасти свой народ от гнева Бога во время последнего Суда.
Роль фессалоникийской общины в эсхатологический промежуток между воскресением и парусией состоит не только в том, чтобы «ждать» (ст. 10), но и чтобы во время ожидания «служить [douleuein] ...Богу». Это подчеркивают воспоминания Павла об их «деле веры и труде любви и терпении упования на Господа нашего Иисуса Христа» (ст. 3). Надежда, устремленная в будущее, непосредственно связана с преображением жизни фессалоникийцев таким образом, что они, согласно Павлу, активно служат Богу, совершая дела любви. Из этого небольшого отрывка, к сожалению, непонятно, что делали фессалоникийцы помимо радушия по отношению к самому Павлу (ст. 9). Но все же нам известно: принятие ими апокалиптического благовестия привело не к пассивности, а именно к деяниям любви. В 1 Фес 3:12-13 Павел молится за своих фессалоникийских читателей:
А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие [parousia] Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его.
Заметим: это не увещание, не заповедь фессалоникийцам, а молитва, просьба к Богу, чтобы Он увеличил их любовь друг ко другу и освятил их в приутотовление к парусин. Павел представляет себе Церковь как народ, который Бог готовит к полноте своего Царства. Святость, которая приготовит их к последнему Суду, выражается в любви, изобилующей в общине. Важность этих тем видна и в заключительной молитве послания (5:23-24):
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие [parousia] Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас [т.е. Бог], Который и сотворит сие. (Выделено мной. - Р.Х.)
Эсхатологические мотивы всплывают также в 1 Фес 4:13-18, где Павел обращается к проблеме, волновавшей его адресатов[17]. Как насчет верующих, умерших до наступления парусии? Лишены ли они жизни в мессианском царстве? Из ответа Павла ясно видно, что его упование основывалось не на бессмертии души, а на воскресении из мертвых. Ведь ничто не мешало ему сказать, например, следующее: «Разве вы не знаете, что, когда ваши возлюбленные умирают, их души оказываются с Иисусом на небесах?» Однако он этого не говорит. Вместо этого он рассказывает о воскресении тела: сначала воскреснут мертвые, потом «мы, оставшиеся в живых» будем вместе с ними восхищены на встречу с Господом. Ключевой момент здесь - утверждение надежды на воссоединение с «усопшими». Своим рассказом Павел не предупреждает читателей о последнем Суде, но ободряет их: «Итак утешайте друг друга этими словами» (4:18).
Далее, однако, утешение перетекает в наставление (5:1-11). Павел призывает общину бодрствовать и трезвиться в приготовлении ко дню Господа, «облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды» (5:8). Образ битвы, который здесь затрагивается, характерен для апокалиптических изображений общины верных в последние дни: они подвергнутся нападению со стороны сил зла, а потому должны быть заранее готовы (ср. Еф 6:10-20 и кумранский «Свиток войны»). Разумеется, в данном случае под броней подразумевается не буквальная военная амуниция[18], а добродетели, которые, согласно 1:3, отличают фессалоникийцев. Отрывок завершается повторением ранее прозвучавших тем:
Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения чрез Господа нашего Иисуса Христа [ср. 1:9-10], умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с ним [ср. 4:13-17]. Поэтому увещевайте друг друга [ср. 4:18] и назидайте один другого, как вы и делаете [ср. 3:12].
Таким образом, на протяжении этого короткого послания использование Павлом эсхатологического языка призвано утешить членов общины, призвать их к взаимной любви и взаимному назиданию. Согласно Павлу, эсхатологическая надежда должна приводить не к пассивности и не к лихорадочному ожиданию, но к радостному пониманию того обстоятельства, что Бог действует среди них, готовя их ко дню Господа именно через те дела любви, которые отличают их общинную жизнь.
Второе послание к Коринфянам. Если 1 Послание к Фессалоникийцам подчеркивает будущий аспект апокалиптического ожидания, другие отрывки из посланий Павла делают не меньший упор на начало нового творения уже в настоящем. Как мы показали выше, во 2 Послании к Коринфянам Павел описывает общину как живущую в «уже»: «Древнее прошло; теперь все новое» (2 Кор 5:17). Поскольку смерть и воскресение Христовы уже произошли, Церковь живет в «день спасения» (6:2). Однако было бы серьезным непониманием Павла вырывать эти его высказывания из контекста и рассматривать их как знак того, что Павел стал мыслить в русле реализованной эсхатологии.
Эсхатологическое исполнение Павел акцентирует в 2 Кор 5 с целью укрепить авторитет своего апостольского служения, который ставили под сомнение враждебные ему проповедники в Коринфе[19]. Эти проповедники - Павел язвительно называет их «суперапостолами» (11:22) - подчеркивали свое еврейское происхождение (11:22), сравнивали свое служение со служением Моисея и предъявляли рекомендательные письма (возможно, от иерусалимской церкви) в поддержку своей деятельности. Они также задавали вопросы о Павле: где его рекомендательные письма (3:1)? Законный ли он апостол?
Отвечая на этот вызов, Павел делает смелые утверждения, укорененные в его апокалиптическом мировоззрении. Ему не нужны ни рекомендательные письма, ни доказательства преемства с Моисеем или Иерусалимом, поскольку источник его авторитета - Дух (3:4-6). Отличия, которыми гордятся суперапостолы, принадлежат старому веку, Павел же - «посланник Христа» (5:20), возвещающий новый порядок, апокалиптическую Весть о примирении мира с Богом. Те же, кто продолжает требовать традиционных верительных грамот, просто не знает, какое время на дворе. Когда появляется новый мир, к чему оглядываться назад?
В свете этого Павел предупреждает коринфян, чтобы они не жили по стандартам века уходящего и не отвращались от благовестил.
Мы же, как споспешники, добавляем наше увещевание, чтобы вы не дали благодати, предложенной Богом, оказаться тщетной. Ибо он говорит: «Во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот, теперь время благоприятное, вот теперь день спасения (6:1-2, цит. Ис 49:8 LXX)[20].
Апокалиптическая смена веков создала новое служение, вдохновленное Духом. Люди, уловленные в веке ветхом, этого не понимают. «Покрывало лежит на сердце их» (3:156). «Бог века сего ослепил умы неверующих» (4:4), которые погибают. (Такого рода сотериологический дуализм - еще одна важная особенность апокалиптической мысли.) Однако на сердце Павла и обратившихся к Господу христиан более не лежит покрывало. Итак, «мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу; ибо это исходит
от Господа, Духа» (2 Кор 3:18)[21].
Эсхатологическая трансформация общины объясняет необычное утверждение Павла о том, что цель примиряющего действия Бога во Христе - «чтобы мы стали праведностью Божьей» (5:21). Отметим: не «чтобы мы узнали о праведности Божьей», не «чтобы мы уверовали в праведность Божью» и даже не «чтобы мы получили праведность Божью». Церковь должна стать праведностью Божьей: где она воплощает в своей жизни примиряющую любовь Иисуса Христа, там зримо новое творение. Церковь воплощает праведность Бога.
Апология Павла оказывается неразрывно связанной с вестью о том, что церковная община - начало окончательного искупления мира Богом. Однако это грандиозное притязание смягчается другой стороной Павловой эсхатологической диалектики - «еще не». После поразительных слов о преображении евангельским Духом Павел добавляет важную оговорку о специфической форме, которую имеет его служение:
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем... Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей (4:7-9, 11)
Если Церковь являет праведность Божью, она делает это так же, как и Иисус, - через страдания и смерть ради других. Призвание народа Божьего сопряжено со страданием. Во избежание непонимания Павел повторяет - сразу после ликующего «теперь дня спасения» - длинный перечень невзгод, которые он претерпел как раб Божий (6:3-10). Не следует думать, что Павловы страдания противоречат его словам о начале нового творения. Это, скорее, следствие его убежденности в том, что Церковь живет в межвременье. Те, кто живут на стыке времен, живут под знаком креста. «Мы ходим верою, а не видением» (5:7).
Послание к Римлянам 8. Апокалиптические представления Павла о христианском существовании между временами, в котором парадоксальным образом слава смешана со страданием, ярче всего отражены в Рим 8. Этот раздел послания начинается с триумфального провозглашения: «Нет ныне [т.е. после смерти Христовой; ср. Рим 5:8] никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (8:1). Через Христову смерть Бог уничтожил грех, «чтобы справедливое требование Закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (8:4). Присутствие эсхатологического Духа Божьего в общине - основа для упования и радости: «Вы не в плоти, а в Духе, ибо Дух Божий живет в вас» (8:9). Дух также свидетельствует, что верующие отныне принадлежат к семье Божьей: «Когда мы взываем: «Авва! Отче!», этот самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу» (8:15в-17а).
До сих пор апостол рисует картину славного исполнения обетовании: община во Христе испытывает свободу от власти плоти и через присутствие Святого Духа уже разделяет со Христом наследие. Однако неожиданно ход рассказа апостола о жизни во Христе меняется: «...сонаследники же Христу, - если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (8:176). Это «если» вводит «эсхатологическую оговорку», характерную для осмысления Павлом христианского существования по сю сторону парусии. Межвременье - период страданий, когда община участвует в страданиях Христа. Парадоксальным образом те, кто радуется дарам, описанным в 8:1-17а, ныне же страдают со Христом!
Сделав эту существенную оговорку, Павел переходит к размышлениям о неоднозначности жизни в межвременье.
Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо творение [he ktisis] с надеждою ожидает откровения сынов Божигос.что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение стенает в родовых муках доныне[22]; и не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо, если кто видит, для чего ему надеяться? Но мы надеемся на то, чего не видим; мы ожидаем этого в терпении [hypomone] (8:18-25).
Интересно, что христиане, получившие «начатою Духа», не избавлены тем самым от страдания. Напротив, они стенают вместе с неискупленным творением[23], ожидая искупления, которое будет завершено только при воскресении, «искуплении тела нашего». Еще раз отметим: у Павла искупление - телесное. Он не считает тело злом и не говорит об «искуплении от тела». Он страстно ожидает освобождения всего творения от «рабства тлению». Между тем верующие находятся в отношениях солидарности со страданием творения неискупленного. Для них эту боль даже обостряет напряжение между надеждой и реальностью. Те, кто ощутил свободу и силу Духа Божьего, продолжают надеяться на реальность, которую они еще не видят. Поэтому они ждут и стенают, и радуются.
Резюме. Мы начали с вопроса о роли эсхатологии Павла в советах, которые он дает церквам. На основании обзора отрывков из 1 Послания к Фессалоникийцам, 2 Послания к Коринфянам и Послания к Римлянам можно предложить следующие выводы.
• Эсхатологический ракурс позволяет Павлу рекомендовать высокую терпимость к двойственности. Страдание и радость идут рука об руку, и Церковь должна ожидать, что такая парадоксальная ситуация сохранится до парусин. Тем не менее обетование о том, что в конце концов Бог все исправит, позволяет общине жить в верности и доверии, сколь бы плохо дела ни выглядели в настоящем.
• Община вовлечена в космический конфликт. Как первые представители нового творения Божьего в упорствующем и враждебном мире члены Церкви должны столкнуться с тем же сопротивлением, что и некогда Иисус, с тем же сопротивлением, что и ныне - Павел. Однако оружие в этой битве - не плотское оружие насилия, а провозвестие истины (ср.2 Кор 10:3-6).
• Ощущение близости явления Господа не отрицает требования этического поведения, но усиливает его. Община призвана быть усердной в делах любви и взаимного служения.
• В то же время сам Бог готовит общину ко дню Господа. Поразительно, сколь редко Павел использует эсхатологический суд как угрозу с целью призвать к послушанию. Для него скорее характерно другое: он указывает на уже совершающееся в общине освящающее действие Духа как на основу уверенности и надежды.
• Павел благовествует об искуплении всего творения и не сулит христианам побега от материального мира. Соответственно, дуализм, характерный для апокалиптических представлений, у Павла смягчается утверждением: даже те, кто получил Духа, все еще стенает с неискупленным миром.
Коротко говоря, Павлова эсхатология помещает христианскую общину в космический, апокалиптический контекст. Церковная община - эсхатологический плацдарм Бога - место, где сила Божья вторглась в этот мир[24]. Все нравственные суждения Павла сделаны именно в этом контексте. Подход в этике определяется диалектическим характером эсхатологического видения («уже»/«еще не»): Павел резко критикует не только старый, уходящий век, но и тех, кто утверждает, что новый век уже полностью явился. Жить в межвременье - значит, проходить в нравственном плане узкой тропой, не утверждая ни слишком много, ни слишком мало про действие преобразующей силы Божьей в общине веры.
(Б) Крест: парадигма верности. О человеке Иисусе Павел почти ничего не говорит. Однако одна тема у него появляется постоянно - крест. Это внимание к смерти Иисусовой - следствие стремления Павла «не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор 2:2).
В Павловой мысли крест - многогранный символ, заключающий в себе богатство смыслов[25]. Он знаменует собой центр времен, место, где Христос взял на себя «проклятие закона» (Галл 3:13), чтобы благословение могло прийти и к язычникам. Это высшее проявление праведности Божьей (Рим 3:24-26) и любви Божьей (Рим 5:8), событие, через которое Бог искупает мир. Это тайна, которая посрамляет человеческую мудрость и постыжает человеческую власть (1 Кор 1:21-31).
В нашей книге, исследуя новозаветную этику, мы сосредоточим внимание только на одном из аспектов Павловой интерпретации креста - той, которая определяет его понимание этической ответственности Церкви. С точки зрения Павла, смерть Иисуса на кресте - акт любящего и жертвенного послушания, которое становится примером послушания для всех, кто во Христе.
Смерть Иисуса - не несчастный случай и не случайная несправедливость. Это жертва, свободно предложенная ради народа Божьего. Приветствуя галатов, Павел желает им мира от «Господа Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего злого века, по воле Бога и Отца нашего» (Гал 1:3-4). Аористное причастие dontos («отдал») относится именно к отдаче Иисусом своей жизни, как и в Гал 2:20, где утверждение «Сын Божий...возлюбил меня и отдал Себя за меня» разъясняется в соседних отрывках через отсылки к распятию (2:19) и смерти Христовой (2:21).
Конечно, смерть Сына Божьего на кресте - событие с уникальным метафизическим смыслом, неповторимое, примиряющее человечество с Богом. Это не просто пример того, как нужно жить и умирать. Тем не менее для Павла оно становится и примером для жизни в вере. Когда в Гал 6:2 Павел пишет: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов», он берет за образец отдачу себя Христом (1:4; 2:20) и превращает ее в заповедь для общины служить друг другу в любви[26]. Павел прочитывает крест как метафору других действий (несение креста), которые соответствуют по аналогии жертвенной смерти Иисуса. Это метафорическое истолкование Гал 6:2 хорошо соответствует использованию Павлом того же образа и в других местах его посланий.
В Рим 15 Павел прибегает к смерти Христовой как к примеру, который должен сдерживать «сильных», склонных презирать «немощных в вере» (Рим 14:1).
Мы, сильные, должны нести [bastazein; тот же глагол, что и в Гал 6:2] немощи бессильных и не угождать себе. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию [общины][27]. Ибо и Христос[28] не угождал Себе, но как написано: «Злословия злословящих Тебя пали на Меня»...Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию (Рим 15:1-3, 7).
В этом отрывке не все ясно: Павел предполагает, что читатели без объяснений поймут цитату из Пс 68:96 («Злословия злословящих Тебя пали на меня») как аллюзию на страдания Иисуса[29]. Но, едва мы распознаем эту аллюзию, нам сразу становится понятна мысль апостола: как распятый Мессия понес на себе страдания ради других, так «сильные» в римской церкви должны принимать других, даже если им придется мириться с их «немощью». В данном конкретном случае «немощь» имеет отношение к еде: «Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи» (14:2). Казалось бы, аналогия между жертвенной смертью Иисуса и обязанностью сильных отказаться ради немощных от определенных видов пищи просто абсурдна. Однако в обоих случаях имеет место добровольный отказ от привилегий ради других. Собственно, риторическая сила аргумента обусловлена именно наличием в нем кажущейся несообразности: «Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер» (14:156). Иисус был готов умереть за этих людей, говорит Павел, а вы не хотите даже изменить ради них свой пищевой рацион?
Тема смерти Иисуса как образца особенно полно разрабатывается в Послании к Филиппийцам, средоточием которого является «гимн Христу» (2:6-11)[30]. Павел пишет из тюрьмы (1:12-14) и увещевает филиппийцев жить «достойно благовествования Христова» перед лицом гонений и страданий (1:27-30). Это страдание - «за Христа», а потому представляет собой «привилегию» (1:29). Оно также описывается как «такой же подвиг», как и тот, который совершил сам Павел как апостол. Соответственно, начало письма устанавливает единство в страдании между Павлом и его читателями.
Вторая глава Послания начинается призывом к читателям жить в «койнонии» («сообществе», «соучастии») и взаимной поддержке. Это увещевание основано на рассказе о Христе, который приводится в поэтическом отрывке, - возможно, раннехристианском гимне, уже знакомом филиппийцам.
Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какая «койнония» духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по соперничеству или по тщеславию, но в смирении каждый член общины пусть считает всех остальных обладающими более высоким рангом[31]. Не о себе каждый заботься, но каждый о других, ибо в вас должны быть тот же ум, что и во Христе Иисусе:
Он, будучи в образе Божьем,
Не считал равенство с Богом
Тем, что можно использовать[32],
Но опустошил Себя,
Приняв образ раба,
Сделавшись подобным человекам
И по виду став, как человек.
Он смирил Себя,
Быв послушным до смерти,
И смерти крестной.
Потому и Бог превознес Его
И даровал Ему имя,
Которое выше всякого имени,
Чтобы во имя Иисуса
Преклонилось всякое колено
Небесных и земных и преисподних,
И всякий язык исповедал, что
Иисус Христос - Господь,
Во славу Бога Отца.
Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны[33], не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.
Павел приводит филиппийцам послушание Христа до смерти (2:8) как пример для их собственного послушания (2:12). Как Христос послушно страдал, так и филиппийцы должны быть тверды в благовестии, даже когда оно требует от них страдания (1:27-30). Как Он смирил себя (etapeinosen, 2:8) и принял образ раба, так и филиппийцы должны в смирении (tapeinophrosyne, 2:3) служить друг другу. Таким образом, Павел берет гимн, изначально имевший доксологическую цель, и использует его в целях нравственного увещевания[34]. Христос становится «образцом для подражания»[35], освещающим путь послушания.
Во второй половине XX века многие новозаветники отказались от интерпретации гимна Христу как этического образца после влиятельных исследований Эрнста Кеземана и Ральфа Мартина[36]. Кеземан рассуждал так: невозможно подражать космическому деянию божественной сущности, спускающейся с небес, а впоследствии обретающей прославление над всем творением, - нравственный пример здесь может усмотреть только наивный и сентиментальный «этический идеализм». Ключ к интерпретации Кеземан находит в ст. 6. Буквальный смысл греческого текста звучит так: «Пусть тот ум будет среди вас, который также во Христе Иисусе». Иными словами, речь не о том, что деяния Иисуса представляют собой образец. Скорее, речь о сфере бытия «во Христе», определяющей контекст для поведения Церкви. Эта интерпретация отрывка была принята создателями «Пересмотренной стандартной версии», а «Новая английская Библия» на ее основе предложила такой удачный вариант: «Пусть ваше поведение по отношению друг к другу вырастает из вашей жизни во Христе Иисусе».
Последующие толкователи, однако, заметили, что экзегеза Кеземана не учитывает функций гимна в его контексте, а также многочисленных аналогий, проводимых в послании между Иисусом, Павлом и филиппийцами. Более того, отвержение Кеземаном буквального подражания космическому акту Иисуса предполагает требование почти педантичного соответствия между образцом и подражателем. Если принять более гибкое представление о метафорическом соответствии, то в различии между Христом и Его народом нет ничего удивительного: в конце концов, метафора всегда содержит неожиданное уподобление непохожих сущностей. В Послании к Филиппийцам Павел предлагает метафорическое истолкование жертвенной смерти Христовой. Сила его метафоры кроется именно в ее дерзновенности: он приглашает читателей увидеть соответствие между своими жизнями и призваниями и милостивым деянием Господа, которого они славят во время богослужения[37]. Поэтому комитет, работавший над созданием «Новой пересмотренной стандартной версии» принял решение вернуться к интерпретации, согласно которой речь идет именно об «образце»: «Пусть тот же ум будет в вас, который был во Христе Иисусе».
Павел развивает тему подражания Христу, рассказывая в третьей главе о самом себе. По его словам, некогда он был преуспевающим и уважаемым религиозным человеком, знавшим ответы на все вопросы. В отличие от Мартина Лютера, фарисея Павла не тревожили муки совести. По отношению к праведности по Закону он был «непорочен» (Флп 3:4-7)[38]. Однако встреча со Христом побудила его отказаться от всех этих притязаний и привилегий. Он расстался со своим прежним статусом. «Я от всего отказался и все почитаю за сор[39], чтобы приобресть Христа и найтись в Нем» (Флп 3:8-9). В результате ему перестали доверять в социальном мире еврейской культуры, и он стал презираемым странствующим проповедником; свое письмо он пишет из тюрьмы. Не требуется большого воображения, чтобы увидеть сходство, которое Павел усматривает между собственной жизнью и послушанием Христа, как оно описано в Флп 2.
Более того, поскольку Христос высоко прославлен Богом, Павел надеется в конце концов разделить оправдание Христово:
...познать Христа и силу воскресения Его, и «койнонию» Его страданий, в Его смерти уподобляясь Ему, чтобы мог достичь я воскресения из мертвых (3:10-11).
«Койнония» Его страданий: вот как Павел видит жизнь но Христе. В общении с другими верующие уподобляются Христу в Его смерти. Таким образом, крест становится ключевой метафорой христианского послушания, а воскресение - знаком надежды на то, что Бог оправдает страждущих. Как явствует из более широкого контекста, страдание, о котором говорит Павел, не просто страдание ради страдания. Это страдание «за веру евангельскую» (1:27) и через служение другим (2:1-4).
Поэтому-то Павел призывает читателей: «Подражайте мне[40] и смотрите на тех, которые поступают по образцу, какой вы имеете в нас» (3:17). Павел ставит в пример себя: он уподобляется (хотя и несовершенно; см. Флп 3:12) Христу, и, подражая ему, его церкви вместе с ним будут подражать Христу. Мысль, которая развивается в Послании к Филиппийцам, явно сформулирована в 1 Фес 1:6: «Вы сделались подражателями нам и Господу».
Эти две темы, уподобление Христу в Его смерти и подражание Христу, лежат в основе представлений Павла о нравственной жизни. (Другие отрывки, где эти темы выражены особенно ясно: Рим 6:1-14; 8:17, 29-30; 15:1-7; 1 Кор 10:23-11:1; 2 Кор 4:7-15; 12:9-10; Гал 2:19-20; 5:24; 6:14.) В русле метафоры, которую мы обсуждали выше, послушание Богу определяется через крестную смерть Иисуса.
Роль креста как образца подчеркивается и противопоставлением в Рим 5:12-21 послушания Христа непослушанию Адама. С Адама начался бунт человечества против Бога, и Адам - главный символ этого бунта. Иисус же, полностью послушный Богу, становится основателем нового, послушного человечества.
Поэтому, как преступление одного человека привело к осуждению всех, так акт праведности одного человека приводит к оправданию и жизни всех. Ибо, как через непослушание одного человека сделались грешными многие, так и послушанием одного человека многие сделаются праведными (5:18-19).
Послушание Иисуса, выразившееся в Его крестной смерти, - образец того «послушания веры», к которому зовет Павел (1:5)[41]. Собственно, «послушание одного человека» - это практически синоним «веры Иисуса Христа» (3:22), через которую открывается праведность Божья.
Понимание данного обстоятельства несколько затрудняют переводы, в которых pistis Iesou Christou передается не как «вера Иисуса Христа», а как «вера в Иисуса Христа». Аргументацию в пользу правильного перевода я здесь приводить не буду, поскольку уже делал это в других работах[42]. Смысл понятия «вера Иисуса Христа» раскрывается, когда мы осознаем, что Павел рассматривает Крест как образец, по которому христиане должны строить свою жизнь.
В Рим 3:21-22 Павел возвещает: независимо от Закона явилась правда Божья - «через веру Иисуса Христа». Эти слова разрешают непреодолимые, на первый взгляд, трудности в 3:1-20. Уничтожает ли неверность (apistia) Израиля верность (pistis) Бога своему народу (3:3)? Неужели Бог несправедлив (adikos), если обрушивает свой гнев? Если все люди, евреи и язычники, глубоко погрязли во грехе, находясь в apistia (хотя Израилю и был дан Закон), значит ли это, что искупительный промысел Божий потерпел неудачу? В Рим 3:21-26 Павел отвечает на все эти тревожные вопросы решительным «нет». Бог оправдал свою праведность (dikaiosyne), явив Иисуса, чья верность в смерти искупает человеческие грех и неверность, демонстрирует верность Бога своим обетованиям. Если сопоставить этот отрывок с Рим 5:15-19, то возникает целостная картина. Смерть Иисуса - акт верности[43], который одновременно примиряет человечество с Богом и полагает начало новой реальности, где мы освобождаемся от власти греха и становимся способны подражать Ему. Вот что имеет в виду Павел, когда говорит:
Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А жизнь, которой ныне живу во плоти, живу верой Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня (Гал 2:19-20).
Вера/верность Иисуса Христа оживляет нас. Как ни таинственны эти утверждения Павла, они показывают наличие у него глубокой связи между христологией и этикой[44]. Быть во Христе, значит, уподобляться жертвенной любви, явленной на кресте. «Всегда носим в теле смерть Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем» (2 Кор 4:10).
(В) Искупленная община: тело Христово. Павел писал письма церквам, а не богословские трактаты[45]. Сильный тематический акцент на общине отчасти объясняется поводом к написанию и целью этих посланий: укрепить и поддержать групповую идентичность в молодых, еще не окрепших церквах. Однако не надо думать, что столь глубокое внимание Павла к организации общин обусловлено исключительно практическими соображениями. Новая община во Христе - одна из основополагающих богословских тем в провозвестии Павла[46].
Каков промысел Божий в мире между воскресением и парусией? Согласно Павлу, Бог через Дух создает общины, предзнаменующие и воплощающие примирение и исцеление мира. Плод любви Божьей - возникновение общин, которые славят Бога в совместном исповедании, молитве и богослужении (см., например, Рим 15:7-13).
Павел настаивает: крещеные стали «одним во Христе Иисусе», и между ними больше нет различий по этнической принадлежности, социальному статусу или полу (Гал 3:28). Поскольку во Христе они все - «сыны Божий»[47], то принадлежат к единой семье, в которой все являются сонаследниками[48]. Страстные возражения Павла Кифе в Антиохии (Гал 2:11-21) были вызваны его глубоким убеждением: евреи и язычники должны быть едины во Христе, их не должны разделять социальные барьеры. По мнению Павла, желание иудеохристиан соблюдать Тору было плохо не тем, что оно представляло собой попытку «оправдаться делами», а тем, что оно разрушало единство общины во Христе[49]. Джон Баркли хорошо резюмировал этическую сторону ситуации: «Проблема здесь не легализм (в смысле зарабатывания заслуг перед Богом), а культурный империализм - отношение к еврейской идентичности и еврейским обычаям как к обязательному условию принадлежности к народу Божьему»[50].
Правда, и самого Павла могут упрекнуть в своего рода «культурном империализме». Да, он умалил роль специфически еврейских знаков принадлежности к общине Завета («дела Закона» = обрезание, пищевые запреты, суббота). Однако он ввел и новые знаки принадлежности к этой общине - исповедание веры, крещение, жизнь в Духе. Даниель Буарен в своей важной и острой работе о Павле называет его представления об общине «партикуляристским универсализмом»[51]. Не будем забывать, что община, чьего единения столь страстно добивается Павел, не человеческое общество в целом и не плюралистическое сообщество внутри «полиса», а община церкви. Конечно, Павел верит в окончательное торжество благодати Божьей над всяким человеческим неверием и непослушанием (Рим 11:32; Флп 2:9-11). Однако до осуществления этой надежды Павел обращается только к общине веры. Основ этики для людей нецерковных он не формулирует.
Забота апостола о единстве общины хорошо видна в заключительной увещевательной части Послания к Галатам[52]. Перечень «дел плоти» в 5:19-21 делает особый акцент на прегрешениях против единства общины: «вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси... » Более того, списки добродетелей и пороков в 5:16-24 обрамлены четкими директивами против конфликта в церкви (5:13-15; 5:25-6:5). Следование Христу должно выражаться во взаимной любви членов общины и их взаимном служении: «Через любовь будьте рабами друг друга... Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов (5:13в; 6:2). Забота о единстве общины также составляет одну из главных тем Первого послания к Коринфянам[53]. Вступительное благодарение в нем завершается такими словами: «Верен Бог, Которым вы призваны в «койнонию» Сына его, Иисуса Христа, Господа нашего» (1:9). Этот призыв к причастности Христу в свою очередь становится основой для мольбы о единстве:
Умоляю вас, братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений [schismata], но чтобы вы соединены были в едином уме и единой цели (1:10).
В этой просьбе возникла необходимость, поскольку Павел узнал, что в коринфской общине происходят ссоры. (Далее в ходе письма апостол рассматривает некоторые конкретные случаи таких разделений.) Отсутствие единства в церкви Павел считает противоречием слову о Кресте (1:18-2:5) и признаком незрелости коринфян в вере.
И я не мог говорить с вами, братья и сестры, как с людьми духовными, но только как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? (3:1-4, выделено мной - Р.Х.).
Разногласия в церкви глубоко тревожат Павла, ибо цель его апостольских трудов - не просто спасти души, но построить общину. Он «положил основание» (3:10) и теперь видит, что последующие работники делают свое дело плохо. Между тем качество постройки имеет огромное значение, поскольку община - «Божие строение» (3:9). Более того, община - место, где обитает Бог. «Разве вы не знаете, - спрашивает Павел, - что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (3:16). Некоторые толкователи понимают это последнее предложение в том смысле, что Дух обитает в теле индивидуального христианина. Однако такая интерпретация не дает возможности увидеть всю дерзновенность метафоры: община, основанная апостолом, становится на место Иерусалимского храма как места, где обитает Бог[54]. Разделения в общине бесчестят Храм. Однако присутствие Духа в общине должно рождать не конфликт, а единство.
Эти темы оказываются в центре внимания во время довольно пространного обсуждения глоссолалии и других духовных даров и общинном богослужении (1 Кор 12-14). Павел предлагает использовать назидание общины в качестве мерила духовности.
По-видимому, некоторые коринфяне гордились наличием у них изобилия вдохновленных Духом «речей и познания» (ср. 1:5). В начале письма Павел выражает удовлетворение (возможно, не без доли сарказма), что коринфяне «не имеют недостатка ни в одном духовном даровании» (1:7). Прямого описания проблем, связанных с духовным опытом коринфян, апостол не дает. Однако его советы наводят на мысль, что некоторые общинники претендовали на особую духовность и занимали значительную часть богослужения виртуозной демонстрацией глоссолалии.
Отвечая на эту ситуацию, Павел дает такое описание взаимозависимой общинной жизни церкви:
Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа ради общего блага (12:4-7).
Многообразие Божьих даров необходимо для «общего блага» общины. Павел подчеркивает эту мысль, прибегая к аналогии с человеческим телом, в котором все части необходимы для здорового функционирования организма: «Если страдает один член, страдают с ним все члены; если славится один член, с ним радуются все члены» (12:26). Затем Павел вводит ключевую метафору для обозначения совместной жизни церкви: «Вы - тело Христово, а порознь - члены» (12:27).
Совместное участие в теле Христовом у Павла ложится в основу конкретных указаний относительно общинного богослужения. Дар языков - духовный опыт, что само по себе хорошо, говорит Павел (14:2, 5а). Однако общину этот дар не назидает. Между тем все действия, какой бы вид духовности они ни имели, должны удовлетворять определенному критерию - конструктивно влиять на церковную общину. Соответственно, более ценно и желательно понятное пророчество, которое предлагает общине «назидание, увещание и утешение» (14:3). «Кто говорит на языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь» (14:4). В 14-й главе неоднократно встречаются существительное oikodome («постройка, назидание») и образованный от того же корня глагол oikodomein. Задача построения общины, которая первоначально была апостольским делом Павла, теперь переносится на саму общину; то есть целью совместного богослужения становится формирование общины. Здесь важно, чтобы это дело построения общины было всеобщим, молитвенное собрание не должен монополизировать один человек. Вместо этого:
Когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть откровение, есть язык, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию [oikodome] (14:26, выделено мной - Р.Х.).
Таким образом, собравшаяся община отражает и символизирует взаимозависимость тела Христова.
Между главами 12 и 14 находится великий Павлов гимн любви. Для нас здесь не существенно, сочинил ли его апостол сам или откуда-то заимствовал. Существенно другое: место этого гимна в тексте показывает, что Павел интерпретирует любовь в категориях церковного контекста, о котором идет речь в соседних главах. Любовь, правильно понятая, должна обуздывать тех супердуховных коринфян, чье поведение угрожает общинному благу. Любовь связывает тело Христово узами взаимной радости и страдания. Любовь ищет назидания всей общины, а не личных выгод. Поразительно, что эти слова о любви звучат в ответе Павла во время спора о глоссолалии, а не при обсуждении брака в главе 7. Почему? Для Павла любовь пребывает в первую очередь в общинной жизни церкви.
И последний отрывок - для иллюстрации фундаментального акцента на общину в мысли Павла. В Послании к Римлянам Павел, завершив пространное богословское рассуждение (1:16 - 11:36) о действенности Божьих обетовании Израилю и о тайне милости Божьей, обращается к прямому увещеванию:
Умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божиим, представьте тела [somata; мн. число] ваши в жертву [thysian; ед. число] живую, святую, благоугодную Богу, для духовного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия - что благо и угодно и совершенно (Рим 12:1-2).
Образ «живой жертвы» описывает призвание общины: адресаты послания должны совместно представить свои тела в единую коллективную жертву послушания Богу. Это праведное поклонение - акт общины в целом. Современным читателям, привыкшим к мысли, что Библия обращается лично к ним, образ совместной жертвы может показаться несколько непривычным. Однако в понимании Павлом его миссии он играет фундаментальную роль. Например, в Рим 15:14-19 он говорит о себе как о священнике, совершающем «приношение язычников» Богу; это приношение (prosphora) далее описывается как «послушание язычников» (ст. 18). Здесь жертву приносит Павел как «священник», а в Рим 12:1 - 2 себя приносит в жертву община. Однако в обоих случаях содержание жертвы - совместное послушание общины. То, что Павел при написании Рим 12 имел в виду именно общину, подтверждается упоминанием в стихах 4-8 о «едином теле во Христе» - упоминанием, как и в 1 Кор 12, подчеркивающем взаимодополняющий характер различных даров ради общего блага.
В Рим 12:2 Павел переходит в своих рассуждениях от общинной жертвенной самоотдачи к общинной трансформации. Принеся себя в жертву Богу, члены общины найдут себя преображенными, освобожденными от власти века сего. Их ум (nous; снова ед. число) должен быть обновлен Богом, чтобы они правильно распознавали волю Божью. Смысл здесь примерно такой же, что и в рассмотренном выше описании Церкви в 2 Кор 5:14-21, где Церковь как новое творение во Христе должна стать «праведностью Бога». В 2 Кор 5 новое творение выражено как нынешняя реальность, а в Рим 12 апостол призывает читателей отдать себя и преобразиться. Таким образом, снова в Павловой мысли сходятся индикатив и императив. Нынешняя реальность и будущая надежда пересекаются на стыке эпох. При этом Павел постоянно осмысливает эсхатологическое спасение Божье в общинных категориях: Бог преображает и спасает не отдельно взятые личности, а народ. Следовательно, верные обретают свои идентичность и призвание в мире как тело Христово.
Можно подвести итоги. Три тесно взаимосвязанных темы являются для этической мысли Павла своего рода каркасом, несущей конструкцией: новое творение в конфликте с веком сим, крест как образец действия и община как место пребывания спасающей силы Божьей. Охарактеризовав эти темы, мы можем обратиться к рассмотрению того, как строит Павел свое нравственное рассуждение.
3. Нравственная логика Павла: основания, нормы и сила
(А) Почему необходимо послушание Богу? Основание нравственной жизни. Отменяет ли благодать этику? Павлу пришлось задуматься над этой проблемой, поскольку его критики утверждали, что его благовестие упраздняет Закон и порядок, устраняя тем самым и необходимые ограничения на человеческую греховность. Многие еврейские соотечественники Павла, включая его собратьев-иудеохристиан, были просто в шоке от той свободы, с которой апостол отвергал те или иные заповеди Торы. Они боялись, что проповедь Павла приведет к вседозволенности плоти[55]. (Парадокс: в Новое время и в мире «постмодерна» христианство стало считаться узким и моралистическим. Изначально дело обстояло как раз наоборот: таких людей, как Иисус и Павел, многие считали смутьянами, антиномистами, нарушителями пристойности[56].)
Павел осознавал опасность того, что его благовестие могут понять как разрешение вседозволенности. Поэтому в Послании к Галатам после страстной защиты христианской свободы от Закона он предваряет последний раздел своей аргументации предупреждением: «К свободе призваны вы, братья и сестры; только не используйте вашу свободу как возможность для плоти» (Гал 5:13). Затем он проводит схематичное разделение между «делами плоти» и «плодом Духа», утверждая: «Те, которые принадлежат Христу Иисусу, распяли плоть со страстями и похотями» (5:16-26). Распятие Иисуса стало переломным моментом истории. По словам Павла, галатийские верующие пережили смерть и воскресение со Христом, а потому оставили (или им следовало оставить) разделения и потакание страстям. Те, кто «живут Духом», призваны «руководствоваться Духом», то есть их поведение должно соответствовать испытанной ими животворящей силе Божьей. Судя по образу «плода», Павел не призывал галатов освящать себя, совершая тяжелые нравственные усилия,а советовал им открыться для таинственного действия Духа Божьего. По его убеждению, там, где действует Дух, будет не нравственная анархия, а мир и святость.
Сходные моменты мы находим в Послании к Римлянам. В Рим 3 Павел доказывает, что «как иудеи, так и эллины, все под грехом». Следовательно, люди всецело зависят от милости Божьей: благовестие - «сила Божия ко спасению» (Рим 1:16). Рассуждения Павла могут шокировать: создается впечатление, что он отрицает богоизбранность Израиля и угрожает уничтожить мотивацию к исканию богоугодной жизни. Что ж, с этим возражением против своей Вести Павел уже знаком, и он сам риторически выдвигает его в Рим 3:7-8:
Но если через мою ложь только возрастает верность Бога к Его славе, за что меня судить как грешника? И почему не сказать (как некоторые клевещут на нас, утверждая, что мы именно так говорим): «Будем делать зло, чтобы вышло добро»? Их осуждение заслужено!
В данном отрывке Павел на возражение не отвечает - лишь называет его «клеветой», извращением его благовестил. Собственно, подняв этот вопрос, он в своей аргументации несколько забежал вперед, поэтому пока оставляет тему в стороне, чтобы поговорить подробнее о благодати (Рим 3:21-5:21).
Рассуждение о благодати достигает кульминации в Рим 5: «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых... Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим 5:6, 8). Смерть Христова была событием космического значения, типологической антитезой и преодолением грехопадения Адама: «Поэтому, как преступление одного человека привело к осуждению всех, так праведный акт одного человека приводит к оправданию и жизни всех» (Рим 5:18). Однако при наличии таких космических категорий снова всплывает вопрос из Рим 3:7-8: не отменяет ли послушание Иисуса (см. Рим 5:19) наше послушание? Ответ Павла звучит очень остро: его формулировка Вести о благодати кажется опасно близкой отвергнутой им ранее «клевете».
Но где возрос грех, там стала преизобиловать благодать. Дабы, как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через [Христову] праведность, ведя к жизни вечной, через Иисуса Христа, Господа нашего (Рим 5:206-21).
Чем больше греха, тем больше благодати? Неудивительно, что противники Павла приписывали ему подобные слова.
В Рим 6 Павел, наконец, обращается к проблеме, ранее очерченной в Рим 3:7-8: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» На сей раз Павел готов ее рассмотреть, и рассмотрение он начинает с резкого ответа: «Ни в коем случае!» (Перевод «Никак» недостаточно эмфатичен для передачи греческого Megenoito.)
Каковы же основания для столь резкого отрицания? Во-первых, объясняет Павел, мы крестились, чтобы соединиться со Христом; таинственным образом мы тем самым разделили Его смерть и воскресение. Мы умерли для греха, и в единении со Христом воскресшим можем «ходить в обновленной жизни» (Рим 6:2-5). Павел благовествует не только о прощении, но и о преображении. Креститься - значит, перейти из области греха и смерти в область праведности и жизни. Поскольку Христос умер, «наше прежнее «я» было распято вместе с ним, чтобы... нам не быть уже рабами греху» (Рим 6:6). Поскольку Христос воскрес, «смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим 6:96). Следовательно, заключает Павел, «и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе» (Рим 6:11). Это представление о плодоносном преображении через единение со Христом фундаментально для богословской этики Павла.
С темой разделения верующими смерти Христа тесно связана тема перемены властей. Павел изображает грех как рабовладельца, от которого мы спасаемся. Через крещение верующие переходят из одной сферы власти в другую, подобно военнопленным, которые после своего освобождения сражаются за свою родную сторону. Итак, «грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим 6:14).
Во избежание непонимания Павел снова задает риторический вопрос: «Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Ни в коем случае!» (Рим 6:15). По-прежнему используя образ рабства, Павел формулирует окончательный ответ в категориях перемены послушания, на сей раз подчеркивая отклик человека на милость Божью: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и все большему и большему поро ку, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности для освящения» (Рим 6:19в). Действие освобождающей благодати Божьей не означает, что мы вольны делать все, что захотим. Напротив, «вы освободились от греха и стали рабами Богу» (Рим 6:22а). Согласно Павлу, в ответ на божественную благодать человеку следует отдать себя в послушание Тому, кто освободил нас от рабства греху и смерти.
Таким образом, Павел энергично отрицает, что его благовестие провоцирует людей на отказ от исполнения воли Божьей. Он уверен: напротив, только через милость Бога во Христе верующие могут преобразиться и стать послушными Богу. Благовестие не разрушает этический императив. Утверждающие подобное просто не поняли, что Павел говорит о преображающем действии Божьем.
...Итак, Павлово благовестие предполагает три главных основания для послушания Богу.
• Через единение со Христом мы преображаемся и начинаем «ходить в обновленной жизни».
• Поскольку Бог освободил нас от власти греха, мы должны перенести свое послушание на нашего избавителя.
• Поскольку Святой Дух действует в общине веры, плод Духа должен быть явлен в жизни общины.
Интересно, что все эти позитивные основания укореняют нравственный императив в том, что Бог уже совершил или совершает среди общины. Причем Павел не делает акцента на благодарности как мотиве для послушания. (Дескать, «Бог нам кое в чем помог, давайте же и мы Ему удружим».) Вместо этого Павел, по-видимому, рассматривает нравственное действие как логический результат искупительного промысла Божьего. С точки зрения Павла, преображающий акт Божий во Христе определяет всю реальность. Если мы постигнем истину об искупительном промысле Бога в мире, то с радостью займем в нем угодное Ему место. И напротив, если наши действия не будут богоугодными, то мы будем жить в состоянии противоречия и не поймем, что происходит вокруг нас. Соответственно, значительную часть нравственных увещеваний Павла занимает напоминание читателям о необходимости рассматривать свои обязанности и действия в космическом контексте акта Бога во Христе.
Конечно, нельзя забывать и об отрицательных основаниях - санкциях против грешного поведения. Павла отличает глубокая убежденность в том, что Бог будет судить весь мир, включая верующую общину. Поэтому иногда он старается повлиять на поведение общинников, угрожая наказанием за непослушание. Это ожидание грядущего Суда становится эксплицитным основанием для нравственного действия: «...Ревностно стараемся быть Ему [Богу] угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор 5:96-10; см. также Рим 2:1-16; 14:10-12; 1 Кор 3:10-17; 1 1:27-32; 1 Фес 4:23-25).
С верой в эсхатологический суд Божий связаны суровые предупреждения апостола молодым церквам. Например, к коринфянам он обращает такие слова:
Я предупреждал и предупреждаю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу (2 Кор 13:2).
Но некоторые из вас, думая, что я не приду к вам, возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам, или с любовью и духом кротости? (1 Кор 4:18-21).
Приход Павла в его общины для суда, о котором он здесь говорит, предзнаменует парусию Христа[57]. Не вполне ясно, что именно он угрожает сделать, если коринфяне не подчинятся. Возможно, ключик к пониманию мы находим в загадочном отрывке из 1 Кор 5:1-13, где он советует исключить нарушителя из общины. Акт отлучения описывается следующим образом: «Предать сатане в разрушение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа»[58]. К этому отрывку мы еще вернемся, а пока ограничимся наблюдением, что иногда Павел прибегает к сильным негативным основаниям для предотвращения определенного поведения.
Впрочем, такие угрозы, по-видимому, представляют собой крайние меры. В целом Павел предпочитает санкциям уговоры и старательно излагает аргументы с позитивными стимулами к рекомендуемому им поведению. Возьмем, например, краткое и риторически тактичное Послание к Филимону (собственно, оно адресовано даже не лично Филимону, а церкви, которая собирается в доме Филимона). Павел не прямо приказывает освободить Онисима раба, а скорее просит о любезности[59].
Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу... Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. (Флм 8-9а, 21).
Лишь когда богословские аргументы не действуют (как в случае с проблемной коринфской общиной), он прибегает к негативным основаниям.
На первый взгляд, негативные основания противоречат сути Павлова благовестил. Если «Христос искупил нас от проклятья закона, сделавшись за нас проклятьем» (Гал 3:13), то не означает ли это, что благословения и проклятья из Втор 27-28 больше не действуют и благословение Богом Его народа более не зависит от послушания народа? В принципе, это понимание божественной благодати и объясняет предпочтение Павлом позитивных оснований в нравственных увещеваниях. Однако глубинная логика его Вести обнаруживает диалектику Суда и благодати. Всякое описание Павлова благовестия, как умаляющего роль эсхатологического суда Божьего, будет неправильным. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает» (Гал 6:7). Весть о Божьем суде не противоречит Павловой вести, а составляет ее неотъемлемую часть.
Тем не менее в своих посланиях Павел обычно указывает на действие преображающей божественной благодати как на свидетельство того, что существует возможность отвергнуть образ жизни, влекущий за собой осуждение Божье.
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни мужчины-проститутки, ни мужеложники, ни воры, ни жадные, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались во имя Господа нашего Иисуса Христа и в Духе Бога нашего (1 Кор 6:9-11).
Как предполагает этот отрывок, читатели уже причастны новой жизни. Утверждение о том, что нечестивцы Царства Божьего не наследуют, здесь не угроза христианской общине, а приглашение осознать себя как освященный народ под владычеством Христа, который более не живет под властью греха.
(Б) Какова форма послушания? Нормы нравственной жизни. Итак, мы обнаружили у Павла ряд богословски продуманных оснований для послушания Богу. Теперь можно спросить: как определяется послушание? Ведь Павел мог подробно разработать богословские основания для этики, не вводя этики специфически христианской. Он мог заимствовать нормы из эллинистической философии или из того, что «носилось в воздухе» популярной эллинистической культуры. Спрашивает же он под конец несколько вымученного аргумента в пользу покрытия голов: «Не сама ли природа учит вас, что, если муж носит длинные волосы, то это бесчестье для него? (1 Кор 11:14). Другой вариант: часть норм он мог почерпнуть из своего еврейского фарисейского наследия, даже и формально отвергнув необходимость для своих церквей буквально исполнять всю Тору[60]. Скажем, многие его суждения о сексуальной морали явно взяты именно из еврейской традиции. Обратим внимание на формулировку в 1 Фес 4:3-5: «Ибо воля Божия есть освящение ваше...чтобы каждый из вас умел хранить свое тело в святости и чести, а не в похотливой страсти, как язычники, не знающие Бога»[61].
В этих предположениях, несомненно, присутствует доля истины. В мысли апостола пересеклись разные культуры, и во многих случаях он заимствует этические категории и лексику из еврейского или эллинистического культурного наследия. Однако если внимательно вглядеться в его этические рассуждения, то можно увидеть: роль этих культурных традиций относительно невелика в сравнении с двумя фундаментальными нормами, на которые он указывает неоднократно, - единством общины и подражанием Христу. Мы уже рассмотрели некоторые отрывки, отражающие данные нормы, но анализ 1 Кор 8:1-11:1 позволит увидеть, как они соединяются в реакции Павла на конкретную проблему.
Коринфяне написали Павлу о нескольких проблемах (1 Кор 7:1), в том числе о том, как быть с идоложертвенными яствами (8:1, 4). В греко-римской культуре человек, приносивший богу жертву в языческом храме, часто приглашал членов семьи и друзей разделить с ним трапезу, на которой вкушалось мясо жертвенного животного. Трапеза проходила в храме божества (ср. 8:10). До некоторой степени такие социальные события скорее напоминали обычные застолья, чем религиозные церемонии, но из-за их ассоциации с языческими богами многие евреи и христиане не хотели в них участвовать. Однако искушение участвовать было сильно не только вследствие социального давления, но и вследствие того, что это была одна из немногих возможностей поесть мяса[62]. Поэтому некоторые христиане, твердые в своем знании («гнозисе»), что «идол в мире ничто» и «нет иного Бога, кроме Единого» (8:4), решили: от участия в таких трапезах в языческих храмах вреда не будет. Другие же (Павел называет их «немощными») от подобного поведения были в шоке.
Но некоторые из них, вопреки мукам совести, присоединились таки к «сильным»[63], - что, по мнению Павла, худший вариант (8:7, 10). (Ср. Рим 14:23: «Сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех».)
Обратим внимание: Павел не пытается уладить разногласия среди коринфян однозначным директивным указанием «поступайте так-то». Он просит «знающих» руководствоваться любящим признанием семейной взаимозависимости с теми братьями и сестрами по общине, которые не разделяют их убеждений. Собственно, его совет заключен в лаконичном комментарии, открывающем обсуждение проблемы: «Знание надмевает, а любовь назидает [oikodomei]» (8:16; ср. 10:23-24). Те же, кто настаивают на собственных духовных прерогативах и отказываются поставить на первое место заботу об общине, идут опасным путем. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос» (8:11). Альтернативой является отказ от свободы и прерогатив в пользу духовного благополучия других людей. По словам Павла, сам он предпочитает идти именно таким путем: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (8:13)[64].
С этой формулировкой Павел переходит к указанию на собственное апостольское служение как на образец заповедуемой им самоотдачи (9:1-27). По его словам, он как апостол имеет право на финансовую поддержку, ведь «и Господь [Иисус] повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» (9:14; ср. Мф 10:10, Лк 10:7). Тем не менее, вопреки авторитету учения самого Иисуса, он от поддержки отказывается, чтобы благовествовать «безвозмездно» (9:18). Таким образом, в качестве рабочей нормы здесь выступает отказ от своекорыстных интересов ради других людей.
Павел снова утверждает эту норму в 9:19-23 - отрывке, имеющем поразительное структурное сходство с гимном Христу из Послания к Филиппийцам. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя[65], дабы большее число приобрести» (9:19). Отсюда толкователи часто выводят, что Павел, в интересах миссии, проявлял культурную гибкость. Это так, но здесь есть и более глубокий смысл - желание Павла отказаться от свободы ради благовестия. Судя по его очень показательным словам о самом себе, он не забыл о проблеме идоложертвенного: «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных» (9:22). Именно этого он добивается и от «сильных» коринфян - стать немощными. Себя же Павел предлагает в качестве образца. Поскольку он ищет «не своей пользы, но пользы многих» (10:33), он может дать такой совет, завершающий обсуждение вопроса об идоложертвенном: «Будьте подражателями мне, как я Христу».
Итак, как же Павел решает эту конкретную пастырскую проблему? Он не пытается применить соответствующую еврейскую галаху[66], не ссылается на авторитет Иисуса или Апостольского Собора (Деян 15), но призывает сильных членов коринфской церкви подражать Христу и ему самому в отказе от привилегий. Он хочет не просто усовершенствовать добродетель и смирение коринфян, но сохранить единство общины во Христе. Поэтому-то этическая норма и не обретает формы жесткого правила или набора правил. Нет, коринфяне должны прийти к верному решению на основании христологической парадигмы и исходя из нужд общины.
Между тем нежелание апостола формулировать жесткие нормы поведения, видимо, и было одной из причин возникших в коринфской общине проблем. Некоторым коринфянам их духовный опыт подсказывал поведение, против которого Павел решительно возражал. Например, в 1 Кор 5:1-5 он осуждает инцест между неким человеком и его мачехой как «такую сексуальную безнравственность, какой не слышно даже у язычников»[67]. Никаких обоснований он не дает, - просто осуждает. Формулировка («не слышно даже у язычников») наводит на мысль, что в своем возмущении Павел исходит из еврейских культурных устоев, основанных в конечном счете на Лев 18:8: «Наготы жены отца твоего не открывай». Однако этот фон остается на имплицитном уровне.
Однако даже здесь конкретное указание Павла коринфской церкви («извергните развращенного из среды вас» 5:13) мотивировано заботой о единстве и святости общины: «Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны» (5:6б-7а). Попечение о здоровье и чистоте общины остается постоянным фактором, на котором должны быть основаны более конкретные нормы.
(В) Как возможно послушание? Сила для нравственной жизни. Одно дело - понять этические обязанности, и совсем другое - жить в соответствии с этим пониманием. Классическое выражение разрыва между намерением и действием содержится в Рим 7 - отрывке, на основании которого богословы разрабатывали христианскую антропологию.
Ибо не знаю, что совершаю. Ибо не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Итак, я нахожу закон: когда хочу делать доброе, предлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в Законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти? (Рим 7:15, 21-24)
По мнению Павла, трудность состоит в том, что Закон Моисеев лишь указывает на праведность, но приводить к ней он не в состоянии. В людских сердцах действует властный и необъяснимый «закон греха», не дающий реализоваться нашему серьезному намерению творить добро и исполнять волю Божью. Соответственно, даже там, где слушатель Закона радуется представлению Торы о нравственной жизни, - как и подобает, ибо «Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» (Рим 7:12) - Закон приводит лишь к осуждению и чувству собственного бессилия. В связи с этим мне вспоминаются строки Томаса Элиота из поэмы «Полые люди»:
Между идеей
И повседневностью
Между помыслом
И поступком
Падает Тень*. Цит. по переводу А. Сергеева.
Согласно влиятельной традиции интерпретации, берущей истоки в лютеранской Реформации, ответ Павла на эту дилемму заключается в «оправдании только верой», предполагающем оправдание Богом грешников. Верующие в Иисуса Христа обретут милость, несмотря на свою неспособность исполнять требования Закона Божьего. Соответственно, христианин, верующий в Иисуса, остается simul iustus et peccator («одновременно праведник и грешник»). Согласно этому толкованию, Павлово благовестие дает решение проблемы «устрашенной совести», но не меняет существенно положения, описанного в Рим 7. (Разве что человек освобождается от парализующих его мук совести.)[68]
Сила этого толкования состоит в реализме относительно человеческого свойства ошибаться и в благоговении перед божественной благодатью. «Лютеранское» прочтение отдает должное словам Павла о том, что «все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим 3:23), используя их как один из герменевтических ключей. Однако есть тут и опасность. Тезис simul iustus et peccator недооценивает преображающую силу божественной благодати и мешает увидеть центральные моменты в нравственной позиции Павла. Ведь Послание к Римлянам не заканчивается 3-й или 7-й главой. И муки, о которых идет речь в Рим 7, едва ли представляют собой описание нормальной христианской жизни[69]. Скорее, это опыт существования «в Адаме» или под Законом, или сразу и то и другое. Обратим внимание на хвалу в Рим 7:25а («Благодарю Бога через Иисуса Христа, Господа нашего»). За что благодарит Павел? Не просто за прощение. Он радуется освобождению от уз и паралича, которые ранее мешали исполнять волю Божью.
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Ибо закон духа жизни во Христе Иисусе освободил тебя от закона греха и смерти. Ибо Бог сделал то, что Закон - слабый из-за плоти - сделать не мог: послав Своего собственного Сына в подобии греховной плоти и как жертву за грех[70], Он осудил грех во плоти, чтобы справедливое требование [dikaioma] Закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу (Рим 8:1-4; выделено мной - P.X.).
Решающий переход происходит в ст. 4: назвав смерть Христову «жертвой за грех», полагающей конец «осуждению» Божьему, Павел утверждает: Святой Дух - источник силы, дающий народу Христову в своей жизни исполнять подлинный смысл Закона. Конечно, эсхатологическая оговорка остается в силе: настоящее время - время страдания и ожидания, а не однозначного триумфа (Рим 8:17-30). Однако нельзя упускать из виду суть того, о чем говорит апостол: Бог уже действует в церкви, уже преображает жизни, уже дает возможность ранее недостижимого послушания. Этот мотив преображения Духом встречается у Павла неоднократно (напр., Рим 12:1-2; 1 Кор 6:9-11; 2 Кор 3:12-18; Гал 5:16-26).
«Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп 2.12-13)[71]. Проглядеть столь существенную богословскую тему у Павла можно только в том случае, если априорно предположить, что учение об оправдании лишает послушание религиозного значения[72]. Сам же Павел говорит, что цель его благовествования - добиться «послушания веры» среди язычников (Рим 1:5).
В такого рода отрывках предполагается особое место нравственного поведения в отношениях Бога и человека. Послушание - это следствие спасения, а не его условие. Святой Дух - не богословская абстракция, а проявление обновляющего Божьего присутствия в общине. Откликнувшиеся на благовестие вошли в сферу силы Духа, где они преображаются и обретают силы для послушания.
Конечно, Дух может действовать и через Писание, и через учение самого Павла, и через посланников Павла к церквам (см., напр., Флп 2:19-30), и через общинное богослужение. Однако в основе всего лежит непосредственное воздействие силы Духа. Павел не считает, что нравственной жизни можно добиться через контроль разума над страстями (как у философов-платоников) или только благодаря силе воли или способностям. «Те, кто во плоти, Богу угодить не могут» (Рим 8:8). Послушание становится возможным только потому, что Бог одолел силу греха и начал преображать верующих в образ Иисуса Христа. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу; ибо это исходит от Господа, Духа» (2 Кор 3:18; выделено мной - Р.Х.).
(Г) Вывод: наш рассказ в рассказе о Христе. Подведем итоги. С точки зрения Павла, верующая община вовлечена в рассказ о преображении Богом мира через Иисуса Христа. Поэтому для Павла выносить нравственные суждения означает просто увидеть свое место в эпическом рассказе об искуплении. У апостола нет четкого разделения между богословием и этикой, поскольку его богословие - повествование о преображении Богом своего народа в образ Христов.
В этом рассказе все указывает на смерть и воскресение Иисуса как на центр веков: ветхий космос подошел к концу, и в настоящее вошла обновляющая эсхатологическая праведность/справедливость Божья. Это явление божественной справедливости подтверждает нерушимость обетовании Израилю: Бог призывает общину Завета и через нее творит любовь и истину. Павел утверждает: прочтение Торы в свете новой общины во Христе впервые обнаруживает ее подлинный смысл, и исполнение свое она обретает в верующей общине, чье призвание - возвещать и воплощать это исполнение.
Каким же должно быть послушание Богу? Это раскрывается в крестной смерти Иисуса Христа ради народа Божьего. Для послушания общины смерть Христова метафорически парадигматична: слушаться Бога, значит, полностью отдать свою жизнь ради других. Фундаментальная норма Павловой этики - христоморфная жизнь. Подражать Христу, значит, также следовать примеру Павла в отказе от собственных прерогатив и интересов.
Живя в этом рассказе, община все время стремится обрести духовное видение, позволяющее понять и исполнить послушание веры. Закона и жестких правил для этического поведения недостаточно. Необходимо преображение в образ Христа под руководством Духа Святого. Община призвана действовать в творческой свободе, чтобы стать «жертвой святой, живой, благоугодной Богу» (Рим 12:1). Этим ее члены обретают «койнонию» друг с другом в страданиях Христа и в надежде стать причастниками Его славы.
4. Приложение: Павел об отношенияхмежду мужчинами и женщинами
Многие читатели удивятся тому, сколь мало мы сказали о сексуальной морали и учении Павла об отношениях между полами. Это наше молчание не случайно: в конце концов, основной задачей было прояснить общую логику, стоящую за нравственными суждениями Павла, а секс в данном случае - дело второстепенное. Возьмем, например, Послание к Римлянам. Если не считать красочного описания сексуальной безнравственности как внешнего и видимого знака человеческого отчуждения от Бога (Рим 1:24-27), в этом самом пространном изложении своего учения Павел почти ничего не говорит о сексуальном поведении.
И все же обстоятельства вынуждали апостола решать проблему сексуального поведения в церквах (особенно церкви коринфской). Его высказывания в Первом послании к Коринфянам оказали колоссальное влияние на последующее христианское учение о сексе. Да и сейчас, в конце XX века, когда вопросы сексуального поведения горячо обсуждаются, различные участники спора то и дело апеллируют к Павлу. Поэтому будет уместно завершить наше рассмотрение Павла анализом того, как его подход к сексу вписывался в его общую нравственную позицию[73].
(А) Секс в межвременье: 1 Кор 7. Люди, которые о Павле больше ничего не знают, вполне могут быть знакомы с его словами: «Хорошо человеку не касаться женщины» (1 Кор 7:16). Между тем этот отрывок очень часто интерпретируется неверно, а потому на его примере хорошо показать важность тщательной дескриптивной экзегезы как первого шага в построении новозаветной этики. Вырывая 1 Кор 7:1 из контекста, толкователи часто обвиняют Павла в женоненавистничестве и патологическом отношении к сексу. Однако, хотя идеи апостола явно не соответствовали нынешним представлениям о «здоровой сексуальности», будет серьезной ошибкой видеть в этом тексте полемику против секса. Вглядимся повнимательнее.
Для начала будем помнить, что мы слушаем одну из сторон в споре. Павел не пишет трактата о сексе и браке, а решает конкретную коринфскую проблему. Это видно из начала предложения: «А о чем вы писали ко мне...» (1 Кор 7:1а). Здесь мы видим один из главных структурных переходов в послании. В первых шести главах Павел реагировал на слухи о коринфской общине (1:11; 5:1). Теперь же он обращается к проблеме, которую поставили сами коринфяне в письме к нему. Стало быть, для понимания Павлова ответа требуется реконструировать вопрос и предполагаемую в вопросе ситуацию.
Несколько раз в 1 Кор Павел цитирует популярный среди некоторых его читателей слоган. Цитирует с тем, чтобы внести коррективы или оговорки, или оспорить выводы, которые коринфяне из него делали. Возьмем, к примеру, отрывок, идущий чуть ранее разбираемого нами текста, - 1 Кор 6:12-14. Имеет место следующий обмен репликами:
Коринфяне «Все мне позволительно».
Павел Но не все полезно.
Коринфяне «Все мне позволительно».
Павел Но ничто не должно обладать мною.
Коринфяне «Пища для чрева, и чрево для пищи», а Бог и то и другое упразднит.
Павел Тело не для блуда, а для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею[74].
В древнегреческих рукописях не было кавычек для отделения слов коринфян от слов Павла, но коринфяне, со слоганами знакомые, без труда уловили бы диалогический характер отрывка.
Создатели «Новой пересмотренной стандартной версии» ввели кавычки, чтобы облегчить правильное прочтение диалога.
Сходную картину мы видим в 1 Кор 8:1, отрывке, структурно аналогичном 7:1.
Теперь об идоложертвенных яствах: мы знаем, что все мы имеем знание. Знание надмевает, а любовь назидает (См. также ст. 4-6, 8-9.).
Павел не критикует коринфский слоган. Он его сначала принимает, а затем фактически обесценивает. Он цитирует (или описывает) позицию коринфян, чтобы, отталкиваясь от нее, дать собственный ответ.
Если мы увидим в послании эту риторическую модель, нам нетрудно будет понять, что в 1 Кор 7:1 присутствует та же техника.
Коринфяне «Хорошо человеку не касаться женщины».
Павел Но, во избежание сексуальной безнравственности, каждый мужчина пусть имеет свою жену, и каждая женщина пусть имеет своего мужа.
Таким образом, «хорошо человеку не касаться женщины» - почти наверняка слова коринфян, а не самого Павла[75]. Это один из вопросов, о которых они ему писали (7:1а). Как видно из пунктуации в «Новой пересмотренной стандартной версии», Павел цитирует их же собственное письмо, чтобы обозначить тему дискуссии.
Апостол не оспаривает слоган и даже ему сочувствует (ст. 8). Однако он вносит коррективы. Какие именно? Ключ дает правильная интерпретация ст. 2: «...каждый мужчина пусть имеет свою жену, и каждая женщина пусть имеет своего мужа». Многие толкователи понимают эти слова как совет всем неженатым жениться. Однако если вдуматься, такая интерпретация невозможна: в той же самой главе Павел рекомендует неженатым, если те смогут, воздержаться от брака (ст. 8-9, 20, 24, 25-27, 39-40). О чем же речь? Все становится на свои места, как только мы вспомним, что глагол echein («иметь») - распространенный эвфемизм, обозначающий сексуальную связь. Именно в этом смысле он используется, например, в 1 Кор 5:1: «Есть верный слух, что у вас появилась сексуальная безнравственность, причем такая, какой не слышно даже у язычников: некто имеет жену отца своего». Если таков смысл глагола «иметь» и в 1 Кор 7:2, то Павел обращается к уже женатым парам и призывает их не прекращать сексуальные отношения. Это увещевание он прямо повторяет и в ст. 3.
Но зачем понадобился такой совет? Читателям конца XX века он может показаться глупым и излишним, вроде совета есть и дышать. Однако в I веке он был вполне уместен.
Во-первых, для эллинистической культуры было характерно соотнесение благочестия с безбрачием. Физическое тело, как принадлежащее материальному миру, умалялось в сравнении с разумной душой. Считалось, что цель мудрого философа - обуздать тело, привести его животные стремления под контроль разума. Реакцию против таких учений мы находим в Послании к Колоссянам:
Почему вы подчиняетесь постановлениям: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся»? Все эти постановления относятся к вещам, которые истлевают от употребления; они суть лишь человеческие заповеди и учения. Они имеют видимость мудрости в возложенном на себя благочестии, смирении и изнурении тела, но от них нет толку в обуздании потворства собственным желаниям (Кол 2:20-23).
Многие считали, что аскетическая мудрость требует сексуального воздержания. В безбрачии видели знак духовной силы, ибо оно символизировало свободу от привязанности к грубой сфере материального мира. Образно выражаясь, в античном мире безбрачие обладало «сексуальной привлекательностью».
Во-вторых, не исключено, что в первохристианстве работали факторы, из-за которых новообращенным сексуальное воздержание могло показаться привлекательным, а то и обязательным. Вспомним крещальную формулу, цитируемую Павлом в Гал 3:28: во Христе «нет уже ни мужчины, ни женщины». Иными словами, вместо Быт 1:27 («И сотворил Бог человека по образу Своему... мужчину и женщину сотворил их») появилось новое творение, в котором больше нет различия между полами[76]. Как же тогда христианские пары могут продолжать потакать своим сексуальным желаниям? Разве секс совместим с жизнью в новом творении? (Возможно, Павел не случайно, цитируя в 1 Кор 12:13 крещальную формулу, пропускает слова «нет уже ни мужчины, ни женщины».) Особенно, если, как полагает ряд исследователей, некоторые коринфяне действительно считали себя живущими в жизни воскресения (ср. 4:8), они вполне могли заключить, что женатым парам следует прекратить занятия сексом. Вспомним высказывание, приписываемое Иисусу в Лк 20:34-36:
Чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они подобны ангелам и суть дети Божий, будучи детьми воскресения.
Вполне возможно, что некоторые коринфяне, считавшие себя способными говорить «языками ангельскими» (1 Кор 13:1), полагали, что они уже перешли в такое ангельское состояние[77].
Итак, наша гипотеза: Павел пытается противодействовать радикальному коринфскому аскетизму. Вопреки идеалистической гипердуховности, отвергающей секс даже между людьми женатыми, Павел утверждает: женатые пары не только могут, но и должны иметь сексуальные отношения.
Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена (7:34).
Здесь поразителен акцент на взаимность. В отличие от патриархального одностороннего подчинения жены мужу, Павел предписывает взаимное подчинение[78]. Ни один из супругов не властен над своим телом: муж передает власть над своим телом жене, а жена передает власть над своим телом мужу. (Отметим попутно резкий контраст такого взаимного подчинения с нынешними представлениями о сексуальной автономии каждого человека.) Павел настаивает: люди женатые должны исполнять взятые на себя обязанности. Поступая иначе, они лишают партнера того, чего тот в полном праве ждать от супруга.
Но уход в безбрачие не только обманывает доверие супруга. Он еще и опасен. Почему? Сатана может искусить сверхдуховного аскета искать сексуальное удовлетворение в другом месте (7:5), - возможно, через связь с проституткой. (Павел только что сурово обличал подобное поведение в 1 Кор 6:12-20.) Чтобы понять Павла, представим грустную и в то же время комичную картину: христианская пара разыгрывает фарс под названием «сексуальное воздержание», когда каждый из супругов имеет тайные внебрачные связи. Какой же прок в таком «воздержании»! Павел прекрасно понимает лукавство человеческо79 ,
го сердца[79] и знает (как знаем и мы по недавним сексуальным скандалам вокруг телепроповедников), что гипердуховные люди вовсе не обладают иммунитетом от сексуальных искушений. Поэтому он советует продолжать в браке нормальные сексуальные отношения.
Впрочем, одну уступку стремлению коринфян к воздержанию он все же делает:
Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию [ек symphonou], на время, чтобы отдаться молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана через невоздержание ваше (7:5).
Супруги могут совместно (ек symphonou) решить отвести строго определенное время воздержанию, своего рода посту, и посвятить его молитве с пониманием, что впоследствии они к сексуальным отношениям вернутся. Но устраивать такой мораторий на секс христианам не обязательно: «Говорю это как уступку, а не как повеление» (7:6). Толкователи часто полагали, что здесь Павел неохотно признает законность секса между супругами. Однако в свете нашего предыдущего анализа местоимение touto («это») в 7:6 логичнее относить к сказанному в предыдущем стихе: уступка Павла коринфским аскетам состоит в осторожном одобрении временного воздержания от секса.
Попытаемся теперь написать парафраз 1 Кор 7:1-9, заполняя умолчания и пробелы в разговоре. Курсивом я выделил пояснения, призванные нагляднее показать, как Павел решает конкретные проблемы коринфян.
(1) Теперь о проблемах, о которых вы мне писали. По вашим словам, ради святости и чистоты женатым парам следует воздерживаться от секса. Вы говорите: «Хорошо мужчине не касаться женщины». (2) Но - поскольку это нереалистично - пусть каждый муж вступает в сексуальные отношения со своей женой, и каждая жена вступает в сексуальные отношения со своим мужем. (3) Брак создает взаимное обязательство удовлетворять нужды друг друга. Поэтому пусть муж дает жене то, что он ей должен, а жена дает мужу то, что она ему должна. (4) Ибо жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. (5) Не уклоняйтесь друг от друга, если только вы не решите - по взаимному согласию - временно воздерживаться от секса, чтобы оба могли отдаться молитве. Однако потом (когда это время истечет) опять сходитесь, чтобы сатана не смог вас искусить. (6) Эти мои слова о временном воздержании с моей стороны не повеление, а, скорее, уступка в ответ на ваше предложение (см. выше ст. 1). (7) Желаю, чтобы все люди были как я, - контролировали свои сексуальные желания. Это, однако, не так. Но каждый имеет свое дарование от Бога: если не безбрачие, то что-то еще, один так, другой иначе. (8) Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться безбрачными, как я. (9) Однако если они не могут себя контролировать, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, чем сгорать от страсти.
Стоит отметить, о чем Павел в этом отрывке не говорит.
Во-первых, бросается в глаза отсутствие упоминания о сексе как о выражении любви. Как мы уже видели, Павел указывает на любовь как на мотив поведения, когда говорит об идоложертвенном и глоссолалии. Но при обсуждении секса он этого не делает. Возможно, любовь подразумевается в призыве Павла к взаимному подчинению супругов, но явно этого не сказано.
Во-вторых, нет ни слова о произведении на свет потомства как о цели секса. Муж и жена должны сходиться, поскольку сексуальные отношения составляют часть супружеских обязанностей и предохраняют от искушений. Но о зачатии потомства Павел не упоминает. По-видимому, вера в близость эсхатона привела его к относительному безразличию относительно выращивания детей. В этом отношении его учение представляет собой резкий контраст как с еврейской традицией, так и с последующим христианским учением, которые смотрели на деторождение как на главную цель секса в браке.
В третьих, нет ни намека на разность стандартов для клира и мирян. Собственно, и само такое разделение является анахронизмом. Павел ничего не знает об особом классе «рукоположенных» служителей, для которых существуют особые нормы сексуального поведения.
Можно сделать вывод, что весь этот отрывок нередко интерпретируется совершенно неверно. Павел не принижает ни женщин, ни секс. Напротив, он возражает тем, кто считает сексуальные отношения неподобающими для христиан. Решительно и реалистично настаивает он на необходимости взаимного сексуального удовлетворения в браке[80].
Однако почему в таком случае апостол советует безбрачным не вступать в брак (7:8)? Это - следствие его апокалиптической эсхатологии.
Я говорю, братья и сестры: время уже коротко; впредь даже имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего (7:29-31).
К чему вступать в брак, если нынешний порядок вещей уходит? Приблизительное правило, которым пользуется апостол, четко и ясно изложено в 7:17-24: «Каждый оставайся в том состоянии, в котором призван». В межвременье важно лишь одно - полностью посвятить себя Господу.Брак же неизбежно приносит с собой заботу о мирских делах, а потому мешает полной отдаче себя церковному служению (7:32-35). Это служение - «нынешняя нужда»[81], из-за которой Павел и полагает, что безбрачие предпочтительнее брака. Отметим важный факт: апостол прямо указывает, что такое предпочтение - его личное мнение, и повеления Господня на сей счет он не имеет (7:25).
В то же время Павел знает: век нынешний еще проявляет свою силу в жизни верующих. Они поддаются искушениям и сгорают от физических страстей. В отличие от критикуемых им гипердуховных энтузиастов, он понимает, что воскресение - будущая надежда, а не нынешняя реальность. Соответственно, эсхатологическое «еще не» склоняет его дать коринфянам трезвый и реалистичный совет, разрешая брак и поощряя сексуальные отношения между супругами. Важно, чтобы члены общины, как состоящие в браке, так и не состоящие в браке, пребывали в бдительной готовности и послушании.
(Б) Служение женщин и мужчин в Павловых церквах. Оставляя в стороне вопросы секса и брака, можно спросить: какую роль играли женщины в социальной организации и богослужении Павловых церквей? Послания создают неоднозначную картину. С одной стороны, мы находим радикально эгалитарную формулировку в Гал 3:26-28:
Ибо во Христе Иисусе все вы дети Божий через веру. Ибо вы, которые были крещены во Христа, все вы облеклись во Христа. Нет уже иудея или грека, раба или свободного, мужчины или женщины; ибо все вы - одно во Христе Иисусе.
С другой стороны, в 1 Кор 14:34-35 читаем строгий запрет на публичную роль женщин в общинном богослужении:
Женщины в церквах да молчат[82]. Ибо не позволено им говорить, но да будут в подчинении, как и Закон говорит. Если же они хотят чему-нибудь научиться, пусть спрашивают дома своих мужей. Ибо стыдно женщине говорить в церкви.
Как понимать противоречие между двумя отрывками? Равноправны ли женщины с мужчинами в верующей общине, или Павел отводит им подчиненную роль?
Отвечать на эти вопросы лучше всего через рассмотрение свидетельств о том, какие роли женщины действительно имели в Павловых общинах. В современной новозаветной науке данная проблема обсуждается очень интенсивно, поэтому мы ограничимся резюме важных разработок[83].
Первое. Из 1 Кор 11:3-16 нам известно: Павел ожидал, что женщины во время общинного богослужения будут пророчествовать и молиться. Его лишь заботит, чтобы во время своих молитв и пророчеств они покрывали голову (или имели пристойную прическу)[84]. Уэйн Микс удачно резюмирует смысл отрывка: «Коротко говоря, он не оспаривает право женщин, ведомых Духом, принимать в собрании те же руководящие роли, что и мужчины, но настаивает лишь на одном: общепринятые символы различия полов, в одежде и прическе, должны быть сохранены»[85]. Таким образом, этот отрывок вроде бы находится в противоречии с 1 Кор 14:34-35, где женщинам повелевается в собрании молчать.
Второе. Судя по многочисленным эпизодическим упоминаниям в Павловых посланиях, среди его соработников были и женщины, причем некоторые из них принимали руководящие роли в общинах. Например, Фиву апостол характеризует как «диаконису [diakonos] церкви Кенхрейской» (Рим 16:1). Правда, неясно, в качестве чего здесь выступает слово diakonos: формального звания (как в Флп 1:1) или просто обозначения «служителя» (как в 1 Кор 3:5 и 2 Кор 3:6, где Павел так описывает собственную роль). В любом случае речь о том, что Фиве предстоит в Риме важная работа, и Павел заповедует римлянам помогать ей «в чем она будет иметь нужду», добавляя: «Она была благодетелем [prostatis] многим, и мне самому» (Рим 16:2). Слово prostatis (буквально «стоящий перед») может обозначать руководителя, но здесь, видимо, имеет более общий смысл - «патрон», «благодетель».
Приска и Акила, жена и муж, - среди Павловых «сотрудников во Христе Иисусе». По словам Павла, «все церкви из язычников» благодарны им за служение; он также упоминает, что у них дома собирается община (Рим 16:3-4; ср. Деян 18:18-28). Ни из чего не видно, что Приска подчинена Акиле. Судя по всему, она полностью участвовала в служении. В длинном перечне людей, которым Павел передает привет в Рим 16:1-16, есть и другие «работницы в Господе» - Мария, Трифена, Трифоса, Персида и Юния, которая вместе с Андроником (возможно, ее муж) описывается как «известная между апостолами» (16:7). В Флп 4:2-3 Павел просит Еводию и Синтихию - которые «подвизались в благовествовании вместе со мною» - уладить расхождения и «быть одного ума в Господе». Павел не описывает их прямо как лидеров филиппийской церкви, однако особое внимание к ним в письме, адресованном всей общине, наводит на мысль, что они играли в церкви важную роль.
Вместе взятые, эти факты указывают на видное место женщин в Павловых церквах. Некоторые из них даже входили в состав миссионерских групп. Несомненно, женщины нередко пророчествовали, а, как мы знаем, цель пророчества - назидание церкви (1 Кор 14:1-25). Во многих отношениях женщины имели большую свободу и большее достоинство, чем в греко-римском обществе вне христианских общин. Собственно, относительно эгалитарная социальная структура Павловых общин делала их особенно привлекательными для горожанок, чей «обретенный статус» (образование или экономическое положение) были выше «изначального статуса» (унаследованное социальное положение)[86].
Как же в таком случае понимать приказ молчать в 1 Кор 14:34-35? В науке существует не менее четырех попыток его объяснить.
• Первая версия: текст не запрещает женщинам принимать руководящие роли или назидать общину. Запрещается лишь неорганизованная речь во время общинного богослужения. Возможно, коринфские женщины, получив в церкви необычную свободу, прерывали богослужение вопросами (ст. 35) и создавали беспорядок. В таком случае рассматриваемый нами запрет - не общее правило, а указание в конкретной ситуации. Эта гипотеза объясняет 14:35 («если хотят чему-нибудь научиться, пусть спрашивают дома своих мужей»), но упускает из виду обобщение в 14:346 («да будут в подчинении, как и Закон говорит»). Кроме того, она требует узкого понимания распространенного глагола laltin («говорить») в 14:34 и 14:35 как чего-то вроде «болтать». Если же соединить 14:336 («как и во всех церквах святых») с 14:34, то гипотеза точно невозможна, ибо в таком случае получается, что Павел вводит женское молчание и послушание в качестве правила для всех общин, а не только для решения частной коринфской проблемы.
• Вторая версия: речь только о замужних женщинах, а женщины, которым разрешено молиться и пророчествовать (1 Кор 11:3-16), должны быть безбрачными[87]. Замужние женщины должны подчиняться мужьям и сидеть тихо. Эта гипотеза снимает противоречие, но вполне удовлетворительной ее назвать нельзя. Во-первых, приходится постулировать условие, не оговоренное в 1 Кор 11:3-16 (что пророчицы должны быть безбрачными). Во-вторых, эта версия упускает из виду то обстоятельство, что некоторые замужние женщины (например, Приска и Юния) принимали руководящие роли в Павловых общинах.
• Третья версия: текст - поздняя интерполяция[88], вставленная в послание не Павлом, а более поздним переписчиком или редактором (например, автором Пастырских посланий; ср. 1 Тим 2:8-15). В пользу этой гипотезы говорят следующие факты. Во-первых, некоторые древние рукописи помещают ст. 34-35 не между ст. 33 и 36, а в конце 14-й главы. Во-вторых, в Павлово обсуждение порядка при использовании пророческого дара эти стихи вписываются не вполне органично, и, если их удалить, текст будет смотреться более гладко. В третьих, очень трудно представить, что ст. 34-35 вышли из-под пера Павла. Ведь тот Павел, который написал 1 Кор 11:3-16, несомненно, не считал для женщины постыдным говорить в церкви. Однако есть у данной версии и слабая сторона: ни в одной рукописи не опущены стихи 34-35. Поэтому, если эти стихи были к тексту добавлены, они были добавлены на очень ранней стадии[89].
• Четвертая версия: по мнению Антуанет Уайр[90], 1 Кор 14:34-35 - риторическая цель и кульминация послания, пытающаяся заставить коринфских пророчиц замолчать. (Исследовательница оставляет открытым вопрос о том, намеренно ли Павел структурировал аргументацию так, чтобы подвести к этому заключению, или его вывод родился уже в ходе рассуждений.) Согласно данному подходу, 1 Кор 11:3-16 - не поощрение женского пророчества, а предварительное ограничение на одежду и поведение пророчиц. Отвоевав у оппонентов пядь в 11-й главе, Павел добивается большего в 14-й главе, вводя гораздо более суровое ограничение на поведение коринфянок... Однако надо признать, что из всех рассмотренных версий версия Уайр наименее правдоподобна. Она основывается на очень сложной умозрительной реконструкции роли коринфских пророчиц. Она рассматривает все послание как образец манипуляции и репрессивной риторики. И она вопиющим образом противоречит рассмотренным выше данным о ролях женщин в Павловых церквах.
Если принять во внимание все соображения, наиболее вероятной выглядит третья версия: 14:34-35 - поздняя интерполяция. Она лучше всего согласуется с той картиной женской роли в литургии и служении, которую создают другие тексты Павла. Однако даже если отрывок 14:34-35 не аутентичен, он отражает богословское суждение, вновь появляющееся в Пасторских посланиях. Ответственный же подход к новозаветной этике требует рассмотрения всех канонических документов, а потому мы не вправе просто отмахнуться от 14:34-35 (дескать, Павел этого не писал). При решении синтетической и герменевтической задач нам придется включить данный отрывок в анализ. И впоследствии мы еще поговорим подробнее о различных новозаветных подходах к роли женщин в церкви.
Как бы то ни было, необходимо признать наличие у Павла некоторого противоречия в отношении к женщинам. Глубинная логика его благовестия диктует, что мужчины и женщины едины во Христе и должны жить в любви и взаимопонимании. Его высказывания о браке по тогдашним меркам необычны своим эгалитарным подходом к обязанностям мужа и жены. В своей миссионерской деятельности он радостно признавал заслуги женщин коллег, «работниц в Господе». Тем не менее в других отрывках (вроде 1 Кор 11:3-16) Павел приводит вымученные и неубедительные богословские аргументы в пользу сохранения традиционных символов различия между полами. Вопреки изобретательным попыткам экзегетов конца XX века иерархический подтекст таких символов отрицать невозможно. Павлу не во всем понравились коринфские эксперименты с равенством полов, и он попытался устранить то, что считал перегибами.
Еще раз подчеркнем: этическую позицию Павла, как правило, можно понять только в свете его диалектической эсхатологии. И перед нами как раз один из таких случаев. Мужчины и женщины уже имеют равенство во Христе, но это равенство еще не отметает всех ограничений и различий, присущих тварному устройству. Сексуальные различия еще не исчезли, и сексуальные отношения сопряжены с опасностью. Изменение роли полов для Павла было не программной эмфазой, а скорее непредусмотренным следствием действия Духа в церквах. Согласно Павлу, в межвременье христиане призваны жить жертвенной жизнью в структурах брака и общины, признавая свободу Духа преображать институты и роли, но понимая: лишь пришествие Господа расставит все по своим местам. Апостол и община стоят перед дерзновенной задачей: попытаться узнать волю Божью в обстоятельствах, где старые нормы более не действуют. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия - что благо и угодно и совершенно» (Рим 12:1-2).
Как реализуется эта позиция при осмыслении правильных взаимоотношений между женщинами и мужчинами? Здесь мы особенно ясно видим ход мыслей апостола. И церкви конца XX века есть, чему у него поучиться, ибо, как он сам писал по другому поводу: «Вы проходите ту же борьбу, какую вы видели у меня» (Флп 1:30)[91]. Если община выстраивает сексуальную этику, беря в качестве отправной точки Павла, она должна ориентироваться на три ключевых для Павла богословских мотива. Эти мотивы таковы: как наши действия являют присутствие нового творения в мире, где властвует грех? Как наши действия соответствуют жертвенной крестной любви? Как наши действия служат благу общины? Правильно понять конкретные Павловы суждения о сексе можно лишь в том случае, если видеть в них попытку ответить на эти вопросы для формируемых им общин.
Глава 2. Развитие павловой традиции
1. Свидетели павлова наследия
Какая судьба ожидала Павлову мечту об общине? Как была принята и усвоена его нравственная позиция в последующей истории основанных им общин? Способна ли община сохранить напряжение жизни на стыке эпох, по мере того как время идет вперед? Возможно ли существование общины, в которой единственный закон - «закон Христов»? Могут ли люди, руководимые Духом, сформировать цельное социальное устройство? Коротко говоря, дает ли мечта Павла богословски стабильную основу для этики? Наличие в новозаветном каноне так называемых «девтеропаулинистских» посланий заставляет нас задуматься над этими проблемами.
Наш анализ Павловой этики основывался на посланиях, чья аутентичность признается почти всеми исследователями: Посланий к Римлянам, 1 и 2 Коринфянам, Галатам, Филиппийцам, 1 Фессалоникийцам и Филимону. Большинство новозаветников считает остальные шесть посланий (2 Фессалоникийцам, Колоссянам, Ефесянам, 1 и 2 Тимофею, Титу) псевдоэпиграфами, написанными от имени Павла его учениками после его смерти. Конечно, этот вывод разделяют не все ученые. Вопрос об аутентичности необходимо решать для каждого послания отдельно[1]. С моей точки зрения, аргументы против Павлова авторства 2 Послания к Фессалоникийцам и Послания к Колоссянам не убедительны. Я думаю, что их действительно написал Павел. Напротив, богословие и стиль Послания к Ефесянам и Пасторских посланий (1 и 2 Тимофею, Титу) столь сильно отличаются от остальных посланий корпуса, что их лучше считать поздними текстами, написанными кем-то от имени Павла. Но даже здесь есть разная степень уверенности. Скажем, 2 Послание к Тимофею имеет еще меньше признаков Павлова авторства, чем другие Пасторские послания[2].
В качестве рабочей гипотезы я принимаю тезис, что Послания к Ефесянам, 1 и 2 Послания к Тимофею и Послание к Титу созданы вторым поколением паулинистского христианства. В своем толковании я постараюсь показать, как они интерпретируют и развивают наследие Павла. В качестве иллюстрации я особенно остановлюсь на Послании к Ефесянам и 1 Послании к Тимофею. Как и при обсуждении собственных произведений Павла, наш основной эвристический вопрос - какое видение нравственной жизни содержится в этих текстах?
С одной стороны, проблема авторства для новозаветной этики не принципиальна. Даже если эти послания написал Павел, содержащееся в них описание Церкви и истинной христианской жизни настолько отличается от соответствующих описаний в других посланиях, что их в любом случае надо рассматривать отдельно, - возможно, как взгляды «позднего Павла», в противоположность «раннему Павлу» Посланий к Галатам, Коринфянам и Римлянам[3]. Исследователь, желающий написать биографию Павла как мыслителя, должен прийти к определенному решению об авторстве и относительной хронологии этих текстов. Однако мы преследуем другие цели. Мы вслушиваемся в различные голоса канона, а потому критическое суждение подобного рода для нас менее важно. Свидетельство Пастырских посланий стоит особняком, чем бы они ни были, - адаптацией паулинистской традиции вторым поколением христиан или голосом «погрустневшего, но помудревшего» Павла, пришедшего к убеждению в необходимости жестко структурированного институционального порядка в церкви. (Многие новозаветники почему-то не хотят допускать мысли, что богословская мысль Павла могла претерпеть развитие или стать менее яркой. Когда возникает этот вопрос о псевдонимности, я часто предлагаю студентам в качестве аналогии альбомы, вышедшие за последние лет 15 под именем Боба Дилана. Можно ли представить, что их создал тот же человек, который исполнил Highway 61 Revisited?)
Хотя окончательно решить вопрос об авторстве на основании имеющихся у нас данных невозможно, девтеропаулинистские послания лучше поддаются осмыслению именно как тексты второго поколения христиан. Почему? Они показывают, как церковь пыталась позволить голосу Павла звучать в иной исторической ситуации, чем ситуация первого поколения. «Тимофей» и «Тит», адресаты посланий, стали символами тех, кто продолжал дело Павла после его смерти, храня и интерпретируя доверенное им благовестие. Иными словами, эти послания - пример передачи и переосмысления апостольского наследия в самом Новом Завете[4]. Таков ракурс, в котором мы сейчас будем рассматривать их нравственное свидетельство.
2. Послание к Ефесянам: космическая экклезиология
Послание к Ефесянам начинается с пространного мистического размышления о богоизбранности и космическом примирении. Это размышление занимает примерно половину всего текста (главы 1-3) и написано торжественным греческим стилем с очень длинными предложениями, которые перегружены придаточными и причастными конструкциями. Например, 1:3-14 - это одно греческое предложение! Переводчики, ради удобства чтения, часто разбивают такие обширные периоды на серию коротких предложений. Однако это мешает составить представление о подлинном стиле послания.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом; в нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к полноте славы Его нам, которые ранее уповали на Христа; в Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его.
Вопреки нехарактерному для Павла пышному стилю, богословские мотивы - типично паулинистские: избрание, искупление, усыновление через Христа, Святой Дух как знак и печать обетованного наследия. Однако, в разительном отличии от других посланий Павла, эти мотивы представляют собой общие доктринальные размышления, не привязанные к какой-либо конкретной проблеме или ситуации в общинах. Более того, в некоторых важных рукописях не содержатся слова «в Ефесе» (1:1). Поэтому некоторые исследователи предположили, что данное послание первоначально носило циркулярный характер и предназначалось ряду церквей (возможно, как сопроводительное письмо к собранию Павловых посланий).
Отметим акцент на космическом значении Церкви, которая описывается как исполнение Божьего замысла собрать все вещи во Христе. Бог «все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою для Церкви, которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф 1:22-23). По словам автора послания, сокрытый «план [oikonomia] тайны» премудрости Божьей открылся «...начальствам и властям на небесах» (3:9-10). Эта возвышенная космическая экклезиология - богословски примечательное развитие Павлова представления о том, что Церковь, будучи преображенной в образ Христов, отражает славу Божью (2 Кор 3:18). В Послании к Ефесянам Церковь не только обретает спасение (1:9). Она - единственный посредник откровения всякой твари, включая космические силы, еще противостоящие замыслу Божьему (3:10; 6:10-20).
Поэтому так важно зримое единство Церкви. В Церкви Бог «сломал стену», разделявшую евреев и язычников. Конец этому разделению и был главным следствием смерти Христовой.
Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший разделявшую нас стену, то есть вражду между нами. Он упразднил закон с его предписаниями, чтобы из двух создать в Себе Самом единое новое человечество, тем самым учиняя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив на нем вражду (2:14-16).
В результате смерти Христовой и евреи, и язычники имеют «доступ в одном Духе к Отцу» (2:18). Такова тайная премудрость Божья, которую Церковь ныне возвещает самим своим существованием. Длинное размышление в начале послания - это в некотором смысле молитва о ниспослании Церкви воображения. Апостол молится, чтобы Бог просветил «очи сердца» своих читателей (1:18) и они узрели великую славу замысла Божьего, - замысла осуществить примирение всей вселенной в Церкви и через Церковь, космическое тело Христово (ср. 3:14-19). Однако глава 3 завершается доксологическим признанием: сколь бы богатым воображением ни обладали верующие, им не постигнуть во всей полноте меру силы и благодати Божьей:
А Тому, Кто действующею среди нас[5] силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь (3:20-21; выделено мной - Р.Х.).
Все это представляет собой сложную преамбулу к нравственному увещеванию и наставлению, которое содержится во второй половине послания (главы 4-6). Поскольку Церковь - проявление в мире примиряющей силы Божьей, автор призывает читателей:
Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира (4:16-3).
Единство тела Христова, дающее «одну веру, одно крещение», соответствует единству Бога, который укрепляет и поддерживает общинную жизнь.
В 4:1-5:20 автор описывает свое видение примиренной общины. У разнообразных даров в церкви одна цель - «для усовершенствования святых к делу служения, на созидание тела Христова, пока все не придем к единству веры и... к зрелости, к мере возраста полноты Христовой» (4:12-13). Как и в 1 Кор 12, служение понимается как дело всей общины, а не особого класса духовно одаренных людей. Взаимодействие даров в церкви должно привести общину в целом к духовной зрелости, чтобы Церковь в полной мере была «телом Христовым», воплощением Христа в мире. Судя по образу роста, эта цель реализуется не в одночасье во время некой будущей трансформации (например, при воскрешении мертвых). Она представляет собой конечный результат процесса, который уже идет в общине.
В ходе роста к зрелости тело Христово должно выстоять перед «всяким ветром учения» и всяким замыслом, пытающимся сбить общину с пути (4:14). Община не должна больше «поступать, как поступают язычники в суетности ума своего»; напротив, ей надлежит облечься в качества, которые она узнала «в Иисусе» (4:17-24). В 4:25-5:2 содержится краткое описание положительного поведения, отличающего новую жизнь во Христе: говорить истину в любви, честно трудиться, делиться с нуждающимися, слова говорить добрые и для назидания, избегать обид и гнева, прощать друг друга, «как и Бог во Христе простил вам». Все это резюмирует заповедь, развивающая уже знакомое нам увещевание Павла подражать Христу: «Итак, будьте подражателями Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и отдал себя за нас, как приношение и жертву Богу» (5:1-2).
Раздел завершается серией предупреждений против «бесплодных дел тьмы» и призывом к верующим «поступать, как дети света», дорожа временем, ибо «дни лукавы» (5:8, 15-16). Язык этого отрывка напоминает апокалиптические призывы в других Павловых посланиях (ср. Рим 13:11-14), но нет прямых упоминаний о парусии или будущем Суде. Интересно, что воскресение осмысляется не как будущая надежда, а как пробуждение к нравственному сознанию (5:14). Вообще, один из самых поразительных в богословском плане моментов - умаление апокалиптической надежды (столь характерной для Павла) и замена ее на веру в постепенное искупление мира через рост Церкви.
В 5:21-6:9 нравственное увещевание переходит от общих советов, адресованных всей Церкви, к серии призывов к людям, играющим определенную роль в семье: женам и мужьям, детям и родителям, рабам и хозяевам. Этот отрывок относится к жанру Haustafeln (списков домашних обязанностей), другие образцы которого мы встречаем в Кол 3:18-4:1, Тит 2:1-10 и 1 Петр 2:18-3:7.
Заслуживают внимания четыре особенности Haustafel из Послания к Ефесянам.
Первое. Конкретные указания относительно домашних обязанностей развивают заповедь «подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом» (5:21). Поэтому иерархическая структура описываемых отношений смягчается видением Церкви как народа, живущего в смирении и взаимном подчинении. Присущие античной семье традиционные структуры власти подрываются даже там, где они не отменяются.
Второе. Необычна формальная композиция кодекса. Автор обращается к людям, обладающим подчиненным социальным статусом, - женам, детям и рабам - как к нравственным деятелям, которые могут сделать выбор в сторону «подчинения»[6]. Античные же Haustafeln обычно обращались к носителям власти, наставляя их относительно обязанностей по отношению к подчиненным.
Третье. Бросается в глаза взаимность. Автор не просто призывает одну из сторон подчиняться (как, например, в Тит 2:9-10). Он одновременно увещевает имеющих власть (мужей, отцов и хозяев) обращаться мягко и заботливо с теми, над кем они этой властью обладают.
Четвертое. (Самое важное.) Заповеди кодекса получают богословское осмысление, которое пытается показать укорененность этих норм в благовестии. Яркий пример - понимание брака как символа отношений между Христом и Церковью. Эта символическая связь означает необходимость для мужей любить своих жен и самоотверженно о них заботиться, «как и Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее» (5:25). (Поскольку текст призывает жен подчиняться мужьям [ст. 22-24], автора иногда обвиняют в легитимации дурного обращения с женщинами и даже физического насилия над ними. Однако такое толкование представляет собой странную и трагическую ошибку. Ведь своим обращенным к мужьям призывом «любить своих жен, как свои тела» [ст. 28-29] автор явно стремился предотвратить именно такие злоупотребления в христианских браках[7].)
Таким образом, в Послании к Ефесянам Haustafel осмысляет социальные взаимоотношения в общине под влиянием благовестил об Иисусе Христе. Если анахронистически мерить его содержание нашими представлениями о социальном равенстве, то это проект не эгалитарный. Элизабет Шюсслер Фьоренца удачно называет такое социальное устройство «патриархальностью в любви» (love patriarchalism)[8]. Однако патриархальность автора не носит закрытого и статичного характера. Когда он велит хозяевам отложить угрозы рабам, ибо «и у вас есть Господин на небесах и нет у Него лицеприятия» (6:9), возникающий богословский образ нарушает традиционную схему отношений между хозяевами и рабами. Аналогично, если брак - метафора для взаимоотношений между Христом и Церковью, то возвышенная экклезиология Послания к Ефесянам неизбежно подвергает деконструкции статические патриархальные представления о браке. Ефесская церковь не просто подчинена Христу, - она в единстве с Христом возрастает к зрелости, «к мере возраста полноты Христовой» (4:13). Какой же тогда должна быть цель брака?
Согласно кульминационному отрывку 6:10-20, Церковь участвует в духовной битве против «козней[9] дьявольских».
Ибо борьба у нас не против врагов из крови и плоти, но против начальств, против властей, против космических сил этой нынешней тьмы, против духовных сил зла на небесах (6:12).
Каким же оружием сражаться с такими космическими силами? Для этого не годится оружие из стали или изготовленное по какой-либо другой человеческой технологии. Борьбу подобает вести молитвой (6:18) и обновленным характером святой общины. Воинское облачение носит преимущественно защитительный характер, давая Церкви возможность отражать нападки «лукавого».
Пояс: истина
Нагрудник: справедливость Обувь: благовестие о мире (!)
Щит: вера
Шлем: спасение
У Церкви есть лишь одно оружие нападения - «меч Духа, который есть слово Божие». Таким образом, этот отрывок не санкционирует распространенную идеологию священной войны. Он рисует иную картину: Церковь стоит в битве против космических сил, вооруженная лишь благовестием, которое содержит обетование о торжестве Божьем. Своим мирным существованием в мире Церковь бросает вызов силе зла (ср. 6:13). Говоря истину и живя в прощении, Церковь сокрушает господство «начальств и властей» и открывает «план тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все» (3:9).
Подведем итоги. Как Послание к Ефесянам адаптирует наследие Павла? Как мы уже показали, ослабляется (хотя и не исчезает совсем) упор на эсхатологию и подчеркивается космическое значение Церкви. Общинная жизнь Церкви - знак божественной благодати, ибо Церковь есть «Божье произведение искусства[10], созданное во Христе Иисусе на добрые дела, в которых Бог предназначил нам ходить» (2:10). Единство евреев и язычников во Христе, одна из важных тем Послания к Римлянам, здесь интерпретируется как знак замысла Бога объединить весь космос и примирить его с собой. Если Еф 5:21-6:9 - разработка более простого Haustafel из Кол 3:18-4:1, то можно констатировать: попытка автора богословски обосновать подчинение жены мужу привело к появлению глубокой и богатой символики, которая описывает любовь в браке более позитивно, чем где бы то ни было еще в паулинистском корпусе.
Самое же яркое отличие Послания к Ефесянам от других посланий этого корпуса состоит в отсутствии в нем ситуационной специфики. Автор берет различные интерпретации Павлом значения местных церковных общин и развивает их в мистическое видение роли Церкви в божественном плане собрать весь мир в искупленное единство. В свете этого нравственное действие Церкви имеет две основные цели: являть истину о космическом замысле Бога и нести примиряющую силу Бога в мир через возрастание тела Христова к полной зрелости.
3. Первое послание к Тимофею: как вести себя в доме божьем
В Первом послании к Тимофею мы видим план общины, отличающийся институциональным порядком и стабильностью. Апостол Павел будто бы пишет Тимофею, своему более молодому соработнику, и приводит ряд наставлений относительно организации ефесской церкви и руководства ею (1 Тим 1:3)[11].
Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины[12] (3:14-15).
В этом послании «дом» - контрольная метафора для описания Церкви. Слово «контрольная» обретает в данном случае дополнительный смысл, поскольку автор особенно печется о том, как руководителям церкви разумно направлять членов общины, которые без их попечения часто сбиваются с пути. Отметим одно из основных качеств, которым должен обладать episkopos. («Надзиратель». Обычный перевод «епископ» предполагает более развитую церковную структуру, чем та, что существовала в конце I века.) «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в подчинении и уважительными, - ибо, если кто не знает, как управлять собственным домом, как он будет заботиться о Церкви Божьей?» (3:4-5; ср. 3:12). Церковь становится своего рода большим греко-римским домом, а власть главы дома - моделью для проявления власти в Церкви[13].
Автор высоко ценит «спокойную и тихую жизнь» общины (2:2). Он желает, чтобы посторонним она являла респектабельный вид (напр., 3:7; 5:14; 6:1), - тогда верующие избегнут тревог.
Итак, прежде всего прошу совершать прошения, молитвы, ходатайства и благодарения за всех людей, за царей и всех носителей власти, чтобы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всяком благочестии [eusebeia] и чистоте (2:1-2).
Это не означает, что церковь стала частью социального и политического истеблишмента, - просто, по мнению автора, мирная обстановка способствует проповеди благовестия (2:3-4). Потому-то церкви и следует молиться о спокойной политической обстановке. Несмотря на «доброе исповедание» Иисуса перед Понтием Пилатом (6:13), в послании нет ни единого намека на то, что благовестие может быть вызовом тогдашнему политическому режиму.
Церковную общину автор усиленно призывает к порядку, особенно акцентируя подчиненное положение женщин.
Женщина да учится в безмолвии, с полным подчинением. Я не разрешаю женщине учить, а также властвовать[14] над мужчиной; она должна молчать. Ибо первым был создан Адам, а потом - Ева. И Адам не был прельщен, но женщина, быв обманута, впала в преступление. Впрочем, она будет спасена через деторождение, если они пребудут в вере и любви и в святости со скромностью (2:11-15).
Это одно из тех мест послания, которые едва ли могли выйти из-под пера Павла. Утверждение, что женщины спасутся через чадородие, противоречит глубокому убеждению Павла в спасении всех людей только через смерть Христову. Неубедительное оправдание Адама (2:13-14) плохо согласуется с Павловым описанием Адама как источника греха и типологического представителя грешного человечества (Рим 5:12-21). Вопреки изобретательным попыткам ряда экзегетов общий смысл текста очевиден: женщины (или, возможно, жены) должны молчать, слушаться и растить детей[15]. По мнению автора, этого требует порядок в церкви.
Единственное допустимое исключение составляет группа вдов (5:3-16)[16], - старушек, получавших от церкви денежную помощь и посвятивших себя молитве (5:5) и служению (5:10). Автор разрешает этот обычай, но вводит правила относительно того, какую вдову считать «подлинной»: не менее 60 лет, в прошлом лишь «одного мужа жена», «имеющая за собой свидетельство добрых дел». Только такие женщины вносятся в официальный список вдов, могущих рассчитывать на поддержку общины. Молодым же вдовам надлежит выйти замуж, иначе они, по мнению автора, предадутся похоти, праздности и сплетням (5:11-14; отметим контраст с Павловым советом вдовам в 1 Кор 7:8, 39-40). Рабы, ради доброй репутации церкви, также должны слушаться своих хозяев:
Все, кто находятся под игом рабства, пусть почитают своих господ достойными всякой чести, чтобы имя Божие и учение [didaskalia] не подвергались хуле. Те, кто имеют верующих господ, пусть не ведут себя с ними непочтительно на том основании, что они члены церкви; напротив, пусть еще усерднее им служат, ибо те, кто получают от них благодеяние, - верующие и возлюбленные (6:1-2).
Если рабы-христиане станут вести себя с господами-христианами чересчур нахально, это испортит репутацию (церковного) «учения».
В отличие от Кол 3:18-4:1 и Еф 5:21-23, 1 Послание к Тимофею не уравновешивает подобные наставления наставлениями для мужей и господ. Его учение однозначно: церковный дом следует содержать в порядке. При этом автор не обращается к женщинам и рабам напрямую: с ними должен поговорить Тимофей, посланец Павла (6:2в: «Учи и увещевай этим обязанностям»).
Для соблюдения желанного порядка в общине должны быть руководители. В отличие от довольно хаотичной ситуации харизматической свободы, которая подразумевается, скажем, в Послании к Галатам и Первом послании к Коринфянам, где нет упоминаний о властных должностях в местных собраниях, автор 1 Послания к Тимофею подробно обсуждает назначение «надзирателей» и «дьяконов» и указывает правила, по которым они должны отбираться (3:1-13). Ключевую роль в этих правилах играет не обладание духовными дарами, а земные, гражданские, добродетели:
Надзиратель должен быть безупречен, женат только один раз, трезв, благоразумен, благочинен, гостеприимен, учителей, не склонен к вину, не задорен, но снисходителен, миролюбив, несребролюбив (3:2-3).
Как мы уже говорили, такой руководитель должен блюсти в порядке собственный дом, - как ему предстоит печься и о порядке церкви. Те, кто хорошо справляются с обязанностями, могут рассчитывать на денежное вознаграждение (5:17-18); но «согрешающих» Тимофею следует обличать в присутствии всех, «чтобы и остальные страх имели» (5:20). Судя по этому последнему наставлению, одна из основных функций руководителей - быть образцом поведения для других христиан.
Одна из пастырских задач, упомянутых в 3:2-3, - учительство. В данном послании оно играет очень большую роль, ибо «здравое учение» (4:6) - главное противоядие от «духов обольстителей и учений бесовских» (4:1), а также от всякого безнравственного поведения (1:8-11). Передача «здравых слов Господа нашего Иисуса Христа и учения, согласного с благочестием [eusebeia]» (6:3), - особая задача Тимофея (4:11-16); по-видимому, учительствовать должны, под руководством Тимофея, и лидеры местной церкви (ср. 2 Тим 2:2; Тит 1:9). Здравое учение Тимофей получил от Павла и теперь должен бережно «хранить» его как paratheke («вверенное (ему)») (6:20). Это представление о христианской доктрине как о фиксированном корпусе традиции, которую нужно защищать, имеет прецедент в других Павловых посланиях (см., напр., Рим 6:17; 1 Кор 11:2; 15:1-3). Однако нигде на нем не делается такой упор, как в Посланиях к Тимофею и Титу (ср. 2 Тим 1:13-14; 2:2; Тит 2:1).
Содержание «вверенного» подробно не описано. По-видимому, Тимофей хорошо с ним знаком. Судя по отдельным намекам, в него входили по крайней мере два типа материалов: исповедания и нравственные наставления. Соотношение между ними, если оно вообще существовало, остается неясным. Исповедания сформулированы в лаконичных формулировках:
Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников (1:15).
Един Бог, един и посредник между Богом и человечеством, человек Христос Иисус, отдавший Себя как выкуп за всех (2:5-6).
Он явлен был во плоти, оправдан в Духе, виден ангелами, проповедан среди язычников, принят верою в мире, вознесен во славе (3:16).
С другой стороны, нравственные наставления, часть из которых мы уже рассмотрели, видимо, фокусируются на развитии eusebeia (2:2; 4:7-8; 6:3-6, 11). Это слово, означающее «благочестие», «послушное благоговение», в паулинистском корпусе встречается только в Пастырских посланиях, зато в них - целых 10 раз (причем 8 приходятся на Первое послание к Тимофею). Какое бы значение ни придавать такой статистике[17], создается устойчивое впечатление: христианская жизнь в рассматриваемом нами тексте отличается конформизмом по отношению к стереотипным представлениям о респектабельном и законопослушном поведении. Характерные для Павла темы свободы, страдания со Христом, жертвенной любви ради общины, творческой жизни в межвременье почти не заметны, если они вообще здесь присутствуют[18]. Вместо них мы видим скромные земные добродетели упорядоченного домохозяйства.
Заслуживает упоминания еще одна этическая эмфаза этого послания: резкая критика жадности и стремления к наживе. Оппоненты автора, в числе своих многочисленных прегрешений, сделали роковую ошибку - думали, «будто благочестие [eusebeia] служит для прибытка» (6:5). Такого рода обвинение - стандартный ход в античной полемике против софистов или других философов-противников. Автор послания желает предостеречь читателей от соблазна, кроющегося в жажде богатства: А желающие быть богатыми впадают в искушение и попадают в сеть многих безрассудных и вредных желаний, которые погружают людей в бедствие и гибель. Ибо любовь к деньгам - корень всех зол, и в своей жажде быть богатыми некоторые уклонились от веры и причинили себе многие острые страдания (6:9-10).
Вот почему надзиратель должен быть «несребролюбив» (3:3). Церкви следует учиться довольствоваться малым: «Имея пищу и одежду, будем довольны тем» (6:8).
Вместе с тем послание явно предполагает наличие в общине христиан богатых и не требует от них отказаться от имущества. Автор заповедует Тимофею убеждать их правильно распоряжаться своим богатством и проявлять щедрость.
Что касается тех, кто в нынешнем веке богат, увещевай их не быть высокомерными, и уповать не на неверное богатство, а на Бога, дающего нам все для наслаждения. Пусть делают доброе, богатеют добрыми делами, будут щедрыми и готовыми делиться, тем самым собирая себе сокровище доброго основания для будущего, чтобы достигнуть жизни, которая действительно есть жизнь (6:17-19).
Этот умеренный совет соответствует общей тенденции послания принимать статус-кво той социальной реальности мира, в которой оказалась Церковь. (Ср. 1 Кор 7:17-24.)
Подведем итоги. Какое развитие претерпевает паулинистская этическая традиция в Первом послании к Тимофею? Как и в Послании к Ефесянам, мы видим некоторое уменьшение эсхатологического напряжения. Автор местами упоминает об эсхатологическом суде и надежде, но эти аллюзии не играют почти никакой прямой роли в этической аргументации. Смерть Иисуса включена в исповедание, но опять-таки не играет заметной роли в формулировке этических норм. Преемство с другими Павловыми посланиями ярче выражено в сильном упоре на нравственное формирование общины. Но даже здесь акценты сдвигаются: хотя автор Первого послания к Тимофею ревностно формулирует нормы для общины, благополучие общины почти не фигурирует при этической аргументации в качестве основания (в отличие, например, от 1 Кор).
Собственно говоря, и этической аргументации почти нет. Автор предполагает, что нравственные нормы читателям известны из предания, и практически не пытается дать им богословское обоснование. Здесь мы видим самое глубокое различие между этим посланием и аутентичными посланиями Павла. Павел постоянно решает герменевтическую задачу: как по-новому соотнести благовестие с ситуацией в его общинах. Автор Первого послания к Тимофею предполагает, что эти нормы нужно просто охранять и передавать. Богословскую аргументацию он даже недолюбливает: все несогласные с официально санкционированным «здравым учением», по его мнению, обладают «болезненным стремлением к спорам и словопрениям» (1 Тим 6:4). Трудно представить, чтобы Павел подобным образом отмахнулся от богословских споров. Или это пишет апостол разочарованный, угасший?
Вероятнее всего, Первое послание к Тимофею отражает рецепцию Павлова наследия вторым поколением христиан. Автор считает, что фундаментальные богословские и этические проблемы уже решил великий апостол. Например, динамический союз богословия и этики, характерный для Павла, в этом послании исчезает, поскольку считается само собой разумеющимся. Послание артикулирует видение христианской общины, которая уже обрела меру институциональной и символической стабильности; автор более не выводит этических суждений из богословских посылок. Для него остается одно: хранить предание, вверенное апостолом. Результат? Автор добивается стабильности, но проигрывает в глубине и свободе. В аутентичных Павловых посланиях церкви постоянно призываются заново распознавать волю Божью под водительством Святого Духа. Здесь же таких призывов нет: воля Божья уже в достаточной мере открыта в «здравом учении».
Возможно, нравственная позиция Пастырских посланий была для Церкви конца I века неизбежна или даже необходима. Возможно, без нее просто не удалось бы достичь социальной сплоченности и выстоять перед внешним давлением. Кое-кто считает, что подобный подход необходим и Церкви конца XX века, чтобы иметь порядок в семьях в условиях все более хаотической языческой культуры[19]. Так это или нет, наличие Пастырских посланий в Новом Завете призывает Церковь задуматься не только об опасностях, но и о важности порядка в доме Божьем.
Глава 3. Евангелие от Марка: несение креста
1. Как найти «этику» в рассказе об Иисусе: размышления о методе
Переходя от корпуса Павловых посланий к Евангелиям, мы оказываемся перед иного рода литературой. Послания прямо излагают нравственное учение и советы, обращая их к конкретным общинам. Евангелия же просто рассказывают об Иисусе. Хотя эти рассказы написаны и тщательно выстроены евангелистами так, чтобы быть свидетелями своего времени (40-60 лет после смерти Иисуса), они не адресованы непосредственно какой-либо конкретной общине или ситуации. Вместо этого, избирая повествовательный способ подачи материала, Евангелия облекают свою Весть в форму рассказа о прошлом и тем самым делают ее актуальной для всей Церкви, когда бы и где бы она ни осознавала свое призвание - формировать себя событиями жизни и смерти Иисуса.
Конечно, Евангелия (особенно Евангелие от Матфея) содержат и рассказы, в которых Иисус выступает как учитель нравственности. Однако нравственный смысл Евангелий этими эксплицитно дидактическими отрывками не исчерпывается. Рассказы формируют наши ценности и нравственное чувство более косвенными и многогранными путями. Они учат нас, как видеть мир, чего бояться и на что надеяться. Они предлагают нам нюансированные модели поведения, мудрого и глупого, храброго и трусливого, верного и вероломного. Как заметил Амос Уайлдер, «дорога к нравственному суждению пролегает через воображение»[1].
Поэтому этический смысл каждого Евангелия необходимо выводить из формы рассказа в целом. Чтобы понять нравственную позицию евангелиста, мы должны спросить: как он изображает жизнь и служение Иисуса? Как в его рассказе Иисусов призыв к ученичеству меняет жизнь других персонажей? Какие представления о времени, истории и человеческих возможностях вплетены в ткань повествования? Как евангелист осмысляет жестокую и несправедливую смерть Иисуса? Все эти вопросы имеют самое непосредственное значение для новозаветной этики.
Евангелие от Марка - прекрасная иллюстрация ценности такого подхода, ибо прямых этических учений в нем почти нет[2]. Даже отрывки, которые, на первый взгляд, содержат этические наставления (например, о «подати кесарю» в Мк 12:13-17), при ближайшем рассмотрении оказываются таинственными загадками, преследующими цель сообщить что-то о личности и власти Иисуса, а не дать указания относительно поведения общины. Поэтому, чтобы выявить этический смысл марковского рассказа об Иисусе, мы должны не только анализировать эти краткие дидактические разделы, но и вглядеться в общие контуры повествовательного мира Марка.
Такой подход отличается от двух распространенных методов исследования марковского богословия. Он отличается в первую очередь от «метода анализа редакций», который стремится описать богословие и этику Марка, выделяя специфически марковские материалы и марковские трансфо3рмации критически реконструируемой домарковской традиции[3]. Один из представителей этого подхода к евангельским материалам - Вольфганг Шраге с его «Новозаветной этикой». Как работает Шраге? Сначала он долго рассматривает этическое учение собственно Иисуса, к которому он приходит в результате исторической реконструкции, и пишет главу «Истоки этики в ранних конгрегациях» (реконструкция досиноптических традиций). И только затем Шраге приводит краткий обзор «Этических акцентов в синоптических Евангелиях». Название этой главы весьма показательно: получается, что евангелисты добавляли лишь небольшие акценты и эмфазы к преданиям об Иисусе. В случае с Марком, первым из Евангелий[4], метод дает довольно незначительные результаты, поскольку мы не располагаем текстом домарковского Евангелия. Соответственно, попытка разграничить редакцию евангелиста и материал его источников - работа практически вслепую. Шраге и сам признает ограниченность своего подхода: «Можно выдвинуть много дополнительных теорий относительно деталей марковской этики, но выделение в тексте его редакции всегда носит чрезвычайно гипотетический характер»[5]. В отличие от Шраге, я избираю более литературный метод. Он позволяет сказать многое о марковской этике, анализируя форму повествования в целом. Несущественно, сколь многое в этом повествовании принадлежит самому евангелисту. Важно другое: как рассказ в целом описывает форму христианского ученичества.
По сходным причинам я уделяю мало внимания попытке выяснить, при каких именно исторических обстоятельствах были написаны Евангелия. Некоторые современные исследователи предложили подробные гипотетические реконструкции марковской общины, а затем интерпретировали Евангелие в свете этих гипотетических исторических контекстов[6]. Однако в подобного рода построениях слишком много домыслов: у нас чрезвычайно мало информации, чтобы воссоздать точную дату и контекст Евангелия от Марка. Кроме того, какую бы историческую ценность ни имели подобные гипотезы, они не могут фундаментально изменить наше описание формы повествования. Мое понимание марковской этики совместимо с некоторыми из этих теорий, но ни одной из них оно не требует.
Обратимся же к прочтению Евангелия от Марка. Как оно рассказывает о жизни, прожитой в верности Богу?
2. Марковская христология: рассказ о распятом Мессии
Центральный для Евангелия от Марка вопрос задает сам Иисус в разговоре в Кесарии Филипповой. Это ключевой момент рассказа: «А вы за кого Меня почитаете?» (Мк 8:29) Чтобы лучше его понять, необходимо понять его место в марковском сюжете.
Евангелие от Марка начинается с краткого надписания: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» (Мк 1:1)[7]. Это начальное откровение создает драматический парадокс, который служит главной пружиной рассказа: мы как читатели знаем, кто такой Иисус, но ни один из героев рассказа этого не знает, - кроме, как мы увидим, бесов. Поэтому Евангелие от Марка не детектив, где читатель должен улавливать ключики, чтобы вычислить личность Иисуса. Напряжение в нем создает, как и, скажем, в трагедии «Эдип-царь», ужасное противоречие между знанием читателя и незнанием действующих лиц. Из начала повествования читатель знает, что Иисус есть «Сын Божий», - титул, подтверждаемый гласом с небес сначала при крещении Иисуса (1:11), а затем при преображении (9:7). Для верного прочтения рассказа читатель должен присоединиться к евангелисту в этом исповедании.
Но что значит сказать такие слова об Иисусе, о человеке, который был распят? Тщательно выстроенное повествование Марка помогает нам понять необычность его исповедания. В нем почетный титул «Сын Божий» обретает яркий парадоксальный смысл. Лишь в конце рассказа из уст человеческих звучит верное исповедание; языческий центурион, аутсайдер, видя бесславную смерть Иисуса на кресте, говорит истину: «Истинно этот человек был Сын Божий» (15:39). Здесь, в кульминации рассказа, мы видим цель, к которой приводит евангелист: Иисус может быть познан как «Сын Божий», только когда Он познается как распятый.
Когда мы читаем первую половину Евангелия (1:1-8:26), может показаться, что конец истории будет другим. Иисус появляется на сцене, возвещая приход Царства Божьего и совершая деяния силы: Он изгоняет бесов, исцеляет больных, воскрешает мертвых, успокаивает море и ветер, ходит по воде и дважды умножает хлеба для насыщения больших толп[8]. Одним словом, в первой половине рассказа Иисус очень похож на эллинистического чудотворца, или мага[9]. Он действует как супергерой, имеющий силу Божью побеждать зло.
Великим деяниям Иисуса все время сопутствует неспособность учеников понять, кто Он. Они видят чудеса и все же не разумеют. Хотя, по словам Иисуса, им дано знать тайну Царства Божьего (4:11), они не понимают Иисусовых притчей (4:13; 7:1718), боятся, не имеют веры (4:40) и не понимают значения умножения хлебов (6:52). К 8:4 они даже умудрились забыть о предыдущем чудесном насыщении: «Как можно накормить этих людей хлебом здесь в пустыне?»
Откуда такой отрицательный образ учеников? По мнению некоторых новозаветников, Марк преследует полемические цели: он пытается дискредитировать первых последователей Иисуса, основателей иерусалимской церкви, чтобы оправдать собственную версию Евангелия[10]. Эта гипотеза существует в целом ряде вариантов. Одни говорят, что иерусалимские апостолы представляют строгое соблюдение Закона, другие - что они абсолютизируют чудеса или делают излишний акцент на «устной передаче» (в противовес марковскому предпочтению письменного слова). Однако эти построения неправдоподобны по многим причинам. Во-первых, евангелист сообщает о воссоединении учеников с воскресшим Господом (14:28; 16:7) и предрекает им судьбу верных свидетелей и мучеников за благовестие (13:9-13). Во-вторых, как убедительно показал Роберт Тэнхилл, повествование предлагает читателю отождествить себя с учениками; переживая их провал (например, отречение Петра), читатели-христиане призываются обрести прощение и жить в большей верности Иисусу[11].
И еще более важный момент. Негативный образ учеников приводит читателя к фундаментальной переоценке власти. Соседство Иисусовых деяний силы с непониманием учеников призвано показать: власть ничего не доказывает. Те, кто знают Иисуса только как чудотворца, не понимают его совсем, ибо тайна Царства Божьего состоит в том, что Иисус должен умереть как распятый Мессия. Напряжение между самооткровением Иисуса в чудесах и бестолковостью учеников создает кризис понимания - кризис, который начинает подходить к кульминации в 8-й главе.
После второго чудесного насыщения (8:1-10) Иисус с учениками садятся в лодку, чтобы переправиться через Галилейское море. Иисус, который только что отшил фарисеев, требовавших знамения (8:11-13), предупреждает учеников: «Берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой» (8:15). Однако ученики, имеющие при себе лишь один хлебец (8:14), полагают, будто их бранят за отсутствие достаточного количества продовольствия. Их тревога абсурдна: Иисус только что насытил семью хлебами четыре тысячи человек! У Иисуса же, судя по Его ответу, скоро иссякнет терпение:
Почему вы говорите о том, что у вас нет хлеба? Все еще не понимаете и не разумеете? Ваше сердце все еще окаменено? У вас есть глаза, и вы не видите? У вас есть уши, и вы не слышите? (8:17-18).
Эти вопросы перекликаются со словами, которыми Иисус ранее объяснил ученикам таинственный смысл своих притч:
Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах, чтобы они смотрели - и не видели, слушали - и не понимали, чтобы они не обратились и не были прощены[12] (4:11-12).
Из-за своей непонятливости ученики стали людьми «внешними». По-видимому, Иисусовы деяния силы были для них как таинственные и непонятные притчи. Ученики видят умножение хлебов, но волнуются из-за отсутствия у них достаточного количества хлеба, - хотя с ними рядом сам Иисус. Они не понимают, кто находится с ними в лодке.
Иисус напоминает им детали чудесных насыщений, а затем грустно спрашивает: «Неужели все еще не понимаете?» (8:21). Никакого ответа, - вопрос многозначительно провисает в конце сцены, приглашая читателя самому дать ответ.
Следующая сцена - краткий рассказ об исцелении (8:22-26). В нем есть одна любопытная особенность: Иисус исцеляет слепого, и это исцеление - уникальный случай в Евангелиях - протекает в две стадии.
Он, взяв слепого за руку, вывел его за деревню, смочил ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил: «Видишь что-нибудь?» Тот, взглянув, сказал: «Вижу людей, но они похожи на деревья...- ходят». Тогда Иисус снова возложил руки на его глаза; и тот внимательно посмотрел, и зрение его восстановилось, и он стал видеть все очень отчетливо (8:22-26).
С учетом акцента на неспособность видеть во время предыдущего диалога в лодке (8:14-21) мы проявим крайнюю близорукость, если не разглядим символического смысла отрывка. Марк поместил этот странный эпизод непосредственно перед ключевым разговором в Кесарии Филипповой, чтобы показать: ученикам скоро возвратится зрение, но - постепенно.
Первая стадия исцеления состоится, когда Иисус заговорит с учениками о самом себе (8:27-30). Сначала Он спрашивает: «Кем Меня считают люди?» Они передают Ему расхожие слухи, и тогда Он предлагает им самим ответить на этот вопрос: «А вы за кого Меня почитаете?[13]» И Петр выпаливает: «Ты - Мессия».
Здесь мы должны быть очень внимательными. Многие не замечают специфики марковского рассказа об исповедании Петра, поскольку в христианской традиции имело огромное влияние изложение этого события согласно Евангелию от Матфея (Мф 16:13-20), где Иисус называет Петра камнем, на котором будет построена Церковь. Однако у Марка мы находим нечто иное. Иисус не хвалит Петра за ниспосланное свыше прозрение (ср. Мф 16:17), а выговаривает ученикам: «И Он укорял [epetimesen] учеников, чтобы они никому о Нем не говорили» (8:30). Очень часто переводы смягчают смысл греческого текста, например: «И Он строго наказал им никому о Нем не говорить». Однако глагол «упрекать» - тот же самый, что и в Мк 3:12, где Иисус затыкает рот бесам, которые кричали: «Ты - Сын Божий». В обоих случаях Иисус резко порицает тех, кто возвещает истину о Его идентичности[14]. Почему?
В первую очередь рассмотрим, что означает исповедание Петра: «Ты - Christos». Вопреки впечатлению, которое создает матфеевская версия эпизода, понятия «Мессия» и «Сын Божий» не синонимичны. В дохристианских источниках мы не встречаем ни единого намека на то, что в ожидаемом Мессии видели фигуру сверхъестественную или божественную. Собственно говоря, в иудаизме вообще не было единой концепции Мессии (букв, «помазанника»)[15]. Тем не менее в контексте I века слово «Мессия» у многих ассоциировалось с помазанным правителем, который победит врагов Израиля (особенно римлян) и восстановит царский престол Давидов. Ожидание такой мессианской фигуры ярко выражено в Псалмах Соломона, собрании еврейских молитв, составленном в I веке до н.э.
Воззри, Господи, и поставь для них Царя их,
сына Давидова, править рабом Твоим, Израилем,
во время, известное Тебе, о Боже!
Укрепи его силой разрушить нечестивых правителей,
очистить Иерусалим от язычников,
которые попирают его к разрушению;
в премудрости и праведности изгнать
грешников из наследия их;
сокрушить высокомерие грешников как сосуд горшечника;
все существо их разбить жезлом железным;
уничтожить беззаконные народы словом уст его...
Он соберет народ святой, который он поведет в праведности;
и будет судить племена народа, очищенного Господом, Богом их...
И он будет праведным царем над ними, наученным Богом.
Не будет нечестия среди них во дни его,
ибо все будут святы,
и царем их будет Владыка Мессия[16].
В свете таких горячих ожиданий исповедание Петром Иисуса как «Мессии» приобретает коннотации, глубоко националистические и ориентированные на проявление власти. Петр уже начал «видеть» Иисуса, но пока еще несовершенно, как слепой, который видел «ходящие деревья». Следовательно, упрекая учеников, Иисус не отвергает титул «Мессия», но вводит новое и совершенно необычное учение:
Тогда Он начал учить их, что Сын Человеческий должен претерпеть великое страдание и быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, но через три дня воскреснуть (8:31).
Смысл мессианства переосмысливается в свете страданий Сына Человеческого[17].
Не удивительно, что Петру трудно усвоить такое учение. Между ним и Иисусом даже происходит обмен упреками:
И Петр отозвал Его в сторону и начал упрекать [epitiman] Его. Но обернувшись и глядя на своих учеников, Он упрекнул [epetimesen] Петра и сказал: «Иди за мной, сатана! Ибо ты думаешь не о Божьем, а о людском! (8:326-33).
Характеристика Петра как сатаны не случайна. В этой сцене Петр выступает как искуситель и противник. То, как Иисус определил свое мессианство, противоречило всем ожиданиям и всем нормальным канонам политической эффективности. Возражение Петра (казалось бы, разумное) есть не что иное, как предложение Иисусу отречься от себя и от своей миссии, а значит, капитулировать перед сатаной. Иисус решительно отвергает его и утверждает, что Он будет Мессией страдающим. Такого поведения требует от Него послушание Богу.
Но это еще не все. Иисус говорит, что Его призвание страдать не уникальное. К этому же Он зовет всех, кто пойдет за Ним.
И подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет.идти за Мною, пусть отречется от себя и возьмет крест свой и следует за Мною. Ибо, кто хочет жизнь свою спасти, тот потеряет ее; а кто потеряет жизнь свою ради Меня и благовестия, тот спасет ее» (8:34-35).
Ученики Мессии призваны идти за Ним по пути страдания, отвержения и смерти. Но Марк называет эту весть «благовестием»! Что же это за весть?
В любом случае очевидно: хотя мессианство Иисуса ученики, возможно, и признали, смысл мессианства им еще во многом не открылся. Как и в случае со слепым, зрение возвращается не сразу. Отчетливо увидеть вещи они смогут лишь гораздо позже, после распятия. Собственно, Марк нигде прямо не говорит о четком признании ими истинного характера мессианства; повествовательная стратегия Марка призывает читателя самому сделать вывод, самому ответить на вопрос «А вы за кого Меня почитаете?», - ответить, исповедуя Иисуса распятым Мессией. Для марковской этики это исповедание исполнено сурового смысла: быть учеником Иисуса, значит, формировать себя Тем, кто умер на кресте, умер оставленным. Когда мы принимаем ответ Марка на вопрос «А вы за кого Меня почитаете?», мы не просто делаем богословское утверждение относительно личности Иисуса - мы делаем выбор и относительно своей личности.
После ключевого разговора с учениками в Кесарии Филипповой (8:27-9:1) деяния силы почти прекращаются: мы находим лишь один экзорцизм (9:14-29), одно исцеление (10:46-52) и одно проклятие смоковницы (11:12-13, 20-21). Даже в сцене с экзорцизмом в словах Иисуса звучит нетерпение и неохота: «О поколение без веры! Долго ли Мне еще быть среди вас? Долго ли Мне еще вас терпеть? Приведите его ко Мне» (9:19). Создается впечатление, что теперь чудотворение больше не выражает Его миссию, а только отвлекает от нее. Рассказ движется к Голгофе.
Рассматривая ситуацию в свете Кесарии Филипповой, мы видим: Марк искусно сплел повествование таким образом, чтобы обрести герменевтический контроль над преданиями об Иисусе как о чудотворце. Те, кто видят в Иисусе носителя силы - сверхъестественной или политической, - Его не поняли. Правильно понять Его можно только как Сына Человеческого, который отказался от власти, чтобы страдать и умереть. Крест становится контрольным символом для интерпретации личности Иисуса. Поэтому вопрос «А вы за кого Меня почитаете?» обретает окончательный ответ в исповедании: «Истинно этот человек был Сын Божий», - исповедании, которое может быть правильно произнесено только у подножия креста.
В ходе рассказа мы узнаем, что крест не только важен для личности Иисуса - таинственным образом он нужен и другим людям. Хотя Марк не пытается подробно объяснить, каким образом смерть Иисусова спасает Его учеников, об искупительном ее характере сообщается в двух отрывках, находящихся в важных местах повествования. В 10:45 Иисус говорит: «Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить и отдать свою жизнь как выкуп за многих». Позднее, во время последней трапезы с учениками, предвидя свою приближающуюся смерть, Иисус совершает пророческий символический акт. Он дает ученикам хлеб и вино, поясняя: «Возьмите, это - Мое тело» и «Это - Моя кровь завета, за многих изливаемая» (14:22-24). Здесь смерть Иисусова осмысляется как жертва, запечатывающая завет с Богом ради «многих». Лаконичное речение в 10:45 также содержит аллюзию на образ Страдающего Раба из Книги Исайи (Ис 52:13-53:12), который стал «жертвой за грех» и понес на себе беззаконие многих...[18] Располагая столь значимыми в богословском плане повествовательными ключами, мы не можем не читать марковский развернутый рассказ о Страстях как рассказ о предложенной Иисусом жертве, об отдаче Им собственной жизни ради народа Божьего.
3. Ученичество: следование за распятым Мессией
Говоря об искупительном характере Иисусовой смерти, Марк подчеркивает ее роль как образца, которому должны следовать ученики Иисуса. Мы уже отмечали неожиданный и устрашающий ответ Иисуса на исповедание Петра в Кесарии Филипповой: призыв к ученичеству - это всегда призыв взять свой крест. Для Марка данная тема столь важна, что он развивает ее в старательно сконструированном центральном разделе Евангелия. Этот раздел (8:2710:45) структурирован вокруг трех предсказаний о Страстях (8:31; 9:31; 10:32-34) и обрамлен двумя рассказами об исцелении слепых (8:22-26; 10:46-52). Иисус здесь решает педагогическую задачу: старается изменить представления учеников о Его и об их миссии.
Каждое из предсказаний о Страстях рождает одинаковую последовательность событий. Сначала реакция учеников демонстрирует их сопротивление или неспособность понять. Затем Иисус дает корректирующее учение, в центре которого - призыв к страданию и ученичеству. Эти последовательности, составляющие композиционный костяк Мк 8:27-10:45, можно схематично представить следующим образом:
Предсказание о Страстях Непонимание Корректирующее учение 8:31 8:32-33 8:34-9:1 9:31 9:33-34 9:35-37 (-50?) 10:32-34 10:35-41 10:42-45О первой из этих последовательностей мы уже говорили, сделав упор на ее христологический смысл. Третья последовательность, к которой мы сейчас и обратимся, содержит самое подробное предсказание о страдании Иисуса и самый развернутый комментарий относительно связи между Его судьбой и призванием Его учеников.
Видимо, желая через шок заставить учеников быть внимательными, Иисус ярко описывает предстоящее Ему страдание: «Будут над Ним глумиться, плевать на Него, бичевать, и убьют» (10:34). Сразу после Его слов к Нему подходят братья Иаков и Иоанн с просьбой, по которой может показаться, что они вообще не слушали: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей» (10:37). Иисус, пораженный их беспардонностью, отвечает: «Вы не знаете, чего просите. Можете ли вы пить чашу, которую Я пью [ср. 14:36], и креститься крещением, которым Я крещусь?» С простодушной бравадой они отвечают: «Можем». Иисус, знающий, что они, когда наступит решающий момент, «соблазнятся» и убегут (14:27, 50), объясняет им, используя образ чаши и крещения: страдание с Ним они пройдут, но никаких гарантий особой чести быть не может (это решать только Богу!). (В протестантских церквах часто поют гимн «Можете ли вы?» Гимн пересказывает эту историю, и можно только поражаться его неспособности понять ее горькую иронию. Фактически община призывается присоединиться к Иакову и Иоанну в восторгах по поводу собственных возможностей: «Господи, мы можем!»)
Остальные же десять учеников тоже ведут себя предсказуемым образом: они возмущены попыткой двух братьев пролезть на почетные места. Тогда Иисус решает использовать создавшийся момент для последней попытки объяснить смысл ученичества:
Вы знаете, что у язычников те, кого они почитают правителями, господствуют над ними, и великие - тираны над ними. Но у вас - не так! Кто захочет стать среди вас великим, пусть будет вам рабом; и кто захочет стать среди вас первым, пусть будет рабом всем. Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить и отдать свою жизнь как выкуп за многих (10:4245).
Судя по продолжающимся попыткам учеников пробраться на первые места (9:33-34; 10:35-37), они все еще не усвоили характера Царства Божьего и своей миссии. Люди, призванные в общину Иисусовых учеников, должны быть рабами, и образец им показал сам Иисус, пришедший отдать свою жизнь ради других. В полной мере смысл этих слов раскроется далее, в подробном рассказе о страстях и смерти Иисуса. Однако Его учение об ученичестве уже изложено со всей возможной ясностью: быть учеником Христовым, значит, вместе с Ним служить и страдать, вместе с Ним отринуть присущую миру сему жажду власти. Среди «язычников» господство и самоутверждение стали правилом, но в новой общине последователей Иисуса работает совсем другая логика.
Теперь, когда смысл ученичества разъяснен, фундаментальный учительный проект Иисуса подошел к своему завершению. Конечно, ученикам еще предстоят провалы и отпадения, но отныне они не будут выказывать непонимания Иисусовых представлений об их миссии и не будут с этими представлениями спорить. (Когда на Тайной вечере Иисус заговорил о своей скорой смерти, Петр и остальные ученики выразили готовность не отступаться [14:27-31]. Их намерение оказалось пустым, но причиной тому было не непонимание, а недостаток мужества. «Дух отважен, но плоть слаба» [14:38б].) 10-я глава завершается рассказом об исцелении слепого Вартимея, который называет Иисуса мессианским титулом «Сын Давидов». На сей раз исцеление происходит сразу и полностью: «Он тотчас прозрел и пошел за Ним» (10:52). Как первое исцеление знаменовало начало переориентации учеников, так второе исцеление знаменует своего рода запечатывание этого процесса. Фраза «пошел за Ним» наводит на мысль о верном ученичестве, перекликаясь с глаголом akolouthein, который Иисус уже использовал в начале этого повествовательного единства в своем призыве взять на себя крест (8:34)[19]. Те, кто желают следовать за Иисусом, имеют право называть Его Сыном Давидовым, Мессией. И повествование теперь переходит к кульминационной конфронтации в Иерусалиме.
Поскольку эта кульминационная конфронтация включает бегство учеников при аресте Иисуса и троекратное отречение Петра, мы не можем не задуматься о том, какое значение этим событиям придавал евангелист в своих представлениях о нравственной жизни.
Рассказывая об учениках, Марк трезво смотрит на человеческую слабость. Во время испытания отпадают все, даже ближайшие последователи Иисуса, которым было дано знать тайну Царства Божьего. Когда Иисус проходит в молитве через борения, не желая предать свое призвание, ученики самым комичным образом засыпают (14:32-42). Бескомпромиссная декларация Петра своей верности Иисусу («даже если придется с Тобой умереть, не отрекусь от Тебя» 14:31) оказывается пустым звуком, - и вот мы видим, как Петр теряет самообладание и начинает рыдать о своем предательстве (14:72). Да, Марка никак нельзя назвать радужным оптимистом в его воззрениях на способность человека исполнять волю Божью. Ему хорошо знакомы и слабость плоти, и обманчивость сердца, и темнота ума.
И все же мы снова и снова слышим зов к ученичеству. В Евангелии от Марка нет ни единого намека на то, что по слабости человеческой требования Божьи нужно «реалистически» смягчить и ограничить. Напротив, требование жертвенного ученичества бескомпромиссно. Как сеятель в марковской программной притче (4:3-9) сеет семя и на хорошую почву, и на плохую, призыв к ученичеству обращен ко всем, кто имеет «уши, чтобы слышать». Семена будут израсходованы на многих, но «слышащие слово и принимающие его» принесут богатый урожай, «тридцатикратный, шестидесятикратный и стократный».
Марк сосредоточивает внимание (в отличие от Матфея) на простом внешнем послушании, а не на мотивации или намерении сердца. Он не разбирает вопроса, как возможно послушание. Здесь Марк не похож на Павла: у него совершенно нет акцента на облечение силой Духа Святого как непременное условие послушания. Его единственное упоминание об этом появляется в Иисусовом поучении об апокалиптических муках рождения грядущего Царства:
Но вы смотрите за собою; ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят из-за Меня, во свидетельство им... Когда же поведут вас на суд, не заботьтесь наперед о том, что вам говорить; но что дано будет вам в тот час, то и говорите: ибо не вы будете говорить, но Дух Святой (13:9, 11).
Свидетельство гонимых учеников Иисусовых будет вдохновлено Духом. Но нигде более Марк не упоминает о «даре» Духа Святого и о Его постоянном присутствии, об утешении и руководстве Им общины или облегчении Им послушания.
Возьмем, например, поразительное учение Иисуса о богатстве (Мк 10:17-31)[20]. Богатому искателю «жизни вечной» Он предлагает продать все имущество, раздать деньги беднякам, а самому присоединиться к странствующим ученикам Иисуса. Искатель уходит прочь, «печальный, ибо владел он большим имуществом». Эта предсказуемая реакция вызывает у Иисуса совершенно непредсказуемую реплику: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Ученики изумленно спрашивают: «Кто же тогда может спастись?» Следует загадочный ответ: «Для людей это невозможно, но не для Бога; для Бога все возможно». Судя по притче о семени, способность отвечать послушанием - таинственный дар Божий:
Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Земля сама производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, человек немедленно берется за серп, потому что настала жатва (4:26-29).
Связь между Иисусовым учением об имуществе и притчами о семени усиливается его дальнейшим обетованием: оставившие ради ученичества собственность и семьи «получат в сто раз больше теперь, в этом веке, - домов, братьев и сестер, матерей и детей, и полей с гонениями [!] - а в веке будущем жизнь вечную» (10:30; курсив мой - Р.Х.). Стократная награда напоминает о стократном урожае (4:8, 20), приносимом семенем, которое падает на добрую почву. В обоих случаях инициатива находится на стороне Бога, и дар плодоносности - таинственное деяние Божие[21].
Марковский рассказ об ученичестве ко многому обязывает, возможно, понадобится отказаться от имущества, чести и безопасности... Но вместе с тем евангелист пишет и о награде. Так, участие в общине верных уже само по себе есть дар. Видимо, в этом ключе следует интерпретировать 10:30: община учеников становится новой семьей человека; исполняющие волю Божью - Иисусовы «брат, и сестра, и мать» (3:35). Тем же, кто выдержит испытания, обещана эсхатологическая награда: ученики Иисуса обретут жизнь, отдав ее ради благовестия (8:35). Легких путей нет: жизнь в ученичестве ведет к кресту. Евангелист неоднократно подчеркивает, что стяжать славу или благосостояние через ученичество нельзя. Всякий раз, когда ученики начинают подсчитывать будущие награды, они выглядят глупыми и беспечными, и Иисус их решительно поправляет (напр., 9:33-35; 10:35-45). И не посулы будущих благ влекли к Иисусу, а «новое учение со властью» (1:27). Причем, хотя Его учение о кресте и противоречит обыденной логике, ему надлежит следовать неукоснительно. Обещанное эсхатологическое воздаяние находится в руках Божьих.
Норма ученичества определяется крестом. Единственный образец верности - послушание самого Иисуса, понимаемое как служение (10:45). Поразительно, что Марк почти не уделяет внимания теме любви, столь распространенной в раннехристианской проповеди. Она стоит в центре лишь одного отрывка (12:2834), причем не при изложении поучений Иисуса ученикам, а в рассказе о спорах. Книжник спрашивает Иисуса, какая заповедь Торы - «первая из всех». В своем ответе Иисус, связывая Шема (Втор 6:4-5) и Левит 19:18, получает двойную заповедь о любви к Богу и ближнему. Книжник одобряет этот ответ, добавляя: любовь «гораздо важнее всех всесожжении и жертвоприношений».
Тогда Иисус со сдержанным одобрением говорит: «Недалеко ты от Царства Божьего»... Нет сомнений, что для понимания марковского отношения к Закону этот отрывок очень важен: он призывает народ Божий к совершенной любви к Богу и ближнему[22]. Марк 12:28-34 демонстрирует, что многие ревностные блюстители Закона, например фарисеи, осуждающие исцеление в субботу (3:1-6), и книжники, «поедающие дома вдов» (12:38-40), осуждены собственными же нормами. Однако нигде у Марка Иисус не выделяет любовь как одну из характерных черт ученичества. Ученики призваны следовать за Иисусом, и единственную фундаментальную норму излагает рассказ о крестной смерти самого Иисуса. В отличие от Павла и Иоанна, Марк не интерпретирует прямо Иисусову смерть как акт «любви». Путь креста - это просто путь послушания воле Божьей; ученичество же требует следовать этому пути, какими бы не были цена и последствия.
4.Эсхатологическое ожидание у Марка: «Бодрствуйте»
С самого начала Евангелия от Марка мы оказываемся в атмосфере, насыщенной эсхатологическими чаяниями. Мы сразу видим череду пророчеств и их исполнений:
Пророчество: Исайя предрек приход вестника, который должен приготовить путь Господу.
Исполнение: Иоанн Креститель появляется в пустыне (1:2-4).
Пророчество: Иоанн Креститель пророчествует о Грядущем, который сильнее его (1:7-8).
Исполнение: Иисус приходит креститься, и глас с неба говорит о Нем: «Сын Мой возлюбленный» (1:9-11).
Пророчество: Иисус возвещает наступление Царства Божьего (1:14-15).
Исполнение: Когда придет Царство?
Эта череда подводит читателя к ожиданию скорого исполнения Иисусовой вести: «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божье» (1:15). В этом напряженном ожидании читатель пребывает на протяжении всего повествования.
На близость Царства указывает многое: Иисус исцеляет, Он имеет власть над бесами... Тем не менее нам постоянно напоминают: исполнение еще свершилось не до конца. Обратим внимание, например, на то, как Иисус повелевает бесам молчать. В числе прочего это означает: время для полного раскрытия тайны пока не наступило. Иисус говорит притчами (4:1-34), а такого рода завуалированнность изложения соответствует именно межвременью. Хотя, по словам Иисуса, «некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божье, пришедшее в силе» (9:1), сейчас ученики призваны взять на себя крест и идти за Иисусом путем страдания. Преображение (9:2-8) предвосхищает эсхатологическую славу Иисуса, но ученики пока не должны о ней рассказывать (9:9-10). Акция в Храме (11:15-17) содержит аллюзию на пророчество Исайи о включении язычников, наряду с Израилем, в народ Божий (когда Храм станет «домом молитвы для всех народов»), но Марк, в отличие от Луки - Деяний, не содержит программного рассказа об обращении язычников. Вместо этого мы находим намеки и знамения в исцелении герасинского одержимого (5:1-20), вере сирофиникиянки (7:24-30) и исповедании центуриона у подножия креста (15:39).
Подробнее всего тема грядущего конца развивается в беседе Иисуса с учениками на горе Елеонской о его пророчестве относительно гибели Храма (13:1-37). С одной стороны, Иисус неоднократно предостерегает от преждевременного ожидания эсхатологического исполнения:
Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я - это Он!»; и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит этому быть, - но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это - начало родовых мук... Тогда, если кто вам скажет: «Вот, здесь Мессия!», или «Вот, Он там!», - не верьте. Ибо появятся лжемессии и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь; вот Я наперед сказал вам все (13:5-8, 21-24).
Пытаться узнать, в какое именно время явится в силе Сын Человеческий, бесполезно. «О дне же том, или часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (13:32).
С другой стороны, повествование пронизано уверенностью: приход Сына Человеческого и собирание избранных осуществятся уже в ближайшем будущем: «родовые муки» уже начались. Ученики будут гонимы и убиваемы за свое свидетельство о Евангелии, и «претерпевший до конца спасется» (13:9-13). Они предупреждены о будущем установлении в Храме «мерзости запустения» и о том, что, когда это свершится, они должны бежать в горы. К счастью, ради избранных, Господь «сократил» дни страдания (13:14-20). Обетование 9:1 повторено в 13:30: «Истинно говорю вам: не прейдет это поколение, как все это будет». Поэтому общине подобает быть начеку:
Смотрите, бодрствуйте, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте (13:33-37).
Рассказ о спящих в Гефсимании учениках (14:3242) подчеркивает это увещевание, и в 13:37 мы видим прямое обращение к читателям Евангелия: Иисус словно бы оборачивается к камере с призывом: «Смотрите!»
Страдания и смерть Иисуса евангелист рассматривает как кульминационные эсхатологические события. Все происходящее с Иисусом исполняет Писания (14:27, 49), и на допросе у первосвященника Иисус срывает завесу секретности, открыто объявляя себя Сыном Человеческим, предсказанным Дан 7:13-14. Разрыв храмовой завесы в момент смерти Иисуса (15:38) также следует понимать как знак конца нынешней эпохи.
В Евангелии от Марка последнее проявление эсхатологической власти Бога - воскресение Иисуса. Поразительно, что евангелист рассказывает о пустой гробнице, но не упоминает о явлениях Воскресшего. Первоначально Евангелие кончалось на 16:8: Они никому ничего не сказали, потому что боялись»[23]. Последние слова принадлежат таинственному юноше в белой одежде, сидящему в гробнице, куда был положен Иисус:
Не ужасайтесь; Иисуса ищете, Назарянина, Распятого[24]. Он воскрес, Его нет здесь. Но идите, скажите Его ученикам и Петру, что Он впереди вас пойдет в Галилею; там Его увидите, как Он сказал вам (16:6-7).
В испуге бегут женщины, пришедшие к гробнице помазать мертвое тело Иисуса, - Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, и Саломея... На этом - поразительный факт! - Евангелие заканчивается. Ни явлений Воскресшего, ни примирения с Петром, ни поручения ученикам, ни дара Святого Духа, ни вознесения, ни Книги Деяний с рассказом о славном распространении Церкви в мире, - лишь слово обетования, что ученики снова увидят Иисуса в Галилее, и испуганное молчание женщин у гробницы.
Как понять загадочную концовку Евангелия? Этой проблеме посвящено большое количество научных трудов[25], и мы отметим здесь лишь несколько основных моментов. Неожиданная концовка (без явления Воскресшего) подчеркивает, что Царство Божье еще только должно прийти в будущем. В конце марковского рассказа Иисусовы ученики оказываются между вестью о воскресении и встречей с воскресшим Господом. Символом же встречи с Иисусом при парусии становится «Галилея»[26]. А пока личность и присутствие Иисуса отчасти сокрыты: «Он воскрес, Его нет здесь» (16:6). Даже в воскресении марковский Иисус ускользает. Но Он - совсем рядом, «при дверях» (13:29б).
Спросим теперь: как эсхатологические чаяния Марка формируют его представления о нравственной жизни? Здесь можно сразу выделить три момента.
Первое. Напряженность эсхатологических ожиданий исключает всякую возможность компромиссов перед лицом радикальных требований ученичества. Ученики должны «претерпеть до конца», какими бы ни были последствия. Община должна бодрствовать и быть начеку.
Второе. Близость Царства резко умаляет значение прежних норм, в том числе Торы. В Евангелии от Марка Иисус объявляет - в разительном противоречии с фарисейскими традициями, - что ничто внешнее человека осквернить не может (тем самым «объявляя всякую пищу чистой» 7:1-23). На протяжении всего повествования Иисус пренебрегает уставами о ритуальной чистоте, исцеляет в субботы и оспаривает авторитет религиозных вождей Израиля. Объяснение этого поведения - простое и последовательное: в Иисусе явлен новый порядок Царства Божьего, а молодое вино в старые мехи не наливают (2:21-22). Что касается соблюдения субботы, то «Сын Человеческий - господин и субботы» (2:28). Таким образом, новая эсхатологическая реальность затмевает старые нормы, основанные на правилах, которые изображаются как косные и непродуктивные. Возьмем, например, кульминационный эпизод в первом цикле рассказов о полемике (2:1-3:6). Иисус собирается исцелить в субботу сухорукого. Он спрашивает фарисеев:
«Что позволено делать в субботу: добро или зло? спасти жизнь или погубить?» Но они молчали. Он гневно оглядел их, скорбя об их жестокосердии, и сказал человеку: «Протяни руку». Тот протянул - и стала рука его здорова. Фарисеи ушли и тут же стали вместе с иродианами думать, как расправиться с Иисусом (3:4-6).
Это первый намек в Евангелии от Марка на жестокую смерть Иисуса. Она изображается как результат столкновения между новым милостивым божественным устройством и жестокосердием тех, кто заперт в старом устройстве[27].
Третье. В межвременье община Иисусовых учеников должна исполнять свое призвание к ученичеству в страдании без непосредственного присутствия Господа. Иисус дает пример ученикам и оставляет общину следовать Ему, ожидая эсхатологического завершения. В отличие от Матфея и Иоанна, Марк не дает утешительных обетовании о присутствии Иисуса с общиной. «Он воскрес, Его нет здесь». Ученики утешатся, когда Сын Человеческий явится во славе, а пока они должны взять свой крест и идти за Иисусом.
5. Повествовательный мир Марка как контекст для действия
Если при описании марковской этики мы должны учитывать повествовательный «мир» Марка в целом, то как евангелист определяет контекст нравственного действия? На этот счет я могу высказать следующие соображения.
Первое. Бог буквально врывается в этот мир. Начиная от того момента, когда небеса разрываются (schizomenous) при крещении Иисуса, до того момента, когда разрывается (eshisthe) надвое храмовая завеса при смерти Иисуса, это - рассказ о великом вторжении Бога в тварное устройство. Евангелие от Марка дает ответ на вопль Исайи:
Призри с небес и посмотри
из жилища святыни Твоей и славы Твоей
Где ревность Твоя и могущество Твое?
Благоутробие Твое и милость Твоя?
Они удержаны от меня.
Только Ты - Отец наш;
ибо Авраам не узнает нас,
и Израиль не признает нас своими;
Ты, Господи, Отец наш,
от века имя Твое: «Искупитель наш».
Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих,
ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя?
Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего.
Короткое время владел им святой народ Твой;
Но наши враги попрали святилище Твое.
Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал
и над которыми не именовалось имя Твое.
О, если бы Ты расторг небеса и сошел!
Горы растаяли бы от лица Твоего,
как от плавящего огня,
как от кипятящего воду,
чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим;
от лица Твоего содрогнулись бы народы!
Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные,
и нисходил, - горы таяли от лица Твоего.
Ибо от века не слыхали,
Не внимали ухом,
И никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя,
Который делает для тех, кто ждет Его
(Ис 63:15-64:4).
Явление Царства Божьего в Иисусе разрушает статус-кво, как молодое вино прорывает старые мехи. Развенчиваются иллюзии стабильности и авторитета - авторитета римских властей (12:1317) и еврейского религиозного истеблишмента (11:27-12:12). Историю нельзя рассматривать как замкнутую систему имманентных причин и следствий; внезапное божественное вмешательство разрывает кажущиеся исторические закономерности, и человеческая жизнь обнажается перед Богом. Крики бесов - несомненный знак потрясения в устройстве мира: «Что Тебе до нас, Иисус из Назарета? Ты пришел погубить нас?» (1:24). Ответ утвердительный: да, в явлении Иисуса Бог развернул решающую кампанию против сил зла, угнетающих род людской[28]. Эта кампания ведется по таинственному замыслу, который никто не предвидел, и увенчивается крестом.
Второе. Из-за космического конфликта время сжалось. «Исполнилось время» (peplerotai ho kairos; 1:15); все пророчества указывают на нынешнее время, и вся человеческая история зависит от этого момента. Поэтому все свершается быстро, и присутствует острое чувство неотложности. Стремительность марковского повествования прекрасно передается в начальных сценах этого Евангелия. Только в одной 1-й главе не менее 11 раз используется слово «тотчас» (euthys). И это не неуклюжий способ связать разрозненные перикопы, а описание быстроты, с которой развивается апокалиптическая кампания. Мы словно смотрим слайды, сменяющие друг друга столь быстро, что детали проходят мимо внимания, - воспринимается лишь общий ход событий с полным ощущением вовлеченности в них. У марковского Иисуса нет времени на неспешные рассказы о полевых лилиях. Евангелие окунает нас в гущу космического конфликта. И если мы хотим поспеть за рассказом, то должны спешить.
Третье. Апокалиптическое вторжение Бога в мир вызвало инверсию: Бог поменял местами позиции инсайдеров и аутсайдеров. Те, кто наделены властью и привилегиями, Иисуса отвергают; даже собственные ученики Иисуса медленно понимают Его учение. Напротив, аутсайдеры - изгои и низы еврейского общества I века - принимают Весть с радостью, ибо велика их нужда. Прокаженные, одержимый, женщина с кровотечением (5:25-34), сиро-финикиянка (7:24-30), дети (10:13-16), слепой Вартимей (10:4652), безымянная женщина, помазывающая Иисуса «для погребения» (14:3-9), языческий центурион у креста (15:39) - все это марковские примеры доверия Иисусу. «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (10:31). Наше восприятие уже притупилось, и мы недостаточно осознаем шокирующий характер этой инверсии.
Четвертое. Евангелие от Марка переосмысливает природу власти и ценность страдания. Поскольку Иисус использует власть, чтобы служить, а не чтобы Ему служили, подлинная власть парадоксальным образом явлена на кресте. Те, кто использует власть для господства, угнетения и убийства - не только злодеи, но и пешки в руках сил, находящихся вне их контроля. Это особенно ясно видно в случае с Иродом (6:14-29) и Пилатом (15:1-15). Кажущееся же бессилие Иисуса в его страданиях - подлинное выражение власти Бога. Евангелист изображает страдание как нечто значимое и необходимое в таинственном промысле Божьем... Это противоречащее здравому смыслу понимание силы и страдания работало в раннехристианских общинах двумя очень разными способами. С одной стороны, Марк укреплял и поддерживал общины в их страдании. В Первом послании Петра мы находим утешение, словно резюмирующее позицию Евангелия от Марка:
Возлюбленные! Не удивляйтесь огню, который среди вас и для испытания вашего посылается, - как будто происходит с вами нечто странное. Но радуйтесь, поскольку вы участвуете в страданиях Христовых, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете (1 Петр 4:12-13).
С другой стороны, евангелист бросает вызов спокойному существованию тех из читателей, кто сами обладают властью и привилегиями. Подобно богачу из 10:17-22, они должны отказаться от привилегий и пойти за Иисусом по крестному пути[29].
Шестое. Открытость евангельской концовки зовет читателя к активному ответу. Мы уже видели, что Марк очень любит завершать повествовательные единства вопросами и увещеваниями, обращенными в том числе и к читателю (например, «неужели вы не понимаете?», «бодрствуйте!»). Аналогичным же образом действует концовка. Казалось бы, странно, что весть о радости и надежде неожиданно заканчивается загадочными словами: «Они никому ничего не сказали, потому что боялись» (16:8)! Но перед нами Евангелие неинтерпретированных действий и молчаливых намеков. Читатель как бы должен дописать концовку сам - дописать, взяв крест и завершив интерпретацию жизнью в ученичестве. «Извне» Евангелие от Марка понять нельзя. Правильное прочтение его возможно только через следование за Иисусом в жертвенной самоотдаче, жертвенном служении.
Глава 4. Евангелие от Матфея: научение Царству Небесному
Итак, Евангелие от Марка имеет открытый конец, словно призывающий читателей дописать своей жизнью рассказ до конца. Матфей пользуется совершенно иной повествовательной стратегией. Концовка Евангелия от Матфея сводит воедино все нити рассказа и дает ученикам (а также читателям) четкое поручение:
Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему; а иные усомнились. Иисус же подошел и сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И помните: Я с вами всегда, до скончания века» (Мф 28:16-20).
Евангелие от Марка заканчивается обещанием, что Иисус «пойдет впереди» учеников в Галилею. Однако явлений Воскресшего Марк не описывает. «Он воскрес, Его нет здесь». Напротив, Евангелие от Матфея заканчивается непосредственным присутствием воскресшего Господа, который обещает пребывать с учениками во все дни, до скончания века. Это утешительное слово дает прочную основу жизни и миссии Церкви (ср. Мф 7:24-25).
Евангелия от Матфея и от Марка отличаются далеко не только концовками. Матфей, включая почти весь марковский материал, постоянно старается снять двусмысленности, разъяснить загадки и предоставить логические завершения.
Джон Доминик Кроссан предлагает очень интересную классификацию повествований по их позиции в отношении «мира». (Понимая «мир» как общепринятое понимание реальности, господствующее в культуре, к которой обращено повествование.) Повествовательный текст создает собственный мир. И Кроссан задает эвристический вопрос: как мир повествования соотносится с «миром» его культурной среды? Далее он предлагает распределить повествования по спектру, охватывающему пять категорий: миф, аполог, действие, сатира и притча. Различие между ними можно кратко сформулировать так: «Миф упрочивает мир. Аполог защищает мир. Действие описывает мир. Сатира нападает на мир. Притча разрушает мир»[1].
Кроссан разрабатывает эту типологию, чтобы показать, как притчи Иисуса разрушают мир. Однако мы можем воспользоваться его классификацией для осмысления глубоких различий между Матфеем и Марком. (Такого рода подход не предполагает вынесения какого-либо суждения относительно исторической достоверности использованных евангелистами преданий. Повествовательные миры создают и история, и вымысел. Скажем, исторические труды Иосифа Флавия - аполог.) В категориях Кроссана Евангелие от Марка будет притчей, а Евангелие от Матфея окажется где-то между мифом и апологом.
Матфей одновременно создает упорядоченный символический мир, в котором Иисусу дана всякая власть на небе и на земле, и защищает его от альтернативных мировоззрений. Увидеть, как он это делает, можно, рассмотрев следующие темы: образ Иисуса-учителя, ученичество как формирование общины, эсхатология как основание для этики. Мы проанализируем эти темы, а затем кратко охарактеризуем исторический фон, с учетом которого необходимо интерпретировать творческое использование Матфеем преданий об Иисусе. Мы также сделаем выводы относительно повествовательного мира Матфея как контекста для нравственного суждения и действия.
1. Христология Матфея: Иисус как учитель
Перерабатывая имевшиеся в его распоряжении предания, Матфей старался подчеркнуть роль Иисуса как авторитетного учителя народа Божьего. В качестве канвы он взял марковское повествование и существенным образом его дополнил.
Во-первых, он снабдил повествование началом (генеалогия, рассказы о Рождестве; 1:1-2:23) и концовкой (явления Воскресшего, поручение ученикам; 28:8-20). Это помогло ему установить основу для авторитета Иисуса. По рождению Иисус - «Мессия, сын Давида, сын Авраама» (1:1), зачатый Духом Святым. Более того, типология Моисея, красной линией проходящая через рассказ о Рождестве, вызывает ожидание: Иисус будет своего рода новым Моисеем, исполнит роль Моисея как избавителя и законодателя для народа Божьего[2]. Евангельская концовка дает еще одно подтверждение авторитету Иисуса: Израиль и другие народы должны учиться соблюдению Его заповедей потому, что Он воскрес.
Во-вторых, Матфей вставил в марковское повествование пять больших блоков поучений (5:1-7:27; 10:5-42; 13:1-52; 18:1-35; 23:1-25:46)[3]. Каждый из этих блоков завершается формулой: «Когда Иисус закончил [etelesen] эти слова...»[4], что также подчеркивает типологию Моисея (ср. Втор 31:1; 32:45). Таким образом, повествовательная линия оказывается своего рода транспортным средством для большого груза дидактического материала и акцентируется роль Иисуса как учителя.
Программное расположение Нагорной проповеди в начале Иисусова служения также обеспечивает главенствующую роль темы «Иисус как авторитетный учитель» в христологии Евангелия. (Отметим в скобках: поскольку Евангелие от Матфея в каноне стоит первым, этот образ Иисуса-педагога приобрел диспропорционально большой вес в благочестии ранней Церкви.) В заключение Нагорной проповеди Матфей отмечает: «Народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники» (7:28-29)[5]. Соответственно, с точки зрения евангелиста, истинно знать Иисуса - значит, признавать Его власть/авторитет, соблюдая Его слово.
Не всякий, говорящий мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (7:21-23).
Исполняющие Иисусово учение подобны мудрецу, построившему дом на камне, а не исполняющие его подобны глупцу, построившему дом на песке (7:24-27). Поэтому, хотя Матфей сохраняет марковские слова о следовании Иисусу через несение креста, роль Иисуса у Матфея носит более дидактический характер: Он становится «единственным учителем», занимающим место всех других раввинов (23:8). Мессия разъясняет Тору по-новому и со властью.
В Евангелии от Матфея один из основных тематических акцентов - преемственность Иисуса с Торой. Согласно программному заявлению в 5:17-20, Иисус пришел не отменить Закон и пророков, но исполнить их. Остальная часть Нагорной проповеди развивает это утверждение. Шесть антитез в 5:21-48 («вы слышали, что сказано... но я говорю вам») прямо противопоставляют авторитет Иисуса авторитету традиционных истолкований Закона: у Матфея Иисус рассматривает заповеди Закона не как фиксированные нормативные стандарты, а как указатели на более совершенную праведность сердца; при этом он поднимает планку требований выше, чем ее ставил Закон. Там, где Закон запрещает убивать и прелюбодействовать, Иисус призывает также отвергнуть гнев и похоть. Там, где Закон вводит ограничения на развод и проявления мести, Иисус призывает вообще не разводиться и не мстить. Там, где Закон ограничивает заповедь любви любовью к ближнему (т.е. ближнему - израильтянину), Иисус призывает любить врагов. Одним словом, Он заповедует: «Будьте совершенны [teleios] ...как совершен Отец ваш Небесный» (5:48). Это - один из смыслов, в которых Иисус «исполняет» Закон: Он раскрывает его внутреннюю интенцию, требуя от учеников праведности, которая «больше праведности книжников и фарисеев» (5:20). Вполне возможно, что особое внимание евангелиста к данной теме не случайно. Возможно, он был свидетелем и участником острых дебатов о правильном толковании Торы. Не исключено, что Матфей отвечал на упреки «фарисеев» (иудаистов, представлявших зарождающийся раввинистический иудаизм) христианам в антиномизме. В противовес этим упрекам евангелист настаивал: подлинный смысл Закона раскрывает именно Иисус, а не педантичные фарисеи[6].
Иисус также «исполняет» Тору в том смысле, что Его жизнь - типологическое завершение многочисленных ветхозаветных пророчеств и рассказов. Из всех евангелистов именно для Матфея характерны ремарки, поясняющие читателю: то или иное событие в жизни Иисуса произошло во исполнение реченного пророками. Такого рода «интерпретирующих цитат» экзегеты насчитывают в данном Евангелии не менее дюжины[7]. Этот прием призван показать: в истории спасения нет ничего случайного и неопределенного, все промыслительно, все предречено Богом. Все выстраивается в единое упорядоченное целое, ибо Иисус Мессия связал все разрозненные концы. Матфей особенно старается показать преемство Иисуса (и в Его учении, и в Его личности) с Торой, доказывая гармоническое соотношение между Законом и Евангелием.
Евангелист писал спустя полвека после распятия. К этому времени возникла настоятельная необходимость в разъяснении христианам учения Иисуса. И, как мы видим, например из «интерпретирующих цитат», некоторые книжники и учителя взяли на себя нелегкий труд - собирать предания об Иисусе, перерабатывать их в педагогических целях и искать корреляции с Торой[8].
Сам Матфей, очевидно, принадлежал именно к числу таких книжников. Очень может быть, что его адекватно описывает речение Иисуса, которое встречается только в его Евангелии: «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (13:52). Такой книжник, «наученный Царству Небесному», собирает в сокровищницу и новое, и старое. У него ничего не пропадет, никакая йота или черта, - всему находится свое место в полноте Иисусова мессианского Царства.
2. Научение царству
Если Иисус - Учитель, то Церковь - прежде всего община учеников. Матфей предлагает наставление для формирования и обучения церкви. «Великое поручение» в конце Евангелия от Матфея - это именно поручение учить: «Сделайте учениками все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Стало быть, речь не просто о том, чтобы обратить как можно больше людей. Необходимо создать дисциплинированную общину, которая исполняет учение Иисуса на практике.
Никакого духовного индивидуализма! Церковность играет для евангелиста очень большую роль. Собственно говоря, только у Матфея Иисус говорит о «церкви» (ekklesia). Причем, хотя это слово появляется лишь дважды, оно появляется в очень существенном контексте. Один раз Иисус объявляет Петру в Кесарии Филипповой: «На этом камне Я создам Церковь Мою» (16:18; ср. параллельные места в Мк 8:27-30/Лк 9:18-21, где данная тема отсутствует). Другой раз Иисус наставляет: Церковь должна проявлять строгость к нераскаявшимся грешникам (18:17). Без сомнения, у Матфея Иисус - основатель Церкви. Присоединиться к Его движению, значит, вступить в общину учеников, которую Он призвал, учил и облек властью. Показательно, что Матфей пропускает марковский рассказ о терпимом ответе Иисуса по поводу экзорциста, который действовал отдельно от учеников (Мк 9:38-40). (У Марка этот эпизод завершается словами Иисуса: «Кто не против нас, тот за нас».) Более того, согласно Матфею, Иисус в контексте полемики с фарисеями сформулировал иной подход: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф 12:30). Получается, что за Иисусом можно следовать, только будучи частью общины, которую Он предназначил для миссионерства к миру.
(А) Общинная этика совершенствования. Каков же характер этой общины? Какими именно учениями она должна руководствоваться? Подход Нагорной проповеди отличается несомненным ригоризмом. Община Иисусовых учеников должна быть образцовой общиной, живущей в послушании Богу. Она должна быть солью земли, светом миру, городом на холме (5:13-16). Образцовое послушание составляет важную часть миссии: «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (5:16). Глядя на Церковь, люди должны увидеть волю Божью. Поэтому-то христианам и подобает быть праведнее книжников и фарисеев: только так Церковь может явить собой убедительный образец возвещенного Иисусом Царства.
Нагорная проповедь обрисовывает в общих чертах характер общины. Открывается она «заповедями блаженства»: блаженны кроткие, милостивые, чистые сердцем, миротворцы и те, кто страдает ради праведности (5:3-12). Парадоксальность этих заповедей показывает: Иисусова новая община живет не по обыденным стереотипам, а по принципиально иному укладу. Как понять слова: «Блаженны плачущие»? Они имеют смысл лишь в свете продолжения: «...ибо они утешатся». Община Иисусовых учеников живет в предвосхищении окончательного Восстановления. При этом она не пытается сама установить Царство насильственным путем, но ожидает божественного вмешательства. Учиться Царству, значит, учиться видеть мир с точки зрения будущего, к которому его ведет промысел Божий, - хотя такое видение и противоречит здравому смыслу.
Остальная часть Нагорной проповеди уточняет характер общины, стремящейся воплотить это эсхатологическое представление о божественной праведности. Общинники должны отложить гнев, похоть, насилие, лицемерие, гордыню и материализм. Вместо этого эгоистического и своекорыстного поведения им надлежит возлюбить своих врагов, выполнять обеты (в том числе брачные), свободно прощать (как и они прощены Богом), тайно подавать милостыню и доверять Богу, что Он позаботится об их материальных нуждах.
Если мы сопоставим эти заповеди с мишнаитской галахой или детальными уложениями кумранского «Устава общины» (1QS), нам сразу бросится в глаза довольно широкий и неполный характер матфеевской программы. Уэйн Микс пишет:
...Здесь нет системы заповедей. Правила не носят всеобъемлющий характер: берутся лишь отдельные случаи из жизни, - в качестве примера того, какое поведение ожидается от общины... Не излагает Иисус у Матфея и философские принципы, с помощью которых можно рационально вывести поведенческие нормы. Поразительно, что, хотя в Евангелии от Матфея Иисус выступает в роли мудреца, Его учения не складываются в этическую систему. По всей видимости, с точки зрения евангелиста, воля Божья открывается не в такой педагогической программе[9].
Ригористические призывы Матфея к нравственному совершенству - не призывы подчинить себя некой всеохватывающей системе правил. Подчеркивая задачу Церкви учить послушанию Иисусовым заповедям, евангелист усматривает в этой задаче глубинную цель - преображение сердца, преображение характера. По словам Томаса Оглтри, «языком закона и заповеди Матфей выражает то, что более адекватно может быть выражено языком добродетели»[10]. Как известно, «язык закона и заповеди» - это часть израильского наследия, на которое претендует Матфей, подвергая его герменевтической трансформации в свете Иисусова учения. Однако, действительно ли термин «язык добродетели» более удачен, - вопрос спорный: пафос евангелиста передается именно через парадоксальное напряжение между его стабильными этическими категориями и Вестью о том, что приход Царства преображает все, включая людей, живущих в подотчетности этим категориям.
Правила и заповеди придают нравственной жизни упорядоченную структуру. Но Матфей также полагает, что действия могут органично вырастать из характера. Например, лжепророки узнаются «по плодам», ибо «не может дерево доброе приносить плоды худые» (7:15-20). Та же метафора появляется и в обличении Иисусом фарисеев, которые обвинили Его в том, что Он изгоняет бесов «Вельзевулом, князем бесовским» (12:24).
Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым; ибо дерево познается по плоду. Порождения ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста (12:33-34).
Речь и поступки - внешнее проявление того, что находится в сердце. По-видимому, именно поэтому в знаменитой притче об овцах и козлищах «овцы», наследующие Царство, уготованное им от основания мира, даже не знали, что служат Иисусу. Они просто приносили плод; в их поступках выражалась доброта их характера. Можно спросить: как такой подход к этике соотносится с акцентом Матфея на послушание словам Иисуса? Подробного ответа на этот вопрос евангелист не дает, однако мы можем высказать правдоподобную, на наш взгляд, гипотезу. Действие вырастает из характера, но характер не столько определяется природой, сколько создается через научение праведным путям. Люди, откликнувшиеся на проповедь Иисуса и подчинившие себя Его наставлениям, преобразятся. Они преобразятся так, что их действия «естественным» образом будут мудрыми и праведными. Они научатся навыкам и пониманию, которые необходимы для того, чтобы жить в верности Богу. В этом отношении нравственная позиция Матфея имеет много общего с израильской традицией Премудрости, хотя евангелиста больше заботит формирование общины, чем культивация мудрости и добродетели в отдельных людях.
(Б) Герменевтика милосердия. Одно из главных качеств, которые Иисус старается привить людям, - милосердие. В спорах с фарисеями Он дважды цитирует Ос 6:6: «Милосердия хочу, а не жертвоприношения» (Мф 9:13; 12:7). Многие исследователи отмечают, что этот же отрывок вспоминал великий раввин Иоханан Бен-Заккай, основатель раввинистической академии в Ямнии, в качестве утешения Израилю, когда предписанные Законом жертвоприношения стали невозможны[11]. Получается, что Матфей цитирует текст, который обрел большую герменевтическую значимость в современном (или почти современном) ему фарисейском иудаизме, но дает ему другое применение. Повторение же цитаты указывает на особую значимость Ос 6:6 для понимания матфеевской этики[12].
Первый из этих случаев изложен в 9:10-13. Фарисеям не нравится, что Иисус ест со сборщиками податей и грешниками. Иисус отвечает им пословицей: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные». Далее Матфей отклоняется от марковского текста (ср. Мк 9:15-17), вставляя цитату из Осии: «Пойдите, научитесь, что значит: «Милосердия хочу, а не жертвоприношения»». В завершении перикопы мы опять находим марковский материал: «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников». Таким образом, в понимании Матфея Ос 6:6 означает, что божественное милосердие простирается и на грешников. Евангелист ничего не говорит здесь ни о разрушении Храма, ни (в отличие от Иоханана Бен-Заккая) о деяниях милосердия как искуплении за грех. (Хотя первые читатели Евангелия от Матфея, вне сомнений, были знакомы с дискуссиями по поводу этих вопросов.) Как отмечает Джон Мейер, евангелист прибегает к цитате в полемических целях: «Воля Божия - милосердие, а не жертвоприношение. И если милосердие вытесняет даже главный культовый акт, то насколько же оно важнее фарисейских правил ритуальной чистоты!»[13] Иисус показывает Божью милость к грешникам и учит: именно милости Закон требует и от людей.
Второй случай изложен в 12:1-8 (спор с фарисеями о срывании колосьев в субботу). Здесь Матфей также следует Марку, но добавляет в защиту поведения учеников два аргумента, которых Марк не содержит.
Или не читали вы в законе, что в субботы священники в Храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше Храма. Если бы вы знали, что значит: «Милосердия хочу, а не жертвоприношения, то не осудили бы невиновных» (12:5-7).
Христологический принцип таков: Иисус больше Храма, поэтому служащие Ему, подобно храмовым священникам, не обязаны соблюдать обычные предписания о субботе. Принцип чрезвычайно смелый, а кому-то он мог показаться и почти кощунственным. Естественно, после разрушения Храма он обрел дополнительные подтексты... В 12:5-7 этот христологический довод соединен с апелляцией к Осии: «герменевтика милосердия» умаляет заповеди Закона, а то и вытесняет их совсем (ср. Исх 34:21)[14].
Вспомним: ранее евангелист говорил, что Иисус исполняет, а не отрицает Закон. Теперь, на примере трапез с грешниками и срывания колосьев в субботу, мы видим, как работает эта формула. С точки зрения Матфея, Закон свидетельствует о «важнейшем» - «справедливости, милосердии и вере» (23:23). Учение Иисуса дает радикально новый герменевтический фильтр, требующий интерпретации Всего содержания Закона в свете господствующего императива - милосердия. При этом Иисус предлагает нечто иное, чем книжники и фарисеи, «связывающие бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагающие их на плечи людям» (2 3:4).
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (1 1:28-30).
Этот зов перекликается с зовом персонифицированной Премудрости, которая часто практически отождествлялась с Торой (см., например, Притч 8; Сир 24, особенно ст. 19-23; Сир 53:23-3 8; Вар 3:9-4:4). Берущие на себя иго Иисусово, по сути, берут на себя иго Торы в интерпретации Иисуса. Однако Его бремя - в свете герменевтики милосердия - легко, чего нельзя сказать о систематических разъяснениях Торы фарисеями, противниками Матфея. (Обличение фарисеев отражает острый конфликт в исторической среде евангелиста, и о нем мы еще подробнее поговорим далее. Однако взгляд на милосердие как на подлинную цель Закона - одна из позитивных составляющих нравственной позиции Матфея.)
Возьмем теперь апофтегму в 22:34-40. На ее примере также хорошо заметна герменевтическая трансформация Закона. Желая испытать Иисуса, фарисей спрашивает его: «Какая наибольшая заповедь в Законе?» Иисус сначала дает очевидный для каждого еврея ответ (цитирует Шема; Втор 6:5), а затем связывает Шема с Лев 19:18: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Далее евангелист характерным для него образом отходит от марковского повествования, чтобы добавить пояснение: «На этих двух заповедях висят весь закон и пророки» (22:40). Здесь есть очень тонкий, но важный момент. Речь не только о том, что заповеди о любви к Богу и ближнему - величайшие в Торе, как подчеркивал еще Марк (ср. Мк 12:28-34). Все остальное «подвешено» на них, то есть выводимо из них. Соответственно, двойная заповедь о любви выступает в роли своего рода герменевтического фильтра (практически синонимичного с Ос 6:6), который регулирует отношение общины к Закону. И это имеет глубокие последствия для содержания нравственной позиции евангелиста. Обучающиеся Царству Небесному учатся оценивать все нормы (даже нормы Закона) в свете критериев любви и милосердия. Поэтому в общине, которая руководствуется этими принципами, должны процветать дела любви и милосердия.
(В) Общинная дисциплина и общинное прощение. С учетом вышесказанного получается, что у Матфея ригоризм находится в довольно напряженной взаимосвязи с милосердием. С одной стороны, община призвана к совершенству: подобно городу на холме, она должна неукоснительно являть собой образец праведности, превосходящей даже праведность книжников и фарисеев. С другой стороны, община призвана интерпретировать Тору в свете герменевтики милосердия, которая приводит к подчинению конкретных заповедей Закона его внутренней интенции; следовательно, по примеру Иисуса община должна принимать сборщиков податей и грешников, милостиво относясь к человеческим слабостям и ошибкам. Строгость и милосердие идут рука об руку. Как примирить эти, казалось бы, противоречащие друг другу требования в жизни общины?
Систематического богословского решения данной проблемы Евангелие от Матфея не содержит. Однако в четвертом блоке речей (18:1-35), который посвящен общинной дисциплине и общинному прощению, мы находим ряд важных принципов.
Если же согрешит против тебя[15] брат твой[16], пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Истинно также говорю вам, что, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (18:15-20).
В этом отрывке Иисус совершенно ясно дает понять: община не должна терпеть или игнорировать наличие в своей среде греха. Кто-то - в первую очередь человек, перед которым был совершен грех, - должен пойти и поговорить с грешником[17]. Сначала поговорить нужно наедине («между тобою и им одним»). Это очень важное правило. Если ему следовать, в церкви существенно поубавится сплетен и злословия. Кроме того, грешник может получить увещевание и покаяться, не позоря себя публично. Оговоримся: это установление новым назвать никак нельзя. Оно восходит к Лев 19:17, где необходимость укорить заблуждающегося ближнего рассматривается как важная часть заповеди «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (см. Лев 19:1718). Не удивительно, что и кумраниты, с их особой заботой о святости общины, придавали большое значение взаимному обличению и исправлению, обосновывая этот обычай ссылкой на Лев 19[18]. Требование дополнительных свидетелей также основано на Ветхом Завете (Втор 19:15), хотя Мф 18:16 переводит действие из обстановки судопроизводства в обстановку пасторско го увещевания в общине... И последняя мера: нераскаявшегося грешника подобает из общины исключить (18:17). Она подчеркивает серьезность требований. Невозможно одновременно быть нераскаявшимся грешником и членом общины Иисусовых учеников.
Однако цель описанной в 18:15-17 процедуры состоит в том, чтобы вернуть брата. (Использование в этом контексте семейного слова «брат» не случайно.) Указание о том, что изгнанный грешник должен быть «как язычник и мытарь», следует интерпретировать в контексте всего Евангелия. Оно вовсе не означает, что такой человек превращается в парию, от которого община шарахается. Наоборот! Он становится объектом миссионерских усилий общины. Как мы уже хорошо знаем, Иисус искал общения с мытарями и грешниками и заповедал проповедовать Благую весть всем народам (ethne = «язычникам»). Соответственно, 18:15-17 следует толковать с учетом предыдущей притчи о пастухе, который покидает девяносто девять овец и идет искать одну «заблудившуюся» (18:12-14). «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Поэтому, проявляя строгость, община должна всегда преследовать цель вернуть грешника в братское общение. Трехступенчатая дисциплинарная процедура, описанная в 18:15-17, одновременно поддерживает строгие нравственные нормы общины и дает возможность грешнику обрести прощение и вернуться в общинную жизнь.
При этом община наделена очень большой властью. Ее способность «связывать» и «разрешать» фактически превращает ее в орудие Бога в этом мире. Властью обладает община в целом, в своих совместных решениях. (В отличие от Мф 16:19, где власть «связывать» и «разрешать» даруется лично Петру[19].) Возникает вопрос: как же церкви могут быть доверены такие полномочия? Ответ - в обетовании: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Община обладает властью Иисуса потому, что в ней присутствует Иисус (ср. 28:20). Собственной власти у нее нет, - она действует согласно Иисусовым заповедям и под Его продолжающимся руководством.
Но не может ли у церкви, обладающей столь большой властью, возникнуть искушения гордыней и авторитаризмом? Эту опасность евангелист осознает и рассматривает в стихах 21-35. Как он рассказывает, Петр, услышав про трехступенчатый процесс призвания грешников назад к братскому общению, осознал: это может привести к бесконечному циклу грехов и покаяний! Поэтому он задает резонный вопрос: «Сколько раз прощать грешника? Возможно, семь раз?» В своем поразительном ответе Иисус выказывает куда больше снисходительности, чем многие современные американцы, ободряющие концепцию «автоматического наказания», согласно которой человек, трижды совершивший какое-либо правонарушение, осуждается «по максимуму». Иисус же говорит об изобилии божественного милосердия. Это милосердие Церковь призвана являть миру: «Не говорю тебе: «до семи», но до семидесяти семи раз» (18:21-22). Здесь снова парадоксальным образом сочетаются строгость и милосердие. Иисус предъявляет ученикам требование, которое может показаться невероятным: прощать нужно бесконечно - как прощает сам Бог!
Кульминация речи о строгости и прощении - притча о немилосердном заимодавце (18:23-35). Царь из этой притчи прощает рабу долг в 10000 талантов. Это колоссальная сумма денег - вполне эквивалентна сумме государственного долга. («Годовой доход Ирода составлял не более 9000 талантов, а с Галилеи и Переи податей взималось лишь на 200 талантов»[20].) Получив прощение, раб уходит и с угрозами берет за горло другого раба, который и задолжал-то сущий пустяк - 100 динариев. Когда царь узнал об этом, то разгневался на немилосердного заимодавца:
Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, господин его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его (18:32б-35).
Притча намекает на богословские основы всего этого раздела о церковной дисциплине и прощении, - да и на основы всего понимания Матфеем взаимосвязи между божественным милосердием и божественной требовательностью. Милость предшествует всему, и только поэтому Весть о Царстве Небесном[21] - весть радостная.
Вспоминается пьеса Шекспира «Мера за меру». Лицемерный Анджело говорит умоляющей его Изабелле, сестре человека, осужденного на смерть:
Ваш брат законом осужден, и даром Вы тратите слова.
Она отвечает:
Но люди были все осуждены,
Однако Тот, чья власть земной превыше,
Нашел прощенье. Что же будет с вами,
Когда придет верховный Судия
Судить вас? О, подумайте об этом -
И милости дыхание повеет
Из ваших уст, и станете тогда
Вы новым человеком[22].
Аналогично, призыв Евангелия от Матфея прощать по слову Иисусову - логический вывод из милосердия Божьего. Но над презирающими божественную благодать нависла угроза будущего Суда.
3. Эсхатология Матфея: «Я с вами всегда, до скончания века»
Матфей сохраняет характерную для ранних преданий апокалиптическую эсхатологию: он верит в будущее славное пришествие Сына Человеческого, воскресение мертвых и Страшный суд (например, 16:27; 22:23-33; 24:3-44; 13:24-27, 36-43). Тем не менее, по сравнению с более ранней ролью апокалиптических традиций как основания надежды у Павла и Марка, мы наблюдаем ряд небольших изменений. Матфей несколько иначе использует эсхатологические мотивы и по-иному сопрягает их с другими элементами богословия. Для нашего понимания нравственной позиции евангелиста эти тонкости имеют самое принципиальное значение.
(А) Ослабевание эсхатологической неотложности. Во-первых, для Матфея не столь характерно ожидание скорой эсхатологической развязки. Это не сразу бросается в глаза, ибо Матфей согласен, что «в час, какой не думаете, придет Сын Человеческий» (24:44) и что Церковь должна быть начеку. Однако время, прошедшее между распятием и моментом написания Евангелия, - полвека, а то и больше - не могло не внести свои коррективы. Иисус воскрес, но мир по-прежнему существует... Ход времени нашел отражение в комментарии евангелиста относительно распространившегося среди евреев слуха, что ученики попросту выкрали тело Иисуса: «И пронеслось это слово между иудеями до сего дня» (28:15). Погиб Храм (см. 24:1-2), но история продолжается. Судя по всему, Матфей настроен на то, что эсхатологической развязке будет предшествовать продолжительный исторический период. Иисус учредил Церковь (институт, построенный на исповедании Петра; 16:18), миссия которой - благовествовать миру (24:14). На выполнение же этой миссии нужно время. Даже некоторые христиане стали думать: «Не скоро придет господин мой», - и вести себя безответственно (24:48-49). Против такого поведения Матфей предостерегает, но сама необходимость в предостережении весьма показательна (ср. 2 Петр 3:3-4). И в завершающем Евангелие обетовании о присутствии Иисуса с общиной «всегда, до скончания века» вроде бы слышится намек на предположение, что Конец наступит не сразу. Евангелист верит в последний Суд, но это ожидание не носит напряженный характер.
(Б) Присутствие Иисуса. В терпеливом своем ожидании евангелист утешается пониманием: воскресший Господь присутствует в своей Церкви. И, если для Марка настоящее - суровое время отсутствия Господа, время ожидания парусин, то Матфей неоднократно заверяет читателей: Иисус уже пребывает со своим народом. Первый раз эта тема появляется в рассказе о пророчестве перед Рождеством, когда явившийся Иосифу во сне ангел объявляет о богоугодности беременности Марии:
Все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка: «Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему: Еммануил», что значит: «с нами Бог» (1:22-23).
Это последнее пояснение («что значит...») - очень характерный для Матфея прием. Евангелист желает, чтобы смысл не ускользнул ни от кого. Иисус станет Тем, в ком Бог присутствует со своим народом.
Мы уже встречали эту тему в наставлениях Иисуса относительно церковной дисциплины. Он - там, где двое или трое собраны во имя Его. Такое обетование перекликается с одним из раввинистических преданий об изучении Торы: «Если сидят двое, и слова Закона между ними, то Шехина [«Божественное Присутствие»] пребывает среди них»[23]. Если эта традиция существовала уже во времена Матфея, то, возможно, 18:20 - дополнительный намек на то, что отныне Иисус занимает место Торы. Но в каком же смысле можно говорить о присутствии Иисуса? Может быть, по аналогии с раввинистическими традициями, Он присутствует в некоем тексте, и под собранием во имя Иисуса подразумевается собрание для изучения Его слов, записанных в Евангелии от Матфея? Куда более вероятен другой вариант: видение Матфея здесь отчасти похоже на видение Павла. Евангелист имеет в виду духовное присутствие Иисуса с молящейся общиной. Магистериум не ограничивается каким-то одним авторитетным текстом и не передается через авторитет институциональный. Он укоренен в личном присутствии Иисуса в «экклесии». В любом случае благодаря этому присутствию Церковь уже может в каком-то смысле пережить полноту и ясность. Второе пришествие - впереди, но острота ожидания отчасти смягчается утешением, которое дает уже существующее присутствие Иисуса.
Не случайно наличие этой темы - и в конце Евангелия. Давая ученикам поручение, Иисус говорит: «Я с вами всегда...» (28:16-20)... Красной линией она проходит через все повествование.
Ведь и значительную часть остального материала евангелист переработал так, чтобы подчеркнуть: Бог присутствует с нами в Иисусе. Матфей не только ведет исторический рассказ о прошлых событиях, но и несет Весть о пребывании и действии Иисуса в Церкви. Для иллюстрации возьмем один пример.
Посмотрим, как Матфей адаптирует марковский рассказ о хождении Иисуса по воде (Мк 6:45-52/Мф 14:22-33). Это позволит нам увидеть, что предания о чудесах он понимает как аллегории присутствия Иисуса. Матфей вносит две существенные модификации.
Во-первых, он рассказывает, как Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу (14:28-31). Это сообщение поистине напрашивается на аллегорическое прочтение. Лодку (читай: Церковь) захлестывают волны и ветер (читай: вражда и гонения). Таинственным образом приходит на выручку Иисус. Петр, глава и символ учеников, отваживается подражать чудесам Иисуса, но начинает тонуть, и Иисусу приходится его спасать. Петр (все еще символическая фигура!) получает упрек за маловерие. Когда они входят в лодку и ветер стихает, ученики склоняются перед Иисусом со словами: «Истинно Ты - Сын Божий».
Это последнее событие представляет собой вторую крупную модификацию. У Марка дело обстоит несколько иначе: когда Иисус оказывается в лодке и ветер стихает, евангелист горько замечает: «Они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, потому что не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено» (6:52). Ни понимания, ни преклонения, ни исповедания - только изумление. Матфей находит такое положение дел совершенно неудовлетворительным и снабжает рассказ должной доксологической концовкой, хотя это несколько умаляет значение последующего исповедания Петра в Кесарии Филипповой. Рассказ об исповедании учениками богосыновства Иисуса, несомненно, имеет особое звучание для матфеевской общины (да и вообще для всей будущей Церкви), которая также может ждать и молиться, чтобы Иисус пришел и избавил ее от горестей и невзгод.
Вывод: смысл, вкладывавшийся Матфеем в этот рассказ, можно понять, только рассмотрев его как аллегорическое обетование о присутствии Иисуса с Церковью, а значит, и как призыв отбросить сомнения. Такого рода обетования у евангелиста не отменяют надежды на парусию. Однако они существенно уменьшают накал чаяний.
(В) Эсхатология как эсхатологическое основание. Третий новый аспект в использовании Матфеем апокалиптической эсхатологии - самый очевидный. У Матфея эсхатология превращается в одно из важных оснований нравственного поведения. Снова и снова в качестве мотивации для послушания выступают награды и наказания, ожидающие людей после Страшного суда. Конечно, эта идея присутствовала уже у Павла и у Марка, но Матфей многократно увеличивает ее значимость. Особенно хорошо это заметно в 24:37-25:46 - отрывке, где он добавляет к марковской апокалиптической речи пять единств, подчеркивающих необходимость готовиться к явлению Сына Человеческого.
Первое из этих единств (24:37-44) включает ряд речений, подчеркивающих неожиданность наступления Суда. Приход Сына Человеческого уподобляется потопу во дни Ноя или вору, вламывающемуся в дом среди ночи.
Остальные четыре единства - притчи о Суде. Сюда входят: притча о верном и неверном рабе (24:45-5 1), притча о десяти девах (25:1-13), притча о талантах (25:14-30), притча об овцах и козлищах (25:31-46). Основная мысль притчи о десяти девах - такая же, что и в 24:37-44: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа» (25:13). Остальные три притчи подчеркивают непосредственную связь между правильным ведением дел и судьбой на Страшном суде. Те, кто бьет других рабов и растрачивает собственность господина, кто не откликается на нужды голодных, больных и узников, - все они будут выброшены «во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов» (25:30). Напротив, те, кто исполняет свой долг, творчески использует доверенные им ресурсы, кто служит беднякам, - пойдут «в вечную жизнь» (25:46). Этими рассказами евангелист желает вселить в слушателей страх Божий и тем самым подтолкнуть их к исполнению воли Божьей, - пока еще не поздно, пока на них не пришел Суд.
Неверно думать, что Матфей дает здесь только основание для послушания. Он определяет также и важные этические нормы. Эти нормы имеют отношение прежде всего к справедливому и милостивому обращению с другими людьми, а также к ответственному использованию имущества. (Впрочем, судя поучению о собственности в Мф 6:19-34 и 19:16-30, притчу о талантах следует интерпретировать в аллегорическом ключе. Это не просто буквальное учение о том, как правильно вкладывать деньги.)
Притча об овцах и козлищах, устанавливающая заботу о нуждающихся в качестве основного критерия эсхатологического суда Божьего над человеческими делами, глубоко повлияла на христианское воображение. И она снова акцентирует милосердие как главный признак Царства Божьего.
4. Историческая обстановка: Матфей как церковный дипломат
Об исторической обстановке, в которой работал евангелист, мы можем лишь высказывать предположения. У нас нет полной уверенности даже относительно того, где именно создавалось Евангелие. (По мнению большинства современных ученых, наиболее вероятное место - Антиохия.) Однако особенности матфеевского повествования позволяют нам высказать правдоподобную гипотезу, позволяющую многое в этом Евангелии объяснить.
...Матфей, скорее всего, работал в 80-е - 90-е годы, после разрушения Иерусалимского храма римлянами. В тот момент пути церкви и синагоги еще только что разошлись, оставив у обеих сторон недружелюбные чувства по отношению друг к другу и спровоцировав кризис идентичности[24]. Община Матфея и представители зарождающегося раввинистического иудаизма находились в состоянии взаимной борьбы. Каждая сторона считала, что именно она правильно понимает Тору и израильские традиции. Раввины, корни которых уходили в фарисейский иудаизм, предпочитали создавать ограду, устанавливать жесткие границы для своей группы, определяемые в категориях ортопраксии. Напротив, Матфей представляет иудеохристианскую по изначальному своему характеру общину, которая спиритуализировала смысл Торы с помощью герменевтики любви и инициировала миссию к язычникам. Как показала последующая история, Матфей чрезвычайно удачно сформулировал основополагающий рассказ для миссии к язычникам, но, вопреки его желаниям, эта миссия оторвалась от своих иудейских корней.
От формирующегося иудаизма Матфея отделяла прежде всего христология. Ведь в основе его понимания Закона лежало убеждение: Иисус - исполнение Закона и истинный толкователь Закона. Примечательно, что у Матфея мы не находим следов более ранней христианской полемики о необходимости для христиан обрезания и соблюдения пищевых запретов. В чем причина такого отсутствия? Может быть, эти споры были уже позади и церковь Матфея уже сделала уверенные шаги к превращению в языческую «раннекафолическую» церковь? Или в данном отношении евангелист принадлежит к орбите иудаизма[25]? Общая траектория развития раннего христианства склоняет скорее к первой из этих возможностей, однако у нас слишком мало фактов, чтобы можно было делать однозначные выводы. В любом случае Матфей рассматривает гибель Храма как суд Божий на нечестивое и неверное поколение евреев, отвергшее Мессию Божьего. (Подробнее об этом мы поговорим в главе 17.) Такова ситуация, которая лежит в основе острой полемики Матфея с фарисеями.
Однако, по-видимому, и в самой общине евангелиста были какие-то неустроения. Недаром он увещевает христиан не судить друг друга (7:1-5) и разъясняет, как разрешать взаимные обиды (18:15-17). Конечно, эти наставления имеют универсальную значимость, но само их появление в Евангелии, очевидно, обусловлено их актуальностью. Судя по притче о пшенице и плевелах (13:24-30) и ее интерпретации (13:36-43), в общине Матфея шли острые дебаты относительно того, должна ли Церковь пытаться быть общиной непорочных, или ей, в ожидании Страшного суда, подобает принять более двусмысленный статус corpus mixtum. Матфей явно выбирает вторую из этих возможностей, но при этом очень серьезно подходит к требованию праведности. По мнению некоторых экзегетов, одной из задач евангелиста было примирить различия в Церкви (в частности, социально-этические различия между странствующими пророками-харизматиками и более стабильной урбанистической христианской общиной)[26]. На литературном уровне Матфей сводит воедино разные источники, в частности Евангелие от Марка и собрание (или собрания) Иисусовых речений. Относительно того, были ли эти литературные источники связаны с конкретными социальными группами в церкви Матфея, можно лишь строить домыслы.
В любом случае написание этого Евангелия было великим актом синтеза. Евангелист соединил различные предания в мастерское повествование, способное объединить общину в исповедании Иисуса[27]. Не случайно один исследователь даже назвал Матфея «хитроумным церковным дипломатом»[28], создавшим примирительную платформу для плюралистической церкви! Эта гипотеза проливает свет на некоторые противоречия Евангелия (например, противоречие между ригоризмом и милосердием). Противоречия - результат обращения Матфея к различным актуальным проблемам.
Возникает неизбежный вопрос: работает ли осуществленный Матфеем синтез? Присутствует ли в его тексте когерентная богословская и нравственная концепция, или он произвел на свет лишь шаткий компромисс? В той мере, в какой синтез работает, он работает не благодаря систематической когерентности, но благодаря способности рассказа связывать воедино разрозненные элементы. У Матфея Иисус, возвещая Царство Божье, одновременно требует полного этического послушания и учит милости к грешникам. Он поручает Церкви учить исполнению Его заповедей, но при этом остается с общиной, давая ей возможность более гибких решений. Можно согласиться с Леандром Кеком: «Именно логическая нестабильность текста, с одной стороны, не дает идеологической позиции формироваться непрерывно, а с другой стороны, дает возможность различным частям текста с новой силой проигрываться от одной ситуации к другой»[29].
Таким образом, Матфей в миниатюре содержит те же возможности и проблемы для этики, которые содержит новозаветный канон в целом.
5. Повествовательный мир Матфея как контекст для действия
Как видятся задачи ученичества в свете общей нравственной позиции Матфея? Предлагаю вниманию читателя краткое резюме того, как это Евангелие определяет контекст для нравственного действия.
Первое. Согласно Матфею, этот мир - стабильный и смысл ему придает присутствие Иисуса Христа. В общине Иисусовых учеников нет места сомнению и двусмысленности. Добро и зло четко определены, и мужественное послушание - норма для Церкви. Отец Иисуса Христа - тот же самый Бог, который даровал Тору через Моисея. И хотя Иисус принес новый взгляд на Тору, она не отменяется. Таким образом, нравственный порядок Божественного промысла о мире остается непрерывно стабильным.
Второе. Хотя в будущем суде Божьем нет сомнения, нынешний век имеет собственную значимость. В настоящем Церкви поручено сделать учениками Иисуса все народы, - и эта миссия должна занять все обозримое будущее. Взирая на Церковь, люди должны увидеть замысел Божий о человечестве. Эта община основана на слове Иисуса, и врата адовы не одолеют ее.
Третье. Последний суд будет основан на конкретных делах любви и милосердия в соответствии с учением Иисуса. Правильные ортодоксальные взгляды ничего не стоят, если человек при этом не слушается Бога. Царство Божье отличается тем, что в сострадании идет к слабым и нуждающимся.
Четвертое. Для мира, который знает Матфей, характерен острый конфликт с синагогой. По мнению евангелиста, еврейские вожди взваливают на плечи людей непосильную ношу и уводят от подлинного послушания Богу. Конфликт общины Матфея с возникающим раввинистическим иудаизмом запечатлел свои шрамы на этом Евангелии - шрамы в виде резкой пророческой критики в адрес книжников и фарисеев. Евангелист не дает нам ключей к пониманию того, как непримиримая враждебность по отношению к традиционным представителям Израиля сочетается с заповедью любви к врагам.
Пятое. Матфей уверен: церковная община должна отличаться смирением, терпением и заботой о «малых сих», которые могут преткнуться и ослабеть в вере. Любовь он ценит больше, чем богоcловскую последовательность, и прощение считает главным критерием общинной жизни. Никто не должен быть скор на осуждение других, ибо все люди целиком зависят от милосердия Божьего.
Шестое. Хотя христиане будут продолжать грешить, - а потому исправление и прощение составляют необходимую часть общинной жизни - Матфей нигде не связывает склонность ко греху с каким-то глубинным изъяном в человеческой натуре или (как Павел) с оковами сил, неподвластных контролю воли. С точки зрения евангелиста, послушание - реальная возможность для тех, кто внимает слову Иисуса[30].
Седьмое. Совокупный эффект этих учений таков: Церковь изображается как община, в которой люди могут обрести безопасность и действовать с нравственной уверенностью. Граница между инсайдерами и аутсайдерами прочерчена четко, и инсайдерам дано знать тайны Царства Небесного. Воля Божья ясно открыта в учении и примере Иисуса, от Церкви же ожидается исполнение всех Его заповедей до скончания века.
Глава 5. Лука-Деяния:освобождение через силу Духа Святого
Евангелие от Луки и Деяния Апостолов - две части грандиозного литературного замысла, в ходе исполнения которого Лука величественно и пространно повествует об истории спасения. Он создает своего рода эпос о том, как Бог принес людям
избавление через Иисуса Христа. Этот эпос раскрывает Церкви ее место в человеческой истории, особенно истории промысла Бога о народе Его Израиле[1]. Двухчастность композиции позволяет автору[2] представить возникновение Церкви как естественное и необходимое следствие служения Иисуса. Лука сам говорит о взаимосвязи между двумя частями своего произведения следующее:
Первую книгу я написал обо всем, Феофил, что начал Иисус делать и чему учить до того дня, когда - дав через Духа Святого повеления апостолам, которых Он избрал, - был вознесен (Деян 1:1-2).
Обратите внимание на построение фразы: судя по всему, речь идет о том, что Евангелие от Луки повествует лишь о начале дел Иисуса, - избранные же и наставленные Иисусом апостолы продолжают его дела под водительством Святого Духа во второй книге.
Хотя Лука пользовался Марком, его стиль и подход глубоко своеобразны. Перейти от Марка к Луке - словно перейти от «Беовульфа» к Мильтону. Подобно «Беовульфу», Марк погружает нас в сумрачную атмосферу, чью холодную страсть мы можем воспринять лишь отчасти, словно через тусклое стекло. Лука же изображает хорошо освещенный цивилизованный мир, наполненный социальными и литературными нормами классической античности. Ему удалось придать рассказу об Иисусе вид более респектабельный, а также более приемлемый для образованной части эллинистической ойкумены.
В своем прологе к Евангелию Лука сообщает, что собирается рассказать все «по порядку» (kathexes).
Поскольку уже многие взялись за составление повествования о совершившихся среди нас событиях, как передали нам те, кому от начала довелось быть очевидцами и служителями Слова, - решил и я, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, превосходнейший Феофил, чтобы ты узнал истину о вещах, в которых был наставлен (Лк 1:1-4).
Речь не просто о том, что Лука хочет быть исторически точным. Он желает создать добротное повествование, построенное так, чтобы читатель постиг стройность божественного замысла в истории[3]. Словом «истина» (ст. 4) здесь переведено греческое asphaleia («прочность», «нешаткость», «безопасность»; от него происходит наше слово «асфальт»). Иначе говоря, евангелист стремится убедить читателей в надежности полученного ими наставления. Двухчастный рассказ Луки вселяет в «Феофила»[4] уверенность в такой надежности и призывает его прославить Бога, как Его прославляют многие персонажи повествования.
На неизменность божественного замысла указывают прежде всего глубокие аналогии между Ветхим Заветом и повествованием евангелиста. Лука подходит к вопросу более тонко, чем Матфей, который сосредоточивает внимание на исполнении пророческих предсказаний. Например, бросается в глаза язык Евангелия: Лука сознательно перенимает дикцию Септуагинты, особенно в рассказе о Рождестве (Лк 1-2). Как отмечает Нильс Даль, подражание библейскому стилю содержит важный намек: Лука пишет «продолжение библейской истории»[5]. Многочисленные аллюзии на Ветхий Завет мы находим и в сюжете. Например, тот же рассказ о Рождестве перекликается с ветхозаветными историями Сарры и Авраама (Быт 17-18), а также Анны (1 Цар l-2)[6]. Эти тексты прямо не цитируются, но всякий читатель, знакомый с Ветхим Заветом, без труда распознает наличие в евангельском повествовании соответствующих мотивов[7].
Более существенный момент: Лука изображает события, окружающие жизнь Иисуса, как исполнение божественных обетовании Израилю. Писание - не сборник предсказаний будущего, а книга обетовании богоизбранному народу. Эти обетования были осуществлены в служении, смерти и воскресении Иисуса, а также в последующем опыте Церкви. Промысел Божий, о котором они говорят, может исполниться только через спасение Богом своего народа. И хвалебный гимн Марии («Величит душа моя Господа...»; 1:47-55) возвещает, что спасение уже становится реальностью через ребенка, которого она носит во чреве.
Он поддержал Израиля, раба Своего,
в память о милости -
как Он сказал отцам нашим, -
милости к Аврааму и семени его вовек (Лк 1:54-55).
Повторяющийся акцент на обетовании и исполнении - один из отличительных и основополагающих мотивов Луки - Деяний. И мы не поймем этику евангелиста, если не будем рассматривать ее в контексте его представлений о народе Божьем как носителе исполнившихся обетовании.
Как же Лука соотносит рассказ о жизни Иисуса с нормами для Церкви? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим сначала образ Иисуса, затем - образ общины, живущей в Духе, и, наконец, - влияние эсхатологии Луки на его этику. Проанализировав эти темы, мы попытаемся подвести итог: как повествовательный мир Луки обеспечивает контекст для нравственного суждения и действия.
1. Христология Луки: «Дух господа на мне»
Как мы уже видели, у каждого евангелиста концепция общинной этики тесно связана с образом Иисуса. Поэтому, чтобы попять этику Луки, нужно понять его христологию. Однако у Луки нет систематической христологии. Довольно эклектическим образом он собрал ряд христологических традиций.
В отличие от более позднего христианского богословия, Лука не стремится делать онтологические утверждения относительно личности Иисуса. Ему вообще чужда мысль, что можно разграничить дела Иисуса и Его личность, а затем обсуждать последнюю в субстанциалистских категориях. В отличие от Иоанна, Лука не учит о предсуществовании Христа. Он не разделяет убеждения Матфея и Иоанна, что воскресший Иисус пребывает в Церкви, - у Луки эту роль играет Святой Дух, изливающийся на Церковь. Христология третьего евангелиста функциональна: Иисус осмысливается в категориях того, что Он сделал, той роли, которую Он сыграл в божественном замысле о спасении мира. Вот почему Лука обычно не прямо цитирует Писание, а прибегает к аллюзиям: он не пытается доказать, что Иисус, скажем, Раб Господень, предсказанный Исайей. Речь о другом: Иисус исполняет божественное обетование Израилю, принося избавление, которое прообразовывал Раб Господень.
Лука использует целый ряд христологических образов. Мы остановимся лишь на трех из наиболее важных: Раб, облеченный Духом; пророк, подобный Моисею; праведный мученик. Все они принципиальны для понимания того, как Лука смотрит на призвание Церкви.
(А) Раб, облеченный Духом. У Луки Иисус сразу после искушения в пустыне возвращается «в силе Духа» в Галилею и приходит в субботу в назаретскую синагогу. Здесь евангелист несколько меняет марковскую композицию. Согласно Марку, Иисус посетил синагогу в своем родном городе лишь после многих исцелений, споров и поучений. Лука же передвигает эпизод в самое начало публичного служения Иисуса и делает его программным утверждением[8]. И если Марк ограничивается замечанием, что «[Иисус] начал учить в синагоге», то Лука подробно описывает, чему именно Иисус учил. Учение Иисуса - не больше, не меньше, как публичное объявление о своем мессианском призвании.
И пришел Он в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал, чтобы читать. И подали Ему свиток пророка Исайи. Он развернул свиток и нашел место, где было написано: «Дух Господа на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим. Он послал Меня возвестить пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить угнетенных на свободу, возвестить год милости Господней»[9].
Свернув свиток, Он отдал его служителю и сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на Него. Тогда Он начал говорить им: «Сегодня это Писание исполнилось перед вами» (Лк 4:16-21).
Сначала слушатели считают речи Иисуса приятными (4:22) и реагируют на них благосклонно. Но затем дело принимает плохой оборот, когда Иисус, ссылаясь на рассказы о пророках Илии и Елисее, говорит, что Божья милость не ограничена израильтянами (4:25-27). Тогда люди приходят в ярость и пытаются сбросить Его с обрыва, но Ему удается уйти (4:28-30).
Если рассказ Луки о проповеди Иисуса в назаретской синагоге представляет собой мессианский манифест, то что он говорит о личности и миссии Иисуса? Мы видим здесь несколько важных тем для евангелиста.
Апелляция к Ис 61:1-2 (и 58:6) помещает Иисуса на одну линию с пророками. Иисус говорит, что авторитет пророческой традиции санкционирует Его весть и что эта традиция обретает исполнение в Его деятельности. Он как бы надевает мантию Раба Господнего, описанного в пророчестве Исайи.
Иисус имплицитно определяется как Божий помазанник, Мессия. Поскольку Дух помазал (echrisen) Его, Он - Christos. Лука уже сообщал ранее, что Дух сошел на Иисуса при крещении (3:21-22) и что Иисус облечен Духом (4:1, 14). Тесная связь Раба, Мессии и Духа - тема, характерная специфически для Луки.
Призвание Раба - благовествовать нищим, слепым, пленным и угнетенным. У Луки мессианство Иисуса прямо связано с Его ролью Освободителя, а весть Иисуса - с призывом пророков к справедливости. (Какой разительный контраст с Евангелием от Матфея! Матфея пророчества интересуют преимущественно как предсказания отдельных событий в жизни Мессии.) Отметим, какие именно тексты Исайи соединяет Лука: Ис 61 обещает избавление и восстановление Израиля, а Ис 58 заповедует служение нищим. «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, - одень его, и от единокровного твоего не укрывайся... Тогда воззовешь, и Господь ответит; возопиешь, и Он скажет: «Вот Я!»» (Ис 58:6-7, 9). Ссылаясь на эти тексты уже в начале своего служения, Иисус у Луки объявляет себя Мессией, который силой Духа создаст восстановленный Израиль, проникнутый справедливостью и состраданием к нищим. Все описываемые Лукой чудеса и исцеления - знамения грядущего Царства Божьего, в котором угнетенные будут отпущены на свободу. Сходное понимание деятельности Иисуса выражено в Деян 10:38: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета; ... Он ходил, благотворя и исцеляя всех, угнетенных дьяволом, потому что Бог был с Ним» (ср. Лк 7:18-23). Такое развитие рассказа предвещает Весть о том, что Божье спасение уготовано всем, кого может призвать Бог, - всем, включая язычников. Уже первая сцена публичного служения Иисуса предзнаменует распространение божественной благодати за пределы Израиля и враждебность многих израильтян к этой вести о милости, - милости, охватывающей всех. Проблемы и конфликты, которые мы впервые встречаем здесь, будут продолжаться до последней страницы Деяний.
Подведем итог. Проповедь в назаретской синагоге возвещает: Иисус облечен силой Духа, чтобы начать освобождение народа Божьего. Деяния Апостолов расскажут о том, как это дело освобождения продолжится в жизни Церкви.
(Б) Пророк, подобный Моисею. Подобно Матфею, Лука выстраивает типологическую связь между служением Иисуса и служением Моисея, хотя у Луки Моисей - не столько учитель и законодатель, сколько пророк и освободитель народа[10]. Например, в рассказе о преображении Моисей и Илия говорят с Иисусом «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк 9:31; курсив мой - Р.Х.). Евангелист рассматривает исход израильтян из египетского рабства в Землю Обетованную как прообраз перехода Иисуса через смерть в жизнь воскресения. Некоторые экзегеты даже предполагают, что путешествие Иисуса в Иерусалим (Лк 9:51-19:44) композиционно соответствует Втор 1-26. Дэвид Месснер пишет:
Между деятельностью Моисея и деятельностью Иисуса есть несомненные пересечения. Иисус исполняет «всех пророков» «начиная с Моисея» (Лк 24:27). Иисуса отвергает нераскаявшийся народ, но Он в Новом Исходе приводит обетования Завета к осуществлению... Когда Лука создает рассказ о послании помазанного пророка (центральный раздел Евангелия), он руководствуется именно этим лейтмотивом Второзакония... Затем евангелист в центральном разделе изображает путешествие Иисуса как путешествие пророка, подобного Моисею, упомянутого в Второзаконии 18:15-19[11].
Независимо от того, насколько верна гипотеза о глубоком влиянии Второзакония на композицию третьего Евангелия, нельзя отрицать: Лука действительно считает Иисуса «пророком, подобным Моисею», предсказанным во Второзаконии. Это подтверждают два отрывка из Деяний Апостолов.
После исцеления хромого в Храме Петр призывает собравшийся народ к покаянию. При этом он прямо называет Иисуса, которого Бог «воскресил», пророком, предсказанным Моисеем.
Моисей сказал: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, подобного мне. Слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает того Пророка, истребится из народа[12]» [Втор 18:15, 19] . И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предсказали эти дни...Когда Бог воскресил Своего Раба, Он послал Его сначала к вам, благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших (Деян 3:22-24, 26).
Чудесное исцеление хромого во имя Иисусово аналогично «знамениям и чудесам», совершенным Моисеем (ср. Втор 34:10-12). Чудеса, которые творил сначала Иисус, а затем - апостолы, служат народу предостережением: они должны принять Иисуса как пророка, подобного Моисею, покаяться и слушаться Его, если они хотят обрести жизнь.
Люк Джонсон доказал, что эта типологическая связь между Иисусом и Моисеем лежит в основе пересказа истории Моисея Стефаном перед его мученичеством (Деян 7). Там тоже в уста Моисея вкладываются слова:
Пророка вам поднимет Бог из братьев ваших, как Он поднял меня (Деян 7:37).
Джонсон комментирует: Моисей послан дважды, первый раз - в слабости, второй раз - в силе. Спасение предлагается народу дважды. Сначала его, по незнанию, отвергают. Затем людям предоставляется второй шанс, причем на сей раз явлены многочисленные знамения и чудеса. Если они этот шанс не используют, Бог отвергает народ. Здесь легко просматриваются параллели с рассказом Луки об Иисусе...
Образ Моисея у Луки дает нам важный ключ к пониманию его повествования[13].
«Необходимость» страдания Иисуса обусловлена необходимостью соответствия Моисею как прообразу.
Все это имеет большое значение для этических императивов, которые стоят перед Церковью. Церковь - богоизбранный народ, призванный Пророком, подобным Моисею. Поэтому члены Церкви должны идти с этим Пророком, внимать Его учению и осознавать себя как новый народ Завета, который должен исполнить девтерономическое представление о судьбе Израиля.
(В) Праведный мученик. Рассказывая о страстях Иисуса, Лука больше других евангелистов подчеркивает его невиновность. Пилат трижды говорит: «Он не сделал ничего, заслуживающего смерти» (Лк 23:4, 13-15, 22). И если один из распятых с Иисусом преступников высмеивает Его, другой упрекает насмешника:
Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал (23:40-41).
Когда Иисус умер, римский центурион «прославил Бога и сказал: «Действительно этот человек был невинен [dikaios]»» (23:47). Эта фраза особенно знаменательна, поскольку Лука вкладывает ее в уста центуриона вместо марковского «Истинно этот человек был Сын Божий» (Мк 15:39).
Чем объяснить акцент на невинность Иисуса? Согласно стандартному объяснению, в классическом виде сформулированному Хансом Концельманом, перед нами политическая апологетика, задача которой - представить Церковь в лучшем свете перед римскими властями как политически безвредное движение[14]. Однако против этого объяснения некоторые исследователи выдвинули убедительные возражения. Наиболее же убедительное звучит так: гипотеза Концельмана не учитывает ветхозаветные аллюзии в утверждениях о невинности Иисуса[15]. Описание Иисуса как dikaios - видимо, намек на Ис 53:11 (LXX), где говорится о Праведнике, который понесет грехи многих. Еще более важную параллель мы находим в Прем 2:12-20. Рассмотрим этот текст (я подчеркнул выражения, которые могли навести Луку на мысль о типологической связи с Иисусом):
Устроим ковы Праведнику [ton dikaion],ибо Он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и обличает нас в грехах против нашего воспитания.
Он объявляет себя знающим Бога и называет себя сыном Господа [paida kyriou]...
Увидим, истинны ли слова Его,и испытаем, каков будет конец Его жизни; ибо, если Праведник - Сын Божий [ho dikaios huios theou], то Он поможет Ему и избавит Его от руки врагов. Испытаем Его оскорблением и мучением, дабы узнать, сколь Он смиренен. Проверим Его незлобие! Осудим Его на постыдную смерть, ибо, по Его словам, Он будет защищен (Прем 2:12-13, 17-20).
Отрывок из Книги Премудрости Соломона показывает, что рассказ Луки о невинности Иисуса следует читать в контексте представлений о страдании и оправдании праведника, - темы, столь частой, например, в псалмах плача. Когда центурион говорит «Действительно этот человек был dikaios», он имеет в виду лишь «Действительно этот человек был невинен». Однако евангелист хочет, чтобы читатель услышал в словах центуриона дополнительный смысл - аллюзию на Премудрость Соломона («Он был Праведник»)[16].
В пользу предложенного нами толкования говорят и две ретроспективные отсылки к смерти Иисуса в Деяниях Апостолов. Рассмотрим отрывок из речи Петра в Деян 3. Петр упрекает иерусалимлян в распятии Иисуса.
Бог отцов наших прославил Своего Раба [pais] Иисуса, которого вы предали и которого отвергли перед лицом Пилата, когда тот хотел Его освободить. Вы же Святого и Праведного [ton hagion kai dikaion] отвергли, и просили отпустить для вас убийцу. Создателя жизни убили, Которого Бог поднял из мертвых, чему мы - свидетели (Деян 3:13-15).
Или возьмем Деян 7. Стефан обличает народ в убийстве Праведника:
Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших приход Праведника [tou dikaiou], Которого ныне вы стали предателями и убийцами (Деян 7:51-52).
Вместе взятые, эти отрывки демонстрируют: Иисус умер согласно Писаниям, подобно Праведнику из Исайи, псалмов плача и Премудрости Соломона[17]. Его смерть снова подтверждает, что истинного пророка отвергают. И это, как показывает в свою очередь мученичество Стефана, устанавливает образец для Его последователей.
В рассказе Луки о Страстях Иисус стоек и спокоен. Он прощает врагов (23:34), сострадателен к одному из распятых с ним преступников (23:43) и предает свой дух в руки Божьи (23:46). Последний отрывок хорошо иллюстрирует искусную редакторскую работу Луки с Евангелием от Марка. У Марка умирающий Иисус восклицает: «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?», в горечи своей вспоминая слова Пс 21:1. Лука считает такое восклицание несовместимым с его образом Иисуса, а поэтому вкладывает в уста Иисуса слова из другого псалма (30:5):
В руки Твои предаю дух Мой;
Ты искупил Меня, о Господь, Бог верный.
Лука сохраняет утверждение, что смерть Иисуса во всех деталях произошла в согласии с Писанием, и изображает Иисуса как образцового мученика[18], подобного мученикам маккавейским (2 Макк 6-7; 4 Макк 5-18). Возьмем для иллюстрации только один пример - смерть Элеазара, описанную в Четвертой книге Маккавейской.
Когда он сгорал до костей своих и был уже готов испустить последний вздох, он поднял глаза к Богу и сказал: «Ты знаешь, Боже, что хотя я и мог себя спасти, я умираю в муках огня ради закона. Будь же милостив к народу Твоему и прекрати наказывать его. Сделай мою кровь очищением для них, и возьми мою жизнь в обмен на их жизни (4 Макк 6:26-29).
Относительно этой же самой смерти автор Второй книги Маккавейской говорит:
И так скончался он, оставив в смерти своей не только юношам, но и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели (2 Макк 6:31).
Мученик претерпевает жестокую смерть. Однако это не означает, что он не был праведен или что его отношения с Богом были неправильными. Наоборот! Героическим перенесением страданий и смерти мученик демонстрирует глубину своей веры и истинность своих убеждений. То, как умер Иисус, доказывало, что он - Праведник, и давало образец веры.
Конечно, этим значение Иисуса для Луки не исчерпывается. Рассмотренные нами образы, переплетаясь с другими образами, создают картину гораздо более величественную, чем каждый из них по отдельности. Иисус больше, чем Раб Господень, облеченный Духом и возвещающий справедливость. Он больше, чем пророк, подобный Моисею. Он больше, чем праведный мученик, дающий благородный образец верности Богу. Иисус - Тот, кто исполняет обетования, заложенные в этих образах Писания. Он - средоточие божественного замысла о спасении мира. Но и каждый из этих христологических образов глубоко значим для представлений Луки о жизни общины, освобожденной Иисусом.
2. Церковь в силе Духа
(А) Иисус как образец для церковного служения. В Деяниях Апостолов служение, начатое Иисусом, передается далее Церкви. «Все, что Иисус начал делать и чему учить» (Деян 1:1), отныне продолжается теми, кто действует во имя Его.
Как Иисус был помазан Духом благовествовать нищим, так в Деяниях Церковь помазана Духом проповедовать Благую весть всем народам. Сошествие Святого Духа на Пятидесятницу - событие, дающее Церкви возможность продолжать дела Иисуса. В конце Евангелия от Луки, уже после воскресения, Иисус заповедует ученикам оставаться в Иерусалиме и ждать этого помазания силой:
Так написано: Мессия должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых; во имя Его должно быть проповедано покаяние и прощение всем народам, начиная от Иерусалима... И Я посылаю на вас то, что обещал Мой Отец; поэтому оставайтесь здесь в городе, пока не облечетесь силою свыше (Лк 24:46-49).
Это обетование повторено в начале Деяний Апостолов, перед вознесением Иисуса на небеса:
Вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете Моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и до края земли (Деян 1:8).
Луку здесь в первую очередь интересует дарование власти свидетельствовать об Иисусе. Однако не будем забывать, как сам Иисус определил свою задачу: «Благовествовать нищим... возвестить пленным освобождение...отпустить угнетенных на свободу». Проповедь Иисуса облеченными Духом апостолами будет неизбежно включать ту же Весть об освобождении.
Несмотря на особый акцент Луки на апостолах как преемниках Иисуса, он говорит и о наделении Духом всего народа Божьего. В своей проповеди на Пятидесятницу Петр объясняет сошествие Духа на общину, цитируя пророчество Иоиля:
И будет в последние дни, говорит Бог, Изолью Дух Мой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши,
и юноши ваши будут видеть видения,
и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.
Даже на рабов Моих и на рабынь Моих
в те дни изолью Дух Мой,
и они будут пророчествовать (Деян 2:17-18; цит. Иоил 2:28-29).
Как говорится далее, «обетование принадлежит вам и детям вашим и всем, кто далеко - всем, кого призывает Господь Бог наш» (Деян 2:39). Значит, Дух всем дает возможность вслед за Иисусом возвещать пленным освобождение. Собственно говоря, призыв к покаянию (Лк 24:47; Деян 2:38) - для Луки средоточие благовестия - включает именно призыв изменить себя и жизнь общины в соответствии с пророческим требованием справедливости, как тот содержится в текстах Исайи, которые являются лейтмотивом в Иисусовой проповеди о Царстве Божьем.
Иисус - пророк, подобный Моисею. Апостолы становятся пророками, подобными Иисусу. Им надлежит продолжать Его призвание - «исцелять и сообщать откровение»[19]. Подобно Ему, они должны проповедовать покаяние и прощение, освобождение от уз. Подобно Ему, они должны творить «знамения и чудеса» - проявление милости Божьей и предупреждение Израилю о божественной власти имени Иисусова. В Деяниях Апостолов многие рассказы о чудесах намеренно перекликаются с рассказами Евангелия о делах Иисуса. Вот особенно яркий пример: воскрешение Петром Серны (Деян 9:36-43) напоминает воскрешение Иисусом дочери Иаира (Лк 8:4042, 49-56)[20]. Подобно Моисею и Иисусу, апостолы учат и формируют общину народа Божьего (Деян 2:4247; 4:32-37).
Соответствие между Иисусом и Церковью простирается и на Его роль праведного мученика. Как мы уже отмечали, рассказ о смерти Стефана (Деян 7:54-60) смоделирован по рассказу о смерти Иисуса. Мученической смертью погибает и Иаков, брат Иоанна (Деян 12:1-2). На протяжении всего повествования благовестники сталкиваются с враждебностью толпы, их арестовывают, как некогда был арестован Иисус. Намерение Павла идти в Иерусалим, где он будет арестован (Деян 19:21; 21:10-14), напоминает о путешествии Иисуса в Иерусалим (Лк 9:51). Обоим угрожает смерть, но оба они уверены: Богу угодно, чтобы они пострадали. Иначе говоря, тяготы, которые выпадают на долю апостолов в Деяниях, можно понять как исполнение Иисусова призыва оставить все, взять крест и последовать за Ним (Лк 9:23-27; 14:25-33). Святой Дух действует в Церкви, и радость сопровождает распространение Благой вести, но Лука не умаляет страдания. Встать на «Путь» - рискованный долг.
(Б) Новая община: «Великая благодать была на всех их». С самого начала Евангелия от Луки становится ясно: Бог хочет не просто спасти отдельных людей, но создать народ. Ангел Гавриил, явившись Захарии, объявляет: сын, который родится у Захарии и жены его Елисаветы - то есть Иоанн Креститель, - должен будет «приготовить народ для Господа» (Лк 1:17). Песни в рассказе о Рождестве снова и снова говорят о рождении Иисуса как о знаке избавления Богом Израиля (Лк 1:54-55; 68-79; 2:29-32). Связывая же проповедь Крестителя с Ис 40:3-5, евангелист готовит нас к осмыслению Иисусова служения как восстановления Израиля в соответствии с пророческими обетованиями (Лк 3:1-6). В общем, сюжетная линия третьего Евангелия (особенно «рассказ о путешествии» в 9:51-19:44) показывает, как Иисус призывает и наставляет тех, кто станет ядром нового народа Божьего. Люк Джонсон отмечает:
Идя в Иерусалим на отвержение и смерть от руки вождей, пророк Иисус формирует вокруг себя истинный народ Божий. Он призывает толпы к покаянию, а откликнувшихся наставляет об ученичестве. Тех же, кто Его отвергает, пророк предупреждает, что и их отвергнет Бог[21].
Поэтому к тому моменту, когда Иисус приходит в Иерусалим, Лука может говорить уже о «всем множестве учеников», которые приветствуют Иисуса как царя (Лк 19:37).
Однако заметнее всего формирование новой общины делается после Пятидесятницы. После сошествия Святого Духа в ней появляются тысячи новых верующих и иерусалимская община начинает жить по-особому:
Они посвятили себя учению апостолов и товариществу, преломлению хлеба и молитвам. Был в каждой душе страх, и много чудес и знамений совершалось апостолами. Все верующие были едины и имели все общим; они продавали собственность и имущество и разделяли между всеми, какая у кого была нужда. Каждый день они совместно проводили много времени в Храме и, преломляя дома хлеб, принимали пищу в радости и простоте сердца, хваля Бога и имея милость у всего народа. Господь же ежедневно прибавлял спасаемых (Деян 2:42-47).
В Деян 4 Лука дает другое описание этого нового братства:
У всех уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имущества своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса, и великая благодать была на всех их, ибо никто у них не нуждался; ибо те, кто владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. Они клали ее к ногам апостолов, и каждому раздавали в соответствии с тем, какую нужду тот имел (Деян 4:32-35).
«Новая пересмотренная стандартная версия» оставляет слово «ибо» (gar) в начале ст. 34 непереведенным. Однако греческий синтаксис («...великая благодать была на всех их, ибо никто у них не нуждался») указывает на наличие причинной связи. «Великая благодать была на всех их» именно потому, что в общине не было нуждающихся.
Независимо от того, насколько эти описания исторически достоверны[22], Лука изображает Церковь после Пятидесятницы как исполнение двух древних идеалов: греческого идеала истинной дружбы и девтерономического идеала общины Завета. Уже в «Никомаховой этике» Аристотеля предполагается как нечто естественное, что друзья делятся друг с другом и имеют единую душу. Все пословицы согласны с этим: «Друзья имеют одну душу между собою» и «Имущество друзей - общая собственность»[23].
Иерусалимская община воплощает в своей жизни греческий идеал подлинной дружбы. И дружба эта - не просто между двумя людьми или внутри узкого круга людей, но в общине, состоящей из тысяч людей! Вместо вражды, недоверия и эгоизма - общинная этика, которая рассматривает всех членов общины как друзей в соответствии с философским идеалом. В то же время эта община, в которой «никто не нуждался», - истинный Израиль, живущий в согласии с заповедями Завета из Втор 15:
Но не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в наследие, чтобы владеть ею, если только будешь слушаться Господа Бога твоего и стараться исполнять все эти заповеди, которые я сегодня заповедую тебе...Если же будет у тебя нуждающийся, член общины твоей в одном из городов твоих, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи свое сердце и не сожми своей руки перед твоим нуждающимся ближним. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается (Втор 15:4-5, 7-8).
Соответственно, общность имущества в церкви - это первые плоды миссии, возвещенной Иисусом в Лк 4:16-21: привести к бытию восстановленный Израиль, в котором нищие и угнетенные услышат Благую весть и увидят ее реализованной.
Общинная практика раздачи имущества нуждающимся нищим - послушание очень важному для Луки учению Иисуса, касающемуся именно этой проблемы. Отметим лишь некоторые из соответствующих евангельских текстов. Согласно «заповедям блаженства», блаженны нищие и голодные (а не как у Матфея, «нищие духом» и «алчущие и жаждущие правды») (Лк 6:20-21; ср. Мф 5:3, 6). Лука отказывается спиритуализировать блаженства, что отчетливо видно в его формулировке сопутствующих пророческих проклятий:
Но горе вам, богатые!
Ибо вы уже получили свое утешение.
Горе вам, пресыщенные ныне!
Ибо будете голодны.
Горе вам, смеющиеся ныне!
Ибо будете плакать и рыдать (Лк 6:24-25).
Осуждение богачей хорошо заметно в двух притчах: притче о безумном богаче (Лк 12:13-21) и притче о богаче и Лазаре (Лк 16:19-31). Эти притчи содержатся только в Евангелии от Луки. Они рассматривают накопление богатства как страшный просчет, который может привести к осуждению на вечные муки. В притче о богаче и Лазаре мы видим графический контраст между богачом, который «каждый день пиршествовал блистательно», и нищим Лазарем, который, весь в струпьях, лежал у его ворот, «желая напитаться крошками, падающими со стола богача». В посмертии каждого из них ждет противоположная участь. Богач умоляет Авраама (!) послать Лазаря из мертвых, чтобы тот предупредил пятерых братьев. Авраам отвечает: «У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их». Например, им следует прочесть Втор 15 и Ис 58. Богач, видимо, зная, что братья его Библию не читают, настаивает: «Нет, отец Авраам! Но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Суровый ответ Авраама сообщает нам многое о богословии и этике Луки: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Даже воскресение - и даже воскресение Иисуса! - не способно пробить жестокосердие тех, кто не внимает Моисею и пророкам. Напротив, люди, которые прислушиваются к поучениям Иисуса, поймут: Писание призывает общину именно к той щедрости, которую являет иерусалимская церковь в первых главах Деяний.
Или возьмем две показательные парадигмы, иллюстрирующие правильное и неправильное отношение к богатству в свете Иисусовой проповеди об ученичестве. Богатый начальник (Лк 18:1830) с печалью отвергает приглашение Иисуса продать все и раздать деньги нищим. Закхей же, встретившись с Иисусом, кается и обещает половину имущества отдать нищим, а тем, с кого он ранее взял лишнего, вернуть в четырехкратном размере[24]. Ему Иисус отвечает: «Ныне пришло спасение в этот дом, потому что и он сын Авраама». Отсюда видно: Лука не считает, что ученик Иисуса непременно должен отдать всю собственность. Механических стандартов здесь нет - вопреки некоторым отрывкам, которые, казалось бы, именно этого и требуют (напр., Лк 14:33). Например, Закхею достаточно отдать лишь половину имущества. Можно спросить: а если бы богатый начальник тоже захотел отделаться половиной, согласился бы Иисус? Как убедительно показал Люк Джонсон, в Луке - Деяниях имущество - символ того, как люди откликаются на зов Божий[25]. Добровольная щедрость Закхея - знак покаяния и веры, а боязливая скуповатость богатого начальника - или, тем более, нечестность Анании и Сапфиры (Деян 5:1-11) - выдает нераскаявшееся сердце, закрытое для божественной благодати.
«Радость и простота сердца» (Деян 2:46) иерусалимской общины - верные знаки присутствия в ней Духа Божьего. Общность имущества, из-за которой в общине нет нуждающихся, - внешний и видимый знак действия божественной благодати. Сила апостолов «свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса» непосредственно связана с этим разделением собственности (Деян 4:3235). Апостольскому свидетельству верят, потому что видят, как Бог действует в иерусалимской общине.
(В) Церковь и империя:переворачивание ценностей. Как связана новая община, в которой явлено Царство Божье, с царствами мира сего? Отвечая на этот вопрос, уместно вспомнить, как Павел и Сила начали проповедовать в Фессалониках (Деян 17:1-9). Очень скоро им пришлось столкнуться с толпой, которую подстрекали против них иудеи, позавидовавшие их миссионерскому успеху. Не найдя Павла и Силу, толпа повела к городским властям других верующих со словами:
Эти люди, возмущавшие мир, пришли и сюда!.. Они поступают против повелений императора, утверждая, что есть другой царь - Иисус (Деян 17:6-7).
Здесь очень важно понять, считает ли Лука обвинение, выдвинутое в адрес верующих, ложным. Если да, то перед нами политическая апологетика: Лука хочет сказать, что на невинных людей возвели напраслину. Если нет, то разгневанная толпа уловила нечто весьма существенное относительно христианского благовестия в римской ойкумене, и Иисус - и вправду «царь», требующий абсолютной преданности, которая отменяет преданность кесарю. Действительно ли христианское движение, описанное в Деяниях, «возмущало мир» и угрожало политическому устройству?
Ученые неоднократно об этом спорили. На протяжении целого поколения большинство исследователей склонялись к выводу Ханса Концельмана[26]: Лука пишет апологетику, желая представить христиан законопослушными гражданами, а всю смуту объяснить ложными обвинениями в адрес Церкви со стороны евреев. Однако против этой точки зрения были выдвинуты серьезные контраргументы - сначала Ричардом Кассиди, а затем и исследователями Луки[27]. Кассиди видит в Иисусе социального диссидента, который не призывал к насилию, но представлял для Римской империи потенциальную опасность «примерно того же толка, что и Ганди - для британского владычества в Индии»[28]. Кассиди отмечает: Иисус заботился об изгоях общества, осуждал богачей, обличал несправедливость и угнетение, призывал людей строить социальные отношения на служении и смирении, а также был против насилия. С учетом этих факторов Кассиди делает следующий вывод относительно образа Иисуса у Луки: Иисус не представлял собой для римского владычества угрозы того же типа, что зелоты или парфийцы. Однако Его угроза была не менее опасна...Проповедуя принципиально новые социальные отношения и отказываясь подчиниться существовавшим политическим властям, Иисус указал путь к социальному порядку, при котором ни римляне, ни другие угнетатели не смогут иметь власть[29]. Концельман и Кассиди напоминают нам о необходимости интерпретировать эти тексты в их специфическом историческом и политическом контексте. Более чем какой-либо другой новозаветный автор Лука старается поместить события, о которых он рассказывает, в контекст общей мировой истории. Например, рождение Иисуса он датирует временами императора Августа и правления Квириния в Сирии (Лк 2:1-2)[30]. О начале проповеди Иисуса он сообщает, что это произошло «в пятнадцатый год правления императора Тиберия» (3:1). Лука неоднократно (особенно в Деяниях) упоминает имена правителей и чиновников. Согласно Деяниям, в речи перед римским правителем Фестом и царем Иродом Агриппой II Павел, рассказав о своей деятельности, сказал: «Ибо знает об этом царь...ибо не в углу это происходило» (26:26). Иисус проповедовал публично, и возникновение Церкви произошло на виду у людей... Естественно задать вопрос: как Лука мыслил взаимоотношения между Церковью и политическими властями? Концельман и Кассиди делают слишком далеко идущие выводы из ограниченного числа фактов, имеющихся в нашем распоряжении, и не вполне объективны в подборе этих фактов. Однако они ставят важные вопросы, которые мы не можем обойти стороной.
Об ответе Иисуса на коварный вопрос о подати императору (Лк 20:20-26) много спорили. Однако мы мало что можем сказать здесь определенного. Согласно традиционному христианскому толкованию, Иисус молчаливо признает право правителя взимать налоги. Отсюда нередко выводили теорию «двух царств» и разделения между секулярной и религиозной сферами. Однако это толкование нельзя считать удовлетворительным. Оно не объясняет, почему враги Иисуса были «изумлены» Его ответом и замолчали. Если Иисус просто хочет сказать: «Да, платите подать кесарю», тогда они поймали Его в ловушку! Тогда они могут обвинить Его в приспособленчестве (непопулярном в народе), а также в противоречии Его же собственной проповеди о Царстве Божьем. (Не будем забывать: во времена Иисуса понятие «Царство Божье» имело мощный политический смысл. Если человек проповедовал Царство, то в его словах слышали весть о восстановлении Израиля после угнетения другими народами[31].) Если вглядеться в данный отрывок повнимательнее, то увидим: своих вопрошателей Иисус смутил сокрытым в Его вопросе призывом задуматься: что на самом деле принадлежит Богу?
Мы лучше поймем, как Лука смотрел на политическое призвание Церкви, если изучим отрывки Деяний, повествующие о взаимоотношениях Церкви с политическими властями. Конечно, для обстоятельного анализа у нас здесь нет места, но ключевые моменты мы все же отметим. С одной стороны, многое вроде бы подтверждает вывод Концельмана: Лука обычно рисует римских чиновников людьми, желающими поступить с христианами честно и непредвзято; апостолы же к мятежу против империи не призывают. С другой стороны, небезосновательны и суждения Кассиди: раннехристианская община то и дело нарушает общепринятые нормы и действует вопреки существующему социальному устройству.
В Деян 4 Петр и Иоанн вступают в конфликт с еврейскими властями в Иерусалиме. Совет, включающий правителей, старейшин и книжников, наряду с первосвященником и первосвященнической семьей, арестовывают их, а затем требуют не говорить и не учить во имя Иисусово. Апостолы открыто отказываются подчиниться:
Рассудите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, чем Бога? Ибо не можем не говорить о том, что видели и слышали (Деян 4:19-20).
Затем Петра и Иоанна отпускают. Обратим особое внимание на реакцию собравшейся общины. Лука передает длинную молитву общины (видимо, совместную):
Владыка, Ты, сотворивший небо и землю, и море, и всё, что в них, сказавший через Духа Святого, устами отца нашего Давида, раба Твоего:
«Почему разъярились язычники,
и народы замыслили пустое?
Собрались цари земные,
и правители соединились
против Господа и против Его Мессии».
Ибо поистине соединились в этом городе на святого раба Твоего Иисуса, которого Ты помазал, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народами[32] Израиля, сделать то, чему рука Твоя и совет Твой предначертали случиться. И теперь, Господи, взгляни на их угрозы и дай рабам твоим со всяким дерзновением говорить слово Твое - тем, что Ты простираешь Руку Твою для исцеления, и знамения и чудеса совершаются через имя святого раба Твоего Иисуса (Деян 4:246-30; цит. Пс 2:1-2).
Поразительная особенность: Петр и Иоанн только что пережили стычку с еврейским иерусалимским советом. Однако молитва, содержащая размышления над Пс 2, интерпретирует это событие как часть конфликта с языческими и еврейскими властями. Вызывающее поведение Петра и Иоанна отражает конфликт Церкви с «царями земными», которые объединились против Господа и Его Мессии. С точки зрения Луки, противление царей тщетно, ибо Бог - не какой-то местный божок, но Творец неба и земли. Даже смерть Иисуса от руки властителей - часть божественного замысла. Поэтому, хотя пока разговоры о силе Церкви могут показаться неправдоподобными, противники вестников Христа замыслили «пустое». В конце концов, сила Божья возобладает - ведь именно через Церковь Бог сейчас простирает руку свою творить знамения и чудеса.
Сходную последовательность событий мы видим в Деян 5:17-42. На сей раз, когда апостолов снова привели в синедрион, Петр формулирует основу христианского гражданского неповиновения:
Богу подобает повиноваться больше, чем людям.
Никакого послушного подчинения властям! У Церкви есть своя программа, которая, как мы уже видели, включает не только проповедь об Иисусе, но и трансформацию общинной жизни в ответ на учение Иисуса. Если какая-то власть пытается помешать этой миссии, то Церковь может лишь встать и свидетельствовать против этой власти. И, как мы уже видели в рассмотренных нами историях, Бог часто чудесным образом вмешивается и оправдывает сопротивление Церкви: например, Он посылает ангелов, чтобы те вывели апостолов из тюрьмы (5:19-21).
И последняя иллюстрация. Она также показывает, что, с точки зрения Луки, евангельская проповедь - угроза не только еврейским властям, но и всему статус-кво в языческом социальном мире. В Эфесе серебряных дел мастера встревожились, что Павлова проповедь против идолов ударит по их заработку на продаже серебряных храмов Артемиды[33]. Поэтому они заводят толпу, и та часа два скандирует: «Велика Артемида Эфесская!» (Деян 19:23-41).
(Американцам конца XX века может показаться странным такое публичное выражение религиозных чувств. Чтобы герменевтически перенести эту историю в наше время, представим: работники военных ведомств и владельцы военных заводов пугаются, что христиане лишат их прибыли, превратив всех людей в пацифистов. Стало быть, толпа скандирует уже не «Велика Артемида Эфесская!», а всего лишь: «Сэ-Шэ-А! Сэ-Шэ-А!»). Ни из чего не видно, что Павел предпринимал какие-то прямые действия против серебряных дел мастеров или их торговли. Он всего лишь проповедовал покаяние и принимал людей в церковь. Однако снова и снова это формирование общин взрывало социально-политическое устройство. Деяния Апостолов создают картину движения, которое привлекало большое число людей «от власти сатаны к Богу» (Деян 26:18). Эти люди становились членами общины, живущей по совершенно иным нормам - нормам, основанным на жизни и наставлениях Иисуса. А если так жить всерьез, это не может не оказать взрывного эффекта на окружающую среду. С точки зрения Луки, христианская Весть переворачивает мир не через вооруженное восстание, но через формирование Церкви как контркультуры, альтернативной свидетельствующей общины[34].
3. Эсхатология Луки: «Почему вы стоите, глядя на небо?»
Об эсхатологии Луки мы скажем вкратце. В конце концов, Лука и Матфей работали почти одновременно. У них был ряд общих проблем, и они проделали в чем-то похожую модификацию апокалиптической эсхатологии ранней Церкви[35]. Подобно Матфею, Лука считается с задержкой парусии, и эсхатологическое напряжение у него уменьшается. Подобно Матфею, Лука акцентирует эсхатологический суд как основание для нравственного поведения в настоящем. Вместе с тем есть у эсхатологии Луки и своя специфика. Он рисует долгий и конструктивный проект для Церкви в истории, а также подчеркивает роль эсхатологического Духа в нынешнем бытии Церкви.
(А) Церковь в истории. Лука неоднократно очень тонко заглушает апокалиптические ноты, которые звучат на каждой странице Евангелия от Марка. Это легко увидеть, если рассмотреть, как он редактирует имеющиеся в его распоряжении материалы. Здесь лучше пользоваться синопсисом.
Рассказ о входе Иисуса в Иерусалим предваряет притча о десяти минах (Лк 19:11-27) - параллель матфеевской притче о талантах. Согласно пояснению Луки, Иисус рассказал ее ученикам, потому что «Он был близ Иерусалима, и они думали, что Царство Божье должно теперь же явиться» (Лк 19:11). То есть в этот кульминационный момент путешествия ученики ожидают: сейчас Иисус войдет в город и сразу установит Царство Божье. Притча о минах призвана остудить их эсхатологический пыл. Иисус создает аллегорию о некоем вельможе, который отправляется «в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться», а сам оставляет каждому из своих рабов по десять мин (19:12-13). Почти наверняка под вельможей здесь подразумевается сам Иисус, который должен уйти, чтобы воссесть одесную Бога (Деян 2:33), а в конце концов вернуться в силе. Притча подчеркивает важность правильного обращения с тем, что было доверено, в промежуток между уходом и приходом, длительность которого не оговорена.
Когда Иисус после искушения в пустыне возвращается в Галилею (Лука добавляет: «в силе Духа»), Лука пропускает марковское описание Его провозвестия. У Марка Иисус проповедует: «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божье» (Мк 1:15). Лука просто сообщает, что «Он начал учить в синагогах их, и все Его прославляли» (Лк 4:15).
В завершение интерпретации притчи о сеятеле Лука добавляет, что доброе семя - это те, кто хранит слово в честном и добром сердце и приносит плод в терпении (hypomone). Таким образом, Лука обращает меньше внимания на сверхобильный урожай и больше - на стойкость тех, кто бережен со Словом.
Характерна у Луки редакция призыва взять крест и последовать за Иисусом. «Если кто хочет идти за Мною, пусть отвергнет себя, и пусть каждый день несет свой крест и следует за Мною» (Лк 9:23; ср. Мк 8:34). Добавив всего лишь два слова (kath hemerari), Лука превратил этот призыв из драматического единократного решения в ежедневное дело ученичества.
При описании кульминационного диалога в сцене суда над Иисусом Лука снижает роль аллюзии на Дан 7:13-14, пропуская упоминание о шествии Сына Человеческого «по облакам небесным». Он вообще не упоминает о каком бы то ни было будущем пришествии. У Луки Иисус просто говорит: «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей» (Лк 22:69).
В своей апокалиптической речи, предупреждая об обманщиках, которые попытаются ввести верующих в заблуждение, Иисус предрекает, что они будут говорить не только: «Я - это Он!», но и «Время близко! [ho kairoseggiken]» (Лк 21:8), то есть нечто очень похожее на слова самого Иисуса в Мк 1:15! Или смотрим следующий стих. Марковское «но это еще не конец» (Мк 13:7) Лука превращает в «конец последует не сразу» (21:9). Или в 21:19 евангелист меняет «претерпевший до конца спасется» (Мк 13:13) на «храните ваши души в терпении (hypomone)»[36].
В 21:20 и 24 Лука добавляет упоминание об «Иерусалиме, окруженном войсками» и «попираемом язычниками». Это переставляет акцент с апокалиптических бедствий будущего на события, которые для Луки и его читателей происходили в недавнем прошлом, - завоевание римлянами Иерусалима в 70 году н.э.
Вес каждой из этих модификаций в отдельности незначителен. Однако вместе взятые, они показывают, что Лука систематически пытался смягчить апокалиптическое ожидание скорого Конца. В будущий Суд он верит (см. завершение апокалиптической речи в 21:34-36), но пересказывает историю так, чтобы показать: близкого Конца Иисус не проповедовал. Показателен разговор Иисуса с учениками перед Его вознесением, который Лука приводит в начале Деяний. Апостолы задают вполне резонный вопрос: не наступило ли теперь, после воскресения, время восстановления царства Израилю? Но Иисус отвечает:
Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян 1:7-8).
Таковы последние слова Иисуса общине в Луке - Деяниях: забудьте про эсхатологическое расписание, ваше дело - быть Моими свидетелями. Хотя ангел дальше подтверждает, что Иисус вернется таким же образом, каким апостолы видели Его уходящим, акцент передвигается с будущего ожидания («Почему вы стоите, глядя на небо?») на нынешнюю миссию (Деян 1:10-11).
Джон Кэрролл в своей работе по эсхатологии Луки пытается обосновать следующую гипотезу. По его мнению, нужно провести грань между миром рассказа у Луки и исторической ситуацией его общины. Что это означает? Лука намеренно дистанцировал Иисуса от предсказаний о скором Конце, чтобы перенести эти ожидания в свое собственное время и тем самым не дать угаснуть в Церкви напряженному эсхатологическому ожиданию.
Задержка [в повествовании] не противоречит ожиданию близкого конца в ситуации самого Луки, а подтверждает его[37].
Проведенный Кэрроллом анализ первоначального замысла Луки убедителен. Однако в итоге, когда текст Луки - Деяний читается в церкви на протяжении долгого времени, результат получается иным. Снизив интенсивность ожидания Иисусом Конца и передвинув день Суда в неопределенное будущее, Лука создал бесконечно расширяющуюся историческую «середину», в которой огромную значимость обретает Церковь. По словам Джозефа Фицмайера, Лука попытался «переключить внимание христиан, сосредоточенное исключительно на близости Конца, на осознание того, что нынешний Период Церкви также имеет свое место в Божественной истории спасения»[38]. Дав Церкви место в истории, Лука внес огромный вклад в новозаветное богословие и новозаветную этику.
(Б) Эсхатологический Дух в Церкви. В разительном отличии от Марка, для Луки жизнь общины в истории - не суровое время ожидания обещанного искупления. Община уже получила «обетование Отца» - Святой Дух, источник великой силы, радости и уверенности. Лука описывает иерусалимскую общину не только как исполнение ветхозаветных представлений о Завете, но и как предвкушение «времени всеобщего восстановления [apokatastasis]» (Деян 3:21). То, что Лука смотрит на Дух как на эсхатологическое знамение, видно из того, что он меняет слова Иоиля в Деян 2:17 с «впоследствии» на «в последние дни». Сошествие Духа предвещает конец, и потому община, живущая и действующая в силе Духа, есть эсхатологическая община; она приводит божественное будущее к бытию в общинной жизни Церкви и тем самым свидетельствует миру о силе воскресения. Это убеждение придает Деяниям Апостолов огромную энергию и устремленность в будущее.
Дух дает силу миссионерствовать и наставляет в конкретных вопросах. Пример: Дух велит Филиппу заговорить с эфиопским евнухом.
Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице» (Деян 8:29; ср. 11:12; 13:2; 16:6-7; 20:23, 28; 21:11).
Согласно Евангелию от Луки, важнейшее решение иерусалимского Собора не требовать от языкохристиан обрезания и соблюдения Торы было также внушено Духом: «Угодно было Духу Святому и нам... » (15:28). Не случайно иногда говорят, что эту книгу правильнее было бы называть не «Деяния Апостолов», а «Деяния Духа Святого». Где Дух действует в церкви, там нет ничего статичного: прежние барьеры и нормы рушатся, когда Дух собирает и формирует новый народ.
(В) Эсхатологический переворот. Эсхатологическое сошествие Духа приносит с собой полную перемену участи власть имущих и угнетенных. Это предвидит уже Мария в своей песни в начале Евангелия от Луки:
Низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, а богачей отпустил ни с чем (Лк 1:52-53).
Мы уже отмечали некоторые иллюстрации этого мотива: «заповеди блаженства» у Луки, притча о богаче и Лазаре, принятие мытарей и грешников в Царство Божье. Аналогичную тему содержит и притча о блудном сыне (Лк 15:11-32): щедрой трапезой встречается сын-мот, а послушный сын остается за дверью и ворчит. Один из уровней прочтения этой притчи - интерпретация ее как предзнаменования аналогичного переворота в Деяниях, где язычники с радостью принимают Благую весть, а многие евреи, исполняющие Закон, мешают миссионерской деятельности и сомневаются в ее правильности[39].
Здесь же, будь у нас время и место, можно было бы исследовать образы женщин у Луки. У Луки женщины - полнокровные персонажи, играющие важную роль в истории спасения. Их отклик Богу имеет огромное значение. Они обретают собственный голос, и это также - переворот, нарушение их обычного статуса. Мария поет: «Призрел Он на смирение рабы Своей» и «сотворил величие» для нее и через нее. У Луки значимых женских персонажей гораздо больше, чем в любом другом новозаветном тексте. И это вовсе не потому, что евангелист был сознательным феминистом. Такой термин был бы анахронизмом применительно к любому автору I века. Скорее, дело в другом: в известной Луке традиции эсхатологический Дух действует, переворачивая ценности и возвышая женщин до невиданного ранее статуса:
И будет в последние дни, говорит Бог, Изолью Дух Мой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши... Даже на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни изолью Дух Мой, и они будут пророчествовать (Деян 2:17-18; выделено мной - Р.Х.).
Таким образом, важная роль женщин у Луки не основана на каком-то априорном убеждении в равенстве полов. Она есть еще одно проявление эсхатологического переворота, исправления Богом мира через низложение сильных и возвышение униженных.
Проявления эсхатологического переворота можно было бы перечислять еще долго, и это было бы весьма поучительно, поскольку они позволяют проникнуть в глубь понимания Лукой Благой вести[40]. В данном отношении Лука богословски созвучен Павлу: Евангелие о кресте ниспровергает представления мира сего о мудрости и силе. Вот почему в повествовании Луки события всегда принимают неожиданный оборот, - дело не в литературной изобретательности автора, а в его убежденности, что эсхатологический «год Господень» уже наступил. Дух освобождает пленных и отпускает угнетенных на свободу. И там, где совершаются такие знамения и чудеса, верующая община уже может жить в радости и без неподобающей тревоги о том, когда наступит час последнего Суда.
Подход Луки к эсхатологическим традициям позволяет ему терпеливо и творчески решать богословские и пасторские проблемы, вызванные задержкой парусин. Как Церкви справляться с реальностью, когда горячая мечта первых христиан о триумфальном возвращении Христа все никак не реализуется? Вспомним разочарование, описанное в XX веке поэтом Лэнгстоном Хьюзом[41]:
Что случается с мечтой, что не сбывается?
Она как на солнце
Изюм усыхает?
Как рана гниет,
А затем исчезает?
Воняет смертельно, как стухшее мясо?
Или густеет в сиропе
Как сахар?
Под тяжким грузом Она прогибается?
Или просто взрывается?
Некоторые экзегеты, недолюбливающие двухтомник Луки, видят в нем ностальгическую и триумфалистскую пропаганду возникающего «раннего католичества». Они, в сущности, хотят сказать, что раннехристианская эсхатология в этих текстах «загустела в сиропе как сахар»[42]. Однако, как мы попытались показать, в своем рассказе (рассказе «по порядку») Лука дает верующей общине возможность прочно стоять во времени и истории.
Так что же случается с мечтой, которая никак не хочет исполняться? У Луки она поддерживает общину, отправляющуюся в долгое и радостное паломничество.
4. Повествовательный мир Луки как контекст для действия
Развернутое повествование Луки создает богатый контекст, в котором церковь может приступать к нравственному суждению и действию. Далее я попытаюсь суммировать свои наблюдения относительно повествовательного мира Луки - Деяний.
Первое. Лука дает читателям чувство ориентации во времени и истории. Для него христианское существование - это не сугубо индивидуальная встреча с Богом. Оно, как бы сказал Элиот,
Не интенсивный миг,
Изолированный миг, без «до» и «после»[43].
Община верующих в Иисуса Христа - часть великой истории божественного искупления. Бог, верный своим обетованиям, привел свой народ к настоящему моменту, и тот продолжает путь, смело вверившись божественному промыслу. Эта включенность во время дает безопасность (asphaleia), которую Лука обещает читателям в прологе. И двухтомник Луки для Церкви - как «Энеида» для Рима.
Второе. Важный аспект ориентации Церкви во времени - ее прямая преемственность с Израилем. Идентичность общины укоренена в истории спасения; Бог, который действует в Церкви, - тот же самый Бог, который избрал и избавил народ Израилев в прошлом. Поэтому нынешнее бытие Церкви согласуется с обетованиями Бога в Писании и предзнаменовано ими.
Третье. Христианская община - новый Израиль, имеющий ветхозаветный прообраз. И именно поэтому ей необходимо осознать: она находится в пути, она совершает исход в Землю, которая была ей обещана, но которая пока не достигнута. На этом пути ее ждут страдание, риск и жертвы. Ждут неожиданные повороты судьбы, и она должна все время идти именно так, как указывает ей Бог... В представлениях Луки церковная жизнь гораздо более, чем у Матфея, открыта для гибкости и перемен. Однако цель пути известна, как известна и карта. Народ идет за Иисусом, великим вождем-пророком, «подобным Моисею», и не должен от этого пути отклоняться. Неслучайно христианское движение Лука называет просто - «Путь» (Деян 9:2; 18:25; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22).
Четвертое. Глубокое доверие Луки божественному промыслу сообщает его повествованию позитивный и жизнеутверждающий характер[44]. В отличие от Иоанновой общины (см. главу 6), Церковь в Луке - Деяниях - не защищающаяся община, удалившаяся от злого мира. Напротив, она уверенно действует на общественной арене, находя разумные слова убеждения о Евангелии для всех людей доброй воли и ожидая непредубежденного ответа. С этим оптимизмом в отношении политической ситуации тесно связано и довольно изысканное эстетическое чувство евангелиста, а также его явная любовь к красоте и порядку. Сама манера его рассказа буквально дышит тонким умением ценить литературный талант, искусство и культуру.
Пятое. Для эмоционального повествования характерны радость и хвала. Гимны в рассказе о Рождестве словно зовут читателя присоединиться к небесному воинству в пении:
Слава в вышних Богу, и на земле мир среди тех, кого Он возлюбил (Деян 2:14).
И действительно, на протяжении уже многих поколений христиане внимают этому призыву... Когда в Деяниях Церковь начинает свою миссию, община пребывает в «радости и простоте сердца». Несмотря на все тяготы и пленения, она полна радости! Вспомним, например, случай, когда апостолов допросили и подвергли бичеванию. Лука сообщает:
Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Иисуса удостоились принять бесчестие (Деян 5:41).
Деян 13:52 лаконично формулируют: «А ученики исполнялись радости и Духа Святого».
Шестое. Святой Дух дает Церкви действовать и свидетельствовать. Подобно Матфею, но по другим причинам, Лука не сомневается, что верующие способны исполнять волю Божью. Не терзают его и сложные вопросы религиозной психологии. Да, для получения от Бога прощения и даров человек должен совершить покаяние (Деян 2:38). Но там, где Дух сходит на церковь, верующие словно влекомы великой рекой послушания, хвалы и деяний силы. Облеченная Духом, община имеет дерзновение на великие дела, ее посещают видения и сны, она способна переворачивать мир! (Представление о том, что Деяния санкционируют блеклое и закостенелое «раннее католичество», могло родиться только у ученых, которые совершенно закрыты для зова Духа. Если уж на то пошло, то этот текст - выражение «раннего пятидесятничества», а не «раннего католичества»[45].) Дух дает общине способность свидетельствовать словом и делом о силе воскресения.
Седьмое. Там, где действует Дух, происходит освобождение, нищие слышат Благую весть, пленные обретают свободу, слепые - прозрение, а угнетенные - избавление. Бог посылает Дух, чтобы создать общину Завета, в которой возвещается и реализуется справедливость.
Однако, поскольку слово «освобождение» сейчас употребляется в самых разных политических контекстах, важно пояснить, что Лука имеет и чего не имеет в виду. Книга Деяний не говорит, что апостолы попытались реформировать политическую структуру вне Церкви, через протест или захват власти. Вместо этого Лука рассказывает о формировании новой общины людей - церкви, - в которой имущество общее, а несправедливость устранена. Через это и окружающие начинают доверять апостольскому свидетельству о воскресении. Лука не спрашивает церковь: «Реформируете ли вы общество?» Он спрашивает: «Действует ли среди вас сила воскресения?» Разделение же имущества так, что среди них не было ни одного нуждающегося, - самый верный знак освобождающего действия Духа.
Глава 6. Евангелие от Иоанна и послания Иоанна: любовь друг ко другу
Читателей, ищущих этические темы, Евангелие от Иоанна может озадачить. В самом деле: там нет практически ни одного нравственного учения, которое есть у синоптиков. Отсутствуют, например, наставления о насилии, собственности и разводе. Иисус вообще не учит, а неустанно открывает одну-единственную метафизическую тайну: Он есть Тот, кто пришел от Бога и принес жизнь[1]. Нравственные указания для общины учеников - минимальны. Несколько раз говорится, что община должна соблюдать заповеди Иисуса (Ин 14:15, 21; 15:10; ср. 1 Ин 2:3-6), но содержание этих заповедей не сообщается. Если бы в новозаветном каноне было только одно, четвертое, Евангелие, оказалось бы весьма затруднительно построить на учении Иисуса специфически христианскую этику.
Да и Закон Моисеев никакой явной роли не играет в нравственных представлениях Иоанна. Сообщается, что он указывает на Иисуса, и его значение этим словно бы исчерпывается.
Вы исследуете Писания, ибо думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь... Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, - как поверите Моим словам? (Ин 5:39-40, 46-47).
Нигде у Иоанна мы не найдем ссылок на Закон как на авторитет в том или ином нравственном предписании. Вообще, нет уверенности, что Тора сохраняет для Иоанновой общины свой нормативный характер[2]. В Иоанновом корпусе нет никаких следов раннехристианской полемики по поводу того, надо ли соблюдать обрезание и пищевые запреты. Весь конфликт с иудаизмом сосредоточен не на этике или действии, а на христологических вопросах.
Евангелие от Иоанна и Послания Иоанна - несомненно, представляющие единое направление традиции, даже если они написаны разными авторами[3] - изображают верующую общину глубоко отчужденной от мира, возможно, даже онтологически отличной от мира. В длинной молитве за учеников по окончании прощальной беседы Иоаннов Иисус молится Отцу:
Я дал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира (Ин 17:14).
В рамках Нового Завета глубоко сектантский характер Иоаннова мировоззрения и оптимистическое отношение Луки к миру и культуре находятся словно на противоположных полюсах. Не случайно X. Ричард Нибур в своем классическом труде «Христос и культура», рассматривая проявления ментальности «Христос против культуры» в христианской традиции, начал именно с Первого послания Иоанна как с наиболее яркого случая[4].
Одно из поразительных проявлений изоляционистской по виду тенденции Иоанновой традиции - тот факт, что заповедь любви, играющая в ней столь важную роль, применяется только внутри верующей общины. «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга» (Ин 13:34а). Верно заметил Эрнст Кеземан:
Понятие любви в четвертом Евангелии имеет свои проблемы... Иоанн требует любви к братьям, но не к врагам... У Иоанна ни из чего не видно, что любовь к брату должна включать и любовь к ближнему, как того требуют другие книги Нового Завета[5].
По мнению некоторых толкователей, этот внутриобщинный фокус делает Иоаннов корпус этически ущербным. Например, Джеймс Лесли Хоулден неодобрительно замечает, что «для Иоанна верующий не имеет обязанностей по отношению к «миру», но лишь по отношению к тем, кто, подобно ему, спасен от него»[6]. Особенно сильный протест звучит в словах Джека Т. Сандерса, который говорит о «слабости и моральном банкротстве Иоанновой этики»:
Это не христианство, которое считает, что любовь - то же самое, что и исполнение Закона (Павел), или что притча о милосердном самарянине требует (Лука) остановиться и оказать хотя бы первую помощь человеку, ограбленному, избитому и брошенному умирать. Иоаннову христианству интересно только одно: верит ли он. «Брат, ты спасен?» - спрашивает Иоаннов христианин человека, обливающегося кровью на обочине дороги. «Позаботился ли ты о своей душе?» «Веришь ли ты, что Иисус пришел от Бога?» «Если веришь, то будешь иметь жизнь вечную», - обещает Иоаннов христианин, пока кровь умирающего сочится на землю...[7]
Справедливо ли обвинение Сандерса? Создается впечатление, что христология действительно вытеснила этику, особенно в Евангелии от Иоанна. (Как мы увидим, Первое послание Иоанна до некоторой степени уравновешивает Евангелие в этом вопросе.) Однако, как я уже неоднократно говорил, этическое значение новозаветного повествования нельзя сводить к его дидактическому содержанию. И на примере четвертого Евангелия особенно ясно видно: для того чтобы понять роль Евангелия в формировании христианской общины, нужно рассматривать его рассказ в целом. Сектантский характер материала отрицать невозможно, но Сандерс поспешил вынести столь суровый вердикт относительно его этического качества. Имело смысл обратить внимание как на специфические исторические обстоятельства появления четвертого Евангелия, так и на многогранность описания им мира, в котором живут и действуют читатели.
Далее мы будем следовать обычной процедуре: сначала рассмотрим христологию текста, затем - его образ Церкви, затем - этическое значение эсхатологии и, наконец, повествовательный мир евангелиста как контекст для нравственного суждения. Мы будем анализировать преимущественно Евангелие от Иоанна, но в ряде моментов привлечем также свидетельство посланий. Поскольку нашей задачей является разбор основных нравственных концепций, существующих в новозаветном каноне, у нас нет нужды проводить четкую грань между Посланиями и Евангелием или между гипотетическими редакционными слоями Евангелия. Мы исходим из того, что Иоаннова традиция представляет собой отчетливую и богословски когерентную траекторию. Автор Первого послания Иоанна артикулирует эту траекторию, стремясь устранить возможное недопонимание, однако его добавления к традиции - дружеские поправки, попытки разъяснить то, что он и его община «от начала» считали смыслом «вести, которую мы слышали от Него и возвещаем вам» (1 Ин 1:1-5).
1. Иоаннова христология: человек с неба
Через все четвертое Евангелие проходит образ Иисуса как божественной фигуры, которая приходит в мир, чтобы принести свет и спасение. Иисус хорошо знает о своем божественном происхождении и своей участи, и свою божественность Он проповедует открыто всем, кто захочет слушать. Хотя многие отвечают неверием, четвертое Евангелие ничуть не скрывает, кто такой Иисус. Поэтому после своего ареста Иисус может честно сказать первосвященнику: «Я говорил открыто миру... и тайно не говорил ничего» (Ин 18:20).
Он - предсуществующий Логос, который был с Богом прежде творения и через которого был создан мир. Хотя в остальной части Евангелия этот титул («Слово») к Иисусу больше не применяется, многие другие черты повествования указывают на единство Иисуса с Богом. Он сам говорит о своем предсуществовании в молитве к Отцу («Прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира»; Ин 17:5), а также в поразительном публичном утверждении: «Истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин 8:58). Неоднократно говорится, что Он сошел с небес (Ин 3:31; 6:5158), и Иисус противопоставляет свое небесное происхождение происхождению «иудеев»: «Вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира» (Ин 8:23)[8].
На возвышенный сверхъестественный статус Иисуса указывают и другие детали Иоаннова портрета. Иисус обладает сверхъестественным знанием людских сердец (Ин 2:23-25). Он как будто не испытывает потребности в обычной материальной пище (Ин 4:31-34), - повествовательный элемент, который несомненно поспособствовал докетической ереси, впоследствии обличавшейся автором Первого послания Иоанна. Иисус чудесным образом исчезает из враждебно настроенных толп (Ин 7:30; 8:59). Весть о смерти своего друга Лазаря Он встречает с радостью, поскольку она поможет Ему дать наставление ученикам (Ин 11:1415). Его чудеса названы «знамениями», и сам Иисус дает им длинные медитативные интерпретации (например, речь о «хлебе жизни» в Ин 6). В отличие от синоптического Иисуса, Иоаннов Иисус неоднократно произносит пространные христологические речи, в которых объясняет, кто Он, и утверждает о своем единстве с Богом. Одним словом, перед нами Иисус, в котором полностью явлена божественная слава. «По земле ходит Бог»[9]. «Слава», о которой свидетельствует верующая община (Ин 1:14), самой своей яркостью угрожает исповеданию, что Слово в самом деле стало плотью. Кеземан даже сказал, что Иоаннова христология находится в опасной близости к «наивному докетизму», непреднамеренному отрицанию человечества Иисуса[10].
Вероятно, докетические схизматики, обличаемые Первым посланием Иоанна, - те, кто отрицал, что «Иисус Христос пришел во плоти» (1 Ин 4:2-3), - отталкивались как раз от вышеназванных элементов четвертого Евангелия[11]. Против такой интерпретации автор Первого послания Иоанна - утверждающий, что он не только видел Слово жизни, но и «касался Его руками» (1 Ин 1:1) - интерпретирует наследие четвертого Евангелия, подчеркивая подлинное человечество Иисуса. Надо сказать, делает он это небезосновательно. В Евангелии от Иоанна действительно есть целый ряд деталей, которые передают физическую конкретность и человеческую реальность воплощения. Иисус испытывает жажду и просит самарянку дать Ему напиться (Ин 4:7; ср. 19:28). Он плачет у гробницы Лазаря (Ин 11:35). Он снимает верхнее платье, берет полотенце и моет грязные ноги учеников (Ин 13:3-5). Иисус - Слово, ставшее плотью (Ин 1:14), и эта плоть не просто наряд актера для спектакля. Он - человек, знающий боль, радости и печали воплощенного существования.
В этом постоянном парадоксальном напряжении между божественностью и человечеством Иисуса состоит гений Иоанновой христологии. Иоанн говорит об Иисусе в необычайно возвышенных категориях. Иисус у него напоминает универсальный Логос стоицизма, предсуществующую Софию из еврейской хокмической традиции («излияние славы Вседержителя»; Прем 7:25) и Слово Божье, описываемое в израильской пророческой традиции (см. Пс 32:6; Ис 55:10-11). Все это, и даже более того, совместилось в одном Иисусе. И все же Он - реальное историческое лицо, живущее во плоти. До Него можно дотронуться, и Его можно ранить. Эти утверждения Иоанна выходят за пределы символических миров, которые предоставили ему фон для описания Иисуса, и потрясают эти миры.
Показателен отрывок из святого Августина, до своего обращения прошедшего школу платонической мысли, где он сравнивает Иоаннову христологию с «некоторыми книгами платоников»:
... Я прочитал там не в тех же, правда, словах, но то же самое со множеством разнообразных доказательств, убеждающих в том же самом, а именно: «В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог»...Того же, что Он пришел в Свое имение, и Свои Его не приняли, а тем, кто Его принял, верующим во Имя Его, дал власть быть «чадами Божиими» - этого я там не прочел. Также я прочел там, что Слово, Бог, родилось «не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти», а от Бога, но что «Слово стало плотью и обитало с нами», - этого я там не прочел[12].
Язык еле выдерживает давление этого поразительного исповедания. Приходят на ум строки Уистана Хью Одена:
Как может Вечное совершить временный акт,
Бесконечное - стать конечным фактом?
Ничто возможное не может спасти нас[13].
Но Евангелие от Иоанна говорит именно об этом: Бог сделал невозможное, чтобы спасти нас. Ради конечного мира Иисус, Человек с Неба, стал «конечным фактом». «Бога не видел никто никогда», - говорит Иоанн в конце своего пролога. Но, став плотью, Иисус, «единственный Сын, близкий к сердцу Отца... явил (exegesato) Его» (Ин 1:18; перевод мой - Р.Х.). Глагол «явил» - того же корня, что и слово «экзегеза». Иисус - интерпретация Бога (и воли Божьей!) в человеческой форме.
Из Иоанновой христологии воплощения можно сделать много выводов. Один из наиболее важных состоит в том, что фигура Иисуса, одновременно небесная и земная, подвергает деконструкции сильный дуализм Иоаннова повествования. В отличие от более поздних гностических мифов об Искупителе, Искупитель с Неба в четвертом Евангелии - также и Творец мира, и Он утверждает творение, полностью входя в него. Таким образом, творение и искупление неразрывны. Как мы увидим, это обстоятельство очень важно для этики.
2. Любовь друг ко другу: друзья Иисуса
(А) Пребывание в Иисусе. Входя в мир, Иисус собирает вокруг себя общину верных Ему и пребывающих с Ним в единстве учеников. Для описания этих взаимоотношений между Церковью и Иисусом Иоанн использует целый ряд образов. Иисус - хлеб жизни, и, чтобы иметь жизнь, верующие должны есть Его плоть и пить Его кровь (Ин 6:35-59). Он - добрый пастырь, а они - овцы, данные Ему Отцом; они знают Его голос, и никто не похитит их из руки Его (Ин 10:1-30). Он - виноградная лоза, а они - ветви, которые должны пребывать в Нем, чтобы иметь жизнь и приносить плод (Ин 15:1-8). Их связь с Иисусом очень сильна; на них возложена задача продолжать Его миссию, и они встретят в мире то же отвержение, что и Он. Во время прощальной беседы Иисус говорит им теплые слова предупреждения и воодушевления:
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня (Ин 15:18-21)..
Аналогичным образом Он молится об их миссии перед своим уходом из мира:
Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир (Ин 17:15-18).
Это поручение формально дано в день воскресения. Иисус является ученикам, которые собрались в доме и заперли двери «из страха перед иудеями», и объявляет: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20:21).
Подобно Павлу, Марку и Луке, Иоанн утверждает, что верующая община должна продолжать миссию Иисуса, подражать Ему и разделять Его судьбу: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой да будет» (Ин 12:26). Первое послание Иоанна говорит о том же, подчеркивая значение этого для этики: «Из сего узнаем, что мы в Нем: кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать, как Он поступал» (1 Ин 2:56-6). Этические нормы общины определяются узами между Иисусом и верующими.
Однако вот проблема: нужно поступать, как Иисус; однако что конкретно это подразумевает? В четвертом Евангелии Иисус почти ничего не делает, кроме того, что произносит речи о своей высокой роли и творит чудеса - превращает воду в вино, исцеляет слепого и хромого, а также воскрешает Лазаря. Может ли община усмотреть здесь образец для подражания?
В принципе, нужно считаться с возможностью, что Иоанн действительно ждал от Церкви чудотворения. Обратим внимание на обетование Иисуса ученикам:
Истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю (Ин 14:12-14).
Придаточное цели («да прославится Отец в Сыне») объясняет логику, стоящую за всеми чудесами в четвертом Евангелии. Если у Луки чудеса - деяния силы, предвещающие наступление Царства Божьего и выражающие заботу Бога о нищих и нуждающихся, то у Иоанна они - знамения божественной власти Иисуса. Каждое чудо становится для Иисуса поводом произнести речь о самом себе. Например, насыщение 5000 человек (Ин 6:1-14) -повод для речи о «хлебе жизни». Кроме того, Иоанн, видимо, интерпретирует некоторые рассказы о чудесах в символическом ключе. Скажем, исцеление слепого (Ин 9) становится символом веры в Иисуса, тогда как неверующие фарисеи описываются как слепые. Таким образом, даже если Иоаннова община продолжает, вослед Иисусу, совершать чудесные исцеления, эти исцеления подчинены определенной цели - благовествованию. На общине в первую очередь лежит задача прославлять Бога, возвещая истину об Иисусе, чтобы через веру все обрели жизнь во имя Его (см. Ин 20:31).
(Б) Любовь в общине. Иисус дает ученикам единственный ясный наказ: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 13:34). Это также имеет своей целью свидетельство миру: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:35). В чем именно должна выражаться эта любовь? В отличие от Нагорной проповеди, четвертое Евангелие не дает на сей счет развернутого наставления. Оно ограничивается единственной инсценированной притчей - омовением ног ученикам.
Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога пришел и к Богу отходит, встал из-за стола, снял верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан... Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно делаете, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу: ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам (Ин 13:3-5, 12-15).
Это создает сцену для «новой заповеди» (Ин 13:34-35). Иисус наставляет учеников любить друг друга, как Он возлюбил их, лишь показав действиями, что означает «любовь»: смиренное служение другим людям. Не требуется особой проницательности, чтобы увидеть: сцена с омовением ног (предваряющая рассказ о Страстях) предвещает смерть Иисуса и интерпретирует ее как акт любви и служения. Дальше, по ходу прощальной беседы, связь между заповедью любви и отдачей жизни проводится напрямую:
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам...Сие заповедую вам, да любите друг друга (Ин 15:12-14, 17).
Таким образом, Иоанн, подобно Павлу, видит в смерти Иисуса акт жертвенной любви, устанавливающий крестный путь как норму для ученичества. От членов общины может потребоваться в буквальном смысле умереть друг за друга.
Этот момент очень важен, потому что ссылками на Иоанна порой оправдывают сентиментальное самодовольство в церкви. Однако такое понимание не учитывает выраженно контркультурный характер Иоанновой общины (см. ниже) и недооценивает серьезность Иоаннова призыва к жертвенному служению в общине. Кроме того, согласно Иоанну, Иисус умер ради всего мира (Ин 1:29; 3:16): Бог так возлюбил мир, что отдал на смерть своего единственного Сына. Следовательно, хотя ученики должны в первую очередь проявлять любовь и служение внутри общины, они (продолжая миссию Иисуса к миру!) не могут остаться индифферентными к людям, которые находятся вне верующей общины. Призыв положить жизнь свою может означать гораздо больше, чем то, о чем прямо говорится в «новой заповеди».
Автор Первого послания Иоанна повторяет, что члены общины должны любить друг друга, и вводит прагматический элемент, применяя эту заповедь к проблеме экономической справедливости.
Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга... Любовь познали мы в том, что Он положил за нас жизнь свою: и мы должны полагать жизни свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиной[14] (1 Ин 3:11, 16-18).
Автор Первого послания Иоанна не раскрывает подробно смысл этого увещевания. Однако очевидно: любовь должна проявляться в определенном поведении. Любовь в общине - это не просто теплые чувства друг к другу, но и действия. И, возможно, разделение имущества - лишь один из примеров того, что «любовь друг к другу» означает на практике. Допустим, мы читаем такую формулировку: «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам» (1 Ин 3:23). Она носит самый общий характер, но может подразумевать, не оговаривая этого специально, целый спектр требуемого поведения.
Сейчас модно ругать Иоаннову заповедь любви в общине. Дескать, Лука призывает любить ближнего, Матфей - даже и врага, а Иоанн уходит в сектантские настроения. Однако подумаем: сколько на протяжении истории в церкви было раздоров и конфликтов! В этом смысле Иоанновы призывы к любви в общине вовсе не тривиальны. Более того, нужно снова и снова подчеркивать неразрывную связь между любовью к Богу и любовью внутри общины.
Кто говорит: «я люблю Бога», а своих братьев или сестер ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата или сестру, которых видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и своих братьев и сестер (1 Ин 4:20-21).
Возможно, это и не последнее слово христианской этики, но для начала совсем неплохо!
(В) Историческая обстановка. Чтобы правильно понять Иоаннову концепцию Церкви, необходимо учесть конкретные пасторские проблемы, которые эти тексты решают. За последние несколько десятков лет ученые узнали много нового об историческом контексте четвертого Евангелия и Первого послания Иоанна[15] Характерные Иоанновы традиции сложились в тесной общине иудеев, которые уверовали в мессианство Иисуса. Где именно находилась Иоаннова община, точно не известно. По всей вероятности, это была городская община с общинами-сателлитами в других городах (см. 2 и 3 Ин)[16]. Эфес - один из возможных вариантов. На ранней стадии существования общины ее члены жили в мире иудаизма, ходили в синагогу, участвовали в иудейских Праздниках, но при этом старались убедить собратьев-иудеев, что Иисус - Мессия. Не удивительно, что дело у них гладко не пошло, и большинство иудеев их веру в мессианство Иисуса отвергло. Более того, в какой-то момент их вообще отлучили от синагоги.
Произошло это уже после гибели Храма (70 н.э.)[17]. Отлучение, несколько раз упоминаемое в Евангелии (Ин 9:22; 12:42; 16:2), было очень болезненным и оставило глубокие шрамы на общинной традиции. Слово «иудеи» превратилось чуть ли не в оскорбление (см. подробное обсуждение в главе 17), и Иоаннова община заняла оборонительную позицию. Дэвид Ренсбергер точно описывает положение горстки иудеохристиан после той травмы, когда ее объявили aposynagogos («отлученной от синагоги»):
Отлученные христиане были отрезаны от многого из того, что составляло идентичность и структуру их жизни. Отлучение означало социальный остракизм, разрыв отношений с семьей и друзьями и, возможно, экономические неурядицы. Что уж там говорить о проблемах религиозных! Синагогальные собрания, общественные богослужения, праздники и обряды, - все это было для них закрыто. Их толкование Писания не признавалось. Под угрозой оказался весь универсум их взглядов, предпосылок, верований, идеалов и надежд - того, что наполняло смыслом их жизнь в мире иудаизма[18].
Что оставалось делать общине в такой ситуации? Реакция Иоанновых христиан была вполне понятной. Они стали противопоставлять себя синагоге и «миру», месту недружелюбному и ненадежному. Они еще больше подняли ставки, заявив, что Иисус в своем лице заменил и компенсировал все в иудаизме, от чего они теперь оказались отрезаны. Поскольку мир почему-то не признает в Иисусе носителя божественной истины (Ин 1:10-11), жизнь и любовь можно найти теперь только в верующей общине. Такое восприятие отражено в Первом послании Иоанна:
Не дивитесь, братья и сестры, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим друг друга. Кто не любит, пребывает в смерти... Мы знаем, что мы - дети Божьи и что весь мир лежит во зле (1 Ин 3:13-14; 5:19).
Мир лежит во зле. Поэтому, предупреждает автор, «не любите мира и того, что в мире» (1 Ин 2:15). Любовь к миру сбивает общину с пути, «ибо все, что в мире - похоть плоти, похоть очей и тщеславие от богатства - не есть от Отца, но от мира» (1 Ин 2:16). В этих осадных условиях любовь к братьям и сестрам по общине - не только акт самосохранения общины, но и акт пророческого сопротивления. В мире, где царят зло, ненависть и тщеславие от богатства, взаимная любовь членов общины - свет, который во тьме светит, и тьма не в силах его поглотить.
Если читать четвертое Евангелие в его историческом контексте (т.е. как ответ на общинный кризис идентичности), то его призыв к любви внутри общины уже не выглядит таким эксклюзивистским. Скорее, перед нами призыв к единству, обращенный к общине, состоящей из угнетенного меньшинства. К моменту составления Посланий актуальность этого призыва еще более усилилась, ибо в общине появились расколы (см. 1 Ин 2:18-27; 4:1-6; 2 Ин 7-11; 3 Ин 9-10). В такой ситуации Иоаннова заповедь любви - мольба о солидарности в Церкви, которую осаждают внешние и внутренние трудности.
(Г) Социальная передислокация: «Царство Мое не от мира сего». Дэвид Ренсбергер написал важную книгу под названием «Иоаннова вера и освобождающая община». В ней он убедительно доказывает: Иоанн зовет не просто к индивидуальному религиозному обращению или принятию определенных доктрин, - он зовет людей переступить роковую черту и присоединиться к новой общине. Этот шаг влек за собой «опасную социальную передислокацию»[19]. Анализируя рассказ о Никодиме (Ин 3), Ренсбергер показывает, что четвертое Евангелие призывает иудеев, тайно сочувствующих христианам, заявить об этом публично.
По-видимому, четвертый евангелист призывает тайных христиан, занимающих в обществе высокое положение, исповедать Иисуса открыто и присоединиться к гонимой общине. Конечно, это заключало в себе колоссальный риск... Евангелист фактически просит людей из гонителей стать гонимыми. У движения, примкнуть к которому он призывает, в мире нет ни статуса, ни власти, ни места. Они должны потерять свое социальное положение, скатиться по лестнице вниз. Вполне возможно, под угрозой окажется сама их жизнь[20].
Отчуждение Иоанновой общины от своего культурного контекста во многом определяет этику четвертого Евангелия: нельзя стать учеником Иисуса, не отказавшись от привилегий. Само распятие Иисуса - прецедент и символ социального опыта его последователей.
Верующая община - контркультура не только по отношению к иудаизму, но и по отношению к римской власти и культуре. Это хорошо заметно в сцене допроса Иисуса Понтием Пилатом, где Царство Иисуса парадоксальным образом противопоставляется власти Рима. В ответ на вопрос Пилата Иисус отвечает: «Царство Мое не от мира сего», чему ярчайшее доказательство - Его ученики не стали биться, чтобы Его не выдать (Ин 18:36). Когда Пилат говорит, что в его власти распять Иисуса, Иисус утверждает: никакой власти Пилат над Ним не имел бы, если бы Бог не предоставил ему эту временную и ограниченную возможность, чтобы исполнился Его промысел и Иисус был через распятие «вознесен» (Ин 19:10-11). Весь этот диалог подрывает римские притязания на владычество и подчиняет власть римлян власти Бога. Тем самым читатели Евангелия из Иоанновой общины могут совершенно по-новому осмыслить свои взаимоотношения с миром. Снова Ренсбергер:
Владычество Бога Иисус противопоставляет владычеству кесаря. Но Божье владычество, в отличие от владычества мира сего, не завоевывается силой... Речь идет прежде всего о революции сознания, переходе от верности мирскому идолопоклонству и угнетению к верности истине Божьей, истине, которая делает человека свободным... Верность владычеству Божьему через Иисуса Царя подрывает устройство мира сего, и только она подрывает его по-настоящему[21].
Перед людьми стоит жесткий выбор: либо царство мира сего, либо Царство Иисуса. Поэтому ответ первосвященников заключает в себе дополнительный смысл: «Нет у нас царя кроме кесаря» (Ин 19:15). Этой циничной фразой они фактически отвергают Бога Израилева и встают на сторону мира сего. Иоанн же призывает читателей сделать противоположный выбор и сказать: «Нет у нас царя, кроме Иисуса», - невзирая на те социальные последствия, которые принесет такая бескомпромиссность.
3. Иоаннова эсхатология: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь»
Из всех новозаветных текстов Евангелие от Иоанна наиболее радикально переформулирует раннехристианское эсхатологическое ожидание. Оно несет на себе явный отпечаток времени, когда смерть первого поколения апостольских свидетелей создала кризис для верующей общины[22]. Например, евангелисту (или автору эпилога в Ин 21) приходится опровергать слух о том, что Иисус предсказал, что Возлюбленный Ученик (источник особой традиции, стоящей за этим Евангелием) не умрет до парусии (Ин 21:20-23). Такая проблема, разумеется, могла возникнуть в общине только в одном случае: если Возлюбленный Ученик действительно умер. К числу других важных указаний на ситуацию общины можно отнести «первосвященническую молитву» Иисуса (Ин 17). Иисус сначала молится о себе (Ин 17:1-5), потом о своих первых учениках («которых Ты дал Мне от мира» Ин 17:6-19), потом о втором поколении верующих («которые уверуют в Меня по слову их» Ин 17:20-26). Иисус просит: «Да будут все едино», да будут все объединены в Иисусе, несмотря на разделение во времени, «да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин 17:23). По-видимому, «первосвященни-ческая молитва» отражает проблемы второго поколения верующих, уверяя их в их связи с Иисусом, - связи, которую не разорвала смерть Возлюбленного Ученика и других верующих первого поколения. Таких читателей могли утешить и слова воскресшего Иисуса, обращенные к Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин 20:29).
В сложившейся ситуации задержка второго пришествия, видимо, вызывала у верующих вопросы и сомнения. Иоаннова традиция же предоставляла общине способ богословского осмысления этой задержки. Четвертое Евангелие здесь исходит из следующих богословских убеждений: веры в то, что Суд уже свершился во встрече Иисуса с миром, а также в то, что Параклет (Дух Святой) присутствует и действует в верующей общине. Эти темы мы сейчас кратко рассмотрим, а затем укажем на некоторые тексты, в которых говорится о будущем эсхатологическом ожидании.
(А) Кризис. Четвертое Евангелие содержит поразительное утверждение: эсхатологический суд Божий не ждет будущего осуществления, связанного с воскресением мертвых и славным возвращением Иисуса, а уже свершился как результат пришествия Иисуса в мир.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единственного Сына Божия. Суд [krisis] же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы (Ин 3:17-19).
Рудольф Hays отмечает: «Суд состоит именно в том, что после встречи с Иисусом возникает раскол между верой и неверием, зрячими и слепыми»[23]. Иисус словно бы принес в мир сильнейшее магнитное поле, и все люди оказываются либо на положительном, либо на отрицательном полюсе. Отрицательный полюс: те, кто отвергают Иисуса как спасающего посланца Божьего, не имеют надежды; они «уже осуждены». Положительный полюс: верующие уже прошли критический момент и вошли в вечную жизнь. «Истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь» (Ин 5:24).
Для верующей общины вечная жизнь уже существует. Эсхатологическое событие уже произошло. Верующим более нет нужды ждать какого-то будущего явления Царства во славе, ибо слава Царства полностью явилась в Иисусе. Поэтому Суд - не будущее событие в конце истории. Он свершается везде, где проповедуется Слово Божье. В зависимости от того как мы откликнемся на Слово, мы будем осуждены или войдем в жизнь. Такова эсхатологическая позиция Иоанна.
Вот почему на веру Марфы в воскресение ее умершего брата Лазаря в последний день Иисус отвечает еще более щедрым, хотя и глубоко парадоксальным, обетованием: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек» (Ин 11:25-26). Тот, кто знает Иисуса как посланника Отца, уже обладает эсхатологической жизнью во всей ее полноте. И физическая смерть в этом плане существенной роли не играет. Последующее воскрешение Иисусом Лазаря (Ин 11:38-44) становится внешним и зримым знаком духовной истины: Иисус сильнее смерти, и смерть не может вырвать из Его руки того, кого Он любит.
Эта богословская концепция, если ее проводить последовательно и до конца, превращает «смерть» и «жизнь» в символы качества и способа существования в настоящем. В той мере, в какой это происходит в четвертом Евангелии, раннехристианская апокалиптическая эсхатология трансформируется в реализованную эсхатологию. В отличие от Матфея, у Иоанна будущий Суд уже не является мотивацией послушания в настоящем. В отличие от Луки, у Иоанна история Церкви не есть период, когда Церковь терпеливо готовит народ для Бога, чей последний Суд установит космическую справедливость. И, уж конечно, в отличие от Марка, у Иоанна настоящее - не просто суровое время, когда община крепится в вере, ожидая, что вот-вот явится Сын Человеческий. Напротив, община уже живет в полноте эсхатологической жизни, данной Богом тем, кто пребывает в единстве с Иисусом. В этой ситуации автор Первого послания Иоанна говорит: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим друг друга» (1 Ин 3:14). Любовь внутри общины
знак и залог того, что принадлежащие Иисусу свободны от объятий смерти. Поэтому не нужно лишний раз подчеркивать, что недостаток любви и расколы в общийе (вроде тех, что описаны в Иоанновых посланиях) представляют серьезную угрозу для когерентности такой реализованной эсхатологии.
(Б) Параклет. Иоанново учение о Параклете также отвечает на вопросы, связанные с задержкой парусии и смертью свидетелей первого поколения. Прощальная беседа в четвертом Евангелии неоднократно уверяет, что уход Иисуса не оставит общину «осиротевшей» (Ин 14:18).
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Заступника [parakletos], да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видят Его, ибо Он с вами пребывает и среди вас будет[24]... Сие сказал Я вам, находясь с вами. Но Заступник, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин 14:15-17, 25-26).
Иисус должен уйти, вернуться на небеса к Отцу. Однако он пошлет Параклета, и Параклет будет «пребывать» среди общины. Отметим: именно среди общины! Некоторые сентиментально настроенные христиане полагают, будто речь здесь идет о пребывании Духа внутри каждого верующего. Однако с их толкованием трудно согласиться, ведь смысл отрывка - Дух присутствует и говорит в верующей общине! Функция Параклета - учить общину, напоминать ученикам об учениях Иисуса и свидетельствовать о Нем перед миром (Ин 15:26; 16:7-11)[25]. Наиболее же важно то, что Дух будет наставлять, и наставлять даже в вопросах, относительно которых сам Иисус ничего не говорил.
Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что Мое возьмет и возвестит вам (Ин 16:12-14).
Одним словом, благодаря Параклету община не только не будет лишена божественного присутствия, но Он станет источником продолжающегося откровения.
Как представляет себе евангелист это руководство Духом? В наши дни многие считают, что речь идет о некоем интуитивном знании в сердцах отдельных верующих. Однако более вероятно предположение, высказанное Муди Смитом и некоторыми другими экзегетами: в контексте I века, скорее, могло иметься в виду наставление через пророчества в Духе, изреченные во время богослужебного собрания[26]. Собственно, характерная форма речений Иисуса в четвертом Евангелии (ego eimi, «Я есмь») лучше всего объясняется именно как результат такого рода харизматической деятельности пророков.
При анализе Иоанновой этики нельзя не учитывать веру Иоанновой общины в руководство Духом. Кстати, это может пролить некоторый свет и на почти полное отсутствие в Иоанновом корпусе конкретных нравственных наставлений. Автор Первого послания Иоанна говорит:
Я пишу вам не потому, что вы не знаете истину, но потому, что вы знаете ее...помазание, которое вы получили от Него, пребывает в вас [«среди вас» (en hymin)], и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас (1 Ин 2:21, 27а).
Впрочем, ситуация, которая дала повод к написанию Послания, заставляет предположить, что автор либо выдает желаемое за действительное, либо просто делает риторический жест. Ведь «много лжепророков появилось в мире», «и мир слушает их» (1 Ин 4:1, 5). По-видимому, в общине произошел раскол: лидеры, находясь в Духе, говорили во имя Иисуса разное. Как же в такой ситуации отличить истину от ошибки? Рецепт Первого послания Иоанна прост:
Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По этому мы узнаем духа истины и духа заблуждения (1 Ин 4:6).
В любом случае деятельное присутствие Параклета в верующей общине - источник утешения и один из аспектов вечной жизни, которую община уже знает, пребывая в Иисусе. Соответственно, роль надежды на будущее спасение в Иоанновом корпусе (особенно в четвертом Евангелии) существенно снижена.
(В) Воскресение в последний день. Тем не менее надежде на будущее также находится место в Иоанновом корпусе. Иначе и быть не может по причинам как богословским, так и практическим. Пока в мире есть смерть, раздоры и схизмы, христианские общины, для которых творение и искупление тесно связаны, не могут переносить спасение полностью в настоящее. Поэтому даже в четвертом Евангелии, наряду с духовной реализованной эсхатологией, мы находим несколько текстов, которые подтверждают раннехристианскую эсхатологическую ориентацию на будущее. Конечно, в данном случае их роль вторична, но все же их присутствие очень важно. Они не позволяют Евангелию от Иоанна соскользнуть в гностицизм.
Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения (Ин 5:28-29).
Это утверждение тем более важно, что оно идет за более характерным для Иоанна высказыванием:
Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут (Ин 5:25; курсив мой - Р.Х.).
В этой последней фразе слово «мертвые» имеет фигуральный смысл. Однако добавление стихов 28-29, которые вводят в Евангелие апокалиптические мотивы, показывает, что евангелист не собирается истолковывать воскресение в сугубо переносном смысле.
По мнению Haysа, отрывки вроде 5:28-29 - поздняя вставка «церковного редактора», который попытался сообразовать радикальную богословскую концепцию Иоанна с более стереотипными христианскими взглядами[27]. Другие исследователи разработали гипотезы посложнее. К примеру, Реймонд Браун считает, что 5:28-29 - достаточно раннее предание из Иоанновой общины, которое первоначально не было включено в четвертое Евангелие, но на поздней стадии было добавлено редактором (автором 1 Ин?), который попытался предотвратить неверную интерпретацию (вроде Haysовской!) образных высказываний евангелиста о реализованной эсхатологии[28]. Однако почему, собственно, мы обязаны считать, что подобные отрывки (см. также 6:39-40, 44, 54; 12:48) суть поздние редакционные вставки? Этого, конечно, исключать нельзя, но то, что мы имеем перед собой, - текст, в котором настоящая и футуристическая эсхатология парадоксальным образом идут рука об руку. (Обратим особое внимание на 6:54: «Ядущий Мою плоть, и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день».) Если, как верно замечает Браун, «в проповеди самого Иисуса сочетались эсхатология реализованная и футуристическая»[29], почему мы должны исключать возможность такого же сочетания у четвертого евангелиста? Одним словом, объяснение лучше искать не через анализ источников, а в богословском направлении.
Более других евангелистов Иоанн подчеркивает важность судящей и жизнетворной силы Слова Божьего в настоящем. Однако эта Весть была бы ущербной без одновременной надежды на будущее воскресение, которое предвещает нынешний опыт «вечной жизни». Ведь Иоанн хочет не заменить надежду на будущее настоящей славой, а просто подчеркнуть полноту жизни, которую Иисус уже предлагает верующим. Значимость этой богословской концепции для этики четвертого Евангелия не очень разработана, но мы можем высказать некоторые предположения.
Основания и нормы для этики содержатся исключительно в личности Иисуса. В мотивации к этическому поведению будущие награды и наказания играют минимальную роль. Действительно значимо лишь одно: жить в настоящем так, чтобы в жизни проявлялась любовь Бога во Христе. Евангелист специально не оговаривает, в каких видах поведения это должно выражаться, но пребывающие во Христе интуитивно знают, как поступать правильно, и поступают в соответствии с этим знанием. В Первом послании Иоанна содержится поразительное утверждение:
Всякий, рожденный от Бога, не делает греха... он не может грешить, потому что рожден от Бога (1 Ин 3:9).
Однако тот же самый автор ранее писал: «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем сами себя, и истины нет в нас» (1 Ин 1:8). Как согласовать эти утверждения? Для Иоаннова корпуса, как и для остального Нового Завета, единственное возможное решение этого парадоксального конфликта между индикативом и императивом лежит в эсхатологической надежде на будущее:
Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист (1 Ин 3:2-3).
4. Повествовательный мир Иоанна как контекст для действия
Итак, мы наметили контуры символического мира Иоанна. Теперь можно попытаться сделать некоторые выводы: как этот мир предоставляет контекст для нравственного суждения и действия?
Первое. В повествовательном мире Иоанна время сжимается и уходит на задний план. Иисус - вечный Логос. Поэтому Он не привязан к прошлым историческим событиям и традициям. Он может говорить с общиной в любой момент истории. Духовное единство общины с Иисусом столь глубоко, что невозможно провести четкую грань между опытом общины и событиями жизни Иисуса. Прошлое и настоящее накладываются друг на друга, так что история Иисуса становится историей общины, и наоборот[30]. Между Иисусом и евангелистом словно не существует временной дистанции. Понятие о времени у Иоанна ближе всего к таковому у Матфея и находится на противоположном полюсе от Луки с его заботой о хронологической последовательности и упорядоченности. Будущий аспект эсхатологической надежды частично (но не полностью!) затмевается Иоанновым празднованием единения с Иисусом в настоящем.
Второе. Согласно Иоанну, для мира характерны бинарные противоположности: свет и тьма, верх и низ, добро и зло, истина и ложь, жизнь и смерть. Эти антитезы не допускают никаких двойственных и промежуточных состояний. Человек должен выбрать между ними, и суд над ним состоит именно в этом его выборе. Вопреки глубоко дуалистическому характеру этих формулировок было бы не вполне корректно называть Иоанново мировоззрение космическим дуализмом, ибо у него силы света и силы тьмы - не равные противники. Нет никакого сомнения в абсолютном владычестве Бога и торжестве над злом. Сила тьмы иллюзорна и временна. Поэтому Иисус может сказать ученикам перед своими страданиями: «В мире скорбь имеете. Но мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16:33).
Третье. Иоаннову традицию пронизывают социальные последствия такого поляризованного мировоззрения. Почти на каждой странице четвертого Евангелия мы находим отражение ожесточенной полемики с еврейской общиной, из которой вышла Иоаннова община. Компромисс и приспособленчество недопустимы. Результат - глубокое отчуждение Иоанновой церкви от своих культурных корней и непосредственного социального окружения. Не случайно Иоанн описывает верующую общину как настороженную по отношению к миру и непременно имеющую контркультурный характер.
Четвертое. Заповедь Иоанновой традиции верующей общине - солидарность и братство. Иисусовых учеников узнают по тому, что они имеют любовь между собою. (Популярное, даже слишком, христианское песнопение «Они узнают, что мы - христиане, по нашей любви» - вылитое Иоанново богословие.) Под любовью подразумевается не просто личная привязанность: любовь выражается в служении другим членам группы, образцом которого является Иисусово омовение ног ученикам.
На иерархическую структуру в общине у Иоанна почти ничто не указывает. Возлюбленный Ученик и старец, написавший Второе и Третье послания Иоанна, были, несомненно, почитаемыми лидерами. Однако в остальном Иоанновы представления отличаются эгалитаризмом. Все члены группы помазаны Духом и знают истину (1 Ин 2:18-27). Более того, Иисус называет своих учеников более не рабами, но друзьями (Ин 15:13-15). (Нетривиальность этого текста станет заметнее, если мы попытаемся, по контрасту, представить, что подобные вещи говорит Иисус у Матфея!) Вообще, дружбе в Иоанновых представлениях о христианской жизни отводится очень важное место. По отношению к некоторым персонажам Евангелия Иисус выказывает особую любовь - Марфе и Марии (Ин 11:5), Лазарю (Ин 11:36) и, конечно, Возлюбленному Ученику. Таким образом, хотя любовь должна быть между всеми христианами, Иоанн, как никто из евангелистов, не только допускает, но и одобряет особые отношения любви и дружбы.
Эгалитарный характер Иоанновой общины, вполне возможно, имеет большое значение для роли женщин. В Иоанновом корпусе ни из чего не видно, что женщины должны играть подчиненную роль в жизни церкви. В четвертом Евангелии женщины - полнокровные персонажи. Они общаются с Иисусом и оказываются способны на подлинную веру. Марфа совершает тот же прорыв в вере в Иисуса, который Матфей приписывает Петру («Ты - Мессия, Сын Божий» Ин 11:27). Иисус открывает свое мессианство самарянке, которая далее возвещает о Нем другим людям (Ин 4:28-30, 39). Мария Магдалина становится первым свидетелем воскресения и первой благовестницей ученикам (Ин 20:1-18)[31]. Таким образом, женщины полностью разделяют и воплощают миссию общины свидетельствовать и возвещать об Иисусе миру.
Пятое. Хотя Иоаннова традиция не уделяет большого внимания проблеме отличия правильного поведения от неправильного, сомнений нет: Иоанн однозначно отвергает грех и заповедует жить в праведности. Это особенно ясно видно в Первом послании Иоанна (3:4-10), где, в частности, сказано: «Пребывающий в Нем не согрешает» (ст. 6). Как мы уже говорили, такое утверждение нельзя принимать за чистую монету, поскольку в начале письма прямо говорится, что члены общины все-таки грешат. Общину отличает не столько безгрешность, сколько желание открыть свои грехи свету, исповедать их, получить прощение и очищение кровью Иисусовой (1 Ин 1:5-9). Если Иисус - «Агнец Божий, Который уносит грех мира» (Ин 1:29), то Церковь должна быть общиной тех, кто осознают себя прощеными грешниками. Собственно говоря, люди, объявляющие себя безгрешными, - лжецы (1 Ин 1:10). Поэтому загадочный отрывок 3:4-10, видимо, нужно понимать как полемику с раскольниками, которые утверждают, что они «рождены от Бога», а сами совершают вопиющие грехи[32]. Эта интерпретация находит подтверждение в завершении раздела:
Дети Божий и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, также и не любящий своих братьев и сестер (1 Ин 3:10).
Иоаннов взгляд на проблему греха лучше всего резюмируется в следующих словах: «Дети мои! Я пишу вам это, чтобы вы не грешили. Но если кто согрешил, мы имеем Ходатаем перед Отцом Иисуса Христа, праведника» (1 Ин 2:1).
Шестое. Присутствие наставляющего общину Параклета дает ей утешение и нравственную уверенность. Перед лицом гонений и отвержения миром Святой Дух, чье действие проявляется в пророческих речениях в общине, поддерживает и направляет Церковь в трудные времена. А поскольку Дух утверждает жизнетворную силу Иисуса, Иоанново представление о христианской жизни носит, вопреки всем несчастьям, глубоко радостный характер.
Седьмое. Слово Божье подрывает мирские понятия о власти. Иоанн рисует еврейских вождей и римских чиновников людьми, которые рвутся обрести контроль над событиями, над которыми они не властны. Гейл О'Дей точно описывает суд Иисуса перед Пилатом:
Читатель видит правителя, наделенного всеми атрибутами власти, который имеет право казнить... И этот правитель беззащитен перед лицом подлинной власти и жизни[33]. Поскольку Крест - событие, путем которого Иисус возносится и обретает прославление, природа власти получает отныне иное и парадоксальное определение. В этом Иоанн един со всеми остальными новозаветными свидетелями, и это имеет колоссальную значимость для любых этических размышлений об использовании власти.
Восьмое. Подрыв власти - лишь одно из проявлений своего рода иронии. Иоанн неоднократно прибегает к иронии. Он вводит диалоги, которые имеют для христианского читателя дополнительный смысл, сокрытый от собеседников Иисуса[34]. Такая ирония рождает групповую солидарность в общине толкователей, которые могут адекватно отреагировать на намеки евангелиста. Возьмем, например, фразу первосвященника Каиафы:
Вы ничего не знаете! Вы не понимаете, что вам лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб (Ин 11:496-50).
Каиафа имеет в виду: «Лес рубят - щепки летят». Однако Иоанн и его читатели считают его слова справедливыми совсем в ином смысле - далеком от того, который вкладывал в них сам Каиафа. Заметим: здесь ирония - не просто тонкий литературный прием. Она помогает выразить богословское убеждение: мир не познал Того, через кого пришел к бытию (ср. Ин 1:10-11). Откровение Бога в Иисусе парадоксально, и познать Иисуса невозможно, не усвоив этот парадокс.
Девятое. В четвертом Евангелии воплощение подвергает деконструкции дуализм. Как бы подозрительно ни относился евангелист к миру сему, он не докетист и не враждебен к творению. Более того, при внимательном рассмотрении видно: Слово, ставшее плотью, утверждает благость и значимость творения. Все творение дышит жизнью Логоса, вне которого нет жизни (Ин 1:1-4). На подсознательном уровне это убеждение находит выражение в мастерском использовании Иоанном природных, земных символов для рассказа о Слове: воды, вина, хлеба, света, двери, овец, зерна, виноградной лозы, крови, рыб. Истина Логоса явлена только через посредство этих символов. Ни один другой новозаветный текст не содержит столь яркого описания Вечного с помощью образов из обычной жизни. В результате обыденное преображается. Вопреки простоте языка четвертого Евангелия оно создает эстетически богатый и сильный образ Иисуса. И если читатель действительно почувствует четвертое Евангелие, он едва ли окажется столь нравственно слеп, что будет проповедовать израненному человеку о душе, не обращая внимания на его раны[35]. Ученики Иоаннова Иисуса - Иисуса, омывающего грязные ноги и плачущего у гробницы Лазаря, - узнают этику, которая любит «не словом или языком, но делом и истиной» (1 Ин 3:18), ибо последуют за Господом, отдающим собственную плоть ради жизни мира (Ин 6:51).
Глава 7. Экскурс: роль «Исторического Иисуса» в Новозаветной этике
1. Почему не начать с Иисуса?
Авторы книг по новозаветной этике часто начинают с подробного анализа этических учений Иисуса. Например, «Новозаветная этика» Вольфганга Шраге уделяет более сотни страниц «Эсхатологической этике Иисуса», и лишь затем дает краткий обзор (25 страниц) «Этические акценты в синоптических Евангелиях»[1]. Его в первую очередь интересует личность Иисуса, евангелистов же он рассматривает просто как редакторов, которые внесли небольшие изменения в известные им традиции. Я расставляю акценты иначе: меньше внимания уделяю Иисусу и гораздо больше - этическим позициям евангелистов. Пожалуй, уместно объяснить, почему я пользуюсь именно такой методологией. Почему не начать с реконструкции этики Иисуса из Назарета?
Во-первых, повторюсь: в задачи моей книги не входит прослеживание истории раннехристианской этики. Если бы такая задача передо мной стояла, то, конечно, мне неизбежно пришлось бы начать с анализа, хотя бы краткого, этики Иисуса. Но моя цель иная: выяснить, как строить церковную жизнь, руководствуясь новозаветными текстами.
Во-вторых, объективность апелляции к «историческому» - лишь кажущаяся. История новозаветной науки показывает, что попытки реконструировать исторического Иисуса были субъективными и несли на себе отпечаток различных культурных предубеждений. Еще Альберт Швейцер продемонстрировал это, изучив написанные в XIX веке работы по Иисусу[2]. В последнее время «поиски исторического Иисуса» очень активизировались, но указанная Швейцером проблема не исчезла[3]. Искушение спроецировать на Иисуса собственные представления об идеальной религиозности кажется почти непреодолимым[4]. Как мудро отметил столетие назад Мартин Келер, критик, реконструирующий «исторического Иисуса», неизбежно превращается в «пятого евангелиста», редактирующего традицию, чтобы создать образ Иисуса для своего времени[5]. Некоторые современные исследователи признают это откровенно. Возьмем, например, программное заявление Роберта Фанка, основателя «семинара по Иисусу»:
Становится все труднее буквально понимать библейский рассказ о творении и апокалиптическом завершении... Но наш кризис не ограничивается этими точками начала и конца. Он затрагивает и середину... Грубо говоря, проблем с серединой - Мессией - не меньше, чем с началом и концом. Нам нужна новая выдумка (fiction), в качестве отправной точки берущая центральное событие иудео-христианской драмы...Коротко говоря, нам нужен новый рассказ об Иисусе, новое Евангелие, если хотите, кото6рое дает Иисусу новое место в великой схеме, эпической истории[6].
Фанк с редкой откровенностью признает: акт исторической реконструкции неизбежно носит герменевтический характер. Если историк отвергает интерпретацию евангелистов, он должен что-то предложить взамен. Само по себе это не плохо, но лишает нас одного из главных аргументов в пользу начала работы по новозаветной этике с исторического Иисуса. Если мы начнем с Иисуса, но не добьемся большей объективности и не окажемся на более надежной почве. Было бы чудовищной интеллектуальной гордыней полагать, будто наши гипотетические реконструкции дают образ Иисуса, чуждый всякой субъективности.
Избранный нами подход в гораздо большей степени позволяет снизить градус субъективности (а значит, и увеличить нашу открытость Писанию): мы рассматриваем каждое Евангелие отдельно, отмечаем его повествовательную логику, образ Иисуса в нем и вытекающий из него нравственный мир. Наличие у каждого Евангелия определенных композиции и содержания сужает спектр правдоподобных интерпретаций и заставляет экзегета обуздывать воображение. Гораздо легче прийти к консенсусу относительно литературного и богословского толкования тех или иных евангельских текстов, чем относительно стоящей за ними исторической фигуры. Достаточно почитать научные работы, чтобы в этом убедиться. Ученые гораздо более согласны относительно, скажем, богословия Матфея, чем относительно содержания проповеди исторического Иисуса. Конечно, я не хочу сказать, что Евангелия «безошибочны»[7] или что каждое Евангелие имеет ясный смысл. Исследователи спорят о многих проблемах, например об отношении Луки к иудаизму. Наиболее неоднозначен из канонических евангелистов Марк: его тексты допускают большее разнообразие толкований. Однако благоразумнее будет честно признать: при исследовании новозаветной этики гораздо надежнее отталкиваться именно от нравственных концепций индивидуальных текстов, а не от реконструкций исторического Иисуса.
Это - одна из причин, почему Рудольф Hays считал, что проповедь Иисуса относится не к новозаветному богословию, а к его предпосылкам[8]. В конце концов, Иисус не принадлежит к числу новозаветных авторов. Его жизнь и смерть - предмет для новозаветных повествований и размышлений, но, если цель нашего исследования - этика Нового Завета, исторический Иисус имеет к нему лишь косвенное отношение. Мы воспринимаем Его этические наставления уже пропущенными через фильтр композиционных целей евангелистов. Богословская функция новозаветного канона состоит именно в том, чтобы определить именно эти интерпретации Иисуса как авторитет для жизни и обычаев христианской общины. Поэтому, сколь бы ни была информативной и интересной историческая реконструкция Иисуса, она не может претендовать на тот же нормативный богословский статус, что и четыре канонических повествования. Следовательно, в таком исследовании, как наше, имеющем своей целью прочтение Нового Завета как нормы для церковной этики, имеет смысл сфокусировать внимание на текстах и интерпретировать заключающуюся в них нравственную позицию. В данном случае мы занимаемся Иисусом, как его воспринимали отдельные евангелисты.
Однако мы не можем оставить вопрос об историческом Иисусе вообще в стороне, поскольку существует серьезная проблема: как было на самом деле? Если канонические повествования об Иисусе сильно искажают реальные события[9], если они - лишь измышления религиозных фанатиков или самообман, то, как бы сказал Павел, из всех людей именно христиане более всего вызывают жалость. Если новозаветные авторы построили свои нравственные концепции на искаженном или глубоко ошибочном представлении о делах и учениях Иисуса из Назарета, то последующая Церковь напрасно основывается на их свидетельстве. Историческое исследование не может доказать истинность керигмы, но оно вполне может оказаться в состоянии ее опровергнуть. Следовательно, интеллектуальная честность требует, чтобы мы попытались что-то сказать как историки об Иисусе, даже если наше историческое знание имеет серьезные ограничения. Эрнст Кеземан отметил, что исторический Иисус - критерий, которым нужно проверять все новозаветные формулировки керигмы, иначе нам угрожает опасность «скатиться в докетизм и лишить себя возможности отличить пасхальную веру общины от мифа»[10]. Ставя вопрос об историческом Иисусе, мы пытаемся избежать восторженной религиозной субъективности, которая игнорирует вопрос о том, что Бог делает extra nos в мире.
Конечно, в нашей книге нет места для подробного анализа проблемы исторического Иисуса. Однако не будет лишним коснуться ее хотя бы вкратце, тем более что в популярных изданиях много пишут о ревизионистской теории, согласно которой Иисус был бродячим киником, специализировавшимся на афористических речениях мудрости. Иисус «семинара по Иисусу» очень далек от Иисуса Матфея, Марка, Луки и Иоанна[11]. Поэтому далее я объясню свое понимание ситуации: на мой взгляд, канонические традиции вполне адекватно отражают образ исторического Иисуса.
2. Методы поиска
С помощью каких методов можно определить историческую ценность известных нам преданий об Иисусе? Далее я привожу перечень методологических указаний, которыми, на мой взгляд, следует руководствоваться при реконструкции исторического Иисуса. У меня нет возможности подробно обосновывать здесь эти положения, но они помогут читателю понять и оценить следующие за ними выводы[12].
• Иисус - органичная часть палестинского иудаизма I века. Он ни отвергал веры своего народа, ни пытался заменить ее на какую-либо другую веру.
• Жизнь и учение Иисуса находятся в некоторой преемственности с движением, которому Он положил начало, - Церковью[13]. (Две вышеназванные установки практически противоположны «criterion of dissimilarity.» Согласно этому критерию, в аутентичности предания об Иисусе мы можем быть особенно уверены тогда, когда оно идет вразрез как с иудаизмом I века, так и с ранним христианством[14].)
• Реконструкция жизни Иисуса должна правдоподобно объяснять, как Его действия и Его судьба привели в социальном и религиозном мире древнего иудаизма к возникновению Церкви. Как событие а привело к событию b? Почему ход событий был именно таким[15]?
• Реконструкция должна правдоподобно объяснять, какова связь между жизнью и учением Иисуса, с одной стороны, и Его казнью - с другой[16]. Почему Иисуса распяли на кресте? И почему Его смерти уже очень давно стали придавать искупительное значение?
• Не следует придавать традиции речений большее значение, чем повествовательным материалам. Они в равной мере важны для создания когерентного образа Иисуса[17].
• Не следует полностью отказываться от использования Евангелия от Иоанна как исторического источника, несмотря на его богословскую программу. В конце концов, все четыре Евангелия носят богословский характер. Четвертое Евангелие сообщает, что оно основано на свидетельстве очевидца. Хотя Евангелие от Иоанна труднее использовать при исторической реконструкции, априорно отвергать его не следует.
• Евангелие от Фомы - гностический текст II века. Оно может содержать некоторые независимо передававшиеся речения Иисуса, но зависимо от синоптической традиции[18], а потому имеет лишь второстепенную ценность как исторический источник. Аналогичным образом, Евангелие от Петра, которое, по мнению некоторых ученых[19], содержит традицию, более раннюю, чем синоптические рассказы о Страстях, - произведение II века, автор которого использовал синоптические материалы. Оно не имеет практически никакой исторической ценности[20].
• Бремя доказательства лежит на тех, кто отрицает достоверность евангельских преданий, а не на тех, кто ее отстаивает. Критерии, основанные на многократности удостоверения и на когерентности, гораздо важнее критерия, основанного на несходстве. Последний помогает лишь выявить максимально достоверные материалы.
· Мудрость таится в смирении. Делая исторические утверждения, нельзя забывать о скромности. Мы знаем об Иисусе меньше, чем нам нравится думать[21].
3. Жизнь и учения Иисуса: Предлагаемая реконструкция
(А) Центр. Иисус был евреем из галилейского Назарета. Примерно в 30 году н.э. его казнил римский префект Понтий Пилат по обвинению в мятеже.
От этого фиксированного центра мы и должны отталкиваться в своих рассуждениях. Все остальные утверждения имеют меньшую степень исторической точности. Нам известно начало (крещение Иоанново) и конец (распятие), а также ряд моментов откуда-то из середины. Однако мы не можем с уверенностью воссоздать процесс развития. Единственное событие, хронологию которого можно установить достаточно точно, - это изгнание из Храма менял и торговцев. Скорее всего, оно-то и спровоцировало арест и казнь Иисуса[22].
(Б) Фон. Иисус происходил из Галилеи. Этот факт уже сам по себе примечателен: корни Иисуса - в регионе маргинальном по отношению к признанным в иудаизме религиозным и политическим центрам власти[23]. О Его детстве и юности нам почти ничего не известно. По преданию, Он был ремесленником или сыном ремесленника (Мк 6:3; Мф 13:55). По-видимому, Иисус глубоко изучал Писания, но это не означает, что он формально учился на раввина. Его публичную деятельность мы можем проследить начиная с Его омовения у Иоанна Крестителя - события, о котором евангелисты повествуют, хотя оно их отчасти смущает (напр., Мф 3:13-15). Нельзя исключать того, что до своего крещения Иисус был учеником Иоанна. Это означало, что Он придерживался апокалиптической веры: от Бога придет Мессия и установит владычество праведности Божьей (т.е. Царство Божье).
(В) Движение Иисуса. Вскоре Иисус пошел своим путем и начал общественную деятельность, вызвавшую массу споров. Многие считали Его пророком, сильным в слове и в деле. Он собрал вокруг себя учеников и наставлял их. Из их числа Он выбрал Двенадцать. Эти Двенадцать символически возглавляли новый эсхатологический Израиль, который Он возвещал и надеялся привести к бытию. Избрание Двенадцати - явный знак того, что Иисус понимал свое движение в категориях «эсхатологии Восстановления». Иными словами, Он ждал, что Бог восстановит Израиль и вернет ему былую славу[24].
За Иисусом также последовали многие изгои и люди с обочины палестинского общества[25]. Грешники и сборщики налогов, калеки, прокаженные, проститутки - все те, кого презирали образованные граждане, имевшие вкус и богословское образование. Таковы были, так сказать, «избиратели» Иисуса. (Вспоминаются персонажи рассказов Фланнери О'Коннор.) К Иисусу их отчасти привлекала Его репутация целителя и чудотворца. Думаю, мы должны признать историческую достоверность этой картины[26]. Евангелистов иногда смущает такой образ Иисуса, но они никогда его не отрицают, хотя могут внести некоторые коррективы: скажем, что Иисус творил чудеса неохотно, желая, чтобы исцеления указывали на некую истину, которая ускользала от понимания народа.
(Г) Весть Иисуса. Иисус обычно говорил притчами и рассказами, возвещавшими скорое наступление Царства Божьего. Он учил, что это Царство прольет благодать и милость туда, куда не ждали, причем неожиданными путями. (Интересно, что ранние христиане не подражали манере Иисуса говорить притчами.) Притчи о грядущем Царстве нельзя отрывать от предупреждений об апокалиптическом суде: Иисус проповедовал, что Царство Божье принесет радикальное восстановление божественной справедливости и расставит вещи по своим местам, но оно же принесет Суд и разрушение тем, кто противится воле Божьей. По мнению ряда современных новозаветников, Иисус возвещал не суд, а милость. Однако такое противопоставление искусственно и возникает вследствие того, что эти исследователи отрывают Иисуса от еврейской профетической традиции, в свете которой необходимо рассматривать все Его слова и дела.
Иисусова весть рождала споры. Она угрожала общественным институтам религиозной и политической власти, ибо звала к фундаментальной переоценке ценностей, прославляла смиренных и обличала сильных. Эта тема переворота, по-видимому, была очень важна для Иисуса. «Первосвященникам и старейшинам народа», например, Он объявил: «Сборщики налогов и проститутки вперед вас идут в Царство Божие» (т.е. присоединяются к движению Иисуса; Мф 21:31). Этот мотив красной линией проходит через всю весть Иисуса и присутствует во всех слоях традиции. Рассмотрим, в подтверждение, его с позиции критерия, основанного на многократности удостоверения.
• Высказывания. «Кто хочет жизнь свою спасти, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради Меня и Евангелия, тот найдет ее» (Мк 8:35).
• «Заповеди блаженства», особенно в версии Луки (Лк 6:20-26). Версия Луки, видимо, ближе к оригиналу, чем версия Матфея. Матфей спиритуализирует «блаженства».
• Притчи. Притча о блудном сыне (Лк 15:11-32), притча о неверном управителе (Лк 16:1-8).
• Речения в спорах. См., например, Мф 21:31, о котором речь шла ранее.
• Действия. (Особенно показательный момент!) Иисус общался с изгоями и людьми, ритуально нечистыми.
Скорее всего, Иисус не только не отменял, но даже и не критиковал Закон. Его обличения были направлены в адрес тех, кто утверждал о своей верности Закону, а сам отбрасывал важнейшее и нем - суд и милость. В этом плане Иисус строго придерживается традиции пророков. И прежде всего в Иисусе следует видеть именно пророка, продолжателя традиции израильских пророков, предупреждающего о суде Божьем на Израиль и зовущего Израиль к покаянию и признанию божественной справедливости в человеческих делах.
Свою миссию Иисус, очевидно, также интерпретировал в свете пророческих писаний. В частности, собирание им эсхатологического Израиля Он осмысливал в категориях, подсказанных Исайей (ср. Лк 7:18-23). Когда Израиль отверг Его проповедь и Он произнес осуждение на Храм, в Его обличительной речи слышались аллюзии на проповедь Иеремии в Храме (Мк 11:15-17; ср. Иер 7:1-15).
Иисус говорил, что насилие не может быть инструментом божественной праведности (см. Мк 10:42-45). Он учил любить врагов и отвергал всякий намек на сопротивление властям (даже римским властям). Это сочетание непротивления с резким обличением власть имущих неизбежно привело Его к кресту. В целом, вполне возможно, что Иисус сознательно шел на страдания и смерть.
(Д) Отклик: жестокое отвержение. Деятельность и проповедь Иисуса привели Его к конфликту со стражами порядка в еврейском обществе. Как видно из всей евангельской традиции, хотел того Иисус или нет, в Его вести о Царстве Божьем неизбежно слышали революционный манифест. Люди хотели сделать Иисуса царем (Ин 6:15), и именно это имеет в виду исповедание Петра (Мк 8:29). Это популярное мнение Его в конце концов и погубило: судя по надписи на кресте, Иисуса казнили как человека, который называл себя «царем иудейским». По-видимому, Иисус не пожелал сорваться с крючка, отрицая это обвинение. Возникает неоднозначная ситуация.
• С одной стороны, Иисус, видимо, в отличие от некоторых других персонажей еврейской истории (например, Бар-Кохбы), последовательно отказывался объявить себя Мессией (ср. Ин 10:24). Вся Его весть предполагала отвержение насилия и национализма, присущих популярному пониманию титула «Мессия».
• С другой стороны, слова и дела Иисуса рождали в людях живую надежду, что Он избавит Израиль.
Перед нами глубокий парадокс. Иисус представляется чуть ли не жертвой, сокрушенной действием противоположных исторических сил. Он отверг путь революционного насилия (чем разочаровал многих своих учеников), но из-за того, что Он возбуждал (возможно, вопреки собственному желанию) мессианские надежды, власти казнили Его как смутьяна. Здесь могли действовать причины, сходные с теми, какие приводит Иосиф Флавий для объяснения казни Иоанна Крестителя:
Когда и остальные присоединились к толпам вокруг него, поскольку их чрезвычайно воодушевляли его проповеди, Ирод встревожился. Красноречие, имевшее огромное влияние на массу, могло привести к какой-либо форме мятежа, ибо они выглядели вполне подчинившимися ему. Поэтому тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда дело дойдет до восстания[27].
Иисус был казнен как революционер или, по крайней мере, просто потенциальный смутьян. Да, строго говоря, он и был революционером, хотя и не совсем в том смысле, какого боялись власти.
(Е) Ответ Бога: воскресение. Вскоре после смерти Иисуса те самые ученики, которые в страхе бежали после Его ареста, стали возвещать, что Он воскрес и явился им. Они увидели в этом событии оправдание всей Его жизни и Вести, особенно Его статуса как Помазанника Божьего, Мессии. Они увидели в Нем предвосхищение окончательного торжества Царства Божьего в истории, всеобщего воскресения из мертвых. Как молния предваряет гром, так воскресение Иисуса предваряет завершение всех вещей. Независимых, внешних, свидетелей утверждению учеников не было: Иисус не явился ни в Храме с обличением своих врагов, ни Пилату, ни кесарю в Риме.
Тем не менее воскресение, подобно остальным событиям этого рассказа, - событие историческое. Да, оно загадочное, но оно не описывается как происшедшее во сне, видении или в сердцах любящих Иисуса. Оно не описывается и как богословский вывод. Это просто очередное необычное событие в повествовании - телесное воскресение человека Иисуса, который покинул гробницу, разговаривал с учениками, показывал им свои руки и ноги, а также ел с ними рыбу. И только оно объясняет возникновение Церкви. Это - историческое событие, в свете которого необходимо переосмыслить всю нашу историю.
Здесь я расхожусь со многими новозаветниками и богословами, которые считают невозможным описывать воскресение как историческое событие[28]. Что ж, исторический факт воскресения действительно трудно утверждать с той же долей уверенности, что и исторический факт распятия. Все исторические утверждения можно делать лишь с относительной уверенностью, а потому, с точки зрения историка, говорить о воскресении Иисуса можно лишь с великой осторожностью. Характер этого события выводит его за рамки категорий обычного опыта[29]. И все же вскоре после распятия произошло нечто, собравшее учеников и пославшее проповедовать миру, что Иисус воскрес и явился им. Некоторые исследователи пытаются искать объяснения происшедшему в субъективных психологических переживаниях учеников. Однако эти объяснения не учитывают распространенности свидетельства о воскресении в первоначальной общине, а также нравственной серьезности возникшего движения. Лучшее объяснение - Бог действительно совершил акт, лежащий за гранью человеческого воображения, и воскресил Иисуса из мертвых.
Конечно, сделать такое утверждение, значит, иначе взглянуть на реальность[30]. Если это событие действительно произошло, значит, история не есть замкнутая система имманентных причинно-следственных связей. Бог творит в мире невиданные чудеса, избавляя творение от уз необходимости и распада. Однако это - именно то, во что верили и что возвещали ранние христиане:
Я молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, что есть надежда призвания Его, что - богатство славного наследия Его среди святых, и что - безмерное величие силы Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Бог воздействовал этой силой во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем (Еф 1:17-21; курсив мой - Р.Х.).
4. Значение для христианской этики
Все это имеет далеко идущие последствия для христианской этики. Если Бог действительно воскресил Иисуса, все учения и дела Иисуса оправданы Богом, более сильным, чем сама смерть. Это означает: Иисус - носитель истины и образец послушания Богу. Новозаветные авторы стараются, каждый по-своему, продумать этические последствия своего исповедания для жизни общины.
Описанный нами в общих чертах исторический образ Иисуса из Назарета глубоко созвучен свидетельству евангелистов, хотя каждый из них подчеркивает свои аспекты и вводит другие темы, не включенные в эту минимальную историческую реконструкцию. Можно резюмировать некоторые мотивы в новозаветной этике, которые привлекут особое внимание, если сопоставить мой исторический анализ с каноническими свидетельствами:
• Преемство Евангелия с израильским наследием. Иисус ожидал возникновения нового Израиля. Этот новый Израиль предзнаменовала община Его учеников. И если Церковь хочет строить свою жизнь и свидетельство в преемстве с историческим Иисусом, она должна сознательно укоренять свою идентичность в традиции Израилевой и пытаться осмыслить проблемы, связанные с избранием и неверностью Израиля. Ведь для Иисуса это был центральный момент.
• Апокалиптический характер проповеди Иисуса. Он должен оставаться определяющим для символического мира христианской общины. Историческая реальность воскресения подтверждает как апокалиптическую надежду, так и апокалиптическую критику статус-кво в мире, отчужденном от Творца.
• Переворот «нормального» восприятия статуса и власти. Он играл центральную роль в вести Иисуса и должен оставаться центральным для общины, продолжающей Его наследие. Царство Божье принадлежит нищим, отверженным, слабым, детям. Там, где церковь приспособилась и подладилась к обычной человеческой власти, основанной на гордыне и принуждении, она потеряла преемственность с историческим Иисусом.
• Пророческий зов к справедливости и милосердию как отличительным чертам богоизбранного народа. Иисус делал на этом особый упор. Поэтому община, носящая Его имя, должна вновь и вновь возвращаться к пророкам для выбора верного этического курса.
• Отказ от насилия и призыв любить врагов. Это было характерно для Иисуса и должно занимать важное место в любой этике, которая руководствуется словом Иисуса.
• Смерть Иисуса из Назарета на кресте. Ученики Иисуса едва ли могут ожидать от мира лучшего обращения. Если верующая община идет за историческим Иисусом, ей следует готовиться к страданию.
Как мы уже видели, каждый из этих мотивов в том или ином виде присутствует у канонических евангелистов. Поэтому в некотором смысле реконструкция исторического Иисуса ничего нового к новозаветной этике не добавляет. Если она вообще что-то добавляет, это то, что Лука называет словом asphaleia, - уверенность в истинности рассказанного евангелистами. Их повествования об Иисусе не являются сплошной выдумкой: они использовали вполне надежные предания. Возможно, для церкви важно знать: послушание веры действительно было прожито в истории Иисусом, человеком из плоти и крови. Ибо Его пример учит нас, что упование на власть Бога над историей - не пустое упование.
Глава 8. Откровение Иоанна Богослова: сопротивление зверю
Фридрих Ницше назвал Иоаннов Апокалипсис «самым безумным проявлением мстительности во всей письменной истории»[1]. В красочных описаниях эсхатологического погубления Богом нечестивцев Ницше усмотрел крайнюю озлобленность, подавленную ненависть благочестивых и слабых существ к сильным личностям. Нравственное отвращение к Апокалипсису выражает и Джек Т. Сандерс, хотя по несколько иным причинам: в своем эсхатологическом накале книга знаменует «уход от этической ответственности». С его точки зрения, Апокалипсис зовет людей к отказу от попыток решить социальные проблемы. В той мере, в какой это так, «его существование и место в каноне - зло в самом полном смысле слова»[2]. Кристер Стендал однажды охарактеризовал Апокалипсис как «сценарий для фильма ужасов»[3]. Оправданны ли такие резкие отзывы? Столь сильные реакции спровоцированы сильным текстом, который в ярких образах описывает космический конфликт и призывает верующую общину к недвусмысленному свидетельству перед лицом власть имущих в мире сем. Но лишен ли Апокалипсис этической ценности? Для ответа на этот вопрос необходимо вглядеться в его апокалиптические символы повнимательнее.
Все содержание книги есть визионерское откровение (apokalypsis; Откр 1:1), данное некоему Иоанну, который называет себя так: «брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении [hypomoni] Иисуса» (1:9)[4]. Изгнанный на Патмос «за слово Божие и свидетельство Иисуса», он получил эти откровения, когда был «в духе в День Господень» (1:9-10). Книга активно использует лексику и метафорику еврейской апокалиптической традиции (особенно Даниила), но, как мы увидим, подвергает эту традицию некоторым существенным герменевтическим модификациям в свете истории Иисуса.
Пророческая весть адресована «семи церквам, находящимся в Азии» (1:4), то есть семи церквам, которым написаны послания в 2:1-3:22. Частые упоминания о гонениях обычно понимаются в том смысле, что Апокалипсис был создан при императоре Домициане (81-96 н.э.), когда в провинции Азия процветал императорский культ. По мнению многих экзегетов, церкви отказывались участвовать в поклонении императору и терпели за это гонения. Не вполне ясно, были ли гонения официальной имперской политикой или (более вероятно) местной инициативой[5]. В принципе, некоторые особенности текста вообще наводят на мысль, что церквам угрожало не столько организованное преследование, сколько самоуспокоенность.
Каковыми бы ни были конкретные исторические обстоятельства написания Апокалипсиса, он представляет собой прежде всего документ политического сопротивления. Апокалипсис отказывается признать легитимность и власть земных правителей и дерзко смотрит в будущее, когда все покорится Богу. Он призывает семь церквей к мужественному свидетельству против культуры, которая предлагает народу Божьему соблазнительное растление и пытается сбить с пути даже святых. При чтении Апокалипсиса об этой ситуации надо все время помнить.
1. Символика апокалипсиса: выбор интерпретации
В каждом поколении экзегеты пытались понять фантасмагорические образы Апокалипсиса. Символы этой книги сложны и таинственны, а потому их можно толковать по-разному. Поэтому нам сейчас надо решить, в каком жанре написана книга и какая стратегия ее прочтения будет наиболее правильной. Как читать Апокалипсис? Как понять изобилие причудливых образов и видений? В целом, существуют три основных подхода: предсказательный, исторический и теопоэтическии[6].
(А) Предсказательный подход. Он имеет почтенную традицию в истории Церкви и понимает Апокалипсис как серию предсказаний о будущих событиях. Собственно, в этом направлении толкает уже надписание книги: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре» (1:1). Поскольку откровение дано из небесного тронного зала, эти видения дают избранным привилегированное знание о событиях, которые не замедлят произойти (ср. 22:6, 10). Надо сказать, что каждое поколение, избирающее эту стратегию интерпретации, обычно считает именно себя последним поколением перед великой последней космической битвой и установлением на земле мессианского царства. Соответственно, Апокалипсис читается как зашифрованная аллегория современных политических событий.
Яркий пример данного подхода - популярная книга Хэла Линдсея «Покойная великая планета Земля», впервые изданная в 1970 году[7]. Линдсей отождествил зверя из бездны с СССР и выступил во имя евангельского христианства как бескомпромиссный сторонник «холодной войны». Его книга разошлась тиражом более 7000000 экземпляров[8]! Как известно, последующие события опровергли толкование Линдсея: в конце 1980-х годов «железный занавес» рухнул. Распался и СССР. Конечно, ничего удивительного в том не было. Сторонники подобного рода стратегий интерпретации попадают впросак начиная со II века, зверя отождествляли и с римским папой, и с Кромвелем, и с Наполеоном, и с Гитлером, и с Горбачевым, - но результат был неизменным. История продолжается, а кликушеству этих толкователей остается место лишь в какой-нибудь экзегетической кунсткамере. Но вот незадача: постоянные неудачи с подобного рода пророчествами никак не отбивают охоту у новых поколений читателей, которые думают, что уж на сей-то раз все точно сработает.
Возьмем недавний пример. Когда в 1991 году начиналась вой-па в Персидском заливе, в некоторых кругах возникло напряженное ожидание, что она перерастет в Армагеддонскую битву (см. Откр 16:14-16). Мне как профессору Нового Завета звонили газетчики от Хартфорда до Хьюстона узнать, считаю ли я Саддама Хусейна антихристом. Я говорил им: если вам и вправду интересно, что может сказать об этой войне Библия, стоит посмотреть другие ее тексты. (См. главу 14.) Однако практически никого не заинтересовало мое сообщение, что фундаментальное свидетельство Нового Завета вообще запрещает христианам воевать. Еще бы! Газетной сенсацией оно никак не станет.
...Как уже понял читатель, предсказательную стратегию прочтения Апокалипсиса я считаю глубоко ошибочной. И не только потому, что предлагаемые идентификации апокалиптических символов с конкретными историческими персонажами постоянно оказывались ложными, но и потому, что такой подход неверно понимает жанр этого текста. Автор Апокалипсиса не собирался предсказывать, что случится спустя 2000 лет. Понимать Апокалипсис в этом смысле - не просто глупая ошибка, но и введение Церкви в заблуждение относительно его вести.
Для ясности возьмем аналогию. Допустим, что появилась секта, считающая толкиеновский «Властелин колец» боговдохновенным пророчеством политических событий, которые произойдут перед 2000 годом. Члены секты будут по горло заняты, соотнося героев книги и мировых политиков 1990-х годов. Некоторые идентификации будут изобретательны и детально проработаны, но нам придется ответить их авторам: «Нет, господа! Вы все напутали. «Властелин колец» вообще о таких вещах не говорит». Нечто подобное можно ответить и сторонникам предсказательного подхода к Апокалипсису.
(Б) Исторический подход. Может быть, лучше читать Апокалипсис как комментарий на политические события того времени, когда жил его автор? Очевидно, что это гораздо более многообещающая стратегия. В еврейской традиции есть такого рода апокалиптические тексты: например, Книга Даниила (кстати, тоже документ сопротивления!) - комментарий и увещевание, обращенное к еврейской общине во времена гонений при Антиoxe IV Епифане (II век до н.э.)[9]. Иоаннов Апокалипсис, усваивая символы этой традиции, как будто приглашает интерпретировать себя в этом ключе. Первые его читатели понимали такую символику «столь же легко, сколь современные читатели ежедневных газет - политические карикатуры»[10]. (Например, американцы, видя в газетах карикатуры с изображением слона и осла, сразу понимают: слон - это республиканцы, а осел - демократы.) По словам Аделы Ярбро Коллинз, «один из самых дорогих и с трудом завоеванных результатов историко-критического изучения Иоаннова Апокалипсиса» состоит в том, что его образы соотносятся с событиями и распространенными эсхатологическими образами I века[11]. Стало быть, задача толкователя - найти, к каким людям и событиям I века, известным нам по другим историческим источникам, относятся символы Апокалипсиса. Надо сказать, эта стратегия чем-то напоминает предсказательный подход. В обоих случаях мы занимаемся последовательной дешифровкой символов. Различие лишь в том, что в одном случае исторические реалии мы ищем в будущем, а в другом - в прошлом.
При такой интерпретации оказывается, что зверь из Откр 13 - Римская империя (или один из ее императоров), причем «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (17:5) - сам Рим, «сидящий» на семи горах (17:9, 18). Конфликты, описанные далее в тексте, истолковываются прежде всего как отражение опыта азийских церквей, столкнувшихся с гонениями и враждебностью при Домициане. Здесь возникает такая проблема: сколь далеко мы можем идти в подобной дешифровке? Сколько образов Апокалипсиса соотносится с реальными историческими лицами и событиями I века? И вот мы видим, что исторический подход приносит на удивление слабые результаты. С одной стороны, у нас слишком мало информации, чтобы мы могли расшифровать все детали кодов. С другой стороны, многие образы повествования относятся не к земным событиям, а к небесным. Более того, многие символы, взятые из израильской пророческой и апокалиптической литературы, выражают представления автора о том, чему следует произойти или что может произойти (но не обязательно реально произошло) в истории. Следовательно, интерпретация Апокалипсиса только как политической аллегории сбрасывает со счетов значительную часть его содержания.
Ценность исторического подхода состоит в том, что он заставляет нас рассматривать Апокалипсис как весть, адресованную Церкви в конкретной ситуации, - как и Евангелия, а Послания Павла были написаны для решения конкретных проблем. В частности, исторический подход обращает наше внимание на непреклонное сопротивление Апокалипсиса Римской империи. Если мы проникнем в причины и следствия этого сопротивления, то окажемся в гуще центральных этических проблем, которые ставит этот странный текст.
(В) Теопоэтический подход. Есть и другая возможность: читать Апокалипсис не как шифр, нуждающийся в дешифровке, а как визионерское богословское и поэтическое изображение духовной обстановки, в которой Церковь все время живет и борется[12]. Элизабет Шюсслер Фьоренца говорит о «теоэтической риторике» Апокалипсиса: возникает «симфония образов», способная порождать «творческое участие» (imaginative participation) со стороны общины[13]. Видения Апокалипсиса адресованы конкретным церквам I века, но их нельзя четко соотнести с конкретными лицами и событиями (или, во всяком случае, их значение не исчерпывается таким прочтением). Видения разоблачают иллюзорную природу «реалистической» политики и открывают истину Божью о человеческой истории. Для зрячего ока нынешний строй земного града построен на эксплуатации и насилии, это злая демоническая пародия на град Божий. И ныне идет великая битва за владычество над миром, ибо Бог, через смерть Иисуса и могущество возвещаемого Слова, очищает мир от сил зла. Пол Минеар говорит об Апокалипсисе следующее:
В этом видении апокалиптический пророк Иоанн объясняет азийским церквам, какие космические силы действуют в истории Иисуса. Какие силы скрыто присутствуют в той солидарности, которая соединяет христиан со страданиями их Господа, и какие силы постоянно пытаются ввести христиан в обман через кажущийся контроль над настоящим и будущим[14].
Апокалипсис - многогранное духовидческое откровение для церкви как общины, вступившей в конфликт с власть предержащими. Он пророчески обличает все земные притязания на власть, все символические порядки, отличные от тех, что принадлежат закланному Агнцу. И если мы будем читать Апокалипсис в этом ключе, такая стратегия интерпретации будет и самой целесообразной, и самой продуктивной для новозаветной этики.
2. Закланный Агнец
В Откровении Иоанновом владычество Христа прямо противопоставляется владычеству кесаря. Фундаментальное политическое утверждение этого документа сопротивления сформулировано в гимне, который воспевают на небесах при звуках седьмой трубы.
Царство мира соделалось Царством Господа нашего и Его Мессии, и будет царствовать во веки веков (Откр 11:15).
Царство Божье - не какая-то потусторонняя сфера: Христос уже обрел власть над «царством мира». Поэтому, если для Луки конфликт между Римом и Евангелием случаен, Апокалипсис делает его неизбежным и необходимым, ибо эсхатологическое владычество Христа исключает все другие притязания[15]. Компромиссы невозможны. Адела Ярбро Коллинз верно понимает радикальность этой позиции:
В обстановке гонений возможны самые разные отклики. Например, можно было написать не апокалипсис, а апологию христианской веры. Но наш автор решил написать именно апокалипсис, да еще с последовательным обличением власти Рима! Это означает, что он разделял фундаментальный богословский принцип зелотов: Царство Божие несовместимо с царством кесаря[16].
Не удивительно, что Иоанна отправили в ссылку, а на его церковь обрушились гонения: они выступили против Римской империи.
Однако есть очень серьезная разница между зелотами и Апокалипсисом. Мы ее ясно увидим, если вдумаемся в центральную христологическую метафору книги: Иисус - «закланный Агнец». В Апокалипсисе Иисус так называется 28 раз. Первый раз это происходит в сцене в небесном тронном зале, когда ищут того, кто бы развернул свиток с семью печатями. Иоанн начинает плакать, ибо не находится достойного это сделать, но его утешает один из «старцев», сидящих перед престолом Божьим:
Не плачь. Вот, Лев от колена Иудина, Корень Давидов, победил и может развернуть сей свиток и снять семь печатей его (Откр 5:5).
Эти слова создают ожидание, что вот-вот появится Иисус во славе, описанной ранее так: «Очи Его - как пламень огненный... голос Его - как шум вод многих... из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его - как солнце, сияющее в силе своей» (Откр 1:12-20). Однако, когда «Лев от колена Иудина» появляется, чтобы развернуть свиток, Он не похож на царя-завоевателя. Мы видим Его подлинную природу:
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных стоял Агнец, как бы закланный... (Откр 5:6).
Этот поразительный образ открывает нам центральную тайну Апокалипсиса: Бог побеждает мир не через использование силы, а через страдания и смерть Иисуса, «свидетеля [martys] верного» (Откр 1:5). Дэвид Барр пишет:
Трудно вообразить более полную перемену ценностей... Ведь Агнец - это Лев! Иисус - Мессия, но свою мессианскую роль Он исполнил крайне необычным способом - через свою смерть. Однако Его смерть не поражение. Именно она сделала Его достойным развернуть свиток, открывающий волю Божью. Иисус победил не силой, а через страдание и слабость. Иоанн объясняет нам: Иисус отвергает роль Льва, отказывается побеждать через использование сверхъестественной силы; мы же должны отныне иначе смотреть на агнцев. Завоевателем становится страдалец, победителем становится жертва[17].
Рим правит через насилие, но истинный Царь царей и Господь господствующих правит через подчинение себя смерти - прямую противоположность вооруженному имперскому насилию. Вот почему только Он достоин.
Когда в кульминационной сцене битвы в Откр 19 Иисус появляется как всадник-победитель на белом коне, Он «облечен в одежду, обагренную кровью». Первая наша мысль: на божественном завоевателе - кровь убитых им врагов, как в предсказаниях Исайи о грядущем «в червленых ризах»:
И попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их (Ис 63:6).
Однако внимание! В Откр 19:13 одежда всадника обагрена кровью до битвы, и за Ним следуют «воинства небесные, облеченные в виссон белый и чистый» (19:14). Оказывается, перед нами та же поразительная тема: всадник - Агнец, а кровь, которой Он обагрен, - Его собственная. Он назван «Словом Божьим», и меч, которым Он поражает народы, исходит из Его уст. Значит, суд Божий происходит через возвещение Слова. Вспоминаются строки из «Могучей крепости» Мартина Лютера:
Хотя орды дьявольские наполнят землю, угрожая нас поглотить,
Мы не вострепещем и не дрогнем: они не в силах одолеть нас.
Князь мира может неистовствовать и начать жестокую войну, -
Но он обречен на поражение. Суд Божий свершится!
Одно маленькое слово покорит его[18].
Буквалистское истолкование битвы в Апокалипсисе совершенно не силах понять, как работают эти символы, как они разрушают символы насилия. Оливер О'Донован подмечает литературный эффект:
Как уже неоднократно отмечалось, в этой картине есть что-то глубоко парадоксальное - Князь мучеников во главе армии завоевателей. Этот образ отрицает самого себя. И он не подтверждает, а отменяет значение политических категорий, которые он использует[19].
Книга, которая сосредоточивает хвалу и поклонение на закланном Агнце, едва ли поощряет принуждение и насилие. Да, Бог свершит Суд над нечестивцами. Он погубит губивших землю (Откр 11:18). Проливавшие кровь святых и пророков увидят, как и их кровь прольется на землю. Но эти события - в руках Божьих. Они не составляют программы для военной акции людей. Иисус, образец для верующей общины, выступает как верный свидетель, побеждающий через страдание.
3. Призвание Святых
Призвание Церкви органично вытекает из христологии Апокалипсиса. Сказанное о 144000 искупленных верно и в отношении всего народа Божьего, первыми плодами которого они являются. «Они следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел» (14:4). Как Иисус пострадал за слово свидетельства своего, так и Его последователям предстоит свидетельствовать и страдать. Автор Апокалипсиса неоднократно призывает общину терпеть и быть верными свидетелями. Об их роли глас с неба говорит:
Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Мессии Его, потому что низвержен обвинитель братьев наших, обвинявший их перед Богом день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не цеплялись за жизнь даже перед лицом смерти (Откр 12:10-11).
Церковь следует за Иисусом, неся пророческое свидетельство против насилия, безнравственности и несправедливости земной империи, претендующей на власть, по праву принадлежащую Богу. Это означает, что ученики Иисусовы поклоняются Богу, а не империи. Они отказываются принимать начертание зверя, тем самым исключая себя из нормальной включенности в экономическую систему (13:16-17; 14:6-11). Они подражают Иисусу в своем бессильном страдании и отказываются согласиться с той иллюзией, что, кто силен, тот прав.
Подробнее всего о действиях, которые заповедуются или запрещаются, Апокалипсис говорит в письмах семи церквам (2:13:22). Они построены по одинаковому композиционному принципу (с незначительными вариациями). Каждое из писем начинается с описания Иисуса, от которого Весть исходит. Затем упоминаются достойные качества конкретной общины, затем - ее недостатки, перечисление которых вводится фразой «но имею против тебя... » Затем идут призыв к покаянию, обетование «побеждающему» и увещевание слушать, что Дух говорит церквам. Но даже здесь описание правильного и неправильного поведения почти не конкретизируется. Автор осуждает, в основном, два греха: участие в идолопоклонстве через поедание идоложертвенного (2:14-15, 20) и самодовольство (2:4-5; 3:1-3, 15-17), возможно, связанное с избытком богатства. Качества, за которые он хвалит общины, также носят общий характер: любовь, вера, служение, терпеливая стойкость (2:19; ср. 2:2-3, 13; 3:10), а также испытание лжеапостолов (2:2). В отличие от самодовольной лаодикийской церкви, церкви смирнская и филадельфийская приветствуются просто за стойкость в нищете и тяготах. Интересно, что только эти две церкви не получают обличения и не слышат призыва к покаянию. Филадельфийцам пророчество говорит: «Ты не много имеешь силы, но ты сохранил слово Мое и не отрекся имени Моего» (3:86). По-видимому, верность имени Иисусову -здесь вопрос актуальный. Верные составляют меньшинство, лишенное силы и страдающее за свое исповедание. Те же, кто идут на компромисс с окружающей культурой, могут избежать страдания, но навлекают на себя суд Божий. Таким образом, письма семи церквам утешают бедствующих (Смирна, Филадельфия) и обличают живущих в комфорте (Сардис, Лаодикия).
Чрезвычайно резкое осуждение произносится на лаодикийскую церковь («так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» 3:15-16). Для нас оно представляет особый интерес.
Ибо ты говоришь: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг... Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся (3:17, 19).
Лаодикийскую церковь усыпила гипнотическая власть богатства, и она включилась в экономическую систему Римской империи. Иоанн же считает это идолопоклонством. Материально состоятельная община пошла на компромисс, а значит, она духовно бедна. Поэтому, хотя Апокалипсис нигде не дает прямых заповедей относительно собственности, он символически соотносит богатство и идолопоклонство.
Семь посланий церквам объединяет призыв более четко очерчивать границы между Церковью и миром. По-видимому, сторонники поедания идоложертвенного думали, что они могут не выделяться из среды «нормальных» членов общества. Возможно, кое-кто даже полагал, будто христиане могут, в качестве гражданской обязанности, участвовать в культе императора и при этом не предавать своей веры в Иисуса. Но Иоанн бьет тревогу. Не случайно послание лаодикийской церкви является кульминацией этого раздела. Компромиссов быть не должно! Церковь, полагающая, что она может спокойно ужиться с экономической системой империи, находится в духовной опасности.
Аналогичное осуждение богатства применимо не только к процветающим христианам, но и к аутсайдерам. Иоаннов рассказ о падении Вавилона уделяет большое внимание экономическим вопросам. Цари, купцы земные, торгующие товарами роскоши и рабами, а также корабельщики, «разбогатевшие от великой роскоши ее», - люди, которые больше всего оплакивают это падение (18:11-20). Автор говорит, что они участвовали в «блудодеянии» Вавилона. В Ветхом Завете понятие блуда относится не столько к сексуальной безнравственности, сколько к идолопоклонству. Разумеется, сексуальную безнравственность Иоанн тоже осуждает: блудники вместе с «боязливыми, неверными, оскверненными, убийцами... чародеями и всеми лжецами» будут отправлены в «озеро, горящее огнем и серой» (21:8). Но, как видно и из этого списка, не сексуальная мораль в первую очередь волнует автора Апокалипсиса.
Падение Вавилона остается для Иоанна пророческим видением, а не политической реальностью. Пока что народ Божий должен свидетельствовать и терпеть противление мира, наполненного враждебными силами. Что ж, это неизбежно при следовании за Иисусом, - подчинение даже до смерти и отказ от насилия.
Одно из самых ярких указаний на это призвание Церкви содержится в середине центральной главы (Откр 13), где описана растущая сила зверя. Зверю дозволено пойти войной на святых и победить их; между тем «все живущие на Земле» поклонятся зверю, кроме тех, чьи имена записаны «в книге жизни у Агнца закланного» (13:7-8). Это зловещий сценарий, казалось бы, призывающий к отчаянным мерам. Может быть, святым стоит сразиться со зверем мечом? Тут Иоанн включает в ткань повествования прямое обращение к общине с пророческим словом, подобно тому, как в начале книге шло обращение к семи церквам:
Кто имеет ухо, да слышит:
если тебе надлежит идти в плен,
ты идешь в плен;
если ты убьешь мечом[20],
надлежит тебе быть убитым мечом.
Здесь терпение и вера святых (Откр 13:9-10).
Этот призыв к терпению (hypomone) и доверию (pistis) означает, что Церковь даже в крайних обстоятельствах не должна прибегать к насилию. Стоит процитировать подробное разъяснение Дж. Кейрда:
Если Бог попускает чудовищу пойти войной на Его народ и победить его, то что остается делать народу Божьему? Он должен дать себя победить, как дал себя победить Господь, чтобы, подобно Господу, одержать победу не от мира сего... Церковь не должна сопротивляться нападкам чудовища, ибо только так можно его остановить. Зло способно на саморазмножение. У него, как у гидры, взамен отрубленной головы вырастает новая. Когда один человек наносит вред другому, тот может отомстить, затаить злобу или на ком-то выместить обиду. Какую бы из этих возможностей он не избрал, к одному злу прибавляется другое, и начинается цепная реакция, распространяющаяся, подобно заразе. Остановить ее можно лишь одним способом: жертва должна проглотить обиду. Вот почему великое испытание есть и великая победа[21].
Конечно, это объяснение - отчасти домысел: Иоанн прямо этого не говорит. Но оно помогает нам лучше понять мысль Аделы Коллинз: Апокалипсис воплощает «синергическое понимание праведного страдания», в котором несправедливая смерть мучеников вносит вклад в наступление Царства[22]. По ее мнению, для автора Апокалипсиса смерть мучеников побуждает Бога отомстить врагу и число мучеников строго фиксировано (ср. 6:9-11, где присутствуют оба мотива). Я не отрицаю, что в унаследованной и переданной Апокалипсисом традиции эти элементы присутствуют. Однако я уверен, что Кейрд дает более глубокое объяснение связи Агнца с Его учениками[23]. Следующие за Агнцем в гонение и смерть не наполняют некую условную квоту мучеников, а исполняют волю Божью. Бог же решил победить зло именно через страдание праведников, а не вопреки ему. Вот почему те, у кого на лбу написано имя Агнца, должны разделить Его судьбу.
4. Новое Небо и новая Земля
Ни одна книга Нового Завета не проникнута столь глубоко эсхатологической тематикой, как Апокалипсис. От начала («время близко» 1:3) до конца («приди, Господи Иисусе!» 22:20) автор горячо ожидает скорого наступления божественного суда и восстановления мира. Это очевидно и не требует доказательства. Однако возникает вопрос: как влияет апокалиптическая эсхатология книги на ее нравственную концепцию? Здесь уместны следующие замечания.
Первое. Надежда на будущее важна для критики нынешнего порядка. Лишь пророческое видение эсхатологического спасения дает возможность верующей общине распознать ложь и иллюзии зверя и лжепророка. Таким образом апокалиптическая эсхатология укрепляет возможность сопротивления несправедливому устройству мира сего. И лишь надежда на окончательное оправдание дает мученикам уверенность при сопротивлении силе зверя. Как работает эта логика, легко увидеть на примере Откр 14. В стихах 1-5 описываются 144000 искупленных, которые стоят с Агнцем на горе Сион. Стихи 6-7 возвещают, что час Суда близок. В стихах 811 описывается падение «Вавилона великого» и мука тех, кто поклонялся зверю. В стихе 12 резюмируется значение этих видений:
Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божий и веру в Иисуса.
Автор заповедует следовать постоянству тех, кто отмечен Агнцем (14:1), а не зверем (14:9)[24]. Видение конца дает основание для призыва Церкви к стойкости и жизни согласно иному устройству, образец которому - Иисус, верный свидетель. Конечный триумф этого альтернативного порядка неизбежен и близок, ибо обещает Иисус: «Гряду скоро!» (22:20).
Второе. Между тем, в период ожидания эсхатологическое видение обеспечивает утешение. (Этот элемент утешения гораздо сильнее выражен в Апокалипсисе, чем у Марка, который развивает во многом сходную апокалиптическую эсхатологию.) О судьбе того множества людей, что пройдут через «великое испытание», ангел говорит:
Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной; ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их (Откр 7:16-17).
Это обетование предвосхищает видение Нового Иерусалима:
[Бог] будет обитать с ними; они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло (Откр 21:3-4).
Хотя эти поэтические описания говорят о будущем, они очень важны для настоящего, ибо предлагают утешение плачущим и страждущим, уверяя их в любви Божьей. Любви, которая ведет их через все испытания.
Третье. Угроза Суда как основание для послушания имплицитно присутствует в Апокалипсисе (напр., 20:11-15), но ее роль существенно меньше, чем, скажем, в Евангелии от Матфея. Поскольку Апокалипсис адресован только избранной общине, он практически не выказывает интереса к призванию аутсайдеров к покаянию. Собственно, один отрывок даже наводит на мысль, что для покаяния осталось слишком мало времени:
Не запечатывай слов пророчества этой книги, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его (Откр 22:10-12).
Более важную роль играют позитивные эсхатологические награды, обещанные «побеждающим», Церкви. Например:
Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божья (Откр 2:76).
«Побеждать» - значит, остаться верным, как бы ни препятствовал этому мир сей. Как отмечает Шраге, это слово «наводит на мысль о борьбе, присущей христианской жизни в межвременье»[25]. Таким образом, слово эсхатологического обетования дает Церкви мотивацию не сломаться в страданиях и терпеть, храня верность.
В свете этих наблюдений было бы неверно говорить, что эсхатология Апокалипсиса внушает читателям пассивность. Совсем наоборот! Она зовет их к бодрости и сопротивлению соблазнам века сего, а также к активному послушанию милостивому Богу, который желает сотворить все новое. Нельзя назвать эсхатологию Апокалипсиса и потусторонней: заметим, что Новый Иерусалим сходит с небес на землю, и в провозвестии об окончательном спасении говорится об «обитании Бога с людьми» (21:2-3), а не наоборот. Правда, это происходит на «новом небе и новой земле» (21:1), но это означает - в Апокалипсисе, как и в пророческих видениях, которые он использует (Ис 65:17-25; 66:22), -что Бог искупил и преобразил творение, а не отменил его.
5. Повествовательный мир Апокалипсиса как контекст для действия
Апокалипсис, читаемый как визионерский документ сопротивления идолопоклонническому социополитическому порядку, неоднократно призывает Церковь к бдительности и пониманию. Его яркий символический мир создает контекст для богоизбранной общины, в котором она может свидетельствовать об Иисусе Христе как Альфе и Омеге, полном воплощении воли Божьей. Кратко перечислим некоторые важные аспекты пророческого видения Иоанна.
Первое. Согласно Апокалипсису, мир расколот на дуалистические противоположности. В мире идет космический конфликт между Богом и «древним змием, называемым дьяволом и сатаною, обольстителем всей вселенной» (12:9). В этом конфликте не может быть компромиссов и нейтралитета: каждый должен выбрать, кому он будет поклоняться. В этом отношении Апокалипсис действительно близок Евангелию от Иоанна и Посланиям Иоанна, с которыми христианская традиция его ассоциировала, хотя его мифические образы зла куда богаче. Подобно Евангелию от Иоанна, автор Апокалипсиса не считает нужным углубляться в этические дебаты и рефлексию: он рассматривает добро и зло, правильное и ложное, как данность и не утруждает себя определениями. Так же, как и в других текстах Иоаннова корпуса, космический дуализм смягчен уверенностью: Бог владычествует над всем и победит зло.
Второе. Одно из проявлений космического дуализма - резкая социальная поляризация между христианской общиной и враждебным миром. Христианская община - крошечная, в культуре своего времени она представляет беззащитное меньшинство, поэтому сочувствие Апокалипсиса - целиком на стороне этих гонимых и маргинальных элементов общества. Об этом наиболее подробно писала Элизабет Шюсслер Фьоренца в различных работах по Откровению Иоаннову.
...Автор Апокалипсиса «смотрит снизу», выражает опыт нищих и бессильных людей, постоянно находящихся перед лицом разного рода угроз. И мир Апокалипсиса - ответ на жизненные тяготы тех христиан, которые в плане современной им политической власти беззащитны[26].
Резкое обличение Апокалипсисом богатства и коммерческой деятельности - одно из выражений этого социального ракурса.
Третье. С этим социальным разделением связано сильное чувство солидарности внутри общины верных. Только ученики Иисусовы отвергли начертание зверя, и только они способны понять загадочные апокалиптические символы Откровения Иоаннова. Их голоса вливаются в небесный хор хвалы, и они ликуют с небесными воинствами о гибели угнетателей:
Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель,
Который есть и был,
что Ты приял силу Твою великую
и воцарился.
И рассвирепели язычники;
и пришел гнев Твой
и время судить мертвых
и дать возмездие рабам Твоим, пророкам
и святым и боящимся имени Твоего,
малым и великим,
и погубить губивших землю (Откр 11:17-18).
Эта-то радость о гибели нечестивцев и дала повод Ницше говорить о «проявлении мстительности». Что ж, Ницше отчасти прав, но то, насколько для нас это представляет моральную проблему, зависит, в частности, от того, как мы относимся к жертвам угнетения - презираем их (подобно Ницше) или сочувствуем им. Но, конечно, в Апокалипсисе нет ни слова о любви к врагам. Грань между Церковью и миром четко очерчена и абсолютна. Враг же в этом символическом мире изображается просто как сила демоническая.
Четвертое. В Апокалипсисе очень сильно чувство эсхатологической неотложности. Предреченные катаклизмы произойдут скоро, и существующий порядок вещей хрупок. Вот почему самодовольство лаодикийской церкви не просто дурно, но и глупо. Иисус говорит: «Гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (22:12).
Пятое. Ощущая хрупкость статус-кво, Апокалипсис все же выражает глубокую уверенность в нравственном порядке вселенной. Это характерно для апокалиптического жанра, уделяющего большое внимание вопросу теодицеи, вопросу о том, кто в конце концов властвует в мире[27]. Души «убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели», взывают к Богу:
Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? (Откр 6:9-10).
Им сказано чуть-чуть подождать, но повествование в целом отвечает на их вопрос: в свое время Бог отплатит за все обиды, и все будет хорошо. Нечестивцы, процветающие ныне, понесут наказание, а страдающие праведники получат награду. Здесь работает та же логика, что и в «заповедях блаженства» у Луки (Лк 6:20-26). У Бога нет произвола. Он справедлив, и Его справедливость в конце концов победит.
Шестое. Сейчас в мире - разгул сил, враждебных Богу и святым, поэтому божественная справедливость принесет радикальную перемену. Одна из основных задач пророческого откровения состоит в том, чтобы показать, каким мир видит Бог, а значит, подтолкнуть общину к переосмыслению реальности. В связи с этим Уэйн Микс пишет:
Задача этого текста - поставить восприятие аудитории с ног на голову, лишить нынешний порядок его могущественнейшего оружия - грубого реализма. Нравственная стратегия Апокалипсиса - разрушить здравый смысл как путеводитель по жизни[28].
Чтобы разрушить сатанинскую власть иллюзии, Апокалипсис должен предложить иное видение мира. И он это делает. Сила воображения этой книги уничтожает кажущееся правдоподобие, на котором основывается статус-кво. Тем самым власть Римской империи лишается своей легитимности, и община готовится услышать истину о грядущем божественном порядке. Это имеет далеко идущие последствия. Например, отсюда следует, что Джек Т. Сандерс очень поспешил обвинить Апокалипсис в уходе от социальных и политических проблем. Напротив, Оливер О'Донован, анализируя политическое свидетельство Апокалипсиса, пишет:
Он сообщает нам надежду, что в той жизни, которую мы призваны жить со Христом, мы можем испытать как социальную реальность ту власть истины и праведности, которой политическое общество мира сего нас постоянно лишало. Будем внимательны к последствиям этого факта! Если основа для нового жизненного порядка - Божье слово суда, произнесенное во Христе, то свидетели, бросавшие этим словом вызов господствующему политическому порядку, не выступали против политики, а противопоставляли ложному политическому порядку порядок истинный. Критику, укорененную в истине, Иоанн считал политическим занятием[29].
В частности, как мы уже говорили, критика Апокалипсисом ложного политического устройства есть критика несправедливого, связанного с угнетением использования богатства и власти. По словам Шюсслер Фьоренцы, «картина, создаваемая Апокалипсисом, бросает вызов символическому дискурсу римской колонизационной власти»[30]. Невозможно вжиться в эту книгу и при этом сохранить комфортное восприятие несправедливости мира сего.
Отсюда видно: правильно читать Апокалипсис могут лишь те, кто активно сражается с несправедливостью. Если Апокалипсис - документ сопротивления, то его поймут лишь те, кто оказывает сопротивление. Не случайно самые сильные современные интерпретации Апокалипсиса вышли из-под пера людей маргинального социального статуса, которые звали Церковь к контркультурному сопротивлению. Среди них - Мартин Лютер Кинг, Уильям Стрингфеллоу, Алан Бёсак[31]. Когда этот текст читают сытые и довольные представители большинства, происходит нечто странное: Апокалипсис становится настоящей золотой жилой для параноидальных фантазий, для проповеди мести и разрушения. Как пишет Шюсслер Фьоренца, Апокалипсис породит верный теоэтический отклик лишь в тех ситуациях, которые вопиют о справедливости[32].
Такое прочтение Апокалипсиса, пожалуй, особенно красноречиво выражено в «Мы победим» («We Shall Overcome), старой американской песне борцов за гражданские права. Глагол «overcome» был взят из «Библии короля Якова», современные же переводы обычно передают греческое nikan (часто встречающееся в Апокалипсисе[33]) как «conquer». Это слово повторяется рефреном обетования, которое завершает каждое из посланий семи церквам. Например:
Побеждающему дам сесть со мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его (Откр 3:21).
Когда участники маршей свободы из негритянских церквей брались за руки и пели: «Однажды мы победим» (We shall overcome someday), они выражали свою веру в то, что вопреки отсутствию у них обычной политической власти их свидетельство об истине возобладает над насилием и угнетением. Они оказывали ненасильственное сопротивление, и это сопротивление делало аллюзию на Апокалипсис особенно уместной: даже если демонстрантам суждено пережить побои и смерть, они победят мир, оставшись мирными, подобно Агнцу... Конечно, эти замечания - не «экзегеза» Апокалипсиса в строгом смысле слова, но они иллюстрируют социальный ракурс, в котором Апокалипсис должен читаться.
Седьмое. Непреходящее этическое значение Апокалипсиса обязано его богатым образам. Текст буквально пульсирует теопоэтической энергией, находящей выражение в многочисленных песнях хвалы и поклонения. Неслучайно Мильтон черпал вдохновение в Апокалипсисе, и Гендель нашел в нем же лирику для кульминационного звучания хоров в «Мессии» («Аллилуйя» и «Достоин Агнец»):
Царство мира сего соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать во веки веков (основано на Откр 11:15).
Петь такую песню - политический акт. Более того, этот акт тем более силен, что слова именно поются: ведь к хору могут присоединиться и другие люди, запечатлев песню в своей памяти. Интересно, что Апокалипсис начинается с благословения тем, кто должен «исполнить» его:
Блажен читающий вслух слова этого пророчества, и блаженны слышащие и соблюдающие написанное в нем (Откр 1:3).
Чтобы этот текст полностью подействовал, его надо прочесть вслух. Он и впрямь, как сценарий для пьесы, - пьесы, в которой читатели оказываются исполнителями. На уровне обыденного разума Апокалипсис причудлив и непонятен, но его богатая метафорика сделала его неиссякаемым источником для церковного искусства и литургии, а значит, - добавила сил сопротивлению общины в мире, который ревностно поклоняется зверю. Имеющий уши да слышит.
Часть вторая: Синтетическая задача: поиск когерентности в нравственной концепции НОВОГО Завета
Глава 9. Различные голоса в Новозаветном Каноне
Новый Завет - не простой и не однородный корпус доктрин. Скорее, он представляет собой хор голосов. Голосов, отличающихся не только интонацией, но и содержанием своей вести. И сколь бы ни ранило это наше благочестие, мы не можем заставить новозаветные тексты звучать в унисон. Попытка навязать им такое звучание в лучшем случае притупит наше восприятие, а в худшем - приведет к неправильной интерпретации.
1. Какофония или полифония?
До сих пор в нашем обзоре мы руководствовались намерением услышать индивидуальный голос каждого свидетеля. И даже если апокалиптизм Марка выглядит суровым, мрачным и тревожным, мы должны противиться искушению слегка (или даже не слегка) скорректировать его по Евангелиям от Матфея и Луки. Даже если дуалистические инвективы Иоанна против «иудеев» звучат нетерпимо, мы должны противиться искушению интерпретировать их в свете эсхатологической надежды Павла на единство иудеев и язычников во Христе. Даже если Павлово учение о подчинении «властям» в Рим 13 выглядит молчаливой уступкой несправедливому порядку, мы не должны пытаться услышать в нем громовые раскаты Откр 13.
Если не позволить говорить индивидуальным текстам, Новый Завет едва ли вступит в противоречие с нашими ценностями и желаниями[1]. В этом случае при встрече с отрывком, который бросает нам вызов, мы будем нейтрализовать его силу через апелляцию к какому-нибудь другому тексту. Например, у Луки Иисус говорит: «Всякий из вас, кто не откажется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк 14:33). Это тревожное слово! Как же его понять? Обратившись к 2 Кор 8-9, мы находим менее суровую норму: Павел призывает коринфян щедро жертвовать на иерусалимскую церковь, «чтобы была равномерность» (2 Кор 8:14). Появляется искушение профильтровать Лк 14:33 через учение Павла об экономической ответственности. Соответственно, мы можем сказать: Лк 14:33 означает не то, что там буквально написано, - дескать, «на самом деле» речь идет лишь о необходимости делиться или об отрешенности от богатства. Однако такая интерпретация заглушает призыв Луки к ученичеству[2].
Конечно, наша греховная изобретательность может найти и другие лазейки, другие способы уйти от нравственных требований Нового Завета. И все же ей во многом будет поставлен заслон, если мы установим твердое методологическое правило: тщательно вслушиваться в свидетельство каждого текста в целом. Скажем, Лк 14:33 следует читать не в свете пасторских наставлений Павла, а именно в свете описания Лукой раннехристианских экономических обычаев (см. особенно Деяния об общности имущества в иерусалимской церкви). Лука и Павел здесь несколько друг другу противоречат, поэтому неправомерно пользоваться Лукой для объяснения Павла, и наоборот. Только когда мы рассмотрим каждого из них по отдельности, мы увидим герменевтическую проблему в правильном свете. Как интерпретаторы мы в первую очередь обязаны прислушиваться к индивидуальным свидетелям.
Однако, после того как мы выслушали каждое из свидетельств по отдельности, неминуемо возникает вопрос о когерентности. Что есть Новый Завет? Полифоническая хоральная композиция, оркестрируемая Богом и исполняемая человеческими голосами под дирижированием Святого Духа? Или это нестройная хаотическая какофония? Церковь традиционно считает Новый Завет руководством в вопросах веры и обычаев, но, как можно ему следовать, если в нем никакой особой цельности нет? «Если труба будет издавать неопределенный звук [phone], кто станет готовиться к сражению?» (1 Кор 14:8). Как эти различные древние тексты работают в качестве канона? (Слово «канон» происходит от греческого капбп, т.е. «правило», «мера»). Возможно ли в канонических текстах распознать некую целостность, единство? Лишь в случае утвердительного ответа на этот последний вопрос мы вправе говорить о новозаветной этике как о нормативной богословской дисциплине.
Переходя к суждению о единстве новозаветных текстов, мы переходим от простого описания к синтетической задаче в смысле греческого synthesis («складывание вместе»). Мы должны сложить воедино различные голоса внутри новозаветного канона. Прилагательное «синтетический» может нести коннотацию «искусственный». Это означает, что синтез - не «естественное» образование, а продукт человеческого творчества. Соответственно, синтез новозаветной этики представляет собой искусственный продукт, конструкт, созданный экзегетом или - поскольку экзегеты работают не в изоляции - общиной. Разумеется, осознание этого факта не отменяет необходимости или легитимности синтетического суждения. Оно лишь заставляет нас осознать наши ограничения. Всякая концепция единства новозаветного канона есть «перфоманс», аналогичный прочтению режиссером шекспировской пьесы, - прочтению, пытающемуся выявить форму и смысл целого[3].
Каким же образом можно попытаться обнаружить в каноне нравственную когерентность? Методологически неуязвимых путей здесь нет. У нас есть только одна возможность: внимательно читать тексты и искать в них общие черты, повторяющиеся темы, образы и убеждения. Иными словами, наш подход - индуктивный; мы идем от анализа индивидуальных текстов (см. часть I), а затем, методом проб и ошибок, проверяем на имеющихся фактах разные способы синтеза. Это очень трудно, но иначе Церковь не сможет черпать в Новом Завете нравственные уроки[4]. Итак, мы приступаем к задаче, осознавая, что другие члены верующей общины могут в чем-то дополнить наши выводы или поставить их под сомнение, а также научить нас видеть вещи в более ясном свете.
На следующих страницах я изложу основные методологические правила и предложу несколько центральных образов, которые помогут нам узреть единство, стоящее за новозаветными свидетельствами.
2. Три методологических принципа
(А) Рассматривать весь спектр канонических свидетельств. Когда мы пытаемся увидеть в новозаветных свидетельствах единство, будь то по общему или частному вопросу, мы должны принять во внимание все тексты, имеющие к нему отношение. Нельзя выдергивать отдельные места, забывая про отрывки, которые могут их уравновесить. И чем более целостным будет наш подход, тем более адекватным будет наше этическое суждение. Остерегайтесь толкователей, которые всегда цитируют только Haustafeln (напр., «рабы, во всем повинуйтесь своим земным господам» Кол 3:22) и пренебрегают Гал 5:1 («Для свободы Христос освободил нас. Стойте же твердо и не покоряйтесь опять игу рабства»), - или наоборот.
(Б) Не надо сглаживать противоречия. Иногда противоречие между двумя текстами выглядит принципиальным. Однако экзегету непозволительно искажать смысл текстов, пытаясь привести их к общему знаменателю. Типичный образец такого искажения - толкование Нагорной проповеди в свете Павла (или, точнее говоря, интерпретации Павла деятелями Реформации): жесткие требования Нагорной проповеди рассматриваются как невозможные для исполнения и предназначенные лишь показать грешникам их полную зависимость от божественной благодати. Эти толкователи попросту затыкают Матфею рот и превращают Нагорную проповедь в инструмент собственного понимания Павлова богословия[5]. Такой подход, разумеется, недопустим.
Следует также противиться искушению сглаживать противоречия через апелляцию к универсальным принципам (любовь, справедливость и т.д.) или диалектические компромиссы. Это чистейший самообман. Ведь, скажем, Рим 13 и Откр 13 не взаимодополняющие выражения некоего единого принципа или единого новозаветного понимания государства[6], а принципиально разные подходы к отношению между христианством и Римской империей. Не вправе мы и решать проблему, подыскивая «золотую середину», которая позволила бы нам спокойно существовать как гражданам современного демократического государства. Если предоставить этим текстам голос, они заставят нас либо сделать выбор между ними, либо отринуть их обоих. И каким бы ни оказался наш синтез новозаветных свидетельств, он должен признавать наличие такого рода противоречий[7]. Мы ищем синтеза, но нельзя в угоду ему искусственно сглаживать острые углы.
В попытке «использовать» Новый Завет для этики следует проявлять осторожность и не выводить универсальные принципы и максимы из текстов, литературный жанр которых плохо поддается подобной аналитической редукции. Например, притчи, как и апокалиптические образы, сопротивляются парафразу. Какой нравственный принцип можно извлечь из притчи о семени, которое таинственным образом прорастает и тянется вверх (Мк 4:26-29), или притчи о неверном управителе (Лк 16:1-8)? Какую нравственную максиму можно вывести из видения Нового Иерусалима, которому не нужен «свет солнца и луны» (Откр 21:9-22:5)? В поисках этической актуальности нельзя утрачивать остроту восприятия, чуткость к литературным особенностям текста. В конце концов, Новый Завет не сборник этических трактатов. Его главные тексты - повествования (Евангелия и Деяния), Пасторские послания отдельным конгрегациям (Павловы послания) и глубоко символическое апокалиптическое видение (Откровение). Лишь Соборные послания имеют форму нравственного наставления для Церкви в целом. Желая увидеть единство новозаветной этики, мы должны уважать характер этих свидетельств. Единство, которое мы ищем, - это единство текстов, ни теоретических, ни пропозициональных по своему способу выражения.
Эти три методологических принципа помогут нам остаться интеллектуально честными: наш синтез будет уважать тексты и не исказит их смысла. Складывая картинку-загадку, мы оперируем всеми ее кусочками и не подрезаем у этих кусочков углы. Однако сами по себе данные принципы могут привести к расщеплению, а не к синтезу: мы найдем больше противоречий, чем единства. Может показаться, что в новозаветной этике нет ни склада, ни лада. Эрнст Кеземан сформулировал проблему очень остро:
Новозаветный канон как таковой не обеспечивает основы для единства Церкви. Скорее, он дает основу для разнообразия в исповеданиях веры[8].
Итак, перед нами вопрос: вправе ли мы считать, что за многообразием стоит некое единство? Или, применительно к этике: можно ли, уважая вышеизложенные принципы, обнаружить в Новом Завете общую этическую позицию? Христианская традиция отвечает на этот вопрос утвердительно. Однако в чем же тогда состоит это единство?
Глава 10. Три центральных образа: община, крест, Новое творение
Единство Нового Завета - это не единство догматической системы. Оно менее жесткое. Скорее, Новый Завет представляет собой собрание документов, которые по-разному пересказывают и комментируют один и тот же рассказ[1]. Суть рассказа вкратце такова:
Бог Израилев, Творец мира, совершил, через смерть и воскресение Иисуса, поразительный акт спасения погибающего мира. Масштабы спасения еще не проявились в полной мере, но Бог уже создал общину свидетелей этой Благой вести - Церковь. Ожидая великого завершения Рассказа, церковь, облеченная Духом Святым, призвана подражать Иисусу Христу в его любви и послушании и тем самым служить знамением искупительного замысла Бога о мире.
Разные новозаветные авторы подчеркивают разные стороны Рассказа. Например, для Луки особенно важна роль Святого Духа, вдохновляющего свидетельство Церкви. Напротив, Марк упоминает о ней лишь мимоходом (напр., Мк 13:11). Мы встречаем различие в избираемых ракурсах и в концептуальных категориях. Скажем, степень преемственности между Израилем и Церковью оценивается авторами по-разному. Поэтому не стоит, так сказать, класть эти разные тексты в миксер, стремясь получить гармонизированную версию Рассказа, эдакий современный Диатессарон[2].
Однако можно выявить ключевые образы, общие для всех канонических свидетельств. Почему в качестве основы для когерентности мы выбираем именно образы, а не понятия или доктрины? Как показал Дэвид Келси, всякое богословское прочтение Писания опирается на «отдельное синоптическое творческое суждение», в котором интерпретатор «пытается понять суть христианства»[3].
Коротко говоря: в основе любой богословской позиции лежит творческий акт. В этом акте богослов, осуществляя метафорическое суждение, пытается постичь многогранность присутствия Бога в действиях, через действия и вопреки действиям, составляющим общую жизнь церкви. Этот акт также предоставляет discrimen, с помощью которого богословие критикует существующие в церкви формы речи и жизни и определяет конкретную «форму» богословской «позиции»[4].
Это метафорическое суждение не только формирует «решения о том, как понимать и использовать конкретные библейские тексты», но и определяет «понимание богословом цельности Писания»[5]. Иными словами, единство Писания постигается лишь через акт метафорического воображения, который наделяет разрозненные тексты единым фокусом. Келси не вводит термин «образ» для описания этой характеристики; его примеры («понятийный модус», «конкретная реальность» и «идеальная возможность») наводят на мысль, что он мыслит скорее в категориях понятий (Begriffe), чем образов (Vorstellungeri). Однако, принимая во внимание его акцент на роль метафоры и воображения в формировании таких синоптических суждений, я считаю, что идею Келси лучше развивать, выявляя библейские образы, в которых конкретизируется это синтетическое метафорическое суждение. (Например, богословие освобождения считает образ «освобождения», связанный с рассказом об исходе, - квинтэссенцией Писания.) И я собираюсь найти в Новом Завете именно такие образы, представляющие его повествовательную когерентность.
Эта стратегия уважает литературную форму текстов. (См. третий методологический принцип в разделе 9.2.) Хотя некоторые новозаветные тексты и содержат концептуальную рефлексию второго порядка[6], многие важнейшие произведения имеют форму рассказов с минимальным прямым комментарием второго порядка. Рассматривая ключевые образы, мы имеем гораздо лучший шанс вскрыть общие элементы, присущие разным типам дискурса, не навязывая повествовательным материалам концептуальных абстракций и не пытаясь придать Пасторским посланиям повествовательный модус. Если мы хотим, чтобы искомые образы дали адекватное выражение единству новозаветной нравственной концепции, они должны вырастать из самих текстов, а не быть искусственно в них привнесены.
Эти образы - своего рода корневые метафоры (root metaphors). Они вмещают в себя ключевые элементы повествования и фокусируют наше внимание на том, что объединяет различные свидетельства[7]. Они представляют собой своего рода линзы, через которые мы видим Новый Завет: когда мы смотрим на канонические документы сквозь эти образы, нашему взору предстают уже не тусклые и расплывающиеся очертания, а сфокусированная картина. Можно провести аналогию с Правилом Веры, которое использовали Ириней Лионский и другие патриотические авторы: образы одновременно резюмируют рассказ, который рассказывает (или предполагает) Писание, и направляют интерпретацию конкретных текстов, помещая их в когерентную повествовательную канву[8]. Важно понимать: такие синтетические образы не заменяют новозаветных текстов, но фокусируют и направляют интерпретацию Нового Завета, нашего главного источника и авторитета в вопросах богословия и этики.
Очевидно, что ключевые образы сыграют колоссальную роль при дальнейшем нормативном использовании Нового Завета в этической дискуссии и формировании общины. Допустим, например, что мы решили: один из центральных новозаветных образов - «упорядоченное домохозяйство». (К этому выводу мы вполне могли бы прийти, если бы стали считать Пасторские послания центром тяжести в Новом Завете.) Тогда для Церкви было бы естественно усвоить иерархические структуры и обычаи, которые подчеркивают авторитет и стабильность... Но предположим, что ключевой образ - не «упорядоченное домохозяйство», а «свобода от Закона и традиции». (К этому выводу мы вполне могли бы прийти, если бы стали считать центром тяжести Послание к Галатам и Мк 7:1-23). Тогда мы могли бы отринуть властные структуры и развить обычаи, подчеркивающие неформальный характер водительства Духом.
Как видно, разные образы стимулируют разное поведение[9]. Поэтому очевидно, что нам не обойтись без критериев. С помощью каких критериев мы отличим хороший синтез от плохого?
Я предлагаю три критерия. Они помогут дать оценку темам и образам, предлагаемым в качестве линз для выявления когерентности нравственной концепции Нового Завета.
• Имеет ли предлагаемый образ текстуальную основу во всех канонических свидетельствах? Чем чаще встречается тема или образ в Новом Завете, тем больше оснований у нас считать, что она артикулирует какую-то часть его когерентной нравственной концепции.
• Находится ли предлагаемый образ в серьезном противоречии с этическими учениями или основными эмфазами какого-либо из новозаветных текстов? Если да, то это говорит против данной гипотезы.
• Высвечивает ли предлагаемый образ центральные и существенные этические заботы текстов, в которых он встречается? Иногда мы видим, что ряд текстов выражает согласие по какому-либо второстепенному вопросу (например, по вопросу о прелюбодеянии), но это все же не позволяет увидеть новозаветную этику в достаточно целостной перспективе.
Оказывается, два вышеизложенных предложения («упорядоченное домохозяйство» и «свобода от Закона») не удовлетворяют этим трем критериям. В самом деле:
• Первый критерий. Тема «свободы от Закона» в Новом Завете встречается чаще, чем тема «упорядоченного домохозяйства». Стало быть, шансы второй из этих тем считаться синтетическим образом для новозаветной этики снижаются.
• Второй критерий. Идея «свободы от Закона» противоречит некоторым важным новозаветным текстам (Евангелие от Матфея, Послание Иакова, Пастырские послания). Идея «упорядоченного домохозяйства» не противоречит ни одному из центральных учений какого-либо из новозаветных текстов, - хотя призыв синоптических Евангелий к радикальному ученичеству потенциально деструктивен для семейного порядка (напр., Мк 3:31-35; 10:28-31; Лк 14:26). Соответственно, второй критерий показывает, что «свободу от Закона» в меньшей степени можно считать основой для единства, чем «упорядоченное домохозяйство».
• Третий критерий. Здесь не проходят оба предложения. Каждое из них само по себе представляет собой сильно урезанное описание новозаветной нравственной концепции.
Многогранное единство Нового Завета невозможно адекватно выразить в каком-либо одном образе. Поскольку эти тексты пересказывают и интерпретируют повествование, их весть отражает многогранность и временною динамику опыта, облеченного в сюжет. Следовательно, нам нужен кластер или, скорее, последовательность образов, которые представляли бы Рассказ и придавали текстам фокус. На основе проделанного нами в части I описания новозаветных текстов я предлагаю три таких образа для синтетического размышления о новозаветном каноне: община, крест и новое творение. Если мы посмотрим через них на разнообразие новозаветных текстов, мы лучше поймем эти тексты в контексте цельного рассказа Писания о милости Божьей. Итак, рассмотрим эти образы по очереди.
1. Община
Церковь - контркультурная община ученичества, и именно ей в первую очередь адресованы божественные императивы. Библия рассказывает о замысле Бога относительно Его народа. Таким образом, главная сфера нравственной заботы - не характер индивида, а совместное послушание Церкви. Обратим внимание на формулировку Павла:
Представьте тела [somata, мн. ч.] ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу... И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего (Рим 12:1-2).
Община в своей совместной жизни призвана воплощать альтернативный порядок, который служит знамением Божьего замысла о мире. «Община» - не просто понятие. Речь идет о конкретном социальном проявлении народа Божьего. Подошло бы и слово «церковь», но его можно неверно понять как относящееся к институциональной иерархии. Термин «община» более точно передает совместность пребывания народа Божьего во Христе. Многие новозаветные тексты описывают разные грани этого образа: Церковь - тело Христово, Израиль в пустыне, Храм, построенный из живых камней. Мы начинаем видеть когерентность новозаветной этики только тогда, когда осмысливаем ее в категориях общины[10], то есть когда мы спрашиваем в первую очередь не «что я должен делать?», а «что мы должны делать?»[11].
2. Крест
Крестная смерть Иисуса - образец верности Богу в нашем мире. Община ощущает и выражает присутствие Царства Божьего, участвуя в «койнонии Его страданий» (Флп 3:10). Новозаветные тексты описывают смерть Иисуса как акт жертвенной любви и призывают общину взять крест и следовать путем, который определяется этой смертью. (Если осмыслить «подражание Христу» в этих категориях, то исчезнет популярное разделение между ученичеством и подражанием[12]. Быть учеником Иисусовым, значит, уподобляться Ему, исполняя Его призыв нести крест.) Смерть Иисуса несет с собой обетование о воскресении, но сила воскресения - в Божьих руках, а не в наших. Критерий наших поступков - не в их практической целесообразности, а в их соответствии примеру, явленному Иисусом[13]. Поэтому роль общины парадоксальна:
Пока мы живы, мы непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова стала зримой в нашей смертной плоти (2 Кор 4:11).
Таковы призвание и задача Церкви. Они противоречат здравому смыслу - вспомним протесты Петра против слов Иисуса о несении креста (Мк 8:31-38)! - но новозаветные тексты единодушно говорят о подражании Христу как пути послушания:
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов[14] (Гал 6:2).
Некоторые богословы выражали сомнения в том, что крест - подходящая парадигма для христианской этики. Поэтому без пояснений не обойтись[15]. Образ креста не должен использоваться власть имущими, чтобы добиться безропотного страдания беззащитных. Напротив, новозаветные тексты настаивают: путем страдания должна следовать община в целом. Новозаветные авторы постоянно обращаются к образу креста, чтобы призвать людей, имеющих власть и привилегии, отказаться от них ради слабых (Мк 10:42-45; Рим 15:1-3; 1 Кор 8:1-11:1 и т.д.). Яркий пример - патриархальные отношения в семье: именно мужья, а не жены призваны подражать Христу, отдавая себя ради другого (Еф 5:25). Интерпретировать такой текст, заповедующий мужьям любить жен и нежно заботиться о них, как легитимацию угнетения мужем жены или его физического насилия над ней - просто кощунство. Именно образ креста помогает ученикам Христовым, равно мужчинам и женщинам, разглядеть в Новом Завете призыв к отказу от насилия и принуждения[16].
3. Новое творение
Церковь воплощает силу воскресения среди еще не искупленного мира. Понятием «новое творение» мы здесь обозначаем диалектическую эсхатологию, которая красной линией проходит через весь Новый Завет[17]. В нынешнее время, между воскресением и парусией, новое творение уже присутствует, хотя и не полностью.
Все творение совокупно стенает и мучается доныне. И не только творение, но и мы сами, имея первые плоды Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тел наших (Рим 8:22-23).
Эсхатологичность жизни во Христе придает христианскому существованию странную особенность: христиане могут одновременно радоваться в страдании и ждать, когда нынешний порядок вещей пройдет. Мы не можем повторить фразу из популярной рекламы: «Лучше не бывает», - ибо знаем, что будет лучше. Мы - как волхвы у Элиота: нам нет «покоя в старых владеньях»[18].
Или, вспоминая замечательную фразу Павла: церковь – община тех, «на ком встретились концы веков» (1 Кор 10:11)[19]. Мы знаем, что во Христе силы ветхого века приговорены, и уже явлено новое творение. Но утверждать о полном присутствии этого творения пока невозможно, а потому мы делаем эсхатологическую оговорку: «еще не время». Таким образом, новозаветная эсхатология выносит суд как над нашим отчаянием, так и над нашим самодовольством. Всякий раз, когда мы вкушаем хлеб и пьем от чаши, мы возвещаем смерть Господа... доколе Он не придет. Именно в этом аномальном, наполненном надеждой интервале новозаветные авторы и пытаются осмыслить волю Божью об общине[20].
Таковы три образа, которые помогут нам вынести этические уроки из новозаветных текстов. Необходимо, однако, сделать несколько пояснений относительно того, откуда они взялись, как их использовать и каковы их ограничения.
Первое. Не следует полагать, что эти образы - результат строго научного или объективного толкования каких-то новозаветных текстов. Действительно, я пришел к ним в ходе долгих лет преподавания Нового Завета и индуктивного размышления над его цельностью. (Некоторые результаты такой индукции я представил в части I.) Однако не менее верно и другое: на мое критическое прочтение текстов оказала глубокое влияние моя принадлежность к живой верующей общине, которая научила меня видеть в Писаниях целостное выражение рассказа о божественной благодати. Джордж Линдбек, прочитав один из первых набросков моих размышлений о синтезе, справедливо заметил: они «опираются на магистральную христианскую традицию канонического прочтения, восходящую к Иринею Лионскому», и отражают богословие, «полностью созвучное христологическим, три-нитарным и антимаркионитским решениям церкви»[21]. Общинные обычаи и традиции интерпретации повлияли как на мое решение дескриптивной задачи, так и на мой синтез. Это - яркая иллюстрация того, о чем я говорил ранее: все четыре задачи новозаветной этики тесно взаимосвязаны и пересекаются.
Второе. В своих толкованиях и синтезе я не просто повторяю традиционную точку зрения. Я предлагаю читателю новый интерпретативный «перформанс», продукт живой встречи с текстами, которые ставят вопросы, не обязательно впрямую задаваемые традицией. Я попытался делать то, что должен делать любой серьезный экзегет: слушать тексты с помощью лучших критических методов и определять их свидетельство для настоящего времени. (Яркая иллюстрация - мое прочтение Евангелия от Марка. С интерпретацией, предложенной в главе 3, согласятся многие современные новозаветники. Однако до конца XX века никто в церкви не видел в этом Евангелии парадоксального представления о нравственной жизни и сопротивления эпистемологическому закрытию). Это означает, что решение мною дескриптивной и синтетической задач не решает вопрос раз и навсегда. Вопрос лишь в том, насколько оно полезно. Другие читатели, настроенные не менее серьезно, могут взглянуть на новозаветные тексты в ином ракурсе. Никто не заставляет нас читать их как размышления о рассказе, ключевые образы которого - община, крест и новое творение. Я хочу сказать лишь одно: синтетическое прочтение, ориентирующееся на эти образы, действительно способно увидеть в Новом Завете цельную нравственную концепцию.
Третье. Прочтение новозаветных свидетельств в свете этих ключевых образов не снимает автоматически всех противоречий и трудностей. Оно не позволяет закрыть споры о том, как использовать Новый Завет в наше время. Оно лишь подводит нас к следующему шагу - герменевтическому размышлению. Собственно говоря, и функция-то этих образов раскроется лишь в ходе нашего использования их в части IV, когда мы попытаемся перейти к решению конкретных этических проблем.
Четвертое. Можно спросить, важна ли последовательность образов. Я бы сказал, что она важна. Ставя общину на первое место, мы утверждаем: Божий замысел о богоизбранном народе предшествует самим новозаветным текстам, ибо Церковь находится в глубокой преемственности с Израилем[22]. Ставя крест в середину, мы утверждаем: смерть Иисуса - кульминация и поворотная точка эсхатологической драмы. Ставя новое творение на последнее место, мы утверждаем: Церковь живет в ожидании будущего искупления Богом творения. Иными словами, эти образы следует осмысливать в рамках единого сюжета.
Пятое. Можно спросить, не становятся ли община, крест и новое творение де-факто каноном в каноне, если их использовать так, как я предлагаю[23]. Ответ - да, становятся, хотя и несколько необычным способом. Они превращаются в «правило» для интерпретации. Однако они не заменяют и не исключают ни одного из канонических текстов. Следует четко помнить о функции этих синтетических образов. Это не принципы, которые можно применять к анализу этических вопросов независимо от текстов, из которых они взяты. Они - линзы, которые помещают канонические тексты в фокус и позволяют увидеть центральные и фундаментальные моменты в этической концепции Нового Завета в целом.
4. Почему любви и освобождения недостаточно
Некоторых читателей может удивить, что я не предлагаю любовь в качестве одной из объединяющих тем для новозаветной этики. Ведь, согласно распространенному мнению, Новый Завет говорит в первую очередь о любви! И если мы откроем Павловы послания, Евангелие от Иоанна или Иоанновы послания, то увидим, что в них любовь - главный элемент (или один из главных элементов) христианской жизни. Любовь - «превосходнейший путь» (1 Кор 12:31-13:13), исполнение Закона (Рим 13:8), новая заповедь Иисуса (Ин 13:34-35), откровение свойств Бога, которые должны быть отражены в отношениях внутри общины верующих (1 Ин 4:7-8).
Действительно, в этих текстах любовь лежит в основе христианской жизни. Однако я не случайно исключил ее из числа центральных образов. Причин тому несколько.
Первая причина. Любовь не удовлетворяет первому из вышеперечисленных критериев, которые мы обсуждали в начале главы. Ряд новозаветных авторов не делает центрального тематического акцента на любви.
В Евангелии от Марка двойная заповедь любви (Мк 12:28-34) -изолированный элемент, не подкрепленный в рассказе другими ссылками на любовь. В своем повествовательном контексте эта перикопа, часть цикла эпизодов со спорами (11:27-12:44), показывает, что еврейские религиозные власти осуждены теми самыми нормами, которые они признают[24]. Да, конкретно в этом отрывке любовь играет большую роль: величайшие заповеди Торы - любовь к Богу (Втор 6:4-5) и ближнему (Лев 19:18). Однако у Марка пришествие Иисуса затмевает Тору. Следовательно, христианское ученичество состоит не просто в исполнении заповедей Закона, хотя бы и величайших. Нигде в Евангелии от Марка Иисус не заповедует ученикам любви; ученичество определяется не через любовь, а через взятие на себя креста и следование за Иисусом. Если бы Евангелие от Марка было единственным в новозаветном каноне, было бы очень трудно постулировать любовь в качестве одного из основных мотивов христианской этики[25].
Послание к Евреям и Апокалипсис упоминают о любви лишь эпизодически. В основном эти упоминания касаются любви Божьей к людям, как, например, в Евр 12:6, где цитируется Притч 3:12: «Господь, кого любит, того наказывает». Лишь однажды Послание к Евреям говорит о любви как об идеале или императиве:
Будем держаться исповедания нашей надежды неуклонно, ибо верен Обещавший. И подумаем, как поощрять друг друга к любви и добрым делам, не забывая встречаться (как есть у некоторых обычай); но будем увещевать друг друга, - тем более, что вы видите приближение этого Дня (Евр 10:23-25).
Послание к Евреям, как видно даже из этого увещания, делает акцент не столько на любовь, сколько на такие качества, как терпение и верность исповеданию, - по примеру Иисуса, который был послушен в страдании (5:7-10; 12:1-2).
Апокалипсис также акцентирует в первую очередь свидетельство и терпение святых, которые «не возлюбили свои жизни даже до смерти» (Откр 12:11). Единственные упоминания о любви как о качестве или обязанности общины можно встретить в двух кратких отрывках в посланиях семи церквам. В одном случае фиатирскую церковь хвалят за ряд добродетелей, среди которых упомянута и любовь: «Знаю твои дела - твою любовь, веру, служение и терпение...» (Откр 2:19). (Похвала, впрочем, несколько теряется на фоне сурового упрека в последующих стихах.) В другом случае эфесская церковь укоряется в недостатке любви:
Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела (Откр 2:4-5).
Я бы не сказал, что авторы Послания к Евреям и Апокалипсиса индифферентны к любви. Но уж очень редко они о ней упоминают. И при всяком таком упоминании любовь практически идентифицируется с добрыми делами, - лишь в Откр 2:4 мы видим намек на то, что любовь есть нечто большее, чем просто хорошее поведение. В общем, Послание к Евреям и Апокалипсис можно присоединить к Евангелию от Марка как отражение нравственной концепции, в которой любовь не является одним из ключевых факторов. Вместо этого все три вышеназванных свидетельства зовут Церковь к строгому послушанию в страдании - по примеру Иисуса.
Еще более поразительное свидетельство - Деяния Апостолов. В этой книге нет ни слова «любовь», ни слова «любить». Когда Лука резюмирует апостольскую проповедь, он даже не упоминает о любви. Этот наш главный источник по жизни ранней Церкви ни заповедует любовь, ни призывает читателей ее ощущать или претворять в жизнь. Даже в программных описаниях совместной жизни первой иерусалимской общины (2:42-47; 4:32-37) подчеркивается не добродетель любви, а сила Божья и единство. Пожалуй, христианские читатели настолько привыкли считать любовь основной характеристикой христианской жизни, что они подсознательно привносят ее в Деяния. Однако такое толкование излишне сентиментально. Ведь отсутствие в Деяниях слова «любовь» не случайно: оно отражает представления Луки о Церкви. Деяния - книга не о любви, а о силе. Ее главная тема - торжествующее шествие Церкви, облеченной Духом, по римскому миру. Конечно, Лука не выступал против любви: некоторые отрывки - однако их меньше, чем можно предположить, - заповедуют любовь в качестве нормы или правильного отклика на весть Иисуса (Лк 6:27-36; 7:36-50; 10:25-28 [с притчей о милосердном самарянине как примере любви к ближнему]). Однако повествование Деяний о возникновении и росте Церкви никак не получится включить в общий новозаветный синтез под рубрикой «любовь».
Что же получается? Наш краткий обзор показывает, что по крайней мере в четырех важных новозаветных текстах (Евангелии от Марка, Деяниях Апостолов, Послании к Евреям и Апокалипсисе) любовь не входит в число ключевых образов. Иначе говоря, синтез новозаветной Вести, основанный на теме любви, неминуемо выведет эти произведения на периферию канона. И конечно, для нас это неприемлемо. Зато образы общины, креста и нового творения позволяют поместить их в фокус наряду с прочими каноническими свидетельствами. Поэтому, сколь бы важную богословскую роль ни играл мотив любви у Павла и Иоанна, он не может быть общим знаменателем для новозаветной этики.
Вторая причина. Любовь - строго говоря, не образ, а интерпретация образа. То, что Новый Завет подразумевает под «любовью», воплощается в кресте. 1 Ин 3:16 говорит об этом просто и ясно: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас Свою жизнь, - и мы должны полагать жизни свои друг за друга». Содержание слова «любовь» исчерпывающим образом объясняет крестная смерть Иисуса, причем вне ее это слово вообще лишено смысла. Добавлять любовь в качестве четвертого центрального символа было бы не просто излишне: тем самым мы бы перешли от конкретного образа креста к концептуальной абстракции.
Третья причина. (Связана со второй причиной.) Слово «любовь» стало затасканным, утратило способность различать. Им прикрывают самые разные формы потворства собственным желаниям. Стэнли Хауэрвас заметил:
Этика любви - часто лишь прикрытие для этического релятивизма[26].
То и дело слышишь: нельзя предъявлять к членам Церкви слишком высокие требования, ибо «любовь», дескать, включает всех, не будучи особенно взыскательной (например, в плане необходимости делиться или сексуальной верности). Любовью часто даже легитимируют внебрачные сексуальные связи или насилие.
В этих случаях употребление этого понятия обессмысливается! Ведь библейский рассказ учит нас, что нельзя сводить любовь Божью к «включению всех»: подлинная любовь зовет нас к покаянию, строгости, жертве и преображению (см., например, Лк 14:25-35; Евр 12:5-13). Мы можем заново обрести силу любви лишь одним способом: если поймем, что ее смысл открывается в новозаветном рассказе об Иисусе, - а значит, в кресте[27].
С этой последней причиной мы переходим в проблематику более герменевтическую, чем синтетическую. Самой по себе этой причины недостаточно, чтобы отказываться от использования любви в качестве синтетической линзы. Однако в сочетании с другими вышеизложенными соображениями она подсказывает, что при осмыслении новозаветной этики, любовь в качестве центрального образа создаст больше путаницы, чем ясности.
Сходные проблемы возникают при использовании освобождения как центрального образа. Об освобождении много говорят Лука (в двух томах своего сочинения) и Павел. Как показал Дэвид Ренсбергер, возможно даже читать Евангелие от Иоанна как свидетельство освобождения Богом общины, угнетенной отчуждающими силами «мира сего»[28]. Однако сюда не вписывается тематика некоторых других новозаветных текстов. Особенно трудно читать под этим углом Послание к Ефесянам и Пасторские послания. Да и представления Матфея о христианской жизни более ориентированы на порядок и послушание, чем на избавление от угнетателей. Поэтому, хотя освобождение находит более широкую текстуальную поддержку, чем любовь, оно не охватывает всего спектра новозаветных свидетельств. Более того, образ освобождения противоречит этике Пасторских посланий. (См. выше второй критерий, который мы рассматривали в начале главы.) Да, освобождение вправе считаться аутентичным развитием тем, содержащихся в отдельных текстах Нового Завета. Однако оно не обеспечивает основы для синтеза. Если же образ освобождения взять в качестве нормы, то он может послужить критическим принципом, с помощью которого мы заставили бы замолчать некоторые голоса в каноне.
Конечно, у понятия «освобождение» есть свои преимущества. Оно менее абстрактное, чем понятие «любовь». Оно доказало свои богословские возможности благодаря богатым аллюзиям на рассказ об Исходе: оно затрагивает воображение и убедительно связывает Новый Завет с Ветхим. Кроме того, в отличие от любви, освобождение не выхолащивается в концептуальную абстракцию, поскольку указывает на социальные и экономические реалии.
Впрочем, здесь же есть и проблема: понятие «освобождение» легко становится излишне политизированным, теряя связь с новозаветным акцентом на силе Бога как единственной основе надежды и свободы. Когда это происходит, новозаветная «эсхатологическая оговорка» («еще не» спасения) часто ускользает из виду и тонкое равновесие эсхатологической диалектики нарушается. Для новозаветных авторов, использующих данное понятие, освобождение - не политическая программа людей, а обещанное эсхатологическое действие Бога[29]. Поэтому, если любовь лучше всего постигается через образ креста, то освобождение - через образ нового творения. Освобождение уже дано нам через Христа (Гал 5:1), но мы еще ждем освобождения - искупления наших тел, - стеная с творением «в рабстве тлению» (Рим 8:18-25).
Новозаветная этика должна убедительно свидетельствовать о любви и освобождении, но свидетельствовать, включая эти понятия в более фундаментальные категории - категории креста и нового творения[30]. Образы креста и нового творения послужат нам в качестве линз при прочтении новозаветных текстов, говорящих о любви и освобождении. Однако, если мы абстрагируем любовь и освобождение от этих ключевых образов, их смысл исказится. Если же мы сделаем ключевые образы из самих люб-пи и освобождения, то наше прочтение новозаветных канонических свидетельств неминуемо станет ущербным.
Вместе взятые, образы общины, креста и нового творения помещают новозаветную нравственную концепцию в фокус и позволяют нам осмысленно говорить о единстве новозаветной этики. Однако может ли эта матрица образов сохранять свое нормативное значение для нас? Об этом мы поговорим в следующей части книги.
Часть третья: Герменевтическая задача: использование нового завета в христианской этике
Глава 11. Как специалисты по этике используют писание? Диагностические вопросы
Как читать Новый Завет как Весть, обращенную к нам? Проделав синтез, мы выявили основу единства новозаветной этики. Теперь перед нами стоит герменевтическая задача. С помощью каких стратегий толкования можно услышать голос этих текстов сейчас, спустя девятнадцать веков после их написания? Если мы считаем их авторитетом для церкви, то что они означают? Можно ли сказать, что какие-то части или аспекты Нового Завета имеют авторитет в том смысле, в котором другие его части такого авторитета лишены? Что мы имеем в виду, когда говорим об авторитете повествования (например, Деяний Апостолов или одного из Евангелий)?
Это трудные вопросы. Для ответа на них имеет смысл взять труды ряда богословов и посмотреть, как в них используется Новый Завет при решении нормативных задач христианской этики. Анализ экзегетических подходов этих богословов позволит нам увидеть спектр возможных герменевтических стратегий, а также понять, что поставлено на карту в том или ином методологическом решении. Иными словами, прежде чем самим использовать Новый Завет в этических целях, посмотрим, как это делают другие богословы[1]. Я взял подборку из работ пяти крупных экзегетов XX века: Райнхольда Нибура, Карла Барта, Джона Говарда Йодера, Стенли Хауэрваса и Элизабет Шюсслер Фьоренцы. Они оказали большое влияние на Церковь. Хотя профессиональным библеистом является лишь Шюсслер Фьоренца, все пятеро внесли крупный вклад в использование Нового Завета в христианской этике. Конечно, этими пятью подходами герменевтические стратегии не исчерпываются. В конце концов, все они отражают научную культуру Европы и Америки. Четверо из них - протестанты, и только Шюсслер Фьоренца - католичка, причем, как мы увидим, ее точка зрения не соответствует господствующей в католическом нравственном богословии томистской традиции. Тем не менее моя подборка весьма разнообразна и отражает широкий герменевтический спектр. В принципе, этот спектр можно было бы расширить, включив в него представителей других богословских и культурных традиций, например томистской, пятидесятнической, богословия освобождения третьего мира и так далее (число возможностей безгранично)[2]. Однако для целей нашего исследования пяти мыслителей вполне достаточно. Читатели же могут самостоятельно применить подход, который мы используем в части III, к анализу работ других богословов.
Я не претендую на полный охват вопроса о том, как каждый из этих пяти мыслителей использовал Новый Завет. Основное внимание я сосредоточу на теме войны и насилия: на этом примере удобно рассмотреть и сравнить различные методологические подходы.
После сравнительного анализа герменевтических стратегий пяти богословов я предложу некоторые общие размышления и нормативные предложения относительно роли Нового Завета в христианской этике. Я не жду, что каждый читатель согласится с моими нормативными предложениями. Однако хотелось бы, чтобы категории, используемые в данной главе, позволили хотя бы прояснить некоторые различия в существующих в церкви интерпретациях. Кроме того, это обсуждение герменевтической методологии может стимулировать более строгий подход к тому, как мы апеллируем к Писанию в этическом дискурсе.
Однако, прежде чем переходить к обсуждению использования Нового Завета Нибуром, Бартом, Кодером, Хауэрвасом и Шюсслер Фьоренцой, имеет смысл предложить некоторые диагностические категории, список вопросов, которые мы задаем нашим шин мыслителям. Это сделает анализ более предметным и облегчит процесс сравнения.
1. Способы апелляции к писанию
Герменевтическое усвоение Нового Завета требует от нас решения относительно способа этического дискурса, в котором библейские заповеди могут выполнять авторитетную функцию. Какую роль играет Писание в этическом дискурсе? Какого рода утверждения оно скрепляет своим авторитетом? В этической аргументации можно различить четыре различных способа апелляции к тексту[3]. Апеллируя к Писанию, богословы находят в нем источник следующего:
• Правила: непосредственные повеления или запрещения того или иного типа поведения.
• Принципы: исходные положения в нравственном суждении о конкретных поступках.
• Образцы: рассказы и резюме о героях, выказывающих образцовое поведение. (Бывают и отрицательные образцы: люди, совершающие плохие поступки).
• Мир символов, создающий перцептуальные категории, через которые мы интерпретируем реальность[4]. (В целях анализа мы можем различить два взаимосвязанных аспекта мира новозаветных символов: изображение им положения человека и описание им характера Бога.) Все эти способы можно найти не только в богословских размышлениях об этическом значении Писания, но и в самом Писании. Приведем примеры:
• Правила. Сюда относится, скажем, новозаветный запрет на развод (Мк 10:2-12пар.).
• Принципы. Иисус связывает Втор 6:4-5 и Лев 19:18, получая двойную заповедь любви (Мк 12:28-31пар.).
• Образцы. Иисус рассказывает притчу о милосердном самарянине, отвечая на вопрос: «Кто мой ближний?» (Лк 10:29-37). Другой случай: Павел приводит себя в пример для подражания (1 Кор 10:31-11:1). А вот отрицательный образец: рассказ об Анании и Сапфире (Деян 5:1-11).
• Мир символов. Мир символов как контекст для нравственного различения по определению пронизывает весь Новый Завет. Скажем, в Рим 1:19-32 содержится диагноз падшего человеческого состояния без прямой артикуляции моральных директив. В Мф 5:43-48 описывается характер Бога (повелевающего солнцу восходить над злыми и добрыми и посылающего дождь на праведных и неправедных), чтобы показать, какими должны быть ученики.
Присутствие в Новом Завете этих способов дискурса легитимирует их использование в нашей собственной нормативной рефлексии[5]. Так, герменевтическая задача - это отчасти задача правильного соотнесения наших этических норм со способами высказывания в Писании. Далее мы попытаемся установить, какие способы апелляции к Писанию характерны для пяти вышеназванных богословов.
2. Другие источники авторитета
Следующая серьезная герменевтическая проблема новозаветной этики такова: как скоррелировать авторитет нравственной концепции Нового Завета с другими источниками авторитета в богословии? Сколь бы глубоко Церковь не чтила авторитет Писания, лозунг sola Scriptura невозможен и в концептуальном, и в практическом плане: мы интерпретируем Писание не в вакууме. На экзегетов неизбежно влияет определенная традиция интерпретации; они используют разум и опыт, применяя Библию к той ил иной исторической ситуации. Поэтому герменевтическая задача новозаветной этики включает попытку как можно четче сформулировать соотношение между Писанием и другими источниками авторитета. Эти другие источники авторитета часто определяют как предание (традицию), разум и опыт[6]. Эта категоризация эвристически полезна, но здесь необходимо дать продуманные определения каждому из понятий.
Предание (традиция). Когда мы говорим о предании как источнике авторитета для богословия, то имеем в виду не общие культурные обычаи, а старинные достославные церковные особенности богослужения и критического размышления. Сюда прежде всего входят древние общие символы веры и догматы. Затем - труды отдельных богословов, особенно - богословов широко читаемых и почитаемых в церкви в течение длительного периода времени (например, Августина, Фомы Аквинского, Лютера, Кальвина и Уэсли). Как показывают некоторые из этих примеров, традиция может принимать и более локальные формы: отдельные деноминации и культурные движения в рамках вселенской Церкви имеют свои формы верований и обычаев, которые играют существенную роль в том, как рассматриваются этические вопросы. В христианском богословии традиция не должна считаться священной и неприкосновенной: вспомним предупреждения Иисуса о тех, кто «оставляет заповедь Божью и держится предания человеческого» (Мк 7:8пар.). Здесь уместно прибегнуть к классической формуле: Писание - norma normans («нормирующая норма»), а предание - norma normata («нормируемая норма»). Тем не менее предание предоставляет нам отправную точку в интерпретации Писания. Она учит нас читать его с творческим сопереживанием и с духом послушания. Лишь там, где есть забота о свидетельстве предания в церкви, мы можем поддерживать то, что Хауэрвас называет «разговором друг с другом и с Богом...через поколения»[7].
Разум. Когда мы говорим о разуме как источнике авторитета для богословия, то имеем в виду понимание мира, достигнутое через систематическое философское размышление и научное исследование. В плане герменевтики разум - полезное орудие, помогающее оценить интеллигибельность текста, его соотношение с миром, как мы его воспринимаем через другие средства познания. Кроме того, критический разум играет важную роль в историческом изучении Библии, проливая свет на культурный контекст текстов Писания, процесс их написания и передачи. Взаимосвязь между разумом и авторитетом Нового Завета иногда проблематична. Это не потому, что Новый Завет неразумен, а потому, что сам разум всегда в значительной мере культурно обусловлен. Одно из самых важных прозрений философского разума в конце XX века состоит в осознании: универсальный объективный «разум» для нас недоступен[8]. Рациональность - зависимый аспект конкретных миров символов. Следовательно, спрашивая о соотношении между Писанием и «разумом» как источниками авторитета, мы ищем лучший способ скоординировать культурную логику Нового Завета с культурной логикой нашего времени. И здесь нельзя априорно исключать возможность серьезных, а то и неразрешимых, противоречий между этими источниками.
Опыт. Когда мы говорим об опыте как источнике авторитета для богословия, то имеем в виду не только религиозный отдельных людей, но и опыт верующей общины в целом. Частные откровения могут оказаться назидательны, но они могут претендовать на нормативный статус в интерпретации Писания лишь постольку, поскольку усваиваются и подтверждаются более широким опытом общины. (Классический пример - обретение Лютером милости и прощения в Писании. Его личный опыт стал образцом, просвещающим многих, а потому и герменевтической нормой для одной из основных религиозных традиций.) Опыт не только помогает понять смысл текста, но и подтверждает свидетельство Писания в сердцах и жизнях членов общины. Это то, что традиция называет testimonium internum Spiritus Sanctis то, что имел в виду Джон Уэсли, говоря о «религии, основанной на опыте»: опыт - живое усвоение текста, которое, будучи переживаемо в вере, свидетельствует о самом себе.
Я люблю рассказывать эту историю, ибо знаю, что она правдива; Она утоляет мои желания, как ничто другое[9].
Утоление желаний свидетельствует об истинности Писания. Но как быть с опытом, который как будто противоречит тому, о чем говорит Писание? Это - трудная проблема, и мы ею займемся, исследуя труды вышеназванных пяти мыслителей. В любом случае, подобно тому, как на нас неизбежно влияют традиция и культурные нормы рациональности, так мы формируемся как интерпретаторы через личное восприятие Бога и мира. Эту ключевую роль опыта необходимо признать в нашем исследовании новозаветной герменевтики и считаться с ней.
О правильной корреляции Писания с каждым из этих источников авторитета богословы спорят издавна. Подходы к данной проблеме несколько менялись от эпохи к эпохе, но церковь всегда должна здесь стремиться к сбалансированному подходу. Герменевтические баталии в период Реформации касались взаимоотношения церковной традиции с Писанием. Людей Просвещения мучил вопрос соотношения разума с Писанием - спор, продолжавшийся до начала XX века. Ну а в наши дни актуальный вопрос - как соотнести авторитет Писания и опыт. Многие феминистки и богословы освобождения открыто говорят о том, что авторитет Писания должен быть подчинен авторитету критического подхода, рожденного опытом угнетенных или опытом женщин. Однако здесь требуется осторожность. Одно дело - естественная и неизбежная роль опыта в формировании нашей интерпретации текстов, и совсем другое - смелое отношение к личному опыту как независимому от Писания источнику богословского авторитета.
Рассматривая герменевтические стратегии Нибура, Барта, Иодера, Хауэрваса и Шюсслер Фьоренцы, мы будем обращать внимание на то, как каждый из них понимает сравнительную важность четырех источников богословия и как это методологическое решение влияет на их интерпретации новозаветной этики... Однако остается учесть еще один фактор.
3. Исполнение слова
В нашем обзоре герменевтических стратегий пяти мыслителей мы каждый раз будем спрашивать о конкретном воплощении их нравственных концепций. Какие общины стали или могут стать результатом исполнения на практике их интерпретации Писания? Задавая этот вопрос, мы незаметно пересекаем еле заметную теоретическую линию, отделяющую герменевтическую задачу от прагматической[10]. И если мы хотим понять нормативное значение различных прочтений новозаветной этики, такой шаг в сторону прагматического вопроса неизбежен.
Ставя этот вопрос в качестве важной части исследования новозаветной этики, мы соглашаемся со словами Иакова: «Вера без дел мертва» (Иак 2:26б). Иначе говоря, мы смотрим, какие плоды приносит тот или иной подход к новозаветной этике. (Как известно, именно по плодам Иисус учил отличать истинных пророков от ложных: «По плодам их узнаете их» (Мф 7:20).) Важная оговорка: мы не собираемся устраивать суд над личной нравственностью этих пяти богословов. Нас интересует другое: как реализуются в живых общинах веры их программные предложения по использованию Нового Завета в этике. Мы исходим из того, что четко сформулированное и правильное понимание новозаветной этики способствует формированию общин, которые воплощают любовь Божью, как она явлена в Иисусе Христе.
4. Контрольный список
С учетом вышеупомянутых соображений мы теперь можем (оставить диагностический контрольный список, с помощью которого будем оценивать роль Писания в трудах исследователей богословской этики. Общая структура списка соответствует четырсхчастной композиции данной книги, проводя грань между дескриптивным (описательным), синтетическим, герменевтическим и прагматическим аспектами новозаветной этики. Эти вопросы можно было бы задать в гораздо более развернутом виде (тем более, что вопросы в частях I и IV сформулированы очень широко, и требуется вынести краткое резюме относительно многогранных проблем). Однако для наших нынешних целей такой список вполне подойдет. Он поможет структурировать обсуждение.
Использование Писания в этике
I. Дескриптивный (описательный) аспект
Сколь точна/адекватна экзегеза использованных текстов?
II. Синтетический аспект
A. Спектр: сколь широк спектр использованных текстов?
Б. Отбор: какие библейские тексты использованы, а какие - не использованы? Существует ли канон в каноне? Чем определяется отбор текстов?
B. Как интерпретатор обращается с текстами, которые противоречат его или ее позиции?
Г. Какие центральные образы использованы?
III. Герменевтический аспект
А. Каков способ апелляции к тексту? Какую роль играет Писание? Какого рода утверждения оно скрепляет своим авторитетом?
1. Правила
2. Принципы
3. Образцы
4. Мир символов (здесь, в свою очередь, можно выделить два подпункта - положение человека и характер Бога)
Б. На какие другие источники авторитета полагаются интерпретаторы?
1. Предание (традиция)
2. Разум
3. Опыт
IV. Прагматический аспект
Критерий, основанный на плодах: как эти представления воплощаются в живой общине? Заметны ли в общине плоды Духа (Гал 5:22-23)?
Глава 12. Пять выборочных герменевтических стратегий
1. Райнхольд Нибур: христианский реализм
Райнхольд Нибур (1892-1971) - один из крупнейших в XX веке американских протестантских исследователей богословской этики. В 1920-х годах, будучи еще молодым пастором, он активно боролся за профсоюзы в Детройте и имел сильные социалистические и пацифистские симпатии. Интеллектуальным и политическим рубежом явилась его книга «Нравственный человек и безнравственное общество» (1932), написанная после его назначения профессором христианской этики в Объединенной Богословской Семинарии (Нью-Йорк). Нибур пришел к выводу, что его прежний политический идеализм был нереалистичен, и свою последующую деятельность посвятил отстаиванию собственной концепции «христианского реализма», которую он понимал как основанную на Библии профетическую критику правых и левых идеологий. Влияние Нибура трудно переоценить. В середине XX века его статьи и книги олицетворяли собой центральное направление протестантской этики. Он консультировал президентов и высших должностных лиц Вашингтона в эпоху холодной войны. В 1948 году его фотография появилась на обложке журнала «Тайм». То, что сегодня большинство протестантских прихожан считает разумной политической этикой, - не что иное, как популяризированная версия христианского реализма Нибура. В последние годы интеллектуальному пути и общественной карьере Нибура также уделялось немало внимания. Целый ряд авторов обсуждал значение его наследия для христианской этики конца XX века[1].
При дальнейшем обсуждении я не буду пытаться охватить всю мысль Нибура целиком, а лишь резюмирую его взгляды на Иисусову «этику любви» и ее значение для нормативных суждений о христианском участии в войне и актах насилия. Я буду опираться преимущественно на статьи «Этика Иисуса» и «Уместность недостижимого этического идеала», вошедшие в книгу «Опыт интерпретации христианской этики» (1935)[2]. Изучение этой темы позволит увидеть важные аспекты нибуровского наследия. Особенно же нас будет интересовать то, как он в своем богословствовании использует Новый Завет[3].
Подход Нибура к богословской этике
Иисусову этику Нибур понимает как радикальный идеал, связанный исключительно с индивидуальным достижением полного нравственного совершенства[4]. «Ее идеал любви так же соотносим с фактами и потребностями человеческого существования, как Бог пророческой веры соотносим с миром»[5]. Это означает, что Иисусова этика превосходит исторические человеческие возможности. Ее бескомпромиссное требование жертвенной любви - норма для человеческого действия, но «она превосходит человеческие возможности, как и Бог превосходит мир»[6]. По мнению Нибура, эту этику характеризует полное самоотречение.
Абсолютизм и взыскательность Иисусовой этики любви бескомпромиссно противостоят не только естественным порывам эгоизма, но и благоразумным целям самозащиты в ответ на эгоизм окружающих... Любая форма самоутверждения рассматривается и осуждается в выражениях, не требующих комментариев[7].
Здесь Нибур говорит в первую очередь о Нагорной проповеди. Иисус запрещает заботиться даже о минимальных нуждах. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться» (Мф 6:25). Иисусовы поучения против накопления собственности (Мф 6:19-24) и гордыни также рассматриваются Нибуром как требование самоотречения.
Однако самое яркое выражение этики Иисуса радикальной любви содержится в Его учении о непротивлении и любви к врагам.
Отношение Иисуса к возмездию и Его призыв прощать врагов раскрывают нам яснее, чем какой-либо другой элемент в его этике, неприятие тех форм отстаивания своих прав, которые одобряются обществом и естественной моралью[8].
В своем изложении Иисусовой этики Нибур неустанно полемизирует с любыми попытками смягчить радикальность этих учений или ассимилировать их с какой-то более благоразумной этикой. «Согласно учению Иисуса, послушание Богу должно быть абсолютным и не зависеть от каких-либо посторонних соображений»[9]. Скажем, заповедь о непротивлении злу (Мф 5:39) не следует интерпретировать как стратегию изменения вражеского поведения или превращать в запрет на сопротивление насилием. Как пишет Нибур, «Писание не дает ни малейших оснований для построения такой доктрины. Совершенно ясно, что этика Иисуса категорически предписывает несопротивление, а не ненасильственное сопротивление»[10]. Следовательно:
Когда... либеральное христианство развивает идею непротивления злу, превращая ее в обычный протест против насилия в ходе конфликтов, оно лишает нас возможности обнаружить греховный элемент во всяком сопротивлении, всяком конфликте или насильственном принуждении. Применяемая в таком виде, идея приводит скорее к моральной самоуспокоенности, чем к покаянию, причем именно в тех группах, где пороки, возникающие на почве утверждения своих прав, оказываются наиболее скрытыми. В этом состоит слабость христианского пацифизма либеральной Церкви, поддерживающей, прежде всего, социальные группы с экономической властью, достаточной, чтобы отказаться от наиболее насильственных форм принуждения и таким образом осудить их как нехристианские[11].
Нибур рассматривает Иисусово повеление подставлять другую щеку, проходить лишнее поприще, любить врага и прощать 77 раз (Мф 5:38-48; 18:21-22). В нем он усматривает четкое выражение абсолютного божественного стандарта, не допускающего компромиссов.
Однако возникает проблема: нравственное требование этих текстов выходит за грань человеческих возможностей. «Иисус, таким образом, не признаваясь открыто, предъявлял человеческому духу требования, какие ни один смертный человек не способен выполнить»[12]. Поэтому христианским богословам и проповедникам следует понять трансцендентный характер заповедей Иисуса. «Современные амвоны были бы избавлены от значительной доли сентиментальности, если бы тысячи проповедей, произносимых на эти тексты, содержали хотя бы намек на невозможность подобных этических требований для реального человека в реальных ситуациях»[13].
Нибур настаивает: такие учения касаются исключительно индивидуальной религиозной этики, связанной с «бескорыстием», а также «достоинством и красотой человеческого духа»[14]. В сфере социальной и политической жизни людей они не применимы.
И этика Иисуса вообще не касается такой насущной моральной проблемы в жизни любой личности, как проблема установления своего рода перемирия между всевозможными воюющими сторонами. Ей нечего сказать по поводу относительных истин политики и экономики или равновесия сил, существующего и совершенно необходимого даже в самых интимных взаимоотношениях... Эта этика не связана с горизонтальными векторами политической или социальной этики либо с диагоналями, проводимыми этикой индивидуального благоразумия между нравственным идеалом и фактами каждой данной ситуации. У этики Иисуса есть только вертикальное измерение - между волей любящего Бога и волей человека[15].
Так Нибур сформулировал дилемму, которую он рассматривает в статье «Уместность недостижимого этического идеала». Иисус не проповедовал социальной этики. Собственно говоря, до усвоения христианством стоической этики в нем вообще не было социальной этики[16]. Иисусова этика любви носит трансцендентный характер. Она дает идеал личной чистоты и самоотречения, которого невозможно достигнуть ни в одном историческом сообществе людей. Однако какое отношение в таком случае Иисусова этика имеет к нормативной христианской этике?
Очевидно, что здесь велика опасность докетизма. Если Иисусова этика не касается «такой насущной моральной проблемы в жизни любой личности», то у нас есть основание спросить: была ли жизнь Иисуса человеческой жизнью[17]? Считает ли Нибур Иисуса человеком, реально жившим в истории? Он затрагивает эту проблему (не решая ее) в следующих загадочных словах из статьи «Недостижимый этический идеал»:
Связь Христа христианской веры с историческим Иисусом не может быть освещена в пределах данной работы в степени, достаточной, чтобы избежать недоразумений. Пожалуй, будет уместным сказать, что исторический Иисус, по существу, создал Христа веры в жизни ранней церкви и что Его историческая жизнь соотносится с трансцендентным Христом как окончательный и высший символ связи между земной жизнью, историей и трансцендентным, какой она видится пророческой религии[18].
Здесь заметно влияние Пауля Тиллиха - влияние, о котором сам Нибур прямо говорит в предисловии к «Опыту интерпретации христианской этики»[19]. Однако нибуровская формулировка не только вводит докетическую христологию (постулируя онтологическое различие между Иисусом и трансцендентным Христом), но и не решает проблему исторической осуществимости Иисусовой этики. Если Иисус из Назарета был историческим лицом, жившим, подобно всем другим историческим лицам, «между всевозможными воюющими сторонами», то как получилось, что Его этика не затрагивает моральную проблему человеческой жизни? С другой стороны, если жизнь исторического человека Иисуса символизирует трансцендентную реальность, почему для других людей «невозможно» своими действиями участвовать в этой символизации? Похоже, Нибур, сам того не желая, создал себе богословскую проблему, возведя учения Иисуса на сверхчеловеческий пьедестал. Эта дистанция между Иисусом и другими людьми противоречит новозаветным образам Иисуса, а также христологическому определению Халкидонского Собора.
Как бы то ни было, на вопрос об уместности недостижимого идеала Нибур отвечает так: по его мнению, к Иисусову чистому идеалу любви мы можем ближе всего подойти через принцип равной справедливости, ибо равенство - «рациональный и политический вариант закона любви»[20]. Эта идея, которую Нибур проводит в разных работах, в «Опыте интерпретации христианской этики» резюмирована следующим образом:
Из идеала любви в его чистом виде невозможно создать социальную этику, поскольку идеал говорит нам о разрешении конфликтов между двумя людьми, смягчать и ограничивать которые призван закон...В связи с тем, что идеал любви должен быть соотнесен с проблемами мира, где невозможно его полное осуществление, то логическим приспособлением и приложением идеала в таком мире, с его постоянными конфликтами между людьми, стал принцип равенства, ищущий равновесия в конфликте[21].
Стало быть, главная задача христианской этики - формировать реалистическую политику, идущую через существующие политические системы к достижению социального равновесия, где придается максимальное значение равной справедливости. Недостижимый идеал остается уместным, ибо обеспечивает не только «источник норм права», но и «высшую перспективу, в свете которой раскрывается их ограниченность»[22]. Таким образом, «Христос и Крест раскрывают не только возможности, но и пределы смертного человека с тем, чтобы более высокая надежда возникла из покаянного признания этих пределов»[23].
Отсюда ясно, что формальная структура нибуровской этики подчеркнуто консеквенциалистская. Правильность того или иного образа действий определяется через оценку его (предполагаемых) последствий. Писание не дает нам фиксированных правил поведения. Скорее, оно является источником общих принципов, которые мы должны применять к конкретным ситуациям, оценивая вероятные результаты наших поступков. Конечно, при всей неоднозначности исторических ситуаций мы не можем заранее быть уверены в последствиях своих действий. Но мы можем вынести лучшее решение (часто выбирая меньшее из зол), стремясь творить правосудие.
Поэтому христиане не должны в принципе отвергать для себя возможность прибегнуть к насилию и войне. В книге «Нравственный человек и безнравственное общество» Нибур даже приводит аргументы в пользу обращения к насилию в ходе революции.
Если временное насилие может установить справедливую социальную систему и создать возможности для ее сохранения, то нет чисто этических оснований отвергать насилие и революцию... Сделав роковую уступку этики политике и приняв принуждение в качестве одного из необходимых инструментов социального принуждения, мы не можем проводить абсолютные различия между насильственным и ненасильственным типами принуждения, а также между насилием, используемым правительствами, и насилием, используемым революционерами. Если вводить такие различия, то это должны быть различия в последствиях действий. Реальный вопрос состоит в следующем: каковы политические возможности установления справедливости через насилие?[24]
Апелляция к последствиям («установлению справедливости») как высшему оправданию революционного насилия - невзирая на отсутствие юридических оснований для такого рода действий - отличает позицию Нибура от традиционной христианской теории справедливой войны, которая считала возможным вооруженное насилие только с санкции государственной власти.
Впрочем, в большинстве своих трудов Нибур занимался не столько легитимацией революционного насилия, сколько санкционированием насилия именно со стороны государственных властей. Работая в условиях американской демократии, он предполагал роль правительства как защитника справедливости от сил беспорядка. По его мнению, христиане могут взять на себя ответственность за защиту справедливости через использование силы.
Самая суть политики состоит в достижении справедливости через равновесие сил. Равновесие сил - не конфликт, но в основе равновесия лежит напряженность между противостоящими силами. Там, где напряженность, возможен конфликт, а где конфликт, возможно насилие. Таким образом, ответственное отношение к политическому строю делает абсолютное отрицание насилия невозможным. Всегда могут возникать кризисы там, где придется защищать дело справедливости от тех, кто будет пытаться уничтожить его путем насилия[25].
Христианский пацифизм имеет ценность в церкви как «символический образ абсолютизма любви в грешном мире»[26], то есть он напоминает нам об окончательной норме Иисусовой этики любви. Однако он не может быть оправдан в качестве прагматического курса действий.
Очевидно, что для Нибура пацифизм - периферийная позиция, подходящая только для аскетики. Христиане, желающие быть «ответственными» членами общества, понимают: невозможно жить в истории и не грешить, а потому, увы, невозможно не запачкать руки в политической драке и жестокости. «Вместе с Августином мы должны осознать, что мир на земле достигается борьбой»[27].
Занимая эту нормативную позицию по вопросу о насилии, Нибур не отрицает авторитета Нового Завета. Он лишь пытается уважать Иисусов идеал любви «реалистическим» приближением к его требованиям, - когда надо, через насилие.
С точки зрения Нибура, на необходимость такого рода адаптации указывает и новозаветное представление о человеческой природе. Снова и снова Нибур цитирует Рим 7 как отражение библейской антропологии:
Пророческое христианство... требует невозможного и самим этим требованием подчеркивает бессилие и греховность человеческой природы, исторгая из человека крик отчаяния и покаяния: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю... Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?»[28]
Пацифисты, утописты и либеральные оптимисты не способны увидеть «прозрения религии, знающей, что закон любви есть неосуществимая возможность, и умеющей признаваться: «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего»»[29]. Люди вовлечены в диалектическую дилемму между свободой и смертностью. Хотя у них есть способность к самотрансцендентности, им присущ и грех. Из-за греховности человеческой природы эгоизм продолжает утверждать себя в исторических ситуациях. Поэтому для восстановления и поддержания равновесия сил, требуемого принципом равной справедливости, не обойтись без принуждения и насилия. Эта неоднозначность положения человека, в полной мере раскрываемая лишь библейским учением о человеке, делает насилие неизбежной частью реалистической христианской этики.
Постановка диагностических вопросов
С учетом вышесказанного попробуем разобраться в герменевтической стратегии Нибура, используя диагностические вопросы, о которых мы говорили в предыдущей главе. (См. краткий перечень в конце главы 11.)
(А)Дескриптивный (описательный) аспект. Насколько точны и адекватны толкования Нибуром цитируемых им текстов? В целом Нибура нельзя назвать внимательным экзегетом. Его интересуют большие богословские идеи и темы, а не аккуратная экзегеза библейских текстов[30]. Обычно он использует эти тексты не как источник своих богословских построений, а просто как иллюстративный материал.
Экзегетические дискуссии встречаются у Нибура редко. Как правило, он ограничивается краткими, в одно предложение, отрывками, приводя их как максимы или выражения религиозных истин. Используя евангельские материалы, Нибур не обращает особого внимания на повествовательный контекст цитируемых им высказываний. Не пытается он и провести грань между аутентичными речениями исторического Иисуса и последующими добавлениями общины. Поскольку Нибур учился и написал большинство работ еще до развития «анализа редакций», не удивительно, что он не рассматривает богословие отдельных евангелистов. Что касается Павла, то интерпретация Нибуром его посланий находится под сильным влиянием экзегетических традиций Реформации, делающих упор на оправдание грешника через веру. Эта тема затмевает конкретные этические учения Павловых посланий, и Нибур в типичной для своего времени манере не рассматривает учение Павла об оправдании в его историческом контексте - как ответ апостола на проблемы иудео-христианских отношений.
Время от времени мы видим своего рода демифологизацию. Например, слова Лк 10:20 («Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах») Нибур перефразирует так: «Ищите удовлетворение не в победе над злом в земном бытии, а в соответствии вашей жизни ее высшему идеалу»[31]. Обычно он не приводит аргументов в пользу подобных интерпретаций: они у него практически самоочевидны.
(Б) Синтетический аспект. Как мы уже видели, при построении своей этической позиции Нибур использует относительно узкий спектр новозаветных текстов. В Евангелиях он сосредотачивает внимание на «Иисусовой этике», особенно как та выражена в Нагорной проповеди. Иными словами, он занимается высказываниями Иисуса, а повествовательное обрамление, по сути, исключает. Павла он цитирует также очень выборочно: для него особенно важны Рим 7 как классическое выражение «бессилия и греховности человеческой природы»[32], но он почти не обращает внимания на Рим 8 с их описанием преображенной жизни в Духе. Остальной Новый Завет Нибур практически не использует: Евангелие от Иоанна, Деяния Апостолов, Пасторские послания, Послание к Евреям, Послание к Иакову и Откровение не входят в его функциональный канон[33]. Ну а как обстоят дела с Ветхим Заветом? Нибур довольно часто указывает на классических пророков как на образец «пророческой религии», но редко цитирует конкретные отрывки из пророческой литературы. В целом, такую ограниченность в использовании библейских источников нельзя не признать одной из слабостей нибуровского метода.
Тексты, которые противоречат такому синтезу новозаветной вести, Нибур рассматривает как выражение «невозможного идеала». Он считает, что они не мешают его программе христианского реализма, а просто показывают идеализированные нормы, в полной мере на практике не выполнимые. Аналогичным образом, новозаветные отрывки, содержащие апокалиптические видения или говорящие о пришествии Царства Божьего, Нибур читает как символические выражения той истины, что «лишь окончательная гармония жизни с жизнью в любви может быть высшей нормой [человеческого] существования»[34]. Подобные символы надо воспринимать «серьезно, но не буквально», ибо буквальное их прочтение «поставит под угрозу библейское представление о диалектических взаимоотношениях между историей и сверхисторией»[35]. Иными словами, новозаветная эсхатология утверждает, что «продолжающийся элемент противоречия в истории принимается как ее постоянный характер»[36]. Стратегия демифологизации (впрочем, Нибур не пользовался этим бультмановским понятием) необходима, чтобы привести новозаветных авторов в согласие как свидетелей о вечно парадоксальном положении человека[37]. Надо отдать Нибуру должное: он уделяет массу внимания трудным случаям, отрывкам, которые грозят опровергнуть его подход к христианской этике. Внимание к ним - важная составная часть программы Нибура, ибо Новый Завет не содержит прямых оснований для «реалистического», консеквенциалистского подхода к этике. Тем не менее Нибур находит библейские аргументы в его пользу, именно подчеркивая радикальность новозаветных требований, а затем используя аккомодационалистскую герменевтику.
Поскольку Нибур не пытается дать всеобъемлющий синтез новозаветного этического учения, нелегко указать на ключевой образ, который руководит его прочтением Нового Завета. Фундаментальной объединяющей темой новозаветного свидетельства он считает идеал любви, но ключевыми образами в реальном применении Нового Завета к нормативным этическим вопросам у него становятся «борьба» и «равновесие».
(В) Герменевтический аспект. Способ апеллирования Нибура к новозаветным текстам важен для его этических построений. Нибур не выказывает интереса к применению конкретных библейских правил к современной ему нравственной проблематике, но черпает из Писания прежде всего принципы нравственной рефлексии или, на более высоком уровне абстракции, идеалы (например, любовь), из которых выводимы принципы (например, равная справедливость). Нравственный выбор в конкретных ситуациях осуществляется через определение того, какое действие лучше всего соответствует данным принципам. Нибур нигде не рассматривает Новый Завет как источник образцов для действия. (Это - следствие его невнимания к повествовательному измерению текстов.) Нигде у него мы не находим отношения к рассказам об Иисусе, Павле или ранней Церкви как образцам для поведения.
Однако важную роль в этике Нибура (особенно ее взгляде на человеческую природу) играет мир новозаветных символов. В этом смысле не случайно название нибуровского монументального богословского труда - «Природа и назначение человека». Представление о том, что человек вовлечен в диалектическое противоречие между смертностью и свободой, между способностью к самопреодолению и неизбежной тягой к греховному самоутверждению находится в основе понимания Нибуром христианской этики. Эту концепцию человеческой двойственности и ограниченности он считает одним из величайших прозрений Библии. По его мнению, оно бросает вызов притязаниям любых идеологических систем. Однако библейский образ Бога как Искупителя, преображающего человеческую жизнь, играет слабую роль в конструктивной этике Нибура. Поэтому-то Мартин Лютер Кинг, находившийся под большим влиянием Нибура, пришел к выводу, что нибуровскому пониманию мира новозаветных символов недостает сбалансированности:
Я пришел к выводу, что Нибур преувеличил человеческую греховность. Его пессимизм в отношении человеческой природы не уравновешивается оптимизмом в отношении божественной природы. Он был столь увлечен постановкой диагноза (болезнь греха), что не обратил внимания на лекарство (благодать)[38].
Независимо от того, справедливо ли данное суждение, трудно отрицать: апелляции Нибура к авторитету Библии обычно подчеркивают библейскую антропологию, особенно реальность греха и смертности, как о них говорят тексты вроде Рим 7.
Как в этике Нибура Писание соотносится с другими источниками авторитета? Хотя сам Нибур относит себя к широкому направлению традиции, находящейся под влиянием Августина, и хотя его антропология во многом сформирована идеями Реформации, он не отводит традиции заметного места в формировании нравственных суждений. В нибуровском лексиконе слово «ортодоксия» имеет отрицательную валентность и обозначает косное христианство, ценящее любовь меньше порядка. Нибуровская концепция «пророческой религии» представлена как прямая критика традиции (и в то же время протестантского либерализма). В данном отношении богословская позиция Нибура - типично протестантская: он отстаивает веру, основанную на Библии, как критическую норму, по которой нужно проверять традицию. Даже, к примеру, доказывая необходимость насилия, он не апеллирует к традиционному христианскому представлению о справедливой войне, а выстраивает самостоятельную аргументацию. Соответственно, в формальной структуре нибуровской герменевтики традиция имеет слабый вес.
Напротив, разуму и опыту этика Нибура отводит важную нормативную роль. Консеквенциалистский характер его мысли неизбежно акцентирует рациональный расчет и оценку живого человеческого опыта. Именно разум и опыт свидетельствуют о «невозможном» характере Иисусовой этики любви. В красноречивом отрывке из «Уместности недостижимого этического идеала» Нибур цитирует слова Пелагия о том, что Бог не навязал бы человеку законы, которые тот не в силах исполнять, и дает к ним такой комментарий:
В логике этих слов есть определенная убедительность, но, к сожалению, факты истории и опыт любой души опровергают их. Вера, воспринимающая заповедь любви как вполне осуществимую, не видящая ее неисполнимости, исходит из ошибочного анализа природы человека...[39]
В своем суждении Пелагий основывался на Писании и на представлениях о характере Бога: Богу ведомы человеческие ограничения, и Он не потребовал бы от нас невозможного. Нибур в противовес ссылается на разум (эмпирическую оценку человеческой истории) и опыт (нравственные поражения «любой души»). Эти источники дают лучший «анализ природы человека» и подводят нас ближе к истине. С точки зрения Нибура, в данном случае разум и опыт не противоречат Писанию, а просто показывают, как нужно его интерпретировать. Библейская антропология соответствует фактам, которые мы постигаем разумом. Тем не менее для Нибура определяющую роль играют именно эмпирические свидетельства. Обратим внимание: он не вступает с Пелагием в экзегетические дебаты, - в конечном счете, для него наибольший вес имеют суждения, основанные на разуме и опыте. Не случайно в одном из своих трудов он объявляет «несоответствие эмпирической реальности» «критерием определения ереси»[40]. Снова и снова мы видим, как Нибур выносит суждения по политическим и нравственным вопросам, исходя из рациональной оценки эффективности. Писание же здесь отступает на второй план. Нибур черпает из него идеалы, лежащие в основе его нравственной позиции, но связь Писания с конкретными политическими решениями остается косвенной и отдаленной.
(Г) Прагматический аспект. И последний вопрос: какие плоды приносил и может приносить нибуровский христианский реализм? Если бы христианская община строила жизнь в соответствии с герменевтическим подходом Нибура к Новому Завету, то каким был бы результат? Этот вопрос не является сугубо умозрительным, поскольку Нибур пользовался колоссальным влиянием. Институциональными воплощениями его нравственной концепции были основные американские протестантские деноминации периода холодной войны, особенно правления и представительства в доме 475 по Риверсайд Драйв в Нью-Йорке. Эти органы разрабатывали реалистическую социальную политику в интересах социальной справедливости. Они пытались повлиять на ход внешней политики, основанной на военной мощи и на угрозе применения силы. (К сожалению, от политического влияния наследников Нибура было куда меньше толку, чем от него самого.)
Нибура мало заботила Церковь как отдельный институт: строго говоря, в его богословии вообще нет экклезиологии. В своих работах он обращается к отдельно взятым христианам не как к членам церкви, но как к гражданам государства с демократическим социальным устройством. Соответственно, плоды нибуровской этики проявляются в ее влиянии на христиан в плане секулярной политической ответственности. Совместное единство и жизнь христианской общины не входят в число основных тем Нибура. Поэтому община, руководствующаяся нибуровской концепцией, будет больше заботиться о политической эффективности, чем об определении и поддержании своей конфессиональной идентичности. Возможно, такая позиция имела смысл в Америке времен Нибура, еще сохранявшей следы культуры христианского мира. Однако, по мере гибели христианского мира, представление о том, что христиане могут или должны взять ответственность за руководство социальной борьбой, выглядит все более странным и самонадеянным.
Одна из опасностей подобной стратегии - христианская община может столь глубоко включиться в реалистический и прагматический дискурс, что попросту утратит собственный голос, восприняв наименьший общий знаменатель в ценностях популярной политики. В известном смысле это уже произошло с основными деноминациями, численность которых стремительно сокращается. В 1993 году перестал выходить некогда важный журнал «Христианство и кризис» (Christianity and Crisis), основанный Нибуром для обсуждения этических вопросов. Его конец знаменует серьезный культурный сдвиг, произошедший со времен нибуровского расцвета. В конце XX века христианскому реализму может потребоваться уделять больше внимания жизни христианской общины и умерить притязания в отношении планов политического переустройства.
Однако нибуровский «реалистический» и консеквенциалистский подходы к использованию Библии в христианской этике продолжают пользоваться среди американских протестантов широким одобрением. Его герменевтика крайне избирательна в своем использовании Нового Завета, но зато методологически ясна и последовательна. Приняв точку зрения Нибура, церковь может по-прежнему считать Писание авторитетным источником общих нравственных принципов и трезвого понимания человеческой природы, в то же время допуская достаточно широкий выбор того или иного курса действий.
2. Карл Барт: послушание заповеди Божьей
Швейцарский богослов Карл Барт (1886-1968) - один из крупнейших богословов XX века[41]. Его ранний комментарий на Павлово Послание к Римлянам, важное второе издание которого появилось в 1922 году, затрагивал проблему кризиса веры, разразившегося в европейском христианстве после Первой мировой войны. Комментарий бросал вызов как стандартным парадигмам библейской критики, так и антропоцентристскому характеру довоенного европейского либерального богословия. Впоследствии Барт был главным автором Барменской декларации (1934), богословского манифеста Исповедующей Церкви против нацизма. Как резкий критик предложенной Рудольфом Бультманом герменевтической программы «демифологизации» Нового Завета, он стал ведущим сторонником неоортодоксального проекта, утверждающего первичность библейских категорий для интерпретации человеческого опыта. Многотомная «Церковная догматика» Барта - монументальная систематическая попытка переосмыслить и представить христианскую доктрину на эксплицитно библейской основе.
Барт был неустанным критиком тенденции либерального протестантства, особенно ярко проявившейся у Шлейермахера, сводить богословские утверждения к выражению религиозного сознания верующих. Он настаивал: Слово Божье действует вне нас, для нас и даже в противовес нам. Согласно богословию Барта, своим великим Откровением Бог сделал людей своими партнерами по Завету; более того, Бог познается лишь в Его действии, ибо Бог есть Тот, чье бытие - в Его акте[42]. Следовательно, истина - не в универсальных абстракциях, а только в частном, а именно в откровении Бога в Иисусе Христе. Богословская концепция Барта отводила важное место библейским повествованиям, ибо он понимал их как форму, через которую происходит познание Божественного Откровения. Более того, в отличие от Нибура, Барт занимался методологическими проблемами библейской герменевтики. Для наших целей (анализ использования Писания в христианской этике) он чрезвычайно интересен.
Подход Барта к богословской этике
Пространное методологическое введение к «Церковной догматике» II/2 (далее - ЦД) говорит об «этике как об одной из задач доктрины о Боге». По мнению Барта, «этика принадлежит не просто к догматике в общем, но к доктрине о Боге»[43], ибо рассматривает заповедь, данную Богом людям[44]. Следовательно, этическая дискуссия должна отражать тринитарную структуру божественного самооткровения. «Понятие заповеди Божьей включает понятия: заповедь Бога Творца, заповедь Бога Примирителя и заповедь Бога Искупителя»[45]. Соответственно, Барт планировал рассматривать этику не в отдельном томе, а в завершающих главах к каждой из различных частей «Церковной догматики». К сожалению, он умер, не успев завершить этот монументальный труд, поэтому у нас есть только программное введение в этику в ЦД II/2 и очерк «Заповедь Бога Творца» в III/4. Как мы увидим, незаконченность бартовского труда по богословской этике важна для понимания его представлений о войне в III/4.
По мнению Барта, у христианской этики есть три искушения.
1)Апологетика. Искушение искать небогословские основания для оправдания богословской этики.
2)Дифференциация. Искушение изолировать богословскую этику как особую сферу исследования, резко отличную от философской этики.
3) Координация. Искушение скоррелировать богословскую этику и философскую этику как взаимодополняющие этики[46].
Первые два искушения Барт решительно отвергает. Третье же искушение, под которое подпала томистская традиция в католичестве, «заслуживает наибольшего внимания», но также должно быть отвергнутым.
Ибо...все компрометирует тот факт, что откровение, в сущности, не принимается как откровение, но постоянно противополагается свету разума с его независимым, хотя и ограниченным, просвещением... Наша проблема с католическими представлениями о соотношении этики богословской с этикой общечеловеческой заключается в следующем... они предполагают, что можно легко соединить христианское и человеческое. Но для достижения этой комбинации и координации они выхолащивают христианское содержание. Поэтому, несмотря на все их преимущества, мы должны их отринуть[47].
Отсюда видно, что свою концепцию богословской этики Барт желает построить исключительно на Откровении. Мы находим у него интересную метафору: задачу богословской этики он уподобляет мандату, данному Израилю на завоевание Ханаана:
Осознаем же, сколь серьезные последствия влечет за собой это изменение представлений об этике! С точки зрения общей истории этики речь идет об аннексии того же плана, что и аннексия, происшедшая при вхождении детей Израилевых в Палестину. Другие народы в течение длительного времени утверждали, что у них есть древнее, если не древнейшее, право обитания в этой стране. Однако, согласно Нав 9:27, отныне они могли жить в ней в лучшем случае как чернорабочие. Ни под каким видом не должны были израильтяне воспринимать их культуру. Поэтому можно было ожидать самого сильного сопротивления, а их существование должно было оказаться для израильтян почти непреодолимым искушением... Легко забывают, что... Слово Божие, неискаженное учение Церкви, и христианское учение о Боге (с проповедью догматики и во главе догматики) - всегда агрессор по отношению ко всему остальному, к общему человеческому мышлению и языку. Когда они входят в поле этической рефлексии и интерпретации, то естественно вступают в противоречие с так называемыми (именно «так называемыми»!) первоначальными обитателями Земли. Они не могут считать их авторитетом, перед которым им надо оправдываться и под которые им надо так или иначе подстраиваться[48].
Слово Божье вторглось в мир, и человеческий разум может лишь склониться перед ним. Задача христианской богословской этики - возвещать и разъяснять Слово, «пленяя всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор 10:5) и объявляя всему человечеству истину Божественного Откровения.
Такая этика не заботится о человеческом процессе нравственного рассуждения или о корреляции Писания с другими источниками авторитета. «Ибо вопрос о добре и зле раз и навсегда решен в повелении Божьем, крестом и воскресением Иисуса Христа»[49]. Об оригинальности в христианской этике и речи быть не может. «Человеку уже «сказано», «что - добро» (Мих 6:8). Ему запрещено решать это самостоятельно: он должен лишь неукоснительно повторять сказанное ему»[50]. Только одно важно: послушание Слову Божьему, ибо «нет человеческого действия, которое не должно подчиняться заповеди Божьей». Каждое человеческое действие соотносимо с заповедью Божьей, и оно никогда не нейтрально по отношению к Нему[51]. Поскольку послушание, требуемое от нас Богом, полностью открыто в Иисусе Христе, «нам нечего добавить, - мы можем лишь подтвердить это событие нашими действиями. Этическая проблема церковной догматики может состоять лишь в вопросе: прославляет ли человеческое действие благодать Иисуса Христа, и, если да, то в какой степени»[52].
Следующий важный момент - «Заповедь как требование Бога». Согласно Барту, Иисус Христос - основа требования Бога к человеку, а также содержание и форма этого требования. Иисус «исполнил великое дело веры, поэтому от нас не требуется его исполнять; своей верой мы можем лишь взирать на Его веру, одобрять ее и следовать за ней»[53]. Бартовское представление о вере включает послушание действием; его позиция глубоко укоренена в Павловой понимании участия в вере Иисуса Христа[54]. Для Барта это очень важный момент: заповедь Божья укоренена в решительном вмешательстве Бога в человеческую историю. «В человеке Иисусе мы находим подлинный образец общих взаимоотношений между человеком и волей Божьей»[55]. Таким образом, «заповедь Божья... предстает нам не как идеал, будь то обязанности, разрешения или сочетания обязанности и разрешения, но как реальность, исполнившаяся в личности Иисуса Христа. Он - не только основа и содержание, но и форма божественного требования»[56]. Контраст с Нибуром здесь просто поразительный.
Но если представления Барта о связи христологии и этики резко отличают его от Нибура, то настояние на «конкретности Божественного решения»[57] отличает его вообще от всех исследователей богословской этики. Развивая протестантские представления о владычестве Божьем, Барт видит Слово Божье всегда конкретным: воля Божья всегда обращена к конкретным ситуациям. Эта концепция столь важна для понимания его нормативной этики, что уместно привести пространную цитату:
Мы не вправе выигрывать себе преимущество, понимая и утверждая заповедь Божью как общее правило, при этом рассматривая ее применение... как вопрос для нашего суждения и действия, когда каждое конкретное выражение предписанного в заповеди как универсальном правиле актуализируется только через наши решения. Это было бы похоже на вердикт человеческого судьи, своим разумением определяющего, каковы предписания закона в тех или иных конкретных случаях. Но Закон Божий не сравним с человеческим законом! Ибо он - не только общее правило, но и частное предписание и норма для каждого конкретного случая. Он в одно и то же время и закон, и судья, применяющий его. Ибо, как Бог - не толь ко Бог общего, но и Бог конкретного, самого конкретного, и в деталях явлена Его слава, так и с Его заповедью... Заповедь Божья - единое целое. Божественное решение, в котором отражена суверенная воля Бога о наших решениях, - это очень конкретное решение. Это означает: и в требовании, и в суждении о Его заповеди Бог предлагает нам как конкретный смысл, так и интенцию, - Своей волей, которая предвидела все в мельчайших частностях, которая не оставила ни одну деталь на волю случайности или нашего каприза... В каждой зримой и незримой детали Он хочет от нас одного и только одного, и измеряет и судит нас в соответствии с тем, делаем ли мы именно то, что Он требует[58].
Итак, что здесь Барта волнует в первую очередь? Он боится, что если мы будем представлять себе этику как применение общих принципов к конкретным ситуациям, то скатимся в потворство нашим желаниям и причудам, давая им религиозную (и даже библейскую!) санкцию. Когда так происходит, «мы изливаем повеления нашего своеволия в пустую ёмкость формального нравственного понятия, тем самым сообщая им аспект и достоинство этического требования, - хотя в реальности речь идет просто о нашей собственной воле»[59]. Этот бартовский аргумент нельзя не признать сильным, а примеры злоупотреблений, против которых Барт предостерегает, можно умножать до бесконечности. (Некоторые богословы, возможно, назовут в качестве одного из таких примеров использование Нибуром идеала любви как основания для убийства.)
Однако возникает проблема: представления о конкретности божественной заповеди приводят Барта к совершенно неправдоподобной герменевтической позиции. По его словам, божественная заповедь «не нуждается в интерпретации, ибо до мельчайших деталей интерпретирует саму себя»[60]. Это утверждение опровергается хотя бы тем фактом, что в церкви существуют серьезные разногласия относительно интерпретации. Между тем Барту без него не обойтись, - иначе возникает лазейка для греховного своеволия. Тогда и только тогда, когда Слово Божье полностью интерпретирует само себя, можно утверждать, что «заповедь безусловна, не оставляет иного выбора, чем между послушанием и непослушанием»[61]. Путь из этой дилеммы могла бы предоставить более сильная и более эксплицитная доктрина о роли Святого Духа в истолковании Писания, но вместо нее Барт почему-то не только утверждает, что Писание ясно и понятно, но и что оно навязывает читателю интерпретацию самого себя[62].
Такой ход мыслей неизбежно приводит к определенному пониманию того, как божественная заповедь доходит до нас через Писание. Барт постулирует: «(1) божественный закон в Библии - всегда конкретная заповедь; (2) эта конкретная заповедь, записанная в Библии, должна пониматься как божественное требование, касающееся нас, несмотря на то, что не мы являемся его прямыми адресатами»[63].
На демонстрацию первого из вышеупомянутых положений у Барта уходит масса труда в области описательной экзегезы, занимающей в ЦД 30 страниц, значительная часть которых напечатана мелким шрифтом[64]. Библия носит повествовательный характер. И она представляет Слово Божье как обращающееся к конкретным людям в случайных исторических ситуациях. Это указывает на конкретность заповеди Божьей. Если бы Библия представляла Слово Божье как «установление и возвещение общих предписаний и правил... то это уже была бы не Библия, а кодекс Хаммурапи или закон Солона или Мухаммеда». Однако Библия - это «рассказ о божественном Завете благодати». Поэтому «выводить отсюда абстракции столь же невозможно, сколь и из личности Бога, который дает заповеди. Напротив, мы постоянно должны иметь перед собой и понимать личность в рассказе и рассказ в личности»[65]. Это герменевтическое правило применимо даже к тем отрывкам Писания, которые как будто содержат общие правила поведения (например, Декалог, Нагорная проповедь). Нельзя выдергивать подобные пассажи из их повествовательного контекста, ибо «тема Библии - нечто иное, чем возвещение этических принципов». Толкователи, которые просто выводят принципы, «должны осознать: они ведут себя с Библией непозволительно свободно; и, если они апеллируют к Библии, то им надо напомнить, что они апеллируют к Библии, которую они уже приспособили для собственного удобства»[66].
Все это - важно и ясно. Куда труднее понять вторую часть бартовской аргументации[67]. Признавая, что заповедь Божья в библейских рассказах была первоначально адресована другим людям, жившим очень давно, Барт все же настаивает, что она обращена непосредственно к нам. Речь не просто о том, что в этих рассказах можно найти поразительные аналогии нашим собственным ситуациям, но о том, что мы должны слышать Слово, изреченное тогда, как Слово, которое говорится и нам.
Библия говорит о заповеди Божьей, чтобы привлечь наше внимание не только к тому, какими были Его воля, промысел и самооткровение там и тогда, но и к тому, каковы они для нас здесь и теперь. В своей способности свидетельствовать она требует не только признания фактов, но и нашей веры, не только правильного восприятия описываемых ею прошлых событий, но и осознания, что все осталось по-прежнему: то, что Бог заповедовал и запрещал тогда, Он заповедует и запрещает нам теперь. Библия хочет, чтобы мы были современниками и единомышленниками с теми людьми в отношении божественной заповеди, в отношении ее слышания и понимания...[68]
Но как мы можем быть «современниками» пророков и апостолов? На первый взгляд это просто гомилетическая гипербола. Однако при более внимательном прочтении становится очевидным: Барт предельно серьезен. Его утверждение понятно лишь в свете бартовских представлений о Библии как о «живой речи Бога»[69]:
Если смысл и суть библейского свидетельства - откровение реальности Божьей в Его делах, то неизбежен вывод: сама Библия - это Слово заповеди... Таким образом, на практике этот Бог и эта Библия, Его повеление и ее повеление нераздельны[70].
В Писании мы в буквальном смысле встречаем Слово Божье. Поэтому мы находимся не просто в положении, аналогичном по отношению к положению первоначальных свидетелей:
Мы не просто призваны слышать заповедь Божью, как они ее слышали. Но Бог, который говорил и действовал по отношению к ним, в силу их свидетельства, немедленно становится и нашим Богом. И заповедь, данная им и слышанная ими, становится заповедью, данной непосредственно нам и слышимой нами[71].
Так Барт пытается построить герменевтику, устраняющую необходимость и даже возможность независимого человеческого суждения и нравственной оценки. Бог действует через Писание, встречая нас и выдвигая требование к нам, независимо от наших намерений и способностей к толкованию. Наше дело - слушать и подчиняться.
Над нами - точные и конкретные заповедь и запрет Бога. Они над нами не потому, что мы осознаем их и думаем о них, а потому что Бог изрек свою заповедь раз и навсегда. Раз и навсегда - это значит, также и для нас, для нашего времени, для любой ситуации в нашей жизни, в истории и с историей... Его Завета благодати. Ибо через этот Завет нас охватывает не только факт смерти и воскресения Иисуса Христа... Нас также охватывает - полностью, не оставляя пустых и нейтральных пространств, - Его живая заповедь, через которую Он хочет нас освятить, привлечь к себе и пробудить к послушанию как партнеров по Завету[72].
Теперь рассмотрим, как работает герменевтический подход Барта в рассмотрении им этической проблемы войны и насилия.
Учение Барта о войне
Война как тема для богословской этики появляется в ЦД III/4 под рубрикой «Защита жизни» в разделе, где подробно обсуждается заповедь «не убий». Эту заповедь Божью следует понимать не только как запрет, но и как позитивное учение об уважении к жизни. Жизнь - «ссуда и дар» Бога, который «полностью и недвусмысленно принял ее в Иисусе Христе, в воплощении своего Слова»[73]. Поэтому заповедь «не убий» отражает волю Божью о защите и утверждении жизни.
Однако именно потому, что человеческая жизнь принадлежит Богу, ее нельзя абсолютизировать и идолизировать. Мы знаем: жизнь - дар Божий. А потому мы должны понимать: «Человеческая жизнь не имеет абсолютного величия или высшей ценности. Она - не второй бог. Однако ее правильная защита должна быть руководима, ограничиваема и определяема Тем, кто ее заповедует, - Господином жизни»[74]. Необходимо уважать свободу заповедующего Бога (один из основных акцентов бартовского богословия!), а в исключительных случаях Бог может заповедать убийство. Парадоксальным образом, в подобных случаях защита жизни может требовать «отказа от нее и жертвы»[75]. Априорно исключать такую возможность - значит, ограничивать свободу Бога.
Мы не вправе исключать возможность того, что Бог как Господин жизни может прибегать и к такой необычной форме ее защиты, как ее завершение и ограничение, а не сохранение и поддержка. Однако необходимо понимать, что это именно исключение, самая крайняя мера. Обращаться к ней нужно лишь с величайшей осторожностью, когда все остальные возможности исчерпаны[76].
Фундаментальная норма - библейская заповедь «не убий». Соответственно, Барт обращает свое внимание на трудную проблему исключительного случая, Grenzfall. Однако такая постановка вопроса создает неизбывную методологическую трудность. С одной стороны, Барт тщательно избегает казуистики, попытки заранее определить, как применяются общие нравственные принципы в различных конкретных ситуациях. С другой стороны, он богословствует на тему о том, что в «исключениях» из заповеди «не убий» иногда можно видеть заповедь Божью. Как Барт решает эту проблему?
Он начинает с краткого обзора релевантных библейских текстов, пытаясь резюмировать «целостное свидетельство Библии» по данному вопросу[77]. Спектр рассматриваемых им отрывков широк: от истории Каина и Авеля (Быт 4) до предупреждения против взятия меча в Откр 13:10. Любопытно, что ветхозаветные повествования о священной войне Барт здесь вообще не упоминает. (Возможно, он имеет в виду, прежде всего, убийство как акт отдельного индивида, а не как организованную деятельность правительства.) Его толкование некоторых новозаветных текстов спорно. Например, он пишет, что Петр «физически убил Ананию и Сапфиру своим словом» (см. Деян 5:1-11). В качестве других новозаветных отрывков, которые вроде бы поддерживают убийство, Барт называет 1 Кор 5:3-5, Рим 13:4 и Ин 19:10-11. Однако, наряду с этими (аномальными?) текстами, он находит и целый ряд мест, где убийство запрещается. Результат своего обзора он резюмирует следующим образом:
Целостное свидетельство Библии, признавая и не исключая возможности убийства, зовет к бдительности в данном отношении... И впрямь удивительно, что Новый Завет не запрещает однозначно любой вид убийства... В своей окончательной новозаветной форме, в той форме, в какой мы должны ее слышать и понимать, заповедь «не убий» достигает нас так, что во всех частных проблемах, которые могут возникнуть, возможно существование исключения, - хотя мы не можем слишком уверенно постулировать исключительный характер таких случаев[78].
С таким результатом на руках Барт принимается за обсуждение конкретных ситуаций, в которых возникает вопрос о возможности исключения: самоубийство, аборт, эвтаназия, самооборона и смертная казнь. У нас здесь нет места рассматривать анализ Бартом каждой из этих проблем. Скажем лишь, что он старается рассматривать их в свете библейских текстов. Например, хотя «Библия нигде прямо не запрещает самоубийство», рассказы о Сауле, Ахитофеле и Иуде «гораздо лучше» служат целям нравственного наставления, чем соответствующий прямой запрет[79].
Очень показательны ремарки, которые он делает относительно Нагорной проповеди при обсуждении самообороны. Сначала он приводит заповеди подставить другую щеку и не сопротивляться врагу, а потом комментирует:
Мы не должны ими пренебрегать. Мы не должны их извращать и неверно интерпретировать. Мы должны их уважать и понимать буквально. Мы не вправе отделаться от них, восхищаясь ими или презирая их как продукт восторженного идеализма, а затем отставляя в сторонку и живя по совершенно другим правилам... Евангельские речения относятся к числу тех, о которых сказано, что «они не прейдут». Ведь они представляют собой не просто добронамеренный излишек гуманности и не особое правило для хороших (или даже особенно хороших) христиан. Они возвещают простую заповедь Бога, обращенную ко всем людям в своем основном и первичном смысле, и, до особого распоряжения, обязательную для соблюдения. Эти заповеди - не пик восторженности, на который должны вскарабкаться послушные. Трезво и реалистично они указывают на основу, от которой они должны постоянно отталкиваться и к которой должны постоянно возвращаться в послушании. Они дают нам правило, тогда как в остальной нашей дискуссии речь может идти лишь об исключениях[80].
(Здесь Барт не упоминает о Нибуре. Однако, если бы он написал эти строки в рецензии на нибуровскую статью «Уместность недостижимого этического идеала», они бы пришлись как нельзя кстати.)
Как мы уже говорили, Барт сам себе создал серьезную проблему: чем сильнее он настаивает на ситуативной конкретности божественной заповеди, тем более странно слышать об общих «правилах». С другой стороны, чем сильнее он настаивает на обязательности Иисусова учения, тем более странны упоминания об «исключениях». И как понять его оговорку («до особого распоряжения»)? В какой форме может прийти подобное распоряжение и как мы его узнаем?
Здесь мы видим один из самых запутанных элементов бартов-ского богословия. Что он подразумевает под слышанием заповеди Божьей? Конечно, человек слышит заповедь Божью, когда внимательно читает Библию. Однако, если иногда Бог заповедует исключения к заповедям, записанным в Писании, трудно понять, как Барт может иметь в виду нечто иное, чем непосредственный опыт Божественного откровения[81]. Из наших пяти богословов только Барт в своей концепции нравственного выбора требует (по крайней мере, имплицитно) постоянной опоры на молитву, на прислушивание к божественном) наставлению, и вере, что Бог может обращаться и обращается к отдельным людям с конкретными указаниями. Иначе все разговоры об «исключениях» не имели бы смысла.
Получается, что мы должны вдумчиво читать Писание, желая как можно точнее исполнить его заповеди, но в то же время прислушиваясь в молитве: вдруг произойдет маловероятное, и Бог откроет, что в определенной конкретной ситуации необходимо поступить вопреки правилу, данному Писанием. Посмотрим, как эта герменевтическая стратегия работает в бартовских рассуждениях о войне.
Этот раздел ЦД был написан в 1951 году, когда еще была жива память об ужасах Второй мировой войны. Барт резко обличает войну: по его словам, она категорически противоречит воле Божьей[82]. Вопреки прошлым иллюзиям война ведется не для защиты чести, справедливости и свободы. Это - борьба между народами за экономическую власть. Барт пишет: «Реальный вопрос в войне... главным образом, не сам человек и его жизненные нужды, а экономическая власть. При этом в войне не столько человек обладает этой властью, сколько она обладает им»[83]. Жуткая реальность современного вооружения с его способностью уничтожать все население, обнаружила зло войны гораздо отчетливее, чем оружие прошлых исторических эпох. Поэтому: «В отличие от предыдущих поколений, мы сегодня можем, должны и призваны взглянуть на реальность войны без оптимистических иллюзий. Сколь недвусмысленно уродлива война!»[84]
Однако могут ли христиане иногда прибегать к войне?
Всякое «да» в ответ на этот вопрос ошибочно с самого начала и для христианской этики означает предательство Евангелия, если оно игнорирует риск этого Однако... Всякое «да» в ответ на этот вопрос ошибочно, если не отталкивается от той предпосылки, что непреклонное «нет» пацифизма гораздо убедительнее и аргументы в его пользу почти полностью перевешивают аргументы в пользу утвердительного ответа[85].
Бремя доказательства - на тех, кто приводит богословские аргументы в пользу войны. Обязанность христианской этики - не оправдывать войну, а провозглашать суд Божий над ней и бороться за мир.
Главная и высшая задача христианской этики в данном вопросе - выказать ужас перед войной и отчужденность от нее… Как можно решительнее она должна сказать, что эта массовая бойня есть массовое убийство, а потому является лишь самой крайней мерой, к которой можно прибегать лишь в последний час темнейшего из дней. На Церкви и богословии лежит первоочередная обязанность отстраниться подобным образом, пойти на задержку... Первая и важнейшая вещь, которую должна сделать христианская этика, - это объявить, что государство, все ответственные граждане в целом и каждый человек в отдельности обязаны до последнего пытаться решить вопрос миром, предотвратить войну, сделать ее ненужной и излишней[86].
С этим акцентом на миротворчество как фундаментальную задачу христианской этики бартовское богословие являет разительный контраст со многими элементами христианской богословской традиции, вошедшими в нее со времен Константина. Джон Говард Йодер называет бартовскую критику войны «уникальной в истории магистрального протестантского богословия»[87]. Необычная позиция Барта - результат не только его специфической исторической ситуации, но и методологического акцента на приоритет Библии как источника богословских норм. С точки зрения Барта, восприятие христианской традицией войны как одной из нормальных задач государства уязвимо для самого резкого обличения Словом Божьим в Писании.
Не будем, однако, забывать про бартовские оговорки («аргументы... почти полностью перевешивают»). По мнению Барта, в крайних обстоятельствах Бог может заповедать и войну. Допустить такую возможность требует хотя бы даже свобода Бога. Однако, как ни странно, Барт указывает, что существуют и некоторые заранее определенные обстоятельства, в которых обращение к войне является заповедью Божьей.
Поведение одного государства или народа может поставить другое государство или другой народ в чрезвычайную и критическую ситуацию, когда под угрозой и нападением оказывается не только процветание последнего, но само его существование и автономия... Чтобы война была справедливой и необходимой, меньших оснований для нее быть не может... Только в ответ на этот вопрос можно говорить о законной причине для войны: когда у народа или государства есть веские причины не брать на себя ответственность за отказ от независимости; или, более резко выражаясь, когда народ или государство должны в своих границах защищать независимость, сохранять которую у него есть веские причины. Шестая заповедь не позволяет христианской этике оправдывать войну какими-либо другими мотивами[88].
Более того, разрешение на войну распространяется и на ситуации, в которых «государство, не находящееся под непосредственной угрозой или нападением, считает себя призванным обязательством, договором или еще чем-то прийти на помощь более слабому соседу, который оказался именно в такой ситуации»[89]. По-видимому, этот критерий оправдывает, например, нападение США на Ирак в защиту Кувейта во время войны в Персидском заливе (1991 год).
Однако такая мотивация национальной самозащиты поистине озадачивает с учетом общего контекста бартовской богословской этики.
1) Создается впечатление, что тут Барт скатывается в ту самую казуистику, которую он в принципе отметает.
2) Барт не способен привести ни одного конкретного библейского текста в пользу постулируемого им исключения[90].
Почему автономия национального государства - ценность, которую христиане должны защищать? Барт отвечает загадочной фразой: «С независимостью нации может быть связана ответственность за всю физическую, интеллектуальную и духовную жизнь составляющих ее людей, а значит, и за их отношения с Богом»[91]. В подобных случаях христиане должны сражаться и убивать для защиты государства. Обратим внимание на интересную бартовскую ремарку:
Отмечу в скобках: лично я считаю одним из таких случаев гипотетическое покушение на независимость, нейтралитет или территориальную целостность Швейцарской Конфедерации. Случись оно, я буду говорить и действовать соответственно[92].
Отметим два следствия бартовского подхода к проблеме войны.
Первое. Отказ от участия в войне по религиозным соображениям всегда должен быть избирательным. Пацифист, отказывающийся участвовать в войне, какими бы ни были обстоятельства, закрывает себя для возможности того, что Бог может заповедовать и войну[93]. (Эта позиция диаметрально противоположна по отношению к политике США в былые годы, когда в них существовала воинская повинность. Лишь безусловная оппозиция всякой войне считалась законным основанием для отказа от несения воинской службы.)
Второе. Барт вообще не применяет традиционный критерий справедливости войны, основанный на вероятности успеха как показателе ius ad bellum. Заповедь Божья безусловна. «Она не зависит от успеха или поражения предприятия, а значит, и от сравнительного соотношения сил в битве»[94]. Решение того, необходимо ли сражаться, не должно зависеть от рационального подсчета шансов на победу. Когда война ведется в послушании Богу, «она ведется в вере, а потому - с радостной и дерзкой решимостью»[95].
Таким образом, у Барта мы находим сложное богословское построение. С одной стороны, он ненавидит войну и приводит серьезные библейские аргументы против нее. С другой стороны, он оставляет открытой возможность того, что в исключительных случаях Бог может заповедовать христианам именно битву. Обратимся теперь к анализу герменевтической позиции Барта в свете диагностических вопросов, о которых мы говорили в конце главы 11.
Диагностические вопросы
(А) Дескриптивный (описательный) аспект. Барт уделяет большое внимание экзегезе библейских текстов. При этом он не всегда опирается на данные исторической критики, но его комментарии, как правило, интересны и отличаются глубиной. Особенно выделяются в этом плане экзегетические разделы ЦД, напечатанные мелким шрифтом. Его толкования не всегда безупречны (чего стоит одна интерпретация Деян 5:1-11!), но он работает с колоссальной увлеченностью и пытливостью. Он чрезвычайно внимателен к контексту и большим повествовательным моделям. Впрочем, это последнее достоинство имеет свою оборотную сторону: Барта преследует искушение читать различные тексты как часть единого большого повествования, причем делать это порой без достаточного основания.
Подобно Нибуру, Барт писал свои основные труды до развития анализа редакций. Поэтому он почти не уделяет внимания индивидуальным богословским позициям евангелистов. Однако его интерпретации Павла весьма ценны и глубоки, - возможно, потому, что бартовский упор на приоритет и достаточность божественной благодати в Иисусе Христе хорошо согласуется с основными темами Павла.
Одним словом, Барт - великолепный экзегет. Ни один современный ему богослов-систематик не тратил столько сил на экзегезу.
(Б) Синтетический аспект. Барт делает серьезную попытку работать с каноном в целом, причем не только новозаветным, но и ветхозаветным. В избирательном выборе текстов его не упрекнуть: экзегетическую сеть он забрасывает широко, - так широко, что у него трудно выявить канон в каноне. Возникает ощущение, что глубочайшие корни его подхода уходят в богословие Павла, особенно в Послание к Римлянам (с комментария на которое началась научная карьера Барта!), но в ЦД он конструктивно использует самые разные отрывки Ветхого и Нового Заветов.
Как он работает с текстами, которые противоречат его взглядам? Для Барта таких текстов не существует. Даже отрывки, которые как будто создают этические аномалии, лишь иллюстрируют свободу заповедующего Бога. Божьи пути - не наши пути, и Бога нельзя связать какими-либо категориями. Барт почти никогда не объясняет внутриканонические противоречия через исторические факторы или гипотезы о развитии. Все библейские тексты, во всем их многообразии, говорят о промысле Божьем и о требовании Бога к нам. Кажущиеся противоречия в каноне становятся для Барта трамплином, от которых он отталкивается в диалектических богословских размышлениях.
Всякий читатель Барта без труда увидит ключевой образ, который для Барта объединяет его прочтение Писания. Личность Иисуса Христа, который есть основа, содержание и форма божественного требования, - объединяющий центр. Все Писание свидетельствует о Нем и о Его истине. Лишь через библейский образ Иисуса Христа мы начинаем видеть заповедь Божью в правильном фокусе. Чтобы лучше понять бартовские представления об этом образе, необходимо прочитать 4-й том ЦД, но образ остается ключевым во всех трудах Барта. Интерпретация Писания через этот образ наложила отпечаток на выраженно христоцентрические формулировки Барменской декларации: «Иисус Христос, как Он засвидетельствован нам в Священном Писании, есть единственное Слово Божье. Его мы должны слушать, Ему верить, и подчиняться Ему и в жизни, и в смерти»[96]. Именно из-за христоцентризма библейской этики Барт в своем обсуждении войны делает такой сильный акцент на миротворчество как призвание церкви.
(В) Герменевтический аспект. Бартовский подход к этике как к «заповеди Божьей» ведет к акценту на непосредственную нормативность записанных в Библии правил. Однако Барт делает две оговорки.
1) Правила необходимо осмысливать в их повествовательном контексте как часть рассказа об избрании Богом своего народа.
2) Бог всегда может создать исключение из правил.
С учетом этих оговорок новозаветные правила (например, Нагорная проповедь) должны пониматься буквально и соблюдаться «до особого распоряжения».
Вместе с тем Барт глубоко убежден: из библейских текстов нельзя выводить какие бы то ни было принципы. Божественные требования конкретны. А потому никаких послаблений в виде общих принципов быть не может. Не может быть и «нейтральных зон», в которых человеку было бы предоставлено право самому решать, что хорошо, а что плохо. Оставлять место подобным человеческим домыслам, значит, отрицать конкретность божественной воли и принимать этику, которая де-факто является атеистической. По мнению Барта, это позволило бы эгоистическим и греховным людям оправдывать собственные желания, прикрывая собственные поступки религиозными речами.
Из-за своего внимания к повествовательным моделям Барт ценит библейские рассказы как образцы. (Вспомним его слова о том, что рассказы о Сауле, Ахитофеле и Иуде назидательнее прямых запретов на самоубийство!) В частности, именно по рассказу об Иисусе Христе в бартовском богословии определяется, что есть послушание и подлинная человечность. «Суть авторитета и свободы», реализовавшаяся в личности Иисуса Христа, «становится нормой того, что требуется от нас»[97].
Для Барта библейские рассказы - не источник аналогий, которые могут дать нам полезный нравственный урок. (Опять-таки аналогическая герменевтика сделала бы слишком большое послабление нашим капризным интерпретациям!) Барт говорит о нас как о «современниках» пророков и апостолов. Слово Божье в библейских рассказах обращается непосредственно к нам, поэтому аналогическое мышление не нужно и даже не возможно. Однако, при всем уважении к Барту не вполне понятно, как на ином уровне, кроме риторического, отличить эту герменевтическую стратегию от использования аналогического воображения при прочтении текстов. Более того, экзегетические пассажи самого Барта - прекрасная иллюстрация такого аналогического прочтения! Один из примеров - его использование израильского вторжения в Ханаан как метафоры для задачи богословской этики.
Что касается мира новозаветных символов, то весь богословский проект Барта можно было бы описать как решительную попытку поместить себя и своих читателей в «странном новом мире внутри Библии»[98]. В своем прочтении этого мира он делает особый упор на характер и деятельность Бога как Того, кто открывается в Писании. Барта почти не интересуют антропологические темы Нового Завета, - кроме самого Иисуса Христа как откровения о подлинном характере и призвании человечества.
Что можно сказать о соотношении Писания с другими источниками авторитета в бартовской этике? Ответ напрашивается сам: Слово Божье передается через Библию, и его авторитет -выше всякой человеческой мудрости. На протяжении всей ЦД Барт ведет диалог с христианской богословской традицией. (При этом у него отцы церкви и деятели Реформации - партнеры по диалогу. Для контраста он использует современных авторов.) Однако Новый Завет неизменно остается критерием, по которому Барт меряет традицию. Традиция сама по себе у него не имеет нормативного веса.
И уж тем более не могут претендовать на роль авторитетных этических источников разум и опыт Они - «обитатели земли», которым ныне дозволено жить в ней лишь как «чернорабочим», как слугам откровения. Когда богословы рассматривают человеческую мудрость в качестве источника богословского знания, они попадают в когти «естественного богословия», против которого Барт сказал свое решительное «Nein!»[99] Естественное богословие Барт считает одной из форм идолопоклонства. Твердости его убеждений по данному вопросу во многом способствовала его борьба с нацистским «германским христианством», которое предлагало синкретическую смесь христианства с элементами натурализма и национализма. Этому синкретизму Барменская декларация противопоставила отказ признать любой авторитет, кроме Слова Божьего, засвидетельствованного в Писании.
Однако, как ни странно, при обсуждении Бартом войны и убийства, христоцентрическая герменевтика отступает на задний план, а на передний план выходят такие небиблейские факторы, как независимость и целостность национального государства. Именно они обосновывают исключения для заповеди «не убий». Почему? Возможно, это отчасти вызвано тем фактом, что ЦД III/4 рассматривает этику под заголовком «Заповедь Бога Творца». Что сказал бы о войне Барт в разделе «Заповедь Бога Примирителя»? Он мог бы прийти к иным выводам, более созвучным его намерению находить форму и содержание этики в личности Иисуса Христа[100]. Однако здесь есть и более серьезная трудность: в богословском и этическом дискурсах невозможно вот так, за здорово живешь, сбросить со счетов человеческий разум и опыт. Если попытаться это сделать, они тихо проскользнут через черный ход. И в бартовских построениях это хорошо заметно. Именно потому, что он старательно исключал из своей этической программы человеческие нравственные разум и расчет, его высказывания в пользу вооруженной самообороны Швейцарской Конфедерации выглядят неожиданными и нелогичными. Его основанное на опыте убеждение, что Швейцарию нужно защищать, не имеет богословской опоры в его системе.
Таким образом, в плане герменевтических методов Нибур и Барт противоположны, как фотография и ее негатив. Нибур находит в Писании идеалы и принципы, к которым можно приблизиться в человеческом выборе, основанном на трезвом учете вероятных последствий. Барт отвергает всякую апелляцию к принципам и конвенциалистское рассуждение, находя заповедь Божью в библейских правилах и повествованиях-образцах - элементах, которые в нибуровской этике прямой роли не играют. Оба богослова считают, что мир новозаветных символов определяет христианскую этику, но их понимание этого мира поразительно отличается друг от друга. Нибур рассматривает мир новозаветных символов как просвещающий рассказ о трагическом и трансцендентном положении человека. (Не случайно и название его книги: «Природа и назначение человека».) С точки зрения Барта, мир новозаветных символов - это рассказ о личности и промысле Бога, который зовет нас в Завет через Иисуса Христа. Нибур настаивает: человеческие разум и опыт должны играть ключевую роль в нашей интерпретации Нового Завета, и «несоответствие эмпирической реальности» - признак ереси. Напротив, Барт убежден: человеческие разум и опыт должны склониться в послушании перед Словом Божьим, а уважение к человеческому опыту - признак идолопоклонства.
Отсюда вытекает вывод: разногласия по вопросам нормативной этики (например, Барт более отрицательно относится к использованию христианами насилия) - вопрос не столько экзегетических разногласий, сколько герменевтического метода.
(Г) Прагматический аспект. Какие плоды может принести богословская этика Барта? Как мы уже отмечали, Барт сыграл выдающуюся роль в сопротивлении Исповедующей Церкви гитлеровскому режиму. Барменская декларация показывает, как на практике выглядит община, сформированная бартовской герменевтикой и пророчески свидетельствующая во имя Иисуса Христа против всех земных притязаний на власть. Цель такого свидетельства - не столько достижение политических результатов, сколько проповедь Слова Божьего миру.
Барт не завершил разделы ЦД, в которых Церковь рассматривается более подробно. Однако его глубоко волновали вопросы, связанные с общиной веры и сохранением конфессиональной идентичности: не случайно первый опубликованный отрывок ЦД посвящен крещению. Община, сформированная бартовской герменевтикой, стремится бескомпромиссно возвещать миру владычество Иисуса Христа. При этом ее не обязательно волнует практическая сторона дела (как реализовать волю Божью в политической сфере).
Здесь есть определенная опасность: христианская община может настолько увлечься формулированием своего исповедания, что совершенно потеряет связь с миром, к которому она должна обращаться. Однако общественная деятельность самого Барта, убедительно высказывавшегося по актуальным вопросам, показывает, что такой печальный итог вовсе не обязателен.
В те времена, когда церковь обессилена теплохладным безразличием и конформизмом по отношению к окружающей культуре, бартовское богословие может придать ей мощный заряд мужества. Его герменевтика охватывает и анализирует все Писание, хотя не всегда понятно, как Барт идет от Писания к конкретным нравственным суждениям. В любом случае, используя герменевтическую позицию Барта, церковь может утверждать себя как народ, чье главное призвание - послушание Слову Божьему.
3. Джон Говард Йодер: следование за Иисусом
Джон Бэвард Йодер (1927-1997) - американский исследователь богословской этики, чьи корни - в меннонитской традиции. Он учился у Карла Барта в Базеле, где написал докторскую диссертацию по истории анабаптистской традиции в XVI веке. Впоследствии его интеллектуальное паломничество привело его к активному участию в экуменическом диалоге. Он был одним из менно-нитских представителей во Всемирном Совете Церквей и преподавал в Университете Нотр-Дама. В 1972 году он выпустил книгу под названием «Политика Иисуса» - новаторскую попытку заниматься христианской этикой в живом диалоге с библеистикой[101]. Это исследование отстаивает три фундаментальных тезиса:
1) Новый Завет непрестанно свидетельствует об отвержении Иисусом насилия и принуждения.
2) Пример Иисуса имеет самое прямое значение для христианской общины и является для нее нормой.
3) Верность примеру, поданному Иисусом, - не устранение от политики, а политический выбор.
Работа Йодера была открытым вызовом нибуровскому христианскому реализму, который задавал тон в американской протестантской социальной этике между Второй мировой войной и вьетнамской войной. Предвосхищая некоторые мотивы богословия освобождения, «Политика Иисуса» выступила с новым и чрезвычайно интересным предложением.
Йодер не создал глобального систематического труда по богословской этике. Большая часть его наследия - это просто статьи. «Политика Иисуса», на которой мы сосредоточим свое внимание, - самая серьезная его монография. Для понимания герменевтики Йодера важен и его сборник «Священническое Царство» (1984). Он подчеркивает общинный контекст христианского нравственного рассуждения[102]. Вместе взятые, эти работы составляют базу, на основании которой мы сможем оценить роль Писания в мысли Йодера.
Подход Йодера к богословской этике
Уже первая глава «Политики Иисуса» бросает перчатку «магистральной этике», которая не отводит Иисусу места в социальной этике. Йодер пишет: «Согласно свидетельству Библии, Иисус - образец радикального политического действия»[103]. Он кратко описывает, как исследователи христианской богословской этики спиритуализируют учение и пример Иисуса, а то и вовсе пренебрегают ими. Он также обрисовывает альтернативные источники, которые часто приводятся в поддержку тех или иных этических норм:
[Социальная этика] руководствуется здравым смыслом и природой вещей. Мы стараемся понять, что «уместно» и «адекватно», «актуально» и «эффективно». Мы стремимся к «реализму» и «ответственности». Все эти слоганы указывают на эпистемологию, которая классически называется богословием природного:... мы приходим к решению не на основании божественной вести, а изучая окружающие нас реалии[104].
Йодер бросает вызов этим предпосылкам. Если источники и содержание христианской этики распознаются через природную мудрость, то «существует ли вообще христианская этика?» Богословские ставки высоки: речь идет не только о самобытности христианской этики, но и о когерентности между христологическим исповеданием и этическими нормами. Если Иисус - не образец для поведения, то богословское значение его человечества умаляется: «Если Иисус - не образцовый человек, то как быть со смыслом Воплощения?»[105]
Разрабатывая библейское обоснование этой альтернативной позиции, Йодер желает заново прочесть «евангельское повествование», постоянно задавая эвристический вопрос: «Есть ли здесь социальная этика?»
Иными словами, я собираюсь проверить гипотезу, которая противоречит господствующим предпосылкам: на мой взгляд, в своем служении и своих притязаниях Иисус... не избегает политического выбора, а, наоборот, осуществляет его. Он делает весьма конкретный социально-политически-этический выбор[106].
В качестве примера Йодер берет Евангелие от Луки. По его словам, подошло бы и любое другое каноническое Евангелие, но этот случай уместно рассмотреть, потому что он, казалось бы, представляет для гипотезы Йодера особую сложность. В самом деле: «В редакции Луки часто усматривают желание показать, что христианское движение не представляет угрозы ни для средиземноморского общества, ни для римского владычества»[107]. Поэтому, если Йодеру удастся показать, что в Евангелии от Луки Иисус предлагает контркультурную социальную этику, каноническая основа для аполитичного образа Иисуса будет существенно подорвана.
В следующей главе («Грядущее Царство») Йодер, внимательно вслушиваясь в повествование, демонстрирует, что Царство Божье, возвещаемое Иисусом у Луки, имеет явный политический аспект. Благовещение и рассказы о Рождестве показывают, что Иисус «приходит избавить свой народ от уз», - уз, которые «явственно видны во всех окружающих его социальных и политических реалиях»[108]. Искушение Иисуса в пустыне изображает Его отвергающим «идолопоклоннический характер национализма и политической жажды власти»[109].
Программное возвещение Иисусом своей миссии в назаретской синагоге (Лк 4:16-30) - это весть о наступлении юбилейного года (ср. Лев 25). В юбилейный год освобождаются рабы, прощаются долги, и происходит перераспределение собственности.
Он помазал Меня благовествовать нищим;
Он послал Меня проповедовать пленным освобождение,
слепым - прозрение;
отпустить угнетенных на свободу,
возвестить год Господень благоприятный[110].
Когда Иисус объявляет, что Писание исполнилось ныне, при возвещении Им этих слов слушателям в Назарете, Он имеет в виду не какую-то духовную реальность, но «социальное событие». «Совершенно ясно, о каком событии идет речь: это - социально-политическая и экономическая реструктуризация отношений среди народа Бога, достигаемая Его вмешательством в личность Иисуса как Помазанника, наделенного Духом»[111].
В общине Иисусовых учеников существуют новые модели лидерства, где акцентируется не господство, но служение и общность. Это наглядно видно из Иисусовых высказываний об ученичестве. Создается новое социальное устройство. Оно неизбежно представляет угрозу для нынешнего порядка. Поэтому тех, кто присоединяется к Иисусову движению, будут отвергать. На их долю выпадут страдания:
Здесь Иисус призывает к добровольной самоотдаче, желанию ради призвания претерпеть враждебность общества... Быть учеником, значит, разделить тот стиль жизни, кульминацией которого является крест[112].
«Взять крест» и последовать за Иисусом, значит, последовать за ним, приняв «судьбу революционера»[113].
Однако ненасильственный характер Иисусовой революции решительно утверждается в Лк 22:39-53, рассказе о молитве Иисуса на горе Елеонской и Его последующем аресте. В этот кульминационный момент перед Иисусом снова встает искушение, подобно зелотам, пожелать захватить власть силой. Йодер задает острый вопрос:
О чем Он думал, молясь: «О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!»? Какой была альтернатива?... С какими мыслями Ему приходилось бороться? Может быть, это была возможность тихо ускользнуть в Кумран и переждать там, пока буря уляжется? Или Он думал о примирении с властями, отказе от некоторых своих крайних высказываний? О деэскалации, отказе от притязаний на царство, - с последующим уходом в учительство?
Нет, настаивает Йодер:
Существовала только одна серьезная историческая альтернатива. И только ей есть хоть какое-то подтверждение в тексте. Возможно, в этот самый последний момент искушения перед Иисусом снова встала мысль о мессианском насилии, которая искушала Его с самого начала... Снова Его манила к себе возможность крестового похода. Это было реальное искушение, и Иисус снова его отверг[114].
Молясь «не Моя воля, но Твоя да будет», Иисус принимает свою судьбу - страдание и смерть на кресте.
Однако отказ от мессианского насилия - не отказ от надежды на грядущее Царство. Более того, именно так, через послушание Иисуса, и откроется Царство. «Крест - не преграда и задержка на пути к Царству Он даже не есть путь к Царству. Это - Царство приходящее»[115]. По мнению Йодера, если мы прочтем Евангелие от Луки под этим углом, то нам не уйти от «этики, ознаменованной крестом, - крестом, который был назначен в наказание человеку, угрожавшему обществу созданием новой общины с принципиально новым жизненным укладом»[116].
В последующих главах Йодер анализирует ряд тем, которые помогают ему раскрыть исторический фон ситуации: смысл юбилейного года, понимание Иисусом и Его современниками израильской традиции священной войны, возможность ненасильственного сопротивления как одна из политических возможностей того времени... И наконец, в очень важной главе под названием «Пробный баланс» Йодер приводит герменевтические размышления о последствиях прочтения Евангелий в предложенном им ключе.
Предвосхищая результаты второй части книги, Йодер утверждает: Новый Завет в целом последовательно указывает на крестную смерть Иисуса как на образец. «Везде говорится об одном единственном, в чем Иисус является нам примером. Это - Его крест»[117]. Однако выводить отсюда абстракции не следует.
Верующий не должен думать, что любое его страдание, любая болезнь или неприятность - это крест. Его крестом, как и у его Господа, должна стать цена за социальный нонконформизм. В отличие от болезни или катастрофы, это не необъяснимое и непредсказуемое страдание. Это - конец дороги, по которой человек шел, зная, на что идет. Это не... внутренняя борьба чуткой души с эгоизмом и смертью, а социальная реальность, представляющая в непокорном мире Грядущий Порядок[118].
Для Иисусова ученика нести крест свой, значит, быть в общине тех, кто разделяет его отказ от насилия как от орудия воли Божьей. И для евангельских повествований эта тема не периферийная, а центральная.
Во время своего публичного служения человек Иисус снова и снова сталкивался с одним искушением - искушением взять на себя социальную ответственность, в интересах оправданной революции, через использование доступных насильственных методов[119].
Поэтому богословская этика не может существовать так, словно Иисусу нечего сказать о насущных проблемах человеческой жизни. «Евангельское повествование не дает современному исследователю социальной этики сорваться с крючка. Можно не принимать Иисуса как норму, но нельзя, на основании свидетельств, считать его неактуальным»[120].
Этот подход к Иисусовой этике получает особое звучание, если рассмотреть его в связи с традиционным учением Церкви о воплощении. По словам Йодера, воплощение не означает, что Бог воспринял всю человеческую природу, как она есть, наложил на нее печать одобрения, тем самым ратифицировав природу как откровение. Все как раз наоборот: Бог прорвался через границы стандартного определения того, что есть человек, и дал в Иисусе принципиально новое определение[121].
Подобно своему учителю Барту, Йодер утверждает, что Иисус открывает истинную природу и призвание людей. Это призывает к полному переосмыслению богословской этики, ибо христоцентрическая этика должна ориентироваться на историческую конкретность Иисуса, который показал: «Воля Божья о Человеке Божьем в мире сем состоит в том, что ему следует отказаться от законной защиты»[122].
В оставшихся главах книги Йодер пытается продемонстрировать: тема Иисуса как политически актуального примера красной линией проходит через весь Новый Завет. У Павла и в девтеропаулинистских посланиях неоднократно встречается мотив «участия во Христе» и «подражания Христу». В Иоанновом корпусе большую роль играет призыв любить так, как любил Иисус. Во всем новозаветном каноне мы постоянно встречаем отношение к прощению и смиренному служению как к характерным особенностям верующей общины... Все эти элементы находят общую логику в Иисусе как образце жизни, прожитой в верности Богу. Неоднократно эта христологически определяемая верность отличается самопожертвованием и отказом от принуждения. «Служение заменяет господство, прощение поглощает враждебность. Так - и только так - Новый Завет обязывает нас «быть, как Иисус»»[123].
Свой тезис Йодер может отстоять только через глубокое внимание к экзегетическим проблемам. Поэтому ряд глав он посвящает рассмотрению некоторых трудных мест. Среди них: победа Христа над «властями», эпистолярные домашние кодексы как призывы к «революционному подчинению», учение Рим 13 о государственной власти, социальный смысл Павловой доктрины об оправдании и «война Агнца» в Апокалипсисе. Йодер не делает попытки объять всю новозаветную этику. Скорее, он пытается показать, что даже наиболее трудные отрывки Нового Завета поддерживают его гипотезу. К сожалению, у нас здесь нет места углубляться в его этические аргументы. Однако отметим одну из новых тем, которые появляются в главе «Христос и власть», - тему христианской общины как орудия Бога в мире сем. Чтобы ее понять, необходимо проследить, как Йодер обращается с новозаветной космологией.
Опираясь на исследования Хендрика Берхофа, Дж. Кейрда и других ученых[124], Йодер фокусирует внимание на новозаветных упоминаниях о «начальствах и властях» (archai kai exousiai) как сверхличностных системных структурах, которые Христос подчинил себе. Эти силы сотворил Бог, но они восстали против Него, узурпировали владычество над человеческой жизнью и угнетают род людской. «Предполагалось, что эти структуры будут нашими слугами. Однако они стали нашими хозяевами и стражниками»[125]. В своей свободе Иисус бросил вызов мятежникам и отказался признать их верховенство. Это привело Его к роковому столкновению со светскими и религиозными институтами, которые являются внешним проявлением этих сил. Сохранив твердое послушание Богу до смерти и отказавшись участвовать в системном силовом давлении, Иисус разоблачил иллюзию, через которую эти силы держат нас в плену. Йодер цитирует толкование Берхофа на Кол 2:13-15:
Христос «восторжествовал над ними». Разоблачение - уже есть их поражение... Воскресение раскрывает смысл креста: во Христе Бог бросил вызов властям, проник на их территорию и показал, что Он сильнее их... Он выбил у них из рук их оружие... Этим оружием была сила иллюзии, способность убедить людей в том, что именно они - подлинные правители мира[126].
Отказавшись ответить насилием на насилие, Иисус разрушил иллюзорные чары смертоносной системы и создал новую модель для жизни в мирном послушании Богу. «Его послушание до смерти есть не только знак, но и первые плоды подлинного восстановленного человечества»[127].
Призвание церкви - своей жизнью отражать политику Иисуса, продолжая разоблачение и разоружение властей. Именно об этом говорится в Еф 3:9-11:
Дабы ныне соделалась известной через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем.
Это имеет колоссальное значение для понимания ответственности, возложенной на общину:
Само существование Церкви - главная задача. Она сама есть возвещение Христова владычества властям, от чьего господства Церковь уже начала избавляться. Церковь не нападает на власти; это уже сделал Христос. Она сосредотачивается на том, чтобы не быть соблазненной ими. И своим существованием она демонстрирует, что их восстание подавлено[128].
Йодер подчеркивает, что упор на принципиальность церкви относительно аутентичности исповедания не должен пониматься как уход от мира или от социальных вопросов в личное благочестие.
Следует осознать: первичная социальная структура, через которую Евангелие изменяет другие структуры, - это христианская община.[129]
Призвание церкви - быть «совестью и слугой в человеческом обществе»[130]. Эта роль возможна только тогда, когда община сопротивляется мирскому соблазну жить на основе иных ценностей, чем те, примером которых был Иисус.
(А) Дескриптивный (описательный) аспект. Йодер не претендует на экзегетическую оригинальность. Однако, постоянно прочитывая новозаветные тексты «под одним определенным углом»[131], он достигает довольно неординарных результатов. Поскольку основной источник этических норм для Йодера - не общая человеческая мудрость, а библейский образ Иисуса, экзегетическая задача для него имеет приоритет. Вообще говоря, как книга о методе в христианской этике, «Политика Иисуса» необычна именно тем, что она состоит почти исключительно из комментариев на новозаветные тексты.
Более того, йодеровские интерпретации основаны на продуманном и детальном анализе историко-критической библеистики. (В данном отношении он резко отличается не только от Нибура и Хауэрваса, но и от Барта.) Обращение Йодера с важными разработками в новозаветной науке - весьма проницательное. Отчасти он даже опередил свое время. Например, он внимателен к социальному контексту и социальному смыслу текстов, он помещает Иисуса в политическую обстановку Палестины I века, он делает акцент на политические горизонты упоминаний о «властях» в паулинистских традициях, он интерпретирует Послание к Галатам как выступление против социальной формы церкви (а не как выступление против проблемы индивидуальной вины), он сочувственно осмысляет Тору как орудие благодати в иудейской традиции... В общем и целом, он очень умело обработал то лучшее, что появилось на горизонте библеистики в начале 1970-х годов.
Йодер внимателен к контексту и форме рассматриваемых им текстов. Посмотрим, например, как он работает с Рим 13:1-7 -отрывком, где мысль о подчинении государственным властям, казалось бы, вступает в глубокое противоречие с христианским пацифизмом Йодера. Он выходит из положения, прочитывая Рим 12 и 13 как литературное единство:
Христианам заповедано (12:19) не мстить, но предоставить все Богу и Его гневу. Затем Павел говорит (13:4) о том, что власти выполняют некоторые функции, которые христиане должны предоставить Богу. Совершенно очевидно, что эти отрывки, использующие столь сходные выражения, нельзя интерпретировать в отрыве друг от друга. А отсюда видно: функция, исполняемая правительством, не есть функция, которую должны исполнять христиане[132].
Это позволяет понять призвание христианской общины. Отрывок призывает церковь «не сопротивляться тираническому правительству». «Сколь же странно, - пишет Йодер, - что отсюда подчас выводят обязанность христиан убивать»[133]. У нас здесь нет места подробно разбирать его экзегезу данного текста, но нужно заметить, что она подробна, глубока и убедительна.
Впрочем, убедителен Йодер не всегда. Он излишне оптимистично оценивает соотношение между историческим Иисусом и формой канонических евангельских повествований[134]. Он придает больший, чем большинство критиков, вес теории Андре Трокме, что Иисус призывал к исполнению постановлений о юбилейном годе в 26 году н.э.[135] Прочитывая Haustafeln как призыв к «революционному сопротивлению», он в какой-то мере выдает желаемое за действительное из апологетических соображений[136].
Однако даже там, где нам приходится пересматривать аргументы Йодера, мы не можем не признать, что он проделал серьезную и глубокую экзегетическую работу, а свои находки представил на всеобщий суд, призвав всех к конструктивному диалогу. В целом «Политика Иисуса» - впечатляющий экскурс исследователя богословской этики в сферу экзегетики.
(Б) Синтетический аспект. Подобно Барту, Йодер намерен работать со всем новозаветным каноном, и в этом своем намерении он в целом преуспевает. Впрочем, «Политика Иисуса» не претендует на охват всех новозаветных свидетельств. Из Евангелий Йодер особый акцент делает на Евангелие от Луки. (При этом, как ни странно, почти не учитывает Деяния Апостолов.) Евангелие и Послания Иоанна получают мало внимания. В общем, если бы Йодер писал не программное предложение об Иисусе как образце для христианской этики, а систематическое исследование новозаветной этики, у него бы остались некоторые существенные пробелы[137]. Тем не менее размах канонического обзора, проделанного Йодером, впечатляет. Йодер делает острую и последовательную попытку укоренить единство Нового Завета в отвержении насилия Иисусом. На последней странице он делает вывод:
Социальный стиль, характеризующийся созданием новой общины и отвержением любого насилия, - тема, пронизывающая всю новозаветную весть[138].
Есть ли у Йодера функциональный канон в каноне? В принципе, небезосновательно было бы указать на евангельские рассказы об искушении и Страстях как на те, которые точнее всего объясняют, кто такой Иисус и как Он принял свое призвание.
Вместо этого Послание к Ефесянам христологически цементирует подчиненное положение женщины в браке... Автор был не способен «христианизировать» кодекс. «Благовестие о мире» трансформировало взаимоотношения между язычниками и иудеями, но не социальные роли женщин и рабов в домохозяйстве Бога. Напротив, культурно-социальные структуры господства подверглись теологизации, а потому были усилены. [Schussler Fiorenza 1983, 270. Курсив мой.]
Йодер считает, что смысл посланничества Иисуса раскрывает Крест. Особый акцент «Политики Иисуса» на Евангелии от Луки в некотором смысле случаен. Йодер не думает, что оно важнее или глубже других Евангелий. Более того, Евангелие от Марка даже более ясно подчеркивает образцовый характер отвержения Иисусом власти. Лука нужен Йодеру только затем, чтобы проиллюстрировать методологию.
Задним числом мы видим, что с этим акцентом на Луку Йодер отчасти промахнулся. Когда он писал первый вариант «Политики Иисуса», в исследованиях третьего Евангелия задавала тон концепция Ханса Концельмана. Она заключалась в том, что Лука старался показать Римской империи политическую безвредность раннехристианского движения. Считалось практически аксиомой, что Иисус Луки - аполитичен и угрозы не представляет. Соответственно, Йодер строит аргументацию так: если даже у Луки Иисус проповедует и осуществляет нонконформистскую социальную этику, то что уж говорить о других Евангелиях! И историческая истина об Иисусе должна соответствовать образу, нарисованному Йодером, ибо политическая революционность Иисуса просвечивает сквозь повествования, несмотря на все попытки Луки ее сгладить. Однако с 1972 года литературные и редакционные исследования Луки - Деяний подвергли тезис Концельмана резкой критике[139]. Согласно этим исследованиям, Лука более других евангелистов желал рассказать историю освобождения народа[140]. Для него было очень важно показать, как Евангелие врывается в римский мир и потрясает его социальные нормы и устои... Но это ослабляет позицию Йодера: возможно, он описывает не политику Иисуса, а политику Луки!
Конечно, это само по себе не обязательно является сильной помехой для йодеровских построений[141]. Иногда он пишет так, словно канонический портрет все, что нужно для его целей. Однако в других местах Йодер оговаривается, что вопрос об исторической реальности, стоящей за каноническими повествованиями, имеет ключевое значение. Он соглашается:
Мое понимание рассказа об Иисусе существенно пошатнулось бы, если бы в ходе поиска исторического Иисуса было убедительно показано, что «реальный Иисус» несовместим с тем, что мы находим в каноническом отчете[142].
Йодер сомневается в том, что такие доказательства будут найдены. Тем не менее, как показывает его теоретическая уступка, исторические события, стоящие за рассказом, должны быть включены в синтетическое прочтение канона. Если самые политически важные элементы рассказа не отражают историческое воспоминание, а принадлежат к уровню редакции Луки, то «реальный Иисус» все более ускользает. Тогда герменевтическая позиция Йодера стала бы менее прочной, ибо он продолжает считать Писание «свидетельством об исторической основе общин, а потому связующим звеном с историчностью прошлого присутствия их Господа»[143].
Как Йодер обращается с текстами, которые противоречат его синтезу? Как мы уже видели, он склонен к тому, чтобы разрешать противоречия или умалять их значение. Показательна концовка главы, посвященной Рим 13:
Логика этой постконстантиновской точки зрения работает только при условии, что императивы Мф 5 и Рим 13 противоречат друг другу... Однако выше мы уже показали, что это не так. Неверно думать, что мы должны выбирать, какой из новозаветных императивов исполнять: о послушании правительству или о любви к врагам. Ведь на самом деле между Рим 12-13 и Мф 5-7 нет никакого противоречия. Оба этих текста запрещают христианам сопротивляться в каких бы то ни было отношениях, включая социальные. Оба они запрещают Иисусовым ученикам участвовать в той борьбе эгоизмов, которую мир сей зовет «возмездием» или «справедливостью»[144].
Тут Йодер прав: более внимательная интерпретация снимает кажущееся противоречие. Однако такая стратегия срабатывает не всегда. Некоторые попытки ее применить выглядят натянутыми (например, понимание Йодером Haustafeln).
Еще одна метода обращения с внутриканоническими противоречиями очень важна в плане проблемы войны и насилия. Йодер постулирует богословское развитие в каноне. Соответственно, новозаветные тексты становятся герменевтически определяющими по отношению к Ветхому Завету:
«Церковь верующих» способна увидеть развитие в каноническом рассказе, а значит, и различие между Заветами. Библия - не вневременное собрание вечных метафор, подлежащих аллегорическому истолкованию, или пропозициональных сообщений для дедуктивного рассуждения. Это - Рассказ об обетовании и исполнении, в котором нужно видеть направленность. Новый Завет, утвердив Еврейские Писания, которые христиане стали называть Ветхим Заветом, также интерпретирует их. Авраам и Моисей прочитываются через Иисуса и Павла[145].
Видеть в Библии направленность, значит, следовать за ее повествовательной логикой, а не искать концептуальный синтез различных моментов рассказа. С точки зрения Йодера, такая повествовательная стратегия открывает, что крест, как решающее откровение о Божьем пребывании в мире, стоит выше всех санкций на войну, которые можно вывести из Ветхого Завета, если читать Ветхий Завет сам по себе.
Таким образом, у Йодера крест - ключевой образ. Именно через него прочитывается весь канонический рассказ.
Для радикального протестантства всегда будет существовать канон в каноне: засвидетельствованный опыт практического нравственного рассуждения в подлинно человеческой форме, которая носит имя Иисус[146].
Йодеровское понятие «канон в каноне» здесь очень похоже на то, что я называю «ключевым образом». Он имеет в виду не текст, а тот элемент в Писании, который служит своего рода линзой, сквозь которую прочитывается все остальное. Иисус, образец практического нравственного разума, пошел на крест, тем самым посрамив всякую человеческую мудрость и силу и научив нас, как видеть и жить правильно. Такова центральная весть библейского рассказа.
(В) Герменевтический аспект. Йодер не отрицает, что христианская община должна жить по правилам, указанным в Писании, но, как ни странно, говорит о них очень мало. Например, в «Политике Иисуса», доказывающей, что Иисус отвергал насилие, он умудряется ни разу не процитировать Мф 5:39 («Кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и другую»), а о самом этом стихе упоминает лишь в примечании[147]. Роль Иисуса как учителя нравственных правил сведена у Йодера к минимуму; доводы против насилия он выстраивает иным, более тонким в герменевтическим плане, способом. Основная роль Писания состоит не в том, чтобы давать правила поведения, а в том, чтобы служить «коллективной письменной памятью, сокровищницей старого и нового»[148].
Подобно Барту, Йодер отказывается извлекать из Писания нравственные принципы. Причина та же самая: это предоставит слишком богатые возможности отойти от истины, открытой в Иисусе. Исповедание, что «Слово стало плотью и обитало среди нас», означает:
Задача этического размышления изменилась: это уже не гипотезы независимых мыслителей относительно смысла вещей, а ряд ответов, данных в конкретное время и в конкретном месте... Воля Божья конкретно узнаваема в личности и служении Иисуса[149].
Таким образом, Йодер апеллирует к Новому Завету как источнику конкретного образца для этики: «Лучший и самый показательный пример трудного выбора между эффективностью и послушанием - сам Иисус»[150].
Однако, в отличие от Барта, Йодер не видит никаких трудностей с нахождением в Новом Завете аналогий. Чтобы возвещать владычество Христово в наше время, мы призваны обновлять в языковом мире плюрализма/релятивизма аналог тому, что делали эти первые транскультурные реконцептуализаторы [т.е. новозаветные авторы], - не искать перевод их результатов, а подражать их занятию... От нас требуется найти трансформационную грамматику, которая помогла бы понять, что должно случиться, чтобы столкновение Иисусовой вести с нашим плюралистическим/релятивистским миром не выхолостило бы эту весть, а привело бы к переосмыслению формы мира[151].
Но разве не оставляет такая «транскультурная реконцептуализация» столько же лазеек для неверного своеволия, сколько и использование общих принципов? Йодер надеется, что этой опасности удастся избежать, покуда средоточием Вести будет новозаветный образ Иисуса. Об этом он говорит в своей статье ««Но мы видим Иисуса»: конкретность Воплощения и универсальность истины»[152].
Далее. Один из основных аспектов йодеровской концепции -акцент на «общинный нравственный процесс» как на средство различения воли Божьей. Человек выносит суждение об использовании библейских аналогий не в одиночку. Это - дело верующей общины, которая уповает на наставление Святого Духа. Предлагаемый курс действия проверяется свидетельством всех членов общины (ср. 1 Кор 14:26-33). Те, кто отходит от поданного Иисусом примера, должны получить от других вразумление и обличение (Мф 18:15-20; Гал 6:1-2). При надлежащей строгости потенциал для герменевтической аберрации существенно снижается. О том, как должен протекать процесс вразумления общины, Йодер размышляет в своей программной статье «Герменевтика общинности»[153].
Интерпретация Йодером мира новозаветных символов также играет важную роль в его нормативной этике. В отличие от Нибура, который выводит из библейских источников диалектическое представление о падшей человеческой природе, Йодер не придает особого герменевтического значения новозаветному образу человеческой смертности и греха. Как он сам говорит, его подход - «более оптимистический, чем у других авторов, относительно возможности знания и исполнения воли Божьей»[154]. В мире новозаветных символов Йодер находит рассказ не о человеческой греховности, но о человеческом призвании, а также о таинственном божественном порядке, который посрамляет человеческую мудрость. Взирая на «форму мира», как она видна в Писании, мы можем под новым углом взглянуть на нашу нравственную ситуацию. И это дает нам возможность вырваться из безвыходных дихотомий, которые предлагаются общепринятым мнением.
Когда мне представляется, что от меня требуется совершить какое-то неправедное дело для предотвращения некоего большего зла, - сузил свое понимание времени, пространства, общечеловеческого многообразия или истории. Я исключил каких-то людей из своего «золотого правила», или же, подсчитывая полезность, неверно расставил коэффициенты[155].
С другой стороны, когда мы смотрим на реальность в категориях, которым научил нас пример Иисуса, меняется вся наша система координат. Оказывается, кажущаяся эффективность насилия иллюзорна, а «смысл истории определяет не грубая сила, а страдание»[156]. Владыка мира - «закланный агнец». Поэтому Иисус становится «меркой, по которой христиане должны научиться, как им смотреть на ход истории»[157]. Таким образом, Йодер признает: Его этика ненасилия имеет смысл только для христиан, только в христологически определяемом мире новозаветных символов.
У этой концепции есть характерный недостаток (или достоинство, - в зависимости от точки зрения): она работает только в том случае, если Христос - именно Тот, кем считают его христиане, то есть Владыка. Остальные виды этического подхода, отстаиваемые христианами, пацифистские или непацифистские, имеют смысл и для нехристиан. Большая часть этических подходов может функционировать независимо от того, является ли Иисус - Христом или Иисус Христос - Господом. Ибо они основаны на таких пониманиях человеческой жизни или таких этических концепциях, которые, как предполагается, доступны для всех людей доброй воли. Но эта мечта иная - «восполнить в наших телах то, чего недоставало скорбям Христовым». Если Иисус Христос был не тем, кем его считает историческое христианство, - откровением характера Бога в жизни конкретного человека - то этот довод в пользу пацифизма рушится[158].
Отсюда видно: Йодер близок Барту в своем отвержении нормативных этических притязаний небиблейских источников авторитета. Однако Йодер в чем-то более гибок: он признает исторически обусловленный характер новозаветных текстов и считает, что процесс нравственного суждения общины должен продолжаться.
Постепенно христианская община формирует традицию, которая сообщает ей самобытность по отношению к ценностям и нормам мира сего:
Богослужение - культивация общиной альтернативного понимания общества и его истории. Это понимание празднуется через рассказы об Аврааме (и Сарре, и Исааке, и Измаиле), о Марии и Иосифе, об Иисусе и Марии, о Кресте и Воскресении, о Петре и Павле, о Петре из Чельчица и его Братьях, о Джордже Фоксе и его Друзьях[159].
Интересно, как Йодер здесь ставит в один ряд библейские рассказы и рассказы о радикальной Реформации. Утверждая нормативный приоритет Писания, Йодер желает сохранить легитимность и необходимость гибкого ответа Церкви на изменяющиеся исторические ситуации (до тех пор, пока этот ответ сохраняет линейную преемственность с Новым Заветом). В своей статье «Авторитет традиции» Йодер формулирует проблему так:
Столкновение происходит не между традицией и Писанием, а между верной традицией и безответственной традицией. Только если мы, вместе с Иисусом и Павлом (и Франциском Ассизским, Савонаролой, Мильтоном и другими) разоблачим ложную традиционность, мы сможем утвердить остальное. Писание появляется на сцене не как вместилище всевозможных боговдохновенных истин, но как свидетельство об исторической основе общин, а потому связующее звено с историчностью прошлого присутствия их Господа[160].
Традиция неизбежно сохраняет значимость для этического дискурса, но она должна согласовываться с историческими истоками общины, как те описаны в Новом Завете.
Важность исторических корней для йодеровской концепции неизбежно влечет за собой повышение роли разума (в форме исторической критики). При обсуждении своей методологии Йодер о ней мало говорит напрямую, но в «Священническом Царстве» это сформулировано яснее, чем в «Политике Иисуса». Обратим внимание на следующий отрывок, где он выступает как сторонник критического подхода, внимательный к истории, стоящей за новозаветным свидетельством:
В сердце нашей традиции мы находим не некое утверждение, будь то библейское или какое-то еще, которое мы считаем авторитетным и, в силу своей боговдохновенности, свободным от релятивизма герменевтических дебатов. То, что мы находим у истока, уже есть процесс возвращения к истокам, к ранним воспоминаниям о самом событии...[161]
Поскольку «Иисус участвует в локализуемой, поддающейся датировке истории», Евангелие сообщает о «событии, которое произошло в собственном мире слушателей»[162]. Йодер верит, что герменевтический разрыв между новозаветным миром и настоящим может быть преодолен через исторически ориентированную христологию. В истории он находит ту самую точку соприкосновения с человеческим разумом, которую постоянно отказывался признавать Барт. Согласно Иодеру, вопрос состоит не в том, «может ли Иисус иметь смысл в мире, далеком от Галилеи, а в том, захотим ли мы последовать за Ним, когда встретим Его в нашем мире (а мы Его действительно встречаем в нашем мире)»[163].
Однако разум и история у Йодера подчинены миру библейских символов, включены в него. «В эпистемологическом плане Церковь предшествует миру... Смысл и работоспособность таких понятий, как «природа» и «наука», лучше всего видны, когда они рассматриваются не сами по себе, а в свете владычества Христова»[164].
И наконец, говоря о христианской этике, Йодер отводит важную герменевтическую роль опыту.
Собранная община ждет от Духа новых, ранее неведомых ответов. В своей апелляции к авторитету она ориентируется уже не на боговдохновенность Священного Писания и не на централизацию епископального магистериума, и не на безответственный личный «фанатизм»... О достигнутом сегодня консенсусе община вправе сказать: «Угодно Святому Духу и нам» - и рекомендовать его в энциклике другим церквам[165].
Важно оговориться: свой рассказ о наставлении церкви Духом Йодер начинает с Нового Завета и не рассматривает опыт как источник откровения, независимый от Писания. Наоборот, под водительством Духа община узнает значение Писания для новых исторических стуаций. Дух раскрывает перед общиной те смыслы библейского текста, которые ранее оставались сокрытыми, - как и новозаветным авторам он раскрывал герменевтически революционные интерпретации Ветхого Завета. Чтобы объяснить взаимосвязь между текстом, Духом и общиной, Йодер проводит современную научную аналогию:
Всегда существовали радиоволны, доносящие до нас весть с далеких звезд. Но получать эти сигналы мы смогли лишь с развитием радиотехнологий. Библия всегда была рассказом об освобождении. Но лишь теперь мы готовы прочесть ее в этом ключе[166].
Людей, живущих в мире новозаветных символов, не удивит и не оскорбит такая открытость герменевтической роли Духа в общине. «Откровение продолжается. Это обещано Иисусом (Ин 14:12-26; 16:7-15). Это предполагается образами пророчества у Луки и Павла. Это предполагается такими текстами, как 1 Ин 4:1 сл. и 1 Кор 12:1 сл., которые предлагают и соответствующие критерии»[167].
...Таким образом, йодеровская герменевтика признает место традиции, разума и опыта в процессе интерпретации. Но в то же время она настаивает: фундаментальной нормой для христианской этики должен оставаться новозаветный образ Иисуса.
(Г) Прагматический аспект. Какие плоды приносит йодеровская герменевтика? Реализацию этой мечты мы можем видеть в «церквах мира», укорененных в анабаптистском движении XVI века. Однако Йодер решительно не желает ограничивать свой этический подход «сектантскими» общинами. «Мои убеждения не являются ни сектантской странностью, ни пророческим исключением, - пишет он, - Они апеллируют к правильно понятым классическим кафолическим христианским убеждениям»[168]. Йодер высказывает надежду на реформу и обновление Церкви через внимание к образцу, поданному Иисусом. В «Священническом Царстве» он указывает и на ряд других исторических примеров сходного подхода, - от францисканцев до Мукйокай в Японии и кимбангуистов в Заире[169]. Конечно, список радикальных христианских общин, влияние которых непропорционально их размеру и видимой силе, можно расширить: Ферма «Койнония» Кларенса Джордана, Братство Реба Плейс в Эванстоне (Иллинойс), Община временных жителей в Вашингтоне...
Община, сформированная йодеровской герменевтикой, будет занята «образцовой миссией», воплощающей альтернативный порядок, который предвосхищает волю Божью о примирении мира[170].
Церковь погружена в мир сей, но своим образом жизни она представляет обетование о мире ином, который находится не где-то «там», но приходит сюда. Эта особенность церкви проявляет себя в миротворчестве: отказ воевать - ее необходимая негативная трансцендентность... Церковь культивирует альтернативное сознание. Иной взгляд на мир не умирает благодаря рассказу и празднованию, которые бросают вызов некоторым «явным» урокам «реализма»[171].
Общины, где это обетование принимает нынешнюю форму, отвергают насилие. Их члены с искренностью и любовью стараются друг друга исправлять. Такие общины свидетельствуют политическому порядку[172], но не соблазняются той иллюзией, что они могут послужить Богу, пойдя на компромисс ради обретения власти. Это - искушение, которое встретил и отверг Иисус и которое вслед за ним должна без колебаний отвергнуть Церковь.
Однако есть здесь и опасность - опасность замкнутости и изоляции. Вспомним критику самого же Йодера в адрес «оборонительной тактики и авторитаризма» меннонитов! Однако сам Йодер бы ответил, что такие «нравственные провалы» вызваны «не тем, что за Иисусом следуют слишком последовательно, а, наоборот, тем, что за Ним следуют недостаточно»[173]. Стало быть, причина такова: люди абсолютизируют этические традиции и отбрасывают историческое свидетельство Нового Завета в качестве рабочей основы для обычаев общины[174].
Йодеровская герменевтика ставит перед церковью ответственную задачу: хранить верность своему ученичеству и строить жизнь по примеру Иисуса, которого церковь исповедует Господом. Сейчас, когда перед христианскими богословами все острее стоит проблема распада христианского мира и признания их статуса меньшинства в плюралистическом обществе, концепция Йодера предлагает один из убедительных подходов к тому, как Новый Завет может трансформировать церковную жизнь.
4. Стэнли Хауэрвас: характер, сформированный традицией
За последние два десятилетия Стэнли Хауэрвас написал целый ряд острых статей и книг, которые ставили в центр внимания богословской этики повествование, общину и формирование характера. Его страстные призывы к церкви сохранять самобытность, не уступать ценностям и давлению либеральной демократической культуры, сделали его важной и спорной фигурой в современных богословских дебатах. Некоторыми своими популярными трудами он снискал в церкви куда большую известность, чем та, которой обычно пользуются ученые-богословы[175].
Хауэрвас принадлежит к Объединенной методистской церкви и преподает богословскую этику на богословском факультете Дьюкского университета. Ему удалось осуществить эклектический синтез самых разных позиций. Еще в свою бытность студентом Йельского университета он перенял от своего наставника Ханса Фрая акцент на повествование как базовый способ благовествования. (Эта эмфаза в конечном счете восходит к Карлу Барту.) В то же время Хауэрвас стал изучать Аристотеля и Фому Аквинс-кого как ключевые фигуры для разработки этики характера и добродетелей[176]. Впоследствии, преподавая в Университете Нотр-Дама, он открыл для себя Джона Говарда Йодера и занялся Иисусом как образцом для христианской этики, церковью как альтернативной общиной ученичества и ненасилием как «признаком христианской жизни»[177]. И, наконец, уже недавно, после назначения в Дьюкский университет, Хауэрвас, отчасти под влиянием Стэнли Фиша, перешел на постмодернистские позиции и стал говорить, что тексты (включая библейские) имеют смысл только при интерпретации в конкретных общинах[178].
Не вполне понятно, каким образом Хауэрвас ухитряется соединять все эти элементы в цельную герменевтическую точку зрения. Впрочем, судя по его вольностям с библейской интерпретацией, он, возможно, этого и не делает. Нас же сейчас интересует не богословское паломничество Хауэрваса и не поиск единства в различных стадиях его мысли[179], а место Нового Завета в его этике (особенно в выработке нормативной позиции по вопросу о войне и насилии). Поэтому мы сосредоточимся на трех основных источниках:
♦ «Община с характером». Особое внимание мы уделим методологическим статьям под названием «Иисус: рассказ о Царстве» и «Нравственный авторитет Писания: политика и этика воспоминания»[180].
♦ «Мирное Царство».
♦ «Выпуская на волю Писание». Эта работа содержит вводную статью под названием «Политика Библии: Sola Scriptura как ересь?», а также проповеди, иллюстрирующие герменевтику Хауэрваса в действии[181].
Подход Хауэрваса к богословской этике
Поскольку на Хауэрваса серьезно повлиял Йодер, его точка зрения по вопросу о насилии почти тождественна йодеровской: церковь призвана быть народом, который, по примеру Иисуса, отказывается от использования насилия. Однако к такой нормативной позиции Хауэрвас приходит несколько иным методологическим путем. Попробуем же сейчас изложить его концепцию.
По мнению Йодера, правильное прочтение новозаветного образа Иисуса дает нормы для церковной жизни. У Хауэрваса все наоборот: церковь должна быть верной и мирной общиной, для того чтобы правильно понять новозаветный образ Иисуса. На первый взгляд, это спор о том, что было раньше - курица или яйцо. Однако Хауэрвас убежден: перед нами принципиальный эпистемологический вопрос. Его статье «Иисус: рассказ о Царстве» предпослана показательная цитата из Афанасия Великого.
Для исследования и правильного понимания Писания необходимы добрая жизнь и чистая душа. И христианская добродетель ведет ум к постижению, насколько это возможно для человеческой природы, истины относительно Бога Слова. Человек не в силах понять учения святых, пока его ум не очистится и пока он не будет пытаться подражать их жизни... Всякий желающий понять ум священных писателей должен сперва очистить собственную жизнь и приблизиться к святым, совершая те же дела, что и они[182].
Послушание должно предшествовать пониманию. Афанасий говорит о характере индивидуальных толкователей, но Хауэрвас распространяет его логику на характер церкви как интерпретирующей общины. Самая важная задача церкви - «стать общиной, способной слышать божественный рассказ, который мы находим в Писании, и жить в верности этому рассказу»[183]. Только будучи такой общиной, мы способны черпать нравственное наставление в рассказе об Иисусе. Прочтения Писания, осуществляющиеся вне церкви как формирующей характер общины, попросту поддержат «идеологию политики, отличную от политики церкви»[184]. Иными словами, они будут потворствовать индивидуализму, сибаритству и насилию. То, насколько последовательно Хауэрвас желает проводить эту линию, видно из первого же абзаца книги «Выпуская на волю Писание».
Большинство североамериканских христиан полагают, что у них есть право, а то и обязанность, читать Библию. Я с этим не согласен. Нет задачи более важной для церкви, чем вырвать Библию из рук индивидуальных христиан в Северной Америке. Давайте перестанем дарить Библию каждому ребенку, когда тот поступает в третий класс или, как предполагается, достигает соответствующей христианской зрелости... Давайте лучше скажем им и их родителям: они слишком испорчены, чтобы им можно было советовать читать Библию самостоятельно[185].
Правильно читать Писание способна лишь та община, которая уже сформирована рассказом о Царстве Божьем. Но как узнать истинную «политику церкви», если не через чтение Библии? На этот вопрос Хауэрвас дает двоякий ответ.
Во-первых, мы узнаем истину (а значит, учимся правильно читать Писание), взирая на жизнь святых.
Авторитет Писания передается через жизнь святых, на которых указывает наша община как на людей, ближе всего подошедших к нашей цели. Иначе говоря, чтобы узнать смысл Писания, надо посмотреть на тех, кто почти научился исполнять его требования в собственной жизни[186].
Под «святыми» Хауэрвас подразумевает не только святых, официально канонизированных Католической церковью, но и всех наших отцов и матерей в вере, великое облако свидетелей, которые внесли вклад в традицию, в которой мы стоим. Своей верной жизнью они хранили живое свидетельство Писания и передавали его нам. Соответственно, и наша задача - продолжить цепь традиции.
Внимательно взирая на пример тех, кто дал нам Писание, мы учимся быть народом, морально способным прощать, а потому достойным продолжать божественный рассказ, содержащийся в Писании[187].
Во-вторых, мы узнаем истину через церковную литургию, особенно Евхаристию.
Поскольку христианский рассказ - рассказ разыгранный (enacted story), литургия представляет собой более важный источник, чем доктрины или символы веры для нашей способности слышать, возвещать и осуществлять в своей жизни божественный рассказ[188].
Этот акцент на Евхаристию как на действие, формирующее характер общины и создающее условия для интерпретации Писания, особенно характерен для позднего Хауэрваса. Возьмем, скажем, его проповедь о «Недостаточности Писания». Из рассказа о явлении на дороге в Эммаус (Лк 24:13-35) Хауэрвас выводит, что ученики Иисуса подлинно узнают Его не через толкование Писания (24:25-27), а через преломление хлеба за столом (24:30-31)[189]. Рассказ, формирующий общину, он видит в евхаристической братской трапезе с воскресшим Господом. Таким образом, правильное прочтение Писания осуществляется преимущественно в богослужении общинного собрания.
Эти соображения объясняют, почему Хауэрвас считает методологической ошибкой вопрос о том, как «использовать» Писание в христианской этике[190]. Такой вопрос предполагает, что этика занимает привилегированную, внеположенную Библии эпистемологическую точку зрения, которая позволяет сперва определить смысл текста, а потом найти в нем вещи, пригодные для построения этической системы. Однако, по мнению Хауэрваса, смысл текста познаваем лишь в общине, уже сформированной рассказом об Иисусе и уже воплощающей в своей жизни этику этого рассказа. Говорить о «проблеме» использования текста, значит, де-факто объявлять себя аутсайдером по отношению к общине, в которой Новый Завет функционирует как Писание[191].
Однако остаются вопросы: что именно мы узнаем, читая Писание в контексте верующей общины? Какова конкретная форма рассказа об Иисусе? Каковы особенности общины, живущей в мире, о котором говорит этот рассказ? Систематического ответа на эти вопросы у Хауэрваса мы не находим, - только разного рода подсказки. Некоторые из них можно кратко резюмировать.
В статье «Иисус: рассказ о Царстве» Хауэрвас указывает на ключевой эпизод Евангелия от Марка - исповедание Петра в Кесарии Филипповой (Мк 8:27-9:1). Этот эпизод дает новое определение Царства, - определение в категориях Креста, представляющее серьезную угрозу властям мира сего.
Здесь - Тот, кто зовет людей участвовать в Царстве божественной любви, Царстве, высвобождающем силу жертвы и служения. Это Царство непостижимо для властей мира сего. Но вот - человек, который говорит, что, если признать владычество Божье и довериться Ему, то возможно служить без применения силы[192].
Если церковь формируется рассказом об этом человеке, то мы узнаем: «Христианскую социальную этику должны строить лишь те, кто не пытается контролировать национальную или мировую историю»[193]. Значение такого подхода для этики - не только индивидуальное, но и глубоко общинное. «Быть учеником, значит, быть частью новой общины, нового государства, которое формируется в соответствии с послушанием Иисуса на кресте»[194]. Или, как лаконично пишет Хауэрвас, «Церковь - организованная форма Иисусова рассказа»[195].
До сих пор Хауэрвас тесно следует за Иодером. Далее, однако, начинаются расхождения. Он подчеркивает: рассказ учит церковь принимать прощение, осознавать себя как прощенный народ и жить с честностью и смирением, которые невозможны для людей, не считающих себя прощенными грешниками[196]. Живя как «община, которая не боится истины», церковь освобождается от «лихорадочных попыток обрести надежность через обман, принуждение и насилие»[197].
С акцентом на прощение тесно связан и акцент на разнообразие внутри верующей общины. Евангелие учит нас, что «своеобразие наших братьев и сестер во Христе» необходимо для многогранного рассказа о Царстве Божьем. «Старание каждого хранить верность Евангелию важно для наших жизней. Я прихожу к пониманию своей собственной истории, когда смотрю на различные пути ученичества»[198]. Хауэрвас отмечает:
В отличие от всех обществ, построенных на совместных обидах и страхах, христианская община формируется рассказом, который дает ее членам возможность доверять инаковости другого как знаку прощающего характера Царства Божьего... Церковь утверждает и свидетельствует: рассказ об Иисусе способствует такому процветанию даров, которого не знает другая политика[199].
И наконец, по мнению Хауэрваса, евангельские повествования прививают общине гибкость. Наученные рассказом об Иисусе, что божественная благодать непредсказуема, мы учимся встречать «нежданное, приходящее к нам в виде чужестранца», как дар Божий[200]. Члены церкви, в верности совершая свое паломничество, не властны над своей судьбой. А потому они должны быть готовы к тому, что Бог ниспошлет им непредвиденные дары. «Нам необходимо стать народом, который научился не бояться сюрпризов как одного из необходимых способов существования»[201].
Хауэрвас разрабатывает эти темы в «Мирном Царстве», особенно в главе под названием «Иисус: присутствие мирного Царства»[202]. Здесь, однако, он подчеркивает эсхатологичность рассказа.
Чтобы приступить к пониманию Иисусовой вести о Царстве, мы должны сначала избавиться от представления, что известный нам мир будет существовать бесконечно. Надо научиться видеть его так, как его видел Израиль, - в эсхатологической перспективе. Это может прозвучать устрашающе, но в реальности все просто: смотреть на мир в эсхатологической перспективе, значит, смотреть на него в категориях рассказа, который имеет начало, разворачивающуюся драму и конец[203].
Лишь когда мы смотрим на рассказ в целом, включая его обетованный конец, предзнаменуемый воскресением Иисусовым, мы начинаем видеть смысл в «жестких требованиях Нагорной проповеди». Мы начинаем видеть их не как невыполнимый идеал, но как указание на истину о реальности.
Разумеется, Иисусово требование прощать врагов идет вразрез с нашими нормальными предпосылками о том, что возможно, а что нет. Но в этом-то и есть все дело! Мы должны не принимать как должное мир с его ненавистью и обидами, но признать: на дворе новая эпоха, когда можно жить по-новому[204].
В то же время ученичество - это всегда жизнь «в пути». Это незавершенный рассказ, и мы - его участники. Евангелие зовет нас к замечательному «совместному приключению», которое придает нашим жизням достоинство и смысл[205]. Снова и снова, описывая опыт церкви, Хауэрвас прибегает к метафоре паломничества. Рассказ об Израиле изображает народ, находящийся в странствии, все еще ожидающий окончательного исполнения божественных обетований. И Церковь обретает себя в продолжении этого путешествия.
Когда христиане называют жизнь паломничеством, они имеют в виду необходимое и бесконечное возрастание «я» в познании того, как жить в соответствии с рассказом о Христе. Он - Господь наш, и у него мы учимся верности тому факту, что этот мир есть мир Божий, и мы - творения Божьи[206].
Представление о христианском существовании как о жизни внутри разворачивающегося повествования препятствует любым попыткам сформулировать систематическую этику[207]. Нам нужны не правила и принципы, а навыки, которым могут научить лишь те, кто дальше нас продвинулся в трудном деле ученичества.
Итак, с точки зрения Хауэрваса, церковь должна формироваться рассказом об Иисусе и примером тех, кто передал его нам.
Она должна формироваться как «община с характером», чья жизнь «представляет собой политическую альтернативу всякой нации, свидетельствуя о социальной жизни, возможной для тех, кто сформирован рассказом о Христе»[208]. Эта альтернатива - путь мира, прощения и любви к врагам. Война и насилие должны быть чужды народу Божьему, ибо «насилие происходит от самообманчивого представления, что контроль - в наших руках, что мы - наши собственные творцы и что только мы можем придать нашей жизни смысл, ибо более никто этого сделать не может»[209]. Однако нам известно: о нас заботится любящий нас Бог, которому подвластна наша жизнь. Поэтому в насилии нет необходимости, и оно противоречит истине, заключенной в ключевом для нас рассказе. Поэтому «ненасилие - не просто одно из многочисленных следствий, которые можно вывести из христианских убеждений; оно представляет собой средоточие всего нашего понимания Бога»[210].
Диагностические вопросы
(А) Дескриптивный (описательный) аспект. В своих интерпретациях библейских текстов Хауэрвас редко опирается на подробную и детальную экзегезу. Его упоминания о «рассказе об Иисусе» суть широкие аллюзии на евангельские повествования в целом. Когда он ссылается на конкретный текст, то часто приводит его полностью[211], но редко аргументирует свое понимание отрывка в противовес альтернативным толкованиям или делает богословские выводы на основе скрупулезного анализа его языка или композиции. Блоки цитируемого материала выступают как пересказы рассказа, и Хауэрвас снабжает их краткими и лаконичными пояснениями[212].
Даже в проповедях из книги «Выпуская на волю Писание» Хауэрвас не столько толкует тексты, сколько излагает условия, при которых возможно их понимание. Например, в «Проповеди по Нагорной проповеди» Хауэрвас пишет:
Я утверждаю, что Нагорная проповедь предполагает существование общины, которая отказалась от насилия, и вне такой общины ее понять невозможно. Выражаясь предельно задиристо: вы не сможете правильно прочесть Нагорную проповедь, если вы не пацифист... Эта проповедь не порождает этику ненасилия, но скорее наоборот: для правильного ее прочтения нужна община, отказавшаяся от насилия[213].
Нигде Хауэрвас не включается в экзегетические дебаты относительно композиции и логики шести антитез в Мф 5:21-48. Нигде он не исследует исторический фон I века для таких действий, как подставление другой щеки и прохождение лишнего поприща (Мф 5:39-41). Нигде он не задается вопросом о том, где именно Писание или какой-либо другой источник заповедует Иисусовым слушателям ненависть к врагам (Мф 5:43). Нигде он не разбирает смысл слова teleios («совершенный»; Мф 5:48). Одним словом, он не предпринимает никаких экзегетических шагов, необходимых для демонстрации того факта, что язык текста обосновывает (или не обосновывает) этику ненасилия[214]. Предполагается, что нужду в подобных обременительных задачах устраняет принадлежность к общине, которая уже «правильно» представляет смысл текста и осуществляет его на практике, не задавая ни одного из упомянутых вопросов. Читатель сначала должен стать пацифистом, - и тогда он или она увидит, что текст учит ненасилию. Однако способно ли читателя-непацифиста изменить прочтение подобного текста? Хауэрвас вроде бы не оставляет для этого возможности. Не объясняет он и того, как непацифистская (по преимуществу) христианская традиция может быть подвергнута критике и исправлению со стороны меньшинства, к которому принадлежит и он сам.
Книгу «Выпуская на волю Писание» отличает и открытая враждебность к исторической критике. При этом Хауэрвас почему-то именует ее «историко-критическим методом» (термин, устаревший поколения на два, а то и больше!)[215]. В своих более ранних трудах он признавал важность тщательной экзегезы[216] и прямо ссылался на работы по библеистике. В статье «Иисус: рассказ о Царстве» он использует не только йодеровскую экзегезу, но и исследования таких авторов, как Э. Тинсли, Э. Харви, Джон Ричиз и Нильс Даль. И даже отвергая историческую критику в качестве метода, Хауэрвас признает, что в прошлом ее результаты принесли ему определенную помощь.
Конечно, я учился у исторических критиков - критиков, чья деятельность, на мой взгляд, часто лучше их теории[217].
Однако в последнее время Хауэрвас все более и более отходит от использования критической экзегезы для интерпретации Нового Завета. В книге «Выпуская на волю Писание» он отстаивает и реализует такой стиль разъяснения текста, который не опирается на разработки в области научной библеистики. По его мнению, проблема заключается в том, что «критика высокого уровня» попала в плен к идеологии, чуждой политике церкви. «Например, - утверждает он, - большинство исследователей, наученных библейской критике... считают экзегетическую традицию, предшествовавшую возникновению исторической критики, препятствием к пониманию истинного смысла текста»[218]. Всякому, кто знаком с современными сложными герменевтическими спорами в библеистике, - особенно глубокое внимание уделяется Wirkungsgeschichte текстов[219] - такое огульное суждение (по сути, карикатура) не может не показаться признаком воинствующего невежества!
Откуда же Хауэрвас взял свой подход к библейской интерпретации? Предисловие, которым он снабдил «Выпуская на волю Писание», поистине обезоруживает. Хауэрвас говорит, что корни его знания уходят в труды великих церковных богословов:
На самом деле я не знаю хорошо «текст» Библии: богословию я учился по учебным планам, сформированным протестантским либерализмом. Впрочем, сей процесс был более «библейским», чем я полагал, ибо сейчас я считаю, что это замечательно: учить Писание по сочинениям Фомы Аквинского, Лютера, Кальвина, Барта и Йодера[220].
Итак, сам же Хауэрвас признается: описание им содержания Нового Завета эклектично и несамостоятельно. Тем не менее, вопреки отсутствию у него экзегетического анализа и (как он сам говорит) глубокого знания новозаветных текстов, его общая концепция церковной жизни хорошо гармонирует со свидетельством Нового Завета. Сам он, несомненно, приписал бы последнее обстоятельство своей опоре на традицию. Прав ли он, или в данном отношении его деятельность, подобно деятельности нелюбимых им исторических критиков, «лучше его теории»? Как бы то ни было, описание Хауэрвасом новозаветной этической концепции опирается на труды его великих предшественников, в отличие от него кропотливо поработавших над экзегезой текстов.
(Б) Синтетический аспект. Хауэрвас цитирует Новый Завет часто, но в этих ссылках не просматривается системы. Он не делает систематической попытки охватить весь спектр канона в едином синтезе. Как отмечает в своем анализе Джеффри Сайкер, Хауэрвас любит апеллировать к синоптикам (особенно Нагорной проповеди, марковским предсказаниям о Страстях и рассказам Луки о божественном милосердии по отношению к нищим и слабым), но почти никогда не цитирует Евангелие от Иоанна[221]. Из основных Павловых посланий он временами цитирует Послание к Римлянам и Первое послание к Коринфянам. По-видимому, особенно любимо им Послание к Ефесянам[222]. С другой стороны, Пасторские послания, Послание к Евреям и Иоаннов Апокалипсис не входят в функциональный канон Хауэрваса. Учитывая его акцент на рассказ и пример святых, особенно странно, что он почти не использует Деяния Апостолов. (Хотя, казалось бы, именно они послужат ему неистощимым источником рассказов о святых.) В общем и целом, основное внимание он уделяет синоптическим Евангелиям, ибо именно в них полнее всего рассказано об Иисусе.
Как Хауэрвас обращается с текстами, которые противоречат его синтезу канонической вести? На этот вопрос можно дать два разных ответа.
С одной стороны, Хауэрвас попросту игнорирует такие тексты. Поскольку в своих рассуждениях о нравственной жизни он не претендует на охват всех новозаветных свидетельств, он не считает необходимым, к примеру, объяснять, какое место в рассказе о Царстве занимают Пасторские послания или Иоаннов Апокалипсис.
С другой стороны, Хауэрвас с удовольствием отмечает многообразие Евангелий: дескать, отсюда видно, что жить в верности можно разными способами[223]. Он одобрительно цитирует слова Джозефа Бленкинсоппа о том, что каноническое многообразие «наводит на мысль: община должна быть готовой принять творческие противоречия как одну из постоянных особенностей своей жизни»[224]. Отчасти Хауэрвас здесь делает вид, что поступает добровольно, когда на самом деле у него нет другого выхода. (Учитывая его акцент на гибкость и находчивость как отличительные особенности паломнической общины, каноническое многообразие предоставляет церкви спектр возможностей, которые могут быть полезны в разное время и в разных местах.) Однако есть и еще кое-что:
Канон выделяет как Писание те тексты, которые необходимы для церковной жизни, не пытаясь разрешить их явное многообразие и/или даже противоречия[225].
Хауэрвас нигде не пытается разрешить внутриканонические противоречия через тщательный экзегетический анализ (в отличие от Йодера) или через исторические гипотезы относительно происхождения и развития новозаветных традиций. Он смотрит на канон как на большое собрание рассказов, которые в совокупности составляют бессистемное, но полезное церковное наследие.
Можно ли выделить ключевые образы, помогающие Хауэрвасу поместить новозаветные тексты в фокус? В «Нравственном авторитете Писания» он говорит:
Я убежден: Библию лучше всего можно описать (будь то для нравственного или церковного использования) через образ повествования, рассказа[226].
Однако категория рассказа - не конкретный образ, а описание формального жанра. Пожалуй, вернее всего считать образами, ключевыми в пересказе Хауэрвасом истории Иисуса, путешествие и крест. (Такие большие темы, как прощение и миролюбие, не являются независимыми образами. Они представляют собой интерпретацию Хауэрвасом Креста.) В отличие от Йодера, для которого главное - Крест как средоточие евангельских повествований, Хауэрвас более последовательно уделяет внимание описаниям взаимоотношений Иисуса с учениками, тем самым находя в рассказе основу для продолжающегося паломничества Церкви. Да, telos этого паломничества - Крест, но Хауэрвас придает не меньший вес и другим взаимоотношениям и поступкам в течение пути. Образы церкви и креста драматизируются в литургических празднованиях церкви, которые учат нас, как формировать общинную жизнь, чтобы правильно читать рассказ.
Таинства инсценируют рассказ об Иисусе, а потому формируют общину по его образу[227].
(В) Герменевтический аспект. Как апеллирует Хауэрвас к новозаветным текстам при формировании этических норм? Правила и нормы не играют почти никакой роли в его конструктивной этике. Более того, его акцент на рассказ и формирование характера задуман именно как альтернатива подобным подходам.
Природа христианской этики определяется тем фактом, что христианские убеждения имеют форму рассказа или, скорее, ряда рассказов, составляющих традицию, которая в свою очередь создает и формирует общину. Христианская этика начинается не с акцента на правила или принципы, но с привлечения нашего внимания к повествованию, которое рассказывает о промысле Божьем в отношении творения[228].
Рассказы, передаваемые традицией, служат образцами для действия церкви. Пример святых, которые, в свою очередь, подражали Иисусу, - то, в соответствии с чем община должна строить свою жизнь.
Быть учеником, значит, быть частью новой общины, нового государственного устройства, которое сформировано в соответствии с послушанием Иисуса на кресте. Евангелия - конституции этого нового государственного устройства. Евангелия - не только описание какого-то человека, но и учебники для подготовки, необходимой для того, чтобы войти в новую общину. Быть учеником, значит, разделить рассказ Христов, участвовать в реальности Божьего владычества[229].
Однако нельзя забывать: Хауэрвас совершенно не склонен «использовать» Новый Завет как источник информативных аналогий для этического поведения. Он предпочитает говорить иначе: «Бог использует Писание, чтобы помочь церкви сохранить верность»[230]. Довольно редко апеллирует он к каким-то конкретным действиям Иисуса как к образцам для христианского поведения. Вместо этого он рассматривает рассказ как орудие, которое формирует общину. С одобрением цитирует слова Роуэна Уильямса о том, что рассказ об Иисусе - «не только образец» процесса спасения. Скорее, «это рассказ, который сам является незаменимым орудием в завершении данного процесса»[231]. Таким образом, в отличие от Йодера, придающего большое значение аналогической рефлексии общины в ее подражании Иисусу, Хауэрвас делает упор на такое формирование добродетели в характере общины, при котором она интуитивно исполняет волю Божью.
Мир новозаветных символов также играет важную роль в конструктивной этике Хауэрваса, ибо «первая задача» христианской этики - «помочь нам правильно видеть мир»[232]. Делая рассказ об Иисусе критерием в своем осмыслении реальности, «христиане обретают способность видеть мир точно и без иллюзий»[233].
Задача христианской этики состоит в том, чтобы помочь нам творчески осмыслить значение Царства Божьего... Христианская этика - это дисциплинированная деятельность, которая анализирует и проверяет образы, наиболее подходящие для организации христианской жизни в соответствии с центральным убеждением: мир обрел искупление через служение Иисуса Христа[234].
Разумеется, рассказ о Царстве учит нас не только правильному взгляду на мир, но и богопознанию, - характер же Бога открыт в рассказе.
Библейское повествование не только «передает характер», но и дает общине способность жить в соответствии с такими рассказами. Иудеи и христиане верят: это повествование передает характер Бога и тем самым приводит нас в соответствие с Его характером[235].
Получается, что для этики Хауэрваса роль новозаветного повествования как творца реальности даже выше, чем его роль как образца. Главная функция Писания - формировать наше видение.
Как в богословской этике Хауэрваса авторитет Писания соотносится с другими авторитетами? Из всех богословов, которых мы рассматриваем в данной главе, Хауэрвас делает наибольший упор на герменевтическую роль традиции. По его мнению, «Писание может быть верно интерпретировано лишь в обычаях народа, конституируемого Евхаристией»[236]. С восторженным одобрением цитирует Хауэрвас Догматическую конституцию «О Божественном Откровении», изданную Вторым ватиканским собором:
Священное Предание и Священное Писание составляют единый священный залог Слова Божия, вверенный Церкви... Обязанность подлинно толковать написанное или переданное Слово Божие было вверено одному живому Учительству Церкви, власть которого осуществляется во имя Иисуса Христа[237].
Вне интерпретации, санкционируемой общинной традицией, правильной интерпретации Писания быть не может. Важно понять: Хауэрвас, подобно католической традиции, на которую он здесь ссылается, никогда не противопоставляет Писание и традицию и не подчиняет Писание традиции. Скорее, традиция воплощает смысл Писания. Или, точнее говоря, Писание донесено до нас через посредство традиции так, что не существует «Писания» вне традиции. Никаким другим способом и методом к библейской истине прийти нельзя, ибо «Церковь создает смысл Писания»[238].
Соответственно, классическая протестантская идея, что Писание может бросить вызов традиции и судить ее, есть чистой воды иллюзия. Она предполагает, что к смыслу Библии можно прийти без посредников, - по мнению Хауэрваса же, это вообще невозможно.
Когда ты понимаешь, что Церковь играет более определяющую роль, чем текст, у тебя больше нет «смысла» текста, и тебе он не нужен[239].
Эта декларация имеет колоссальное значение для герменевтики. Ключевой вопрос же заключается в том, может ли Хауэрвас жить в соответствии с ней[240].
Разум, в смысле автономного человеческого разума, не играет никакой роли в этике Хауэрваса, ибо объективная рациональность невозможна. «Мы не в силах найти вне нашей истории точку, в которой можно было бы спокойно укоренить наши нравственные убеждения. Мы должны начать в середине, то есть мы должны начать внутри повествования»[241]. Церковная традиция учит нас рациональности, которая согласуется с христианскими убеждениями.
Однако герменевтическая роль опыта - с точки зрения Хауэрваса, более сложный вопрос. Иногда он пишет так, словно опыт - один из важнейших факторов в подтверждении и понимании библейских текстов. Решая вопрос о том, почему библейские тексты имеют нормативное значение для церкви, Хауэрвас решительно апеллирует именно к опыту:
Мой ответ прост: эти тексты были приняты в качестве Писания, ибо они и только они удовлетворяют тому, что Рейнольд Прайс назвал нашей тоской по совершенному рассказу, истинность которого мы ощущаем... Писание функционирует как один из авторитетов для христиан именно потому, что, пытаясь жить, думать и чувствовать в соответствии с его свидетельством, они находят, что стали ближе к жизни в верности истине[242].
Однако в целом создается впечатление, что у Хауэрваса опыт только подтверждает библейскую истину. Он редко обращается к опыту, определяя толкование конкретных текстов, и никогда не позволяет свидетельству опыта критиковать учение библейского текста или требовать отказа от традиционной интерпретации. В любом случае опыту индивидуального христианина Хауэрвас практически не придает значения: герменевтический вес имеет многовековой опыт церкви. Однако когда вопрос формулируется в такой форме, различие между традицией и опытом становится смутным или теряет значение.
Серьезная концептуальная проблема, связанная с представлениями Хауэрваса о Писании и этике, состоит в следующем: каким образом восприятие общиной библейской истины может предшествовать собственно прочтению Библии? Последний абзац «Нравственного авторитета Писания» иллюстрирует эту трудность:
Не может быть этического использования Писания, пока мы не станем общиной, способной исполнять призыв: «Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу...»[243]
Хауэрвас далее продолжает цитировать Еф 4:25-32, но этого достаточно, чтобы увидеть проблему. По его мнению, лишь община, отвечающая описанию, данному в Еф 4, может определять правильное «этическое использование» Писания. Однако как церковь может стать такой общиной? Хауэрвас попадает в герменевтический круг, веря, что традиция и опыт приведут нас к более полному и истинному прочтению Нового Завета.
(Г) Прагматический аспект. Прагматическую задачу Хауэрвас считает одной из важнейших частей христианской этики: «Понятность и истинность христианских убеждений пребывают в их практической силе»[244]. Вот почему он смело обращается к решению целого ряда конкретных нравственных проблем, включая пацифизм, аборты, эвтаназию и заботу об умственно отсталых детях.
Хауэрвас никогда не стесняется делать нормативные выводы и навязывать их другим людям. Своим первокурсникам на богословском факультете Дьюкского университета он регулярно сообщает, что собирается за время вводного курса по этике обратить их в пацифизм. Страстное действие во имя истины он ценит куда выше, чем предусмотрительную осторожность, а профессию без практики и в грош не ставит. Такая убежденность в осуществлении веры на практике глубоко согласуется с его методистским наследием.
В то же время довольно долго он не мог разобраться со своим убеждением, что истина должна осуществляться в общине. Во введении к «Общине с характером» Хауэрвас говорит о своем «неоднозначном церковном статусе»: методист с «сомнительным богословским воспитанием», он преподает в католическом учебном заведении и ощущает близость к анабаптистской традиции. Хауэрвас в шутку называл себя «меннонитом-высокоцерковником» до того, как более серьезно задумался о богословском значении отсутствия у него укорененности в конкретной церковной традиции:
Возможно, я столь сильно подчеркиваю значение церкви для социальной этики потому, что меня сейчас не учит ни одна конкретная церковь. И я не ощущаю двойственности ни одной конкретной церкви. Такая позиция может быть глубоко безответственной, ибо она приглашает к интеллектуальной нечестности... Я считаю, что я должен думать и писать не только для церкви, которая существует, но и для церкви, которая должна существовать, если мы будем более мужественными и верными[245].
С тех пор, как Хауэрвас написал эти слова, прошли годы. За это время Хауэрвас теснее отождествил себя с Объединенной методистской церковью. Однако этот шаг не снял вопрос о практической двусмысленности его положения. Ведь Объединенная методистская церковь в США конца XX века находится в противоречии со многим, что Хауэрвас считает сутью христианской этики. Это - большая, плюралистическая и бюрократическая организация, которая отстаивает именно те ценности либерального индивидуализма, которые не по душе Хауэрвасу. В общем и целом, для нее не свойственна регулярная евхаристическая жизнь, у нее нет четкого противостояния войне и насилию[246], и она отделена от Католической церкви, чью традицию Хауэрвас столь сильно ценит. К ней можно отнести осуждение из книги «Выпуская на волю Писание»: «У всех церквей, отделенных от Рима (а значит, и от самих себя), нет способности верно использовать Писание для всей церкви»[247]. Тогда получается, что и сам Хауэрвас не способен правильно интерпретировать Писание, - коль скоро он не входит в общину, способную проявлять и воспитывать необходимые добродетели.
Иными словами, логика герменевтической позиции Хауэрваса требует от него быть католиком. Однако Католическая церковь занимает по ряду глобальных этических вопросов (например, о справедливой войне и о роли женщин в церкви) позицию, которая остается для него неприемлемой. Соответственно, он не идет на то, чтобы его ум и характер формировались католической традицией, и остается, как ни странно, протестантом без четкого богословского обоснования своей церковной практики и без эмпирической общины, которая служила бы примером его представлений о церковной политике. Никакой традиции меннонитов-высокоцерковников не существует; идеализированная традиция, к которой Хауэрвас апеллирует, - причудливая выдумка. Когда друзья просят его объяснить, какой властью он, человек не рукоположенный, проповедует, он отвечает: «Хотел бы я иметь хороший ответ на этот тревожащий вопрос!»[248] К авторитету Нового Завета он апеллировать не может: согласно его теоретической программе, авторитет Нового Завета передается лишь через традиционную общину. Но он отказывается подчиниться традициям такой общины. Собственно говоря, сам факт его выступлений в качестве проповедника - акт неповиновения тому самому авторитету, который защищает его богословие.
Хотя Хауэрвас придает такое значение прагматической задаче, именно здесь его построения особенно уязвимы. Новозаветного голоса не слышно: его заглушает неверная церковь. Хауэрвас же сам себя оставил без теоретических оснований для апелляции к Библии в противовес церковным обычаям. Впрочем, отсутствие таких оснований не мешает ему обращаться к Писанию в книге «Выпуская на волю Писание», где он в своих проповедях снова и снова вовлекает читателя в мир новозаветных символов. Книгу заканчиваешь читать с чувством, что нам нужна реформация, которая вновь позволила бы церкви услышать новозаветное слово суда на свою жизнь. Если Библия действительно «дает церкви необходимое для такой верности правде, чтобы наш разговор друг с другом и с Богом продолжался через поколения»[249], она дает это лишь тем читателям, которые позволяют ей иметь свой, независимый от церковных традиций (и подчас обличающий их) голос.
И все же, невзирая на трудности на прагматическом уровне, труды Хауэрваса красноречиво свидетельствуют о способности новозаветных рассказов формировать церковь. Его слова о церкви как о народе-паломнике, постоянно зависящем от неожиданной благодати Божьей, служат полезным напоминанием общине, которую постоянно искушает желание взять свою судьбу в свои собственные руки. И наконец, предложение Хауэрваса отобрать Библию у североамериканских христиан - часть его широкой герменевтической стратегии, предназначенной восстановить законное место Библии в церкви и превратить церковь в «общину, способную слышать божественный рассказ, который мы находим в Писании, и жить в верности этому рассказу»[250].
5. Элизабет Шюсслер Фьоренца: феминистская критическая герменевтика освобождения
Элизабет Шюсслер Фьоренца - католическая исследовательница Нового Завета, родом из Германии, которая занимала крупные преподавательские должности в США (Университет Нотр-Дама и Гарвардский университет) и стала ведущей представительницей феминистского направления в англоязычной библеистике. Ее книга «В память о ней» (1983) произвела сенсацию своей новой глобальной «феминистской богословской реконструкцией христианских истоков»[251]. Используя стандартные средства исторической критики, Шюсслер Фьоренца попыталась обнаружить в текстах (и за текстами) Нового Завета замалчивавшиеся воспоминания о раннем христианстве, в котором женщины играли важную роль как лидеры и участники. За этой острой исторической реконструкцией последовал сборник статей «Хлеб, а не камень» (1984), где усовершенствовались герменевтические стратегии, использованные в книге «В память о ней»[252]. Эти две работы произвели революцию в критическом обсуждении роли женщин в Новом Завете и роли Нового Завета в феминистском богословии[253].
О влиянии Шюсслер Фьоренцы красноречиво свидетельствует ее положение в научном мире. Она была первой женщиной, избранной на пост президента Общества библейской литературы (1987). Она - сооснователь и соредактор The Journal of Feminist Studies in Religion. В настоящее время Шюсслер Фьоренца занимает пост профессора богословия на богословском факультете Гарвардского университета. Феминистское направление в библейской герменевтике разрабатывается очень интенсивно, но ее новаторские исследования остаются основными систематическими трудами, задающими тон дебатам.
В отличие от других авторов, рассматриваемых нами в данной главе, Шюсслер Фьоренца по своей профессии и подготовке - библеист, а не богослов или этик. Кроме того, в своих этических размышлениях она меньше внимания уделяет проблеме насилия, чем Нибур, Барт, Йодер или Хауэрвас. В целом ряде отношений она стоит особняком от этих авторов. Тем не менее ее герменевтические методы, в силу своих важности и своеобразия, должны быть внимательно изучены в нашем анализе того, как новозаветные тексты используются в этическом дискурсе; именно на Шюсслер Фьоренцу во многих отношениях равняется феминистская герменевтика[254]. Она ясно призвала к нормативному размышлению об использовании библейских текстов внутри общин, которые считают эти тексты Писанием. В своем президентском обращении к Обществу библейской литературы Шюсслер Фьоренца выступила сторонницей «этики подотчетности, которая отвечает не только за выбор теоретических моделей интерпретации, но и за этические последствия библейского текста и его смыслов»[255]. Она убеждена: библеисты не могут объективно абстрагироваться от библейской Wirkungsgeschichte, напротив, они должны активно озаботиться тем, как используются в этических целях тексты, которые они изучают. Такой подход к библейской интерпретации все время предполагает вопрос: «Что «делает» язык библейского текста с читателем, который подчиняет себя его мировоззрению?»[256] Соответственно, рассмотреть использование ею Писания в христианской этике тем более целесообразно, что она предлагает оценивать в этих категориях работу всех библеистов.
Подход Шюсслер Фьоренцы к богословской этике
Для Шюсслер Фьоренцы этическое использование Нового Завета требует трудного процесса просеивания патриархальных текстов с целью восстановления похороненной в них долгой истории женского опыта. О забывчивости традиции особенно показательно свидетельствует рассказ о женщине, которая умащивает Иисуса в Вифании (Мк 14:3-9):
У Марка Иисус возвещает: «Истинно говорю вам: где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память о ней, что она сделала» (14:9). Однако пророческое знамение-действие этой женщины не стало частью христианского благовестия. Даже ее имя до нас не дошло. Там, где проповедуется Евангелие и празднуется Евхаристия, рассказывают другой рассказ - об апостоле, предавшем Иисуса. Имя предателя помнят, а имя верного ученика забыли, потому что это была женщина[257].
«В память о ней» феминистские библейские критики должны попытаться восстановить утерянное, задавая древним текстам новые вопросы, отыскивая намеки на существование на заре христианства времени, когда женщины входили в «ученичество равных», а также пересказывая в критическом ключе историю угнетения женщин в церкви.
Существующие тексты носят по преимуществу патриархальный характер. Поэтому Шюсслер Фьоренца уделяет много внимания проблеме критического метода. В отличие от Мэри Дей-ли и других постхристианских феминисток, она не желает просто отринуть Писание и приступает к разработке «феминистской критической герменевтики освобождения», которая покажет, что «источник нашей силы [т.е. Библия] есть и источник нашего угнетения»[258]. Поэтому герменевтическая задача ставится следующим образом: историческая память должна быть восстановлена так, чтобы она помогала борьбе женщин за свое освобождение.
Вместо того чтобы забывать о том, как страдали и надеялись наши сестры в нашем общем патриархальном прошлом, христианские феминистки преображают их страдания и борьбу через революционную силу «воспоминаемого прошлого»[259].
Соответственно, в книге «Память о ней» Шюсслер Фьоренца ставит задачу переписать христианскую историю. Вот откуда взялось название части I (пространного методологического введения) этой работы: «Seeing-Naming-Reconstituting» («Видение, дарование имени, восстановление»). Шюсслер Фьоренца пытается восстановить полезное прошлое, рассматривая тексты под новым углом и (заново) давая имя тому опыту женщин, который она там находит.
По ее мнению, феминистский подход к новозаветной этике не должен быть попыткой «спасти Библию», отделив ее якобы вечную и богооткровенную истину от патриархальной оболочки. Шюсслер Фьоренца резко критикует «неоортодоксальное» феминистское богословие (особенно представленное ранними работами Летти Рассел и Розмари Редфорд Рютер) за попытку разграничить андроцентрическую форму и эгалитарное содержание библейской вести, то есть попытку «отделить феминистскую керигматическую сущность от культурно обусловленных андроцентрических традиций»[260]. Опасность такого подхода она видит в следующем: он не подвергает фундаментальной богословской критике способы, которыми Библия легитимировала угнетение женщин. Ведь проблема не в том, что патриархальные интерпретаторы поняли Библию неверно. Даже если Библию понять верно, она полна андроцентрических точек зрения. Соответственно, Шюсслер Фьоренца желает трезво взглянуть на библейский образ женщины, а затем критически его оценить в свете опыта женского освобождения, небольшие фрагменты которого нашли отражение и в Библии.
Из Нового Завета непросто извлечь герменевтические нормы для богословской этики. Здесь нужна систематическая переоценка текстов в свете освобождающего видения, первоначальное историческое выражение которого, как ни парадоксально, вкраплено в те самые угнетающие тексты, которые это видение замутняют. Поэтому Шюсслер Фьоренца говорит об откровении в Писании лишь избирательно - только как о том, что реконструируется через критическое исследование. Его можно найти лишь в текстах, которые содержат надежду на освобождение женщин.
Библейское откровение и истина присутствуют лишь в тех текстах и моделях интерпретации, которые при критическом анализе способны выйти за пределы своих патриархальных рамок и дать место представлению о христианских женщинах как об исторических и богословских субъектах и деятелях[261].
Чтобы понять, как работает герменевтика Шюсслер Фьоренцы, необходимо сначала понять ее общие представления об истории первохристианства. Эти представления изложены в части II книги «В память о ней» - части, носящей подзаголовок «Женская история как история ученичества равных». В соответствии с методами форманализа, классически изложенными в «Истории синоптической традиции» Рудольфа Бультмана, она говорит об историческом Иисусе с большой осторожностью, рассматривая Евангелия преимущественно как свидетельства об опыте первых христианских общин. В канонических Евангелиях, созданных вторым и третьим поколениями христиан, можно выявить ранние слои, раскрывающие перед нами картину первого поколения «Иисусова движения» в Палестине.
Каким видит это движение Шюсслер Фьоренца? По ее мнению, это было реформистское движение внутри иудаизма, возвещавшее новое представление о basileia («Царстве», «Владычестве») Бога как о нынешней реальности и предлагавшее всем израильтянам целостность и достоинство. Нищие, больные и социальные изгои - все приглашались в эгалитарную общину, предвосхищавшую эсхатологическое будущее Божье, «когда будут побеждены смерть, страдание и несправедливость и патриархального брака больше не будет». Таким образом:
Иисусовы деятельность (praxis) и представление (vision) о basileia - передача божественного.будущего в структуры и опьгг Его собственного времени и Его народа[262].
Женщины, которые часто становились жертвами угнетения и социально-экономических лишений, воспринимали эту мечту о basileia как освобождающую Благую весть. Следовательно, женщины были активными лидерами движения, играли важную роль в сохранении первых преданий и проповеди этой вести языческому миру.
По мнению Шюсслер Фьоренцы, раннехристианская община критиковала (по крайней мере, имплицитно) патриархальные социальные структуры. В поддержку этого утверждения она приводит тексты трех типов: «(1) домарковские рассказы о спорах, в которых Иисус бросает вызов патриархальным структурам брака (Мк 10:2-9 и 12:18-27); (2) тексты о несемейном этосе Иисусова движения [напр., Мк 3:31-35 и 10:29-30; Лк 11:27-28 и 12:51-53]; (3) высказывание о свободных от господства отношениях в общине учеников [Мк 10:42-45пар.]»[263]. Особый интерес представляет Мф 23:9. Судя по этому отрывку, раннехристианское обращение к Богу как к «Отцу» имело радикально эгалитарное значение для отношений внутри общины: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, - Тот, который на небесах». Шюсслер Фьоренца комментирует: «Это Иисусово высказывание использует именование Бога «отцом» не для легитимации существующих патриархальных структур власти в обществе или церкви, но для критического подрыва всех структур господства»[264].
Для концепции Шюсслер Фьоренцы также важна ее гипотеза, что «первые предания об Иисусе воспринимают милостивую благость Бога [Израилева] в женской Gestalt как божественную Софию (премудрость)»[265]. Гипотеза строится на одном-единственном тексте: «Премудрость [sophia] оправдана всеми чадами ее» (Лк 7:35). Шюсслер Фьоренца толкует это так:
София-Бог Иисуса признает своими детьми всех израильтян, и все они находят ее «правой»[266].
«Все они» - то есть в том числе сборщики податей, проститутки и грешники... По мнению Шюсслер Фьоренцы, прямое отождествление самого Иисуса с фигурой божественной премудрости в Евангелии от Матфея - более позднее развитие данной традиции. Дополнительных свидетельств в пользу своего тезиса она не приводит, но в течение остальной части книги продолжает говорить о «Софии-Боге» как одной из главных эмфаз Иисусова движения.
Первым христианским богословием была софиология. Служение и смерть Иисуса можно было осмыслить в категориях Бога-Софии потому, что Иисус, видимо, считал себя пророком и сыном Софии[267].
Эта гипотеза - самый неправдоподобный в экзегетическом плане элемент реконструкции Шюсслер Фьоренцы. Однако, несмотря на свою риторическую значимость в работе, эта гипотеза является логической основой для других аспектов воззрений автора на роль женщин в Иисусовом движении.
Далее у Шюсслер Фьоренцы идет следующий анализ: «Раннехристианское миссионерское движение: равенство в силе Духа». Здесь она пытается реконструировать роль женщин в эллинистических церквах, возникших по всему Средиземноморью до Павловых церквей и одновременно с ними. Как признает исследовательница, реальной исторической информации об этих общинах очень мало:
Вклад женщин в раннехристианское миссионерское движение, в основном, утрачен. Причина тому - скудость и андроцентрический характер наших источников. Мы располагаем обрывочной информацией, и для воссоздания исторической картины требуются и фантазия, и критический анализ[268].
В результате использования фантазии возникает портрет миссионерского движения, в котором «женщины принадлежали к числу самых видных миссионеров и лидеров». Они были основателями и лидерами домовых церквей; они использовали свое богатство и социальный статус для покровительства другим миссионерам[269]. По мнению Шюсслер Фьоренцы, это движение «не было структурировано по образцу греко-римского патриархального домохозяйства»; напротив, их экстатическое и руководимое Духом богослужение отражало общину, в которой все члены были ««полны» Софии и Духа»[270]. Самосознание этих групп выражает традиционная формула, процитированная Павлом в Гал 3:28:
Нет ни иудея, ни грека; ни раба, ни свободного; ни мужчины, ни женщины. Ибо все вы одно во Христе Иисусе.
Эти группы верили: они «уже участвуют в силе и «энергии» Христа-Софии; они - новое творение, ибо в крещении обрели силу Духа»[271].
Апостол Павел, одна из основных фигур в этом эллинистическом миссионерском движении, сыграл «неоднозначную» роль в историческом развитии места женщин в возникающем христианстве.
С одной стороны, он утверждает христианское равенство и свободу. Он открывает для женщин новый и независимый образ жизни, советуя им не связывать себя узами брака. С другой стороны, он подчиняет поведение женщин в браке и литургическом собрании интересам христианской миссии, ограничивает их права не только как «пневматиков», но и просто как «женщин», ибо мы не находим аналогичных прямых ограничений на поведение мужчин как мужчин в литургическом собрании[272].
Поэтому, теоретически утверждая равенство женщин, Павел «открывает дверь для патриархальных ценностей и разделений по половому признаку»[273].
Вскоре после смерти Павла краткий сияющий миг сексуального равенства в церкви угас. На роль женщин стремительно накладывались все новые и новые ограничения. В Посланиях к Колоссянам и Ефесянам, в Пасторских посланиях мы видим возвращение патриархии. Авторы этих текстов, ради социальной респектабельности и приемлемости, предпочли подстраивать структуры церковной жизни к господствующим патриархальным обычаям греко-римского общества. Патриархальное домохозяйство стало образцом для церкви, и женщинам были оставлены лишь вспомогательные роли. С точки зрения Шюсслер Фьоренцы, дуалистические идеологические схемы, характерные для развивавшегося со II века гностического и патристического богословия, - концептуальное следствие и выражение «патриархальной реальности и структур»: «Подобно тому, как гностицизм перенес свой космический/духовный дуализм в церковные дуализм и практику, так поступила и патристическая церковь»[274]. Таким образом, возникшее раннее кафоличество подавило эгалитарные импульсы первохристианства[275].
К концу I века лишь в Евангелиях от Марка и Иоанна можно было услышать альтернативный голос, описывающий женщин как «образцы истинного ученичества» и призываюций равно женщин и мужчин к любви и смиренному служению. Марк и Иоанн «подчеркивают альтернативный характер христианской общины, а потому наделяют женщин лидерством в апостольстве и служении»[276]. Пусть даже в последующей истории их альтернативные концепции потерпели поражение в столкновении с силой патриархии, - они остаются верным свидетельством об «Иисусовой альтернативной деятельности agape и служения»[277]. Новозаветный канон доносит до нас голоса и воспоминания, которые постоянно противодействуют репрессивной силе патриархии.
На фоне этой исторической реконструкции Шюсслер Фьоренца создает программный набросок ««экклесии» женщин как свободного и способного принимать решения собрания народа Божьего»[278]. Женщины призваны предъявить права на свою религиозную власть, «самим определять свое духовное благополучие», видеть присутствие Божье друг в друге и через друг друга, принимать полноценное участие в служении. Предвосхищая возражение, что ««экклесия» женщин» - это «сексизм наоборот», Шюсслер Фьоренца отвечает: невозможно сразу перейти от церкви, где господствовали мужчины, к церкви, для которой характерно полное равенство полов. Упования на немедленный эгалитаризм нереалистичны, они недооценивают то, в какой степени женщины усвоили структуры патриархального угнетения.
Духовная колонизация женщин мужчинами повлекла за собой усвоение нами мужского как божественного. Чтобы взаимность стала реальной возможностью, мужчины должны отказаться от духовного и религиозного контроля не только над церковью как над народом Божьим, но и над женщинами[279].
Обсуждение этой проблемы Шюсслер Фьоренцой создает впечатление, что ее полемика направлена преимущественно в адрес сугубо мужской иерархии ее собственной Католической церкви, которая «исключает женщин из «преломления хлеба и разделения чаши» в евхаристическом общении»[280]. К основным протестантским деноминациям эта критика, строго говоря, не применима. Однако это не означает, что они ни в чем не виноваты. По мнению Шюсслер Фьоренцы, патриархия настолько заразила всю историю и традицию христианства, что женщины должны хотя бы на время сформировать свои собственные общины, в которых они смогут востребовать свою духовную идентичность.
Шюсслер Фьоренца не объясняет напрямую, как она мыслит такие общины, - как общины поддержки и сопротивления в уже существующих церквах или как альтернативные церкви, заменяющие существующие структуры. В своей статье «Женщины-Церковь», вошедшем в сборник «Хлеб, а не камень», она пишет:
Говорить о церкви женщин не значит придерживаться сепаратистской стратегии, но значит подчеркивать зримость женщин в библейской религии и защищать нашу свободу от духовного контроля со стороны мужчин.
На первый взгляд, это предполагает, что ««экклесия» женщин» входит в уже существующую церковную структуру. Однако ее дальнейшие слова порождают некоторые сомнения на сей счет:
Точно так же, как мы говорим о церкви бедных, церкви африканской или азиатской, церкви Пресвитерианской, Епископальной или Католической, не отбрасывая нашей богословской концепции вселенской Церкви, так мы можем говорить о церкви женщин как проявлении этой вселенской Церкви... Церковь женщин как феминистское движение самоотождествленных женщин, а также мужчин, отождествляющих себя как женщин, выходит за рамки всех традиционных деноминационных границ, созданных мужчинами[281].
С одной стороны, если церковь женщин аналогична Пресвитерианской церкви, она может быть независимой организованной единицей. С другой стороны, если это движение, которое выходит за рамки деноминационных границ, его члены могут действовать в рамках существующих церквей. Шюсслер Фьоренца здесь не дает практически никаких практических наставлений. Возможно, она хочет предоставить решать этот вопрос женщинам - в рамках конкретных местных «экклесий».
В любом случае ее представления об этическом характере жизни в ««экклесии» женщин» понятны. Церковь должна быть «ученичеством равных», где все полноправно участвуют в принятии решений и свободно устраивают свои дела. Хотя такое описание напоминает просвещенческий идеал демократического сообщества, концепцию Шюсслер Фьоренцы не следует интерпретировать в индивидуалистических категориях. В церкви женщин должны существовать сильные общинные узы: «Верность, ответственность и солидарность в «экклесии» женщин - жизненное выражение такого феминистского христианского призвания»[282]. Более того, у общины есть четко определенная миссия:
Как и служение самого Иисуса, служение общины, созданной Иисусом, посланником божественной Премудрости, не есть самоцель. Ученики посылаются делать в силе Духа то, что делал Он: питать голодных, исцелять больных, освобождать угнетенных, возвещать начало здесь и теперь нового мира и нового человечества Божьего[283].
Этика, которую предусматривает Шюсслер Фьоренца для церкви женщин, отвергает пассивность и кроткое перенесение страдания. Наоборот! Женщины должны действовать «в гневной силе Духа... кормить, исцелять и освобождать наш народ - женщин». Феминистская христианская духовность «освобождает нас от псевдоальтруизма и псевдосамопожертвования, которые больше пекутся о благополучии и делах мужчин, чем беспокоятся об ущербе женскому благополучию и призванию»[284].
Призывая к «борьбе за освобождение женщин и всех народов»[285], Шюсслер Фьоренца не уточняет, какие именно действия она подразумевает под «борьбой за освобождение». Надо полагать, речь не менее чем об организованных политических акциях и протестах. Предполагает ли она буквальное использование силы против угнетателей, неясно.
Вообще, Шюсслер Фьоренца нигде прямо не говорит, можно ли христианам прибегать к насилию. Она предпочитает писать о насилии с точки зрения его жертв:
Как мы можем указывать на евхаристический хлеб со словами «это - Мое тело», пока тела женщин подвергаются побоям, насилиям, стерилизациям и увечьям, пока их отдают для проституции и используют в интересах мужчин?... Как и в прошлом, мужчины ведут войны на полях сражений в виде наших тел, намечая цели для физического или духовного насилия. Поэтому «экклесия» женщин должна востребовать женские тела как «образ и тело Христово». Она должна осудить всякое насилие над женщинами как кощунство и поддерживать нравственную силу женщин и их способность самим заботиться о своем духовном благе - благе, охватывающем тело и душу, сердце и чрево[286].
Для Шюсслер Фьоренцы проблема состоит не в том, как использовать насилие, но в том, как пережить насилие, как обличить его так, чтобы оградить женщин от его разрушительного воздействия. Очевидно, что ей противно насилие, но библейских аргументов против него она не выдвигает. Опыт пострадавших от насилия она считает достаточным свидетельством о его зле.
Этот пример - яркая иллюстрация влияния феминистской герменевтики на богословскую этику: изменение ракурса приводит к тому, что проблема насилия предстает в совершенно ином свете. Шюсслер Фьоренца не занимается насилием как одной из тем христианской этики, но она постоянно предполагает насилие как один из аспектов опыта женщин, которые берутся интерпретировать Библию. Возможно, не случайно Шюсслер Фьоренца написала столько научных исследований по Иоаннову Апокалипсису: именно эта новозаветная книга особенно ясно выражает точку зрения гонимой общины[287]. Подобно духовидцу из Апокалипсиса, она восстает против насилия над своим народом и в то же время провидит будущее, в котором разрушительной силе насилия будет положен конец.
Однако, в отличие от духовидца из Апокалипсиса, Шюсслер Фьоренца нигде не говорит прямо о «закланном Агнце» как о норме для жизни учеников. В центре ее благовестия не стоит слово о Кресте. Ее нормативное видение церковной жизни опирается на ее реконструкцию раннего христианства, которое она представляет как эгалитарную и ведомую Духом общину, живущую в ощущении нынешней реальности basileia Бога.
Диагностические вопросы
(А) Дескриптивный (описательный) аспект. Как и можно ожидать, одна из сильных сторон программы, предложенной Шюсслер Фьоренцой, - исторически продуманная экзегеза. Ее реконструкция роли женщин в ранней церкви стала предметом серьезного изучения со стороны других ученых (даже тех, кто не разделяет ее подход). И сейчас уже невозможно отрицать: женщины играли гораздо большую роль в распространении благовестия, чем это признавала христианская традиция. Правда, время от времени Шюсслер Фьоренцу увлекает полет фантазии, но причина тому - ее нескрываемое желание заполнить лакуны в наших скудных свидетельствах «историческим воображением». В конце концов, так поступают, в большей или меньшей мере, все историки. Воображению исследовательницы можно довериться не всегда: возьмем хотя бы ее утверждение, что «первым христианским богословием была софиология»! Однако большей частью она основывается на детальном экзегетическом анализе. Тем, кто с ее реконструкцией не согласен, придется сойтись с ней в поединке именно на том месте, которое избрала она, - на поле серьезной экзегезы.
Конечно, не со всеми ее экзегетическими суждениями легко согласиться. Одна из наиболее странных ошибок Шюсслер Фьоренцы - неоднократное заверение читателя, что «греческое новозаветное представление об «экклесии»» относится к «публичному собранию свободных граждан, которые собираются для определения общинного, политического и духовного благополучия своего и своих детей»[288]. Это точное определение того, что экклесия означала в греческом полисе, но никуда не годится в качестве интерпретации новозаветного термина, описывающего христианское собрание[289]. Ни один новозаветный автор не считает экклесию собранием людей, которые сходятся, чтобы решать свои дела. Экклесия - это община, вызванная к бытию божественной благодатью; как таковая, она принадлежит Богу и призвана повиноваться воле Божьей, изложенной в апостольском учении и апостольском примере, а не решать своекорыстные задачи в демократических процедурах. Апеллируя к греческому политическому смыслу термина «экклесия», Шюсслер Фьоренца получает возможность использовать его для обоснования права на самоопределение, которого она требует для ««экклесии» женщин». Однако такое словоупотребление из Нового Завета не вывести.
И еще одна проблема. В толкованиях Шюсслер Фьоренцы бывает заметен перекос: она фокусирует внимание не на той Вести, которую хотели донести до читателей новозаветные авторы, а на второстепенных особенностях и малых мотивах. Например, она выхватывает из нескольких евангельских текстов косвенную критику патриархии и рассматривает ее в качестве одной из главных тем, при этом совершенно игнорируя тот факт, что в центр христианского провозвестия евангелисты ставят смерть Иисуса. Впрочем, не будем забывать: в отличие от Барта, Шюсслер Фьоренца не стремится дать сочувственное изложение Вести новозаветных авторов. Она делает критическую переоценку, она устраивает текстам перекрестный допрос, чтобы восстановить скрываемые воспоминания о женщинах. Ее интересует не столько смысл канонических текстов, сколько стоящий за ними исторический опыт. Поэтому вышеупомянутый экзегетический перекос - не результат плохого толкования, а результат подхода к тексту с определенным набором вопросов и использования экзегезы в качестве инструмента для поиска ответов на эти вопросы. Когда она применяет экзегетические методы в своих собственных целях, то действует умело и тщательно. Из всех авторов, которых мы разбираем в главе 12, ее отличает наибольшая продуманность в рассмотрении сложных критических проблем, связанных с фоном и композицией Нового Завета.
(Б) Синтетический аспект. Можно было бы предположить, что феминистская реконструкция христианских истоков ограничится узким спектром тех новозаветных текстов, которые прямо упоминают о женщинах и их роли. Однако Шюсслер Фьоренца открыто отвергает такое ограничение. Феминистский взгляд на христианские истоки нельзя выработать, «анализируя только библейские пассажи о женщинах: подобный тематический анализ принимает за чистую монету андроцентрическую динамику и андроцентрические представления о реальности, присущие патриархальным текстам»[290]. Соответственно, она анализирует Новый Завет в целом, утверждая, что феминистские критические критерии «должны быть применены ко всем библейским текстам, чтобы определить их потенциальный вклад в «спасение» или угнетение женщин»[291]. Поэтому книга «В память о ней» по своему построению похожа на традиционные истории раннего христианства: большие главы посвящены раннему палестинскому христианству, раннему эллинистическому миссионерскому движению, Павловым церквам и зарождению раннего кафоличества. Ее анализ охватывает почти весь канон.
Однако, как мы уже видели, Шюсслер Фьоренца чрезвычайно избирательна в своем обращении с материалом внутри рассматриваемых текстов. Она уделяет особое внимание традициям, в которых можно вычитать намек на социальный эгалитаризм, и подвергает критическому анализу материалы, отражающие патриархальные нормы. Пассажи, не относящиеся к данной проблематике, она практически не обсуждает. Например, очень мало внимания уделяется рассказам о Страстях и воскресении, - разве что описанию в них роли женщин-учеников как первых свидетелей воскресения[292].
Существует ли для Шюсслер Фьоренцы своего рода канон внутри канона - ряд текстов, которые она считает богословски авторитетными? Сначала может показаться, что такой канон у нее есть:
Библейское откровение и истина присутствуют лишь в тех текстах и моделях интерпретации, которые при критическом анализе способны выйти за пределы своих патриархальных рамок и дать место представлению о христианских женщинах как об исторических и богословских субъектах и деятелях[293].
Однако на самом деле все новозаветные тексты, в той или иной мере, - «андроцентрические кодификации патриархальной власти и идеологии, которые не могут считаться явленным в откровении Словом Божьим»[294]. Соответственно, они должны быть «демифологизированы» с помощью феминистской критической герменевтики:
На мой взгляд, канон для богословской оценки библейских андроцентрических традиций и их последующих интерпретаций нельзя брать из самой Библии: его можно сформулировать лишь в борьбе женщин за освобождение от всякого патриархального угнетения... Этот личностно и политически отраженный опыт угнетения и насилия должен стать критерием пригодности библейских толкований и критерием утверждений о библейском авторитете[295].
Это означает, что ни один новозаветный текст не может считаться каноном в каноне. Лишь иногда сквозь «патриархализированные новозаветные тексты» можно уловить «проблеск эгалитарных... обычаев и богословия ранних христиан. Эти тексты - верхушка айсберга, показывающие, сколь богатое наследие оказалось для нас потеряно»[296].
Итак, Шюсслер Фьоренца сохраняет авторитет лишь за несколькими фрагментами. В их число входит, например, крещальная формула из Гал 3:28 («во Христе...нет ни мужчины, ни женщины») и эгалитарный призыв из Мф 23:8-9. Этот последний призыв она реконструирует, получая следующий текст:
А вы не называйтесь рабби, ибо один у вас учитель, все же вы - ученики. И отцом никого не называйте, ибо один у вас Отец, [все же вы - братья и сестры][297].
Таким образом, реальное средоточие авторитета - не канонический Новый Завет, а современная борьба женщин за освобождение, через которую можно увидеть сокрытый «айсберг» раннехристианского опыта. Фактический канон для Шюсслер Фьоренцы содержится в ее критической реконструкции «Иисусова движения» и допавлова эллинистического миссионерского движения.
Как Шюсслер Фьоренца обращается с текстами, которые противоречат ее реконструкции? Она подвергает их исторической экзегезе и идеологической критике. Например, о новозаветных домашних кодексах она пишет:
Ни один библейский текст, увековечивающий насилие против женщин, детей или «рабов», не может считаться божественным откровением. Иначе мы превратим Бога Библии в Бога насилия. Это не означает, что мы не можем проповедовать... по новозаветным домашним кодексам. Это означает, что мы должны проповедовать по ним критически, разоблачая их как тексты, призывающие к патриархальному насилию[298].
Описание Шюсслер Фьоренцой отрывков вроде Еф 5:21-6:9 как текстов, призывающих к насилию, очень спорно. Она видит их в таком свете, потому что в результате своей исторической реконструкции воспринимает подобную благожелательную патриархальность как репрессивное подавление более эгалитарной концепции первого христианского поколения. Кроме того, Шюсслер Фьоренца считает, что подобного рода тексты, независимо от интенции их автора, всегда использовались для угнетения женщин.
Важно отметить: Шюсслер Фьоренца не игнорирует Haustafeln, не подыскивает оправдания для их патриархального смысла и не пытается гармонизировать их с Гал 3:28. Вместо этого она подчеркнуто привлекает внимание к их патриархальному характеру («разоблачая их»), чтобы обнаружить «опасную память», которая позволит преобразить страдания и борьбу наших матерей и сестер в прошлом через революционную силу критически воспоминаемого прошлого[299]. Такова ее последовательная стратегия обращения с каждым новозаветным текстом, который противоречит ее критической концепции освобождения.
Есть ли у Шюсслер Фьоренцы какой-либо ключевой образ, который помещает в фокус этическое свидетельство Нового Завета? С одной стороны, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. «Ошибочно говорить о единой библейской или новозаветной этике, - пишет она, - ибо Библия не книга, а собрание литературных текстов, которые иногда отстоят друг от друга на целое тысячелетие истории и культуры». Поэтому любая систематизация библейского учения предполагает «избирательность подхода интерпретатора»[300]. Критическая герменевтика Шюсслер Фьоренцы как раз и призвана показать, что Новый Завет не содержит единого освобождающего свидетельства.
С другой стороны, снова и снова она возвращается к образу «борьбы женщин за освобождение» как к линзе, сквозь которую необходимо смотреть на Писание. Прочтение текстов сквозь эту линзу не даст цельного видения канона, но перед нами возникнет последовательный образ истины о человеческом опыте - в той мере, как этот опыт находит выражение в библейских текстах. Шюсслер Фьоренца даже утверждает, что борьба женщин за освобождение и выживание - «самый полный опыт переживания божественной благодати среди нас», а потому «средоточие божественного откровения и благодати»[301]. Поэтому было бы вполне корректно сказать, что для Шюсслер Фьоренцы «борьба женщин за освобождение» служит ключевым образом, придающим когерентность Новому Завету, - в той мере, как Новый Завет можно использовать в нормативной христианской этике.
(В) Герменевтический аспект. Что можно сказать о способах использования Шюсслер Фьоренцой Нового Завета как основы для этики? Очевидно, что новозаветные тексты не служат для нее источником нормативных правил. Собственно, большинство непосредственных правил в Новом Завете она рассматривает как выражение угнетающей патриархальности («женщины, повинуйтесь своим мужьям, как Господу»). Даже те правила, которые она одобряет («никого не называйте отцом»), она рассматривает не столько как правила, сколько как указания на общую идеологическую критику патриархии.
Шюсслер Фьоренца также не выделяет в Новом Завете этические принципы как источник для этического наставления. Более того, она резко критикует «феминистских неоортодоксальных» богословов, которые надеются подобными действиями богословски спасти Библию.
Рассел, Рютер и Трибл по очереди спорят с Кэди Стентон: дескать, Библия не вся носит андроцентрический характер, дескать, в ней есть какие-то абсолютные этические принципы и феминистские освобождающие традиции. Для этого они усваивают феминистскую неоортодоксальную модель, которая угрожает свести двойственность исторической борьбы к богословским сущностям и абстракт-ным вневременным принципам[302].
Такой подход она резко отвергает:
Христианское феминистское богословие должно отбросить попытки спасти Библию от феминистских критиков. Оно должно признать: источник нашей власти есть также и источник нашего угнетения[303].
Даже «те библейские традиции и интерпретации, которые вырываются за пределы своего угнетающего культурного контекста» - например, Гал 3:28 - «должны пониматься не как абстрактные богословские идеи и нормы, но как ответы веры на конкретные исторические случаи угнетения»[304].
Такой акцент на «конкретные исторические случаи» - ключ к пониманию конструктивного подхода Шюсслер Фьоренцы к использованию Нового Завета в христианской этике. Феминистская реконструкция обнаруживает конкретные исторические случаи благодати в тех моментах, когда церковь сопротивлялась патриархальному культурному контексту, вырывалась за его пределы и «вносила вклад в освобождение народа, особенно женщин»[305]. Тексты, позволяющие хотя бы мельком увидеть эти исторические моменты, не являются выражением неких вневременных истин. Скорее, они представляют собой окна, сквозь которые открывается взор на прошлый освобождающий опыт. Такие тексты могут вдохновить и укрепить продолжающуюся борьбу за освобождение, но их нельзя заморозить как вечные нормативные идеалы.
Феминистское богословие ставит перед исследователями библейского богословия задачу разработать такую парадигму для библейского откровения, которая понимает Новый Завет не как архетип, но как прототип. И архетип, и прототип - обозначение первоначальных моделей. Однако архетип - это идеальная форма, которая устанавливает неизменный и вневременной образец; прототип же не является связующим вневременным образцом или принципом. Соответственно, прототип критически открыт для возможности собственной трансформации[306].
Задача феминистского богословия состоит в том, чтобы реализовывать и развивать освобождающие возможности, заключенные в прототипе. Так церковь сохраняет способность гибко «отвечать на новые социальные нужды и богословские прозрения, а также давать место новым социально-церковным структурам, сохраняя освобождающее библейское видение с помощью новых структурных формаций, принадлежащих этому видению»[307].
Таким образом, пользуясь нашими аналитическими категориями, можно сказать, что Шюсслер Фьоренца находит-таки в Новом Завете образцы для этики. Однако делает она это более свободным образом, чем Йодер, который считает Иисуса совершенным образцом послушания Богу. (Шюсслер Фьоренца вообще не пользуется в своем описании христианской этики понятием «послушание».) В той мере, в какой новозаветные тексты «доносят воспоминание о борьбе наших предков с патриархальным угнетением и о своем переживании укрепляющего присутствия Бога», они могут предложить «неокончательный образец, который приводит в действие опыт и структурирует трансформации»[308].
Шюсслер Фьоренца предполагает наличие колоссальной исторической и культурной дистанции между новозаветным миром и нашим миром. Следовательно, хотя ее историческая экзегеза старается осмыслить мир новозаветных символов, она не пытается установить этот мир символов в качестве нормативного контекста для этического размышления. В целом, ее герменевтика работает даже противоположным образом: она показывает, как можно переосмыслить исторические факты в категориях, взятых из мира символов современной социологии и политической идеологии. Ее богословская антропология носит глубоко современный характер в своем взгляде на людей как на автономные существа, обретающие полную реализацию в свободном выборе и определении собственной судьбы. Шюсслер Фьоренца и не пытается обосновать эту концепцию ссылками на Новый Завет; она исходит из того, что это самоочевидная истина.
Ее представления о характере Бога избирательно опираются на некоторые элементы мира новозаветных символов (особенно мотив Софии, хотя она придает ему важность, далеко выходящую за пределы того, что мы видим в Новом Завете). Однако ее дискурсу о Боге часто угрожает опасность утратить аспект трансцендентности: о Боге она говорит почти как о символе имманентных реалий или человеческого религиозного опыта[309]. С большим одобрением она цитирует статью Кэрол Крайст:
Нтосаке Шанге принадлежат замечательные слова: «Я нашла Бога в себе и глубоко возлюбила Его». Женщина, которая откликается на эти слова, говорит: «Женская сила - могучая и творческая». Она утверждает, что божественный принцип, спасающая и поддерживающая сила, заключен в ней самой, и ей больше нет нужды смотреть на мужчин или мужские фигуры как на спасителей[310].
Шюсслер Фьоренца комментирует:
Я согласна с Кэрол Крайст, что средоточие духовного феминистского поиска - это поиск женской власти, свободы и независимости. Библию можно читать таким образом, что она становится историческим источником и богословским символом такой власти, независимости и свободы[311].
В другом месте она замечает, что «выбор в сторону нашего женского "я"»...позволяет нам «обрести Бога в себе»[312]. У нас здесь нет места подробно рассматривать представления Шюсслер Фьоренцы о Боге. Я лишь хочу сказать, что, даже когда она пользуется богословским словарем Нового Завета, смысл ее формулировок сформирован не столько миром Новозаветных символов, сколько современным опытом женщин.
Так мы подходим к вопросу о взаимосвязи между Новым Заветом и другими источниками богословского авторитета в трудах Шюсслер Фьоренцы. Ее размышления о герменевтическом методе интересны, ибо она обращается к этой проблеме напрямую и занимает недвусмысленную позицию.
Традицию Шюсслер Фьоренца считает даже большим источником угнетения, чем саму Библию. Соответственно, полагаться на традицию нельзя, но необходимо подвергнуть ее критическому анализу.
Феминистская герменевтика не может доверять Библии и традиции просто как божественному откровению. Скорее, она должна оценить их как вместилище патриархальных формулировок[313].
Шюсслер Фьоренца убеждена: «основные обязательства и ответственность феминистских богословов - не перед традицией, а перед феминистской трансформацией христианских традиций»[314]. Следовательно, традиционные учения церкви не играют никакой авторитетной роли в ее нормативной этике.
Роль разума в построениях Шюсслер Фьоренцы не вполне понятна. С одной стороны, очевидна ее убежденность в ценности историко-критического исследования, и она резко критикует феминисток, которые считают историческую критику неактуальной для своих забот[315]. Она разрабатывает историческую и герменевтическую программу, где аргументированному дискурсу отведена важная роль как орудию богословской реформы. (Апеллировать только к опыту и интуиции, значит, отдавать как прошлое, так и современные научные институты на откуп угнетающим силам статус-кво.) С другой стороны, в отличие от Нибура, она никогда напрямую не говорит, что какое-то рациональное соображение перевешивает учение Нового Завета. Скорее, в своей исторической аргументации она пытается поместить новозаветные учения в контекст, который разоблачит их патриархальные предпосылки. В общем и целом Шюсслер Фьоренца не утверждает, что разум сам по себе составляет достаточную основу для формирования этических суждений.
Зато опыту Шюсслер Фьоренца недвусмысленно отводит фундаментальную роль. Феминистская герменевтика «создает в библейской этике сдвиг парадигмы, не апеллируя к Библии как к первоисточнику, но начиная с женского опыта и мечты об освобождении»[316]. Эту богословскую программу она решительно объявляет в первой главе книги «В память о ней». Мы уже приводили выше ее слова: «Этот личностно и политически отраженный опыт угнетения и насилия должен стать критерием пригодности библейских толкований и критерием утверждений о библейском авторитете»[317]. Это означает: «Предлагаемая здесь модель помещает откровение не в тексты, а в христианский опыт и общину»[318]. Цитаты можно было бы еще умножать и умножать, но ограничусь еще только одной: «канон» боговдохновенной истины она берет «не из библейских текстов, а из современной борьбы женщин против расизма, сексизма и бедности как угнетающих систем патриархии, а также систематического исследования ее в феминистской теории»[319]. Любопытно, что здесь Шюсслер Фьоренца включает феминистскую теорию в число авторитетных норм, в соответствии с которыми нужно оценивать Писание. Впрочем, апелляция к «современной борьбе женщин» хорошо согласуется с ее программным акцентом на опыт.
Шюсслер Фьоренца решительно говорит о последствиях такого методологического решения:
Библия более не является авторитетным источником. Однако женщины могут находить в ней ресурсы для своей борьбы за освобождение[320].
Она выложила все карты на стол. Ее глобальный проект историко-критического исследования Нового Завета находится в услужении у герменевтики, которая прямо подчиняет авторитет Писания авторитету современного опыта. Когда ей удается извлечь из Нового Завета информацию, полезную для женской борьбы за освобождение, она приветствует такой вклад текста. Там, где Новый Завет выказывает враждебность по отношению к этим заботам, он отвергается как патриархальный идеологический конструкт, не имеющий богословского авторитета.
(Г) Прагматический аспект. Каковы плоды феминистской критической герменевтики освобождения, разрабатываемой Шюсслер Фьоренцой? Эти плоды можно увидеть в нескольких маленьких, но убежденных женских общинах, которые были созданы в конце XX века, отчасти под воздействием ее работ. Более косвенное свидетельство - огромное влияние феминистского движения на господствующие церкви, на семинарии, а также научные организации вроде Американской академии религии.
Шюсслер Фьоренца мечтает об основании «центров пастырско-богословской интерпретации», которые бы интегрировали тщательное историко-критическое изучение Библии с глубоким социально-политическим анализом современной ситуации и заботами о нуждах верующей общины. Такие центры отличались бы от нынешних семинарий более широким кругом участников. В них входили бы не только профессиональные ученые и семинаристы, но и «представители разных церквей и общин, представители разных рас, полов, возрастов, культур и профессий, люди с разной образовательной подготовкой»[321]. Намерения, конечно, похвальные, но пока что это чистой воды утопия.
Впрочем, возможно, оценивать прагматический эффект герменевтических построений Шюсслер Фьоренцы пока рановато. Надо подождать одно-два поколения, пока феминистское богословие станет более зрелым и принесет плод в церковной жизни. Пока что Шюсслер Фьоренца нашла довольно мало последователей, которые желают серьезно заниматься научной критической экзегезой. Вместе с тем многие приветствуют ее идею, что современный опыт должен контролировать библейскую интерпретацию[322]. Не вполне ясно, может ли последнее обстоятельство привести к чему-нибудь другому, чем к концу христианской Церкви или же глубокому расколу в ней. Чем больший богословский вес придается нынешнему опыту, тем труднее понять, с какой стати вообще нужно заниматься реконструкцией гипотетических воспоминаний о женской истории по древним текстам. Чем больше «Бог» отождествляется с божественным принципом внутри (женского) «я», тем меньше чувствуется нужда в благовестии об Иисусе из Назарета, которого когда-то почему-то казнили на кресте. (Интересно, что сказали бы обо всех этих разработках Прискилла, Фива и другие первые христианки, чьему вкладу Шюсслер Фьоренца уделяет такое внимание? Надо полагать, что они, будучи коллегами и соработниками Павла, проповедовали Весть о примирении человека с Богом через смерть Иисуса, а не богословие «самоутверждения»[323] через «самостоятельное решение духовно-политических вопросов».)[324]
Однако, несмотря на серьезные оговорки относительно богословской и прагматической жизнеспособности герменевтики Шюсслер Фьоренцы, нельзя не отдать ей должное. Уже сам факт, что появилась необходимость в написании такой книги, как «В память о ней», - суровое обличение христианской традиции. Женщин в церкви часто угнетали и вытесняли на обочину жизни. Их история замалчивалась и забывалась. Своей мужественной «феминистской богословской реконструкцией христианских истоков», осуществленной с научной строгостью и герменевтической глубиной, Шюсслер Фьоренца заставила церковь и научный мир по-новому взглянуть на прошлое и признать свое соучастие в андроцентрическом искажении истории. В результате многие женщины набрались смелости и заново открыли свое достоинство как детей Божьих и служительниц благовестия. Более того, и перед женщинами, и перед мужчинами теперь появилась новая мечта - мечта о Церкви как «ученичестве равных».
Можно только радоваться, что Шюсслер Фьоренца ищет в Библии ресурсы для поддержки тех, кто «кормит голодных, исцеляет больных и освобождает угнетенных». Конечно, Библия давно выполняла эту роль, задолго до возникновения феминистской критической герменевтики. Опасность состоит в том, что подход Шюсслер Фьоренцы настолько сильно подорвет авторитет Нового Завета, что тот утратит свою освобождающую силу, а на идентичность церкви все больше будут влиять идеалы либеральной демократии и нынешние нужды. Однако потенциальный вклад ее герменевтики - в ее способности выявить новозаветное свидетельство: Бог может преобразить нас и создать общины, в которых женщины и мужчины несут совместное служение во Христе.
Глава 13. Как использовать тексты? Нормативные предложения
1. Резюме и нормативные размышления
Рассмотрев использование Нового Завета в этике Рейнхольда Нибура, Карла Барта, Джона Говарда Йодера, Стенли Хауэр-васа и Элизабет Шюсслер Фьоренцы, мы можем сделать некоторые суммарные выводы и выдвинуть нормативные предложения относительно того, как правильнее и плодотворнее всего строить христианскую этику по Новому Завет)'.
(А) Дескриптивная и синтетическая задачи: сравнение и предложения. Прежде всего очевидно: убедительных и продуманных результатов можно в большей степени ожидать от богослова, внимательно и обстоятельно вникающего в новозаветные тексты, чем от богослова, который читает их поверхностно и от случая к случаю. Серьезная экзегеза - обязательное условие для новозаветной этики. В данном отношении работы Барта, Йодера и Шюсслер Фьоренцы, опирающиеся на глубокий анализ новозаветных документов, заслуживают больше внимания, чем работы Нибура и Хауэрваса.
Аналогичным образом, богословы, работающие со всем спектром канонических свидетельств, стоят на более твердой богословской почве, чем те, которые делают нормативные выкладки на основании лишь нескольких канонических текстов. В данном отношении Барт и Йодер опять-таки показывают пример своим последовательным вниманием к канону в целом. Для Хауэрваса канон как таковой имеет меньший вес, но к Писанию он обращается более разносторонним образом, чем Нибур, который, в обоснование своих нормативных принципов, пользуется всего несколькими излюбленными местами. Шюсслер Фьоренца стоит особняком: она берет весь канон как исторический источник по раннему христианству, но при этом подвергает его критическому анализу в свете внешних норм, взятых из женской борьбы за освобождение. Следовательно, она использует Новый Завет в качестве нормы для христианской этики крайне избирательно, сосредотачиваясь на материале фрагментарном или периферийном, а не на темах и нормах, которые стоят в центре самих текстов. (Например, христология - средоточие евангельской вести - отступает на задний план.) Как мы уже видели, эта ревизионистская герменевтика - сознательная стратегия Шюсслер Фьоренцы. Однако для общины, стремящейся жить по Новому Завету, она имеет сомнительную ценность.
Вопрос о том, как толкователю обращаться с текстами, противоречащими его нормативному видению, оказывается принципиальным. Все наши пять богословов используют для его решения тонкие герменевтические стратегии. Они осознают, что многообразие канонических текстов создает проблему, но не идут на ее решение через упрощенную гармонизацию. Пожалуй, Йодер более остальных склонен видеть в каноне единое и цельное видение. Напротив, Шюсслер Фьоренца особенно решительно настаивает на том, что внутриканоническое идеологическое многообразие не поддается редукции. Однако при всей противоположности их позиций по данному вопросу их объединяет против Хауэрваса уверенность: историческое исследование способно внести вклад в герменевтическое осмысление внутриканонического многообразия.
На мой взгляд, увидеть единство внутри новозаветного многообразия лучше всего помогают три ключевых образа:
• Община.
• Крест.
• Новое творение.
Богословский смысл здесь следующий: Новый Завет призывает общину Завета участвовать в кресте Христовом так, чтобы смерть и воскресение Иисуса стали образцом для совместной жизни ее членов как вестников нового творения Божьего. Наиболее адекватно эту картину отображают Барт, Йодер и Хауэрвас. (Говоря о проблеме войны, Барт делает меньший акцент на образе общины, чем в других местах «Церковной догматики»[1].)
А что же, скажем, Нибур? Общину Завета он вообще не включает в число тем новозаветной этики, а кресту отводит роль лишь косвенную: крест у него служит примером исторически невозможного самоотречения, производя суд над всеми приближениями к идеалу любви. В своем анализе новозаветной эсхатологии (занимающем центральное место в его богословской программе!) Нибур делает куда больший акцент на «еще не», чем на «уже». В результате вести о новом творении угрожает опасность быть поглощенной мирским «реализмом» политической борьбы.
Иное дело - Шюсслер Фьоренца. Ее концепция женской «экклессии» - результат прочтения Нового Завета именно в свете образов общины и нового творения. Более того, в христианском феминистском движении конца XX века мы находим мощный аналог раннехристианскому осознанию себя как общины, «на которой сошлись концы времен», которая живет при пережитках уходящего старого порядка, но на заре искупления. Интерпретируя новозаветные тексты под углом такого опыта, Шюсслер Фьоренца обращает внимание на некоторые важные аспекты новозаветной этики. Но увы: она почти совсем забывает о кресте. Почему? Вряд ли - по недосмотру. Скорее, перед нами реакция против искажений христианского богословия, использовавших крест для внушения женщинам пассивности перед лицом страдания... Мотивы ее благородны. И все же такое невнимание к кресту - герменевтическое искажение, искажение не менее серьезное, чем шгоуровская индифферентность к общине. Новозаветная этика должна уделять особое внимание всем трем ключевым образам.
(Б) Герменевтическая задача: сравнение и предложения.
Каждый из пяти богословов апеллирует к новозаветным текстам по-своему.
· Нибур обнаруживает в Новом Завете принципы любви и справедливости, а также трезвую оценку человеческой жизни. Барт сознательно не апеллирует к принципам, но находит в новозаветных текстах конкретные правила и заповеди, обращенные непосредственно к читателю, а также описание характера и действий Бога.
· Йодер усматривает в рассказе об Иисусе образец для верующих.
· Хауэрвас усматривает в рассказе об Иисусе образец для верующих, а также подчеркивает диалектическое формирование текста и общины, которое происходит при прочтении текста в церкви.
· Шюсслер Фьоренца, подобно Барту, отказывается выводить из Нового Завета этические принципы. Однако она не находит в Библии непосредственной заповеди Божьей, но видит в исторической специфике раннего христианства открытый образец, прототип, который стимулирует творческое развитие и трансформацию. Этот последний момент чем-то напоминает идеи Хауэрваса, хотя она не разделяет его интереса к Новому Завету как орудию формирования характера.
Как мы уже говорили, все эти способы этического дискурса содержатся и в самом Новом Завете[2]. Логический вывод: от Церкви требуется достаточная чуткость, чтобы усвоить их в своем этическом учении[3]. Стало быть, для начала нужно проявить внимательность к тому, как несут свою Весть новозаветные тексты.
Формулируем базовую установку: новозаветные тексты обладают (или не обладают) авторитетом именно в том способе благовествования, который им присущ[4]. Следует уважать не только содержание, но и форму текста. Интерпретатор не должен превращать повествования в закон (например, выдавая Деян 2:44-45 за заповедь об общности имущества). Интерпретатор не должен превращать правила в принципы (например, понимая заповедь Лк 12:33 о продаже имущества и раздаче милостыни не в буквальном смысле, а как принцип внутренней отрешенности от богатства). Легалисты и антиномисты в равной степени искажали Весть новозаветных текстов, подлаживая их под чуждые им способы этического дискурса. Со времен Климента Александрийского христианские проповедники вещают с кафедр: «Текст говорит то-то и то-то. Однако мы же не можем всерьез полагать, что он это имеет в виду. Значит, мы должны интерпретировать его не буквально, а как указание на некий принцип». Такие проповеди пора запретить! Новозаветные этические императивы либо нормативны на уровне своих собственных притязаний, либо вовсе не действительны.
Отсюда можно вывести два следствия.
Первое. Следует остерегаться привычки читать новозаветные этические тексты только одним способом. Если мы читаем Новый Завет и находим там только законы, мы явно совершаем крупную герменевтическую ошибку. Если мы читаем Новый Завет и находим там только вечные нравственные принципы, то, пожалуй, к нам относится упрек Барта: мы уходим от конкретных требований, которые предъявляет Писание к нам самим.
Второе. Не следует с помощью одного способа апелляции к Писанию отменять свидетельство Нового Завета в другом способе. Как мы уже видели, Нибур совершает эту ошибку в статье «Уместность недостижимого этического идеала». У него получается, что верность идеалу любви, явленному в Иисусе, иногда требует использовать насилие для осуществления справедливости. Соответственно, на практике восприятие Иисусова идеала любви предполагает отвержение эксплицитного, но нереалистического запрета Нагорной проповеди на насилие. Община, которая видит мир глазами Матфея, сразу почувствует, что здесь что-то не так. В сущности, этот нибуровский аргумент есть лишь хитрая уловка. Он позволяет избежать строгих требований Иисуса к ученичеству, не соблюдать «то заповедей и при этом говорить ему: «Господи, Господи».
Повторюсь: христианская этика, ищущая верного отклика на новозаветные тексты, не должна абстрагироваться от формы этих текстов. Мы должны уважать эти формы. Христианская традиция свидетельствует о важности новозаветных правил, принципов, образцов и мира символов. И ко всем ним должна прислушиваться община, стремящаяся жить по Писанию.
И все же остается вопрос: можно ли отдать герменевтический приоритет какому-либо из этих способов? Новозаветный канон дает нам ответ: как отмечали Барт, Иодер и Хауэрвас, Новый Завет предстает перед нами прежде всего в форме рассказа. Четыре Евангелия раскрывают образ Иисуса через повествование; Деяния Апостолов рассказывают о начале евангельской проповеди в Средиземноморье; Апокалипсис содержит великое символическое повествование об исполнении Божьего промысла о творении. Даже новозаветные послания следует понимать не столько как пропозициональное богословие, сколько как размышление над рассказом об Иисусе Христе, как он звучал в раннехристианской керигме о Страстях и Воскресении[5]. Следовательно, христианская община, ищущая верности этой конкретной форме новозаветных текстов, будет снова и снова искать в них образцы. Она будет проводить аналогии между своей жизнью и новозаветным рассказом. (Подробнее об этом мы поговорим далее.) Соответственно, повествовательные тексты Нового Завета - фундаментальные ресурсы нормативной этики. Именно по рассказам Евангелий и Деяний Апостолов христианская община узнает, как выглядит подлинная жизнь в вере. Именно в этом контексте мы осмысляем собственную жизнь. Повествования играют более фундаментальную роль, чем любой вторичный процесс абстракции, который пытается выявить их этический смысл.
Что станется с нормативной богословской этикой, если она умалит аспект рассказа? Мы видим это у Нибура. Он изолирует учения Нагорной проповеди от их повествовательного контекста, а рассказ о Страстях попросту игнорирует. Соответственно, Иисусову этику Нибур квалифицирует как «недостижимый идеал». Однако всякий, кто дочитает Евангелие от Матфея до конца, увидит, что непротивленческая любовь к врагам - вовсе не «недостижимый идеал». Она вполне под силу человеку, хотя и чудовищно трудна. И герменевтика, которая прислушивается к повествовательной форме Евангельской вести, сумеет распознать, что Иисус зовет учеников идти за собой по пути страдания и любви к врагам. Таким образом, смысл любви как идеала или принципа конкретизирован для нас в рассказе. Для христианского богословия правила и принципы находят свое место в рассказе об искуплении Богом мира через Иисуса Христа. И мир новозаветных символов обретает цельность только в этом рассказе.
Теперь следующая проблема: как соотносить свидетельство Нового Завета с нравственной мудростью, которую мы можем почерпнуть из других источников - предания (традиции), разума и опыта. Сколь бы большой вес мы ни придавали Писанию, эти источники неизбежно получают какую-то роль: на нашу экзегезу влияют и церковная традиция, и признанные нашей культурой нормы рациональности, и наш жизненный опыт. Поэтому следует тщательно разобраться в том, какое место занимают эти факторы при разработке новозаветной этики.
Пять наших богословов решают этот вопрос совершенно по-разному.
• Барт провозглашает страстную анафему на все «естественные» источники богословия.
• Шюсслер Фьоренца не менее страстно проповедует отношение к современному опыту женщин как к «канону откровения», в соответствии с которым надлежит оценивать Новый Завет.
• Нибур также считает человеческий опыт одним из ключевых нормативных факторов в богословии. Кроме того, он глубоко убежден в способности человеческого разума выносить этические решения, предсказывая и оценивая последствия нашего выбора.
• Хауэрвас акцентирует роль церковной традиции в нашей интерпретации Писания.
• Йодер разделяет бартовскую веру в Библию как в фундаментальный источник откровения, но гораздо больше места отводит действию Святого Духа в церкви.
Какую позицию выберем мы? Какую роль мы отведем небиблейским источникам авторитета в разработке конструктивной этики?
Я предлагаю минимальный принцип: не рассматривать предание, разум и опыт как самостоятельные и независимые источники авторитета, но соотносить их с Новым Заветом. Иными словами, приоритет я отдаю точке зрения Библии, а не нашей точке зрения. На первый взгляд, такая установка звучит несколько расплывчато. Однако в качестве общего правила она полезна, ибо позволяет выстроить иерархию в наших подходах к новозаветной этике. Речь не о том, чтобы сбросить со счетов предание, разум и опыт, но о том, чтобы сознательно отвести им подчиненную роль в нормативных суждениях. Они помогут нам интерпретировать Писание. Однако они не должны соперничать с Писанием как источники богословских норм.
Почему мы отводим Писанию герменевтический приоритет? На подробный ответ здесь нет места. Для этого пришлось бы написать целую книгу, где подробно поговорить о формировании канона, об истории рецепции и использовании Писания в церкви, о сложных дебатах в современном богословии по поводу авторитета и герменевтики. Однако в задачу настоящей книги не входит апологетическое оправдание библейского авторитета. Я лишь хочу критически поразмыслить над тем, как использовать Писание в нравственных суждениях христианской Церкви, - то есть общины, чья идентичность уже глубоко сформирована благовестием, первоначальными и уникальными свидетелями которому были новозаветные тексты. Для такой общины Библия - не просто один из образцов древней «классики». И не просто один из многочисленных учителей на рынке идей, опыта и чувств. Писание - неиссякаемый источник жизни, и Церковь именно на нем в первую очередь строит свою идентичность. Таким образом, герменевтический приоритет Нового Завета - одна из аксиом христианской жизни: традиция, разум и опыт должны найти себе место в мире, о котором повествуют новозаветные свидетельства.
Традиция должна иметь вес. К ней необходимо прислушиваться. Она содержит немало поразительных прозрений относительно смысла Писания, а также вопросов, которые Писание прямо не рассматривает. И все же ее роль должна быть подчиненно и по отношению к роли новозаветных текстов. (Собственно говоря, христианская традиция и сама свидетельствует о приоритете Библии.) Иначе есть опасность, что предание задушит текст, нивелирует его радикальность. Члены церкви всегда могут впасть в такое отношение к традиции, которое осудил Иисус, обличая книжников и фарисеев:
Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исайя, как написано: «Эти люди чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». Вы оставляете заповедь Божию и держитесь предания человеческого (Мк 7:6-8).
Когда традиция вступает в противоречие с новозаветным представлением о жизни и призвании христианской общины, - это время суда, покаяния и реформации. Например, в вопросе о насилии: я убежден, что старая и четко сформулированная концепция справедливой войны несовместима с новозаветным призывом взять крест и следовать за Иисусом. От таких традиций необходимо отказаться.
Разум также играет важную роль. Он упорядочивает чтение Писания, помогает увидеть его смысл, а также помещает библейские тексты в контекст других источников знания. Однако Весть о кресте часто противоречит голосу разума, «ибо глупость Бога мудрее человеческой мудрости» (1 Кор 1:25а; см. ст. 18-31). Разум неизбежно несет на себе ограничения той или иной человеческой культуры. Он должен быть исцелен и обучен божественной мудростью, которую мы находим прежде всего в Писании. Разум никогда не может действовать в вакууме. Когда нам кажется, что разум противоречит Писанию, - это время тщательной переоценки мирского «знания». Возможно, мы видим факты в искаженном свете.
Опыт может претендовать на роль богословского авторитета только тогда, когда это совместный опыт многих членов верующей общины[6]. Его основная роль состоит в том, чтобы подтверждать истину библейского учения, которое исповедует и осуществляет в своей жизни община. Мы знаем, что наша надежда не тщетна, ибо «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5:5). Как известно, на опыт не всегда можно полагаться: люди часто подвержены иллюзиям и самообману. Вот почему притязания на богословский авторитет того или иного опыта надо проверять в свете Писания, а также через совместное суждение членов общины. И уж, конечно, никакой частный опыт не должен низвергать богословский авторитет Нового Завета. Можно, однако, спросить: может ли Церковь в каких-то случаях признавать откровение, противоречащее свидетельству Писания? Сразу на ум приходит рассказ о проповеди Петра язычнику Корнилию (Деян 10-11) и последующее признание Церковью того, что Бог даровал Святого Духа даже тем, кто нечист» по библейским нормам. Далее, в части IV, мы рассмотрим некоторые проблемы, с этим связанные. Бог, как подчеркивал Барт, волен действовать неожиданным для людей образом. Однако надо сразу сказать: притязания на боговдохновенный опыт, противоречащий свидетельству Писания, могут быть возведены до нормативного статуса в церкви лишь после самого глубокого и внимательного изучения консенсусом верных. Гораздо чаще верно обратное: наш опыт, неоднозначный и замутненный грехом, стоит под судом Писания и должен корректироваться в свете его. Писание снова и снова учит нас не сообразовываться с веком сим, но преобразовываться обновлением ума нашего, чтобы верно познавать, что есть воля Божья (Рим 12:2).
До сих пор мы не рассматривали нормативных предложений для этой прагматической задачи новозаветной этики. Мы займемся этим далее, в разделе 3 данной главы, а также в части IV. А пока обдумаем взаимосвязь между метафорой и нравственным воображением.
2. Нравственное суждение и построение метафоры
Как мы уже говорили, для занятия новозаветной этикой как нормативной богословской дисциплиной мы должны проводить творческие аналогии между рассказами текстов и рассказом, который проживает наша община в совершено иных исторических условиях[7].
«Понять» любой текст, значит, найти аналогии между его словами и нашим опытом, между его миром и нашим миром. Таким образом, сам акт чтения уже есть некоторое проявление аналогического воображения (даже тогда, когда мир текста очень близок нашему). Поэтому герменевтическая проблема интерпретации древнего текста - лишь частный случай герменевтической проблемы, которая сопутствует любому акту чтения. Читать Новый Завет с пониманием на исходе второго тысячелетия, будь то в Нью-Йорке или Сараево, Йоханнесбурге или Токио, значит, участвовать в дерзновенном предприятии - проведении аналогий между нашим миром и миром новозаветных авторов[8].
Более того, объявляя некий текст «Писанием», мы предъявляем более высокие требования воображению читателей. Когда мы говорим, что некий текст - «Писание» для нашей общины, то не только выявляем аналогические отношения между текстом и жизнью общины, но и утверждаем: мы собираемся формировать и реформировать свою общинную жизнь таким путем, который подскажут наши аналогии... Об этом мы подробнее поговорим чуть далее, и пока не станем забегать вперед.
Еще раз подчеркну: использование Нового Завета в нормативной этике требует интегрирующего акта воображения, суждения о том, как наша жизнь, при всем ее историческом несходстве с жизнями, описанными в Новом Завете, должна ответить на это повествование и участвовать в его истине. Когда мы апеллируем к авторитету Нового Завета, то неизбежно выстраиваем метафору, мысленно помещая жизнь нашей общины в мир его текстов. Если мы хотим соединения миров, нам не обойтись без эстетического суждения. И речь здесь не просто о человеческой творческой фантазии: в таких актах мысленной интеграции Церковь исторически распознает действие Духа Святого. Когда верные внимают Слову Божьему в Писании и видят все новые и новые связи между библейским рассказом и нашим временем, мы исповедуем - всегда с благоговейной осторожностью, - что такое чтение вдохновлено Духом.
Нужды в такой роли воображения не возникло бы, если бы могли отделить «вечную истину» в Новом Завете от «культурно обусловленных элементов». Эта вечная истина была бы особой формой откровения, одинаково актуальной во всех временах, странах и культурах. Соответственно, культурно обусловленные элементы можно было бы отмести как фактор случайный и нормативной значимости не имеющий. Это - очень распространенная стратегия обращения с теми новозаветными текстами, которые нам не близки. Она часто встречается, например, в дебатах о роли женщин и сексуальной этики в Новом Завете. Однако, к сожалению, данная стратегия внутренне противоречива: каждая йота и каждая черта Нового Завета культурно обусловлена. Попытка провести грань между вечной истиной в Новом Завете и культурно обусловленными элементами ошибочна и невозможна. Эти тексты написали люди в конкретное время и в конкретном месте. Как и всякое слово человеческое, они несут на себе отпечаток своего исторического происхождения.
Даже самые фундаментальные богословские утверждения новозаветных авторов имеют смысл только в контексте иудаизма I века. Возьмем лишь один пример:
Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял: Христос умер за грехи наши по Писанию, и погребен был, и воскрес в третий день по Писанию, и явился Кифе, потом двенадцати (1 Кор 15:3-5).
Каждый элемент этого раннехристианского исповедания имеет смысл только в мире символов еврейской апокалиптической мысли: Христос (т.е. «Мессия»), грехи, Писания, воскресение, двенадцатъ (символически соотносимые с двенадцатью коленами Израилевыми). О какой вечной надысторической истине здесь молено говорить? На мой взгляд, этот момент предельно ясен. Первоначальная керигма излагала благовестие в русле очень конкретной культурной традиции и обстановки. И если основополагающие богословские утверждения Нового Завета несут на себе столь сильный отпечаток культурной специфики, то что уж говорить о его этических нормах! Ясно, что ценность и нормативность этих норм не обусловлена их внеисторическим характером. Их корни - на земле, а не в воздухе.
Иллюзорная затея отделения культурно обусловленных элементов от вечной истины - интеллектуальное наследие кантовской метафизики. В эпоху Просвещения библейская критика стремилась «обнаружить под различными проявлениями библейской религии рациональную «естественную религию», общую для всех людей»[9]. Еще в 1787 году Иоганн Филипп Габлер в своей знаменитой речи высказал такую мысль: задача библейского богословия - провести грань между «истинным» библейским богословием (описанием эксплицитного богословия текстов) и «чистым» библейским богословием (описанием универсальной систематической истины, скрытой в текстах)[10]. С тех пор библеисты и богословы гоняются за химерой вечной истины.
Казалось бы, сейчас на дворе другая эпоха. Казалось бы, тщетность подобного проекта очевидна. И все же то и дело сталкиваешься все с тем же разделением. Особенно им грешат христиане, которые воображают, будто оно поможет им верить в авторитет Писания: авторитет переносится с исторически обусловленного текста на надысторическую истину, которая упакована в историческую обложку. Конечно, сразу возникает очевидная проблема: после того как мы обрели истину, нам не нужна обложка...
Христианское учение о Боговоплощении глубоко противоречит такому просвещенческому идеализму. Истина явлена нам в конкретном человеке, Иисусе из Назарета, в конкретное время и в конкретном месте. Бог совершил действие в истории, призвав конкретный народ (Израиль/Церковь) для определенной миссии. Да, действительно с эпохи Просвещения историческая специфика Писания была камнем преткновения. Еэтхольд Эфраим Лессинг говорил о пропасти между историческими событиями и рациональными истинами:
Это - широкий и уродливый ров, через который я никак не могу перебраться, сколь бы часто и сколь бы честно я ни пытался через него перепрыгнуть[11].
По его словам, «случайные истины истории никогда не смогут стать доказательством необходимых истин разума»[12]. Но когда Церковь это останавливало? Евангелие - не сумма «необходимых истин разума», а откровение, которое расшатывает и переформировывает человеческий разум в свете «Божьей глупости». Слово известно нам только в человеческой форме, форме, зависящей от обстоятельств. В этом - соблазн благовестия.
Следовательно, наша герменевтика должна не умалять, а ценить специфику новозаветных текстов: облеченные в рассказ и культурно обусловленные формы апостольского свидетельства должны быть выслушаны и приняты именно так, как они предстают перед нами. И это возвращает нас к моему представлению о разработке новозаветной этики как построению метафор. Если мы хотим отдать должное конкретной форме текстов (обычно повествовательной и связанной с определенными событиями), не пытаясь с помощью критического анализа извлечь из них абстрактные общие принципы, мы увидим: самая перспективная герменевтическая стратегия - метафорическое сопоставление мира текста и нашего мира.
Метафора - это соединение двух несочетаемых образов или семантических полей. Она позволяет увидеть в этих образах незаметное на первый взгляд сходство. Она предполагает неожиданную и выходящую за рамки обыденного восприятия аналогию. Она изменяет наше восприятие вещей. Например, в Евангелии от Иоанна Иисус говорит:
Я - живой хлеб, сошедший с небес (Ин 6:51а).
Слушатели поражены: они-то ждали, что Иисус, подобно Моисею, даст им чудесный хлеб в пищу (6:30-31). Иисус же не отождествляет себя с Моисеем, но образно уподобляет себя манне, которая питала израильтян в пустыне. Далее метафора приобретает тревожный оттенок:
Хлеб, который Я дам, есть плоть Моя... Те, кто будут есть Мою плоть и пить Мою кровь, имеют жизнь вечную (Ин 6:516, 54а).
Что здесь происходит?
· На одном уровне эта метафора ставит читателя перед поразительным утверждением Иоанна: «Слово стало плотью». (Кстати, это утверждение прекрасно иллюстрирует способность метафоры «калечить наш мир смыслов» и создавать новые рамки для восприятия.[13])
· На другом уровне эта метафора зовет читателя провести связь (через плоть Иисуса!) между историей Исхода и церковной Евхаристией.
Таким образом, читатель оказывается перед выбором. Он может либо возмутиться, подобно тем ученикам, которые ушли со словами: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» (Ин 6:60), либо «понять» метафору. Однако «понять» - значит, сделать ее для себя авторитетом, изменить свою жизнь и восприятие реальности в свете «онтологической вспышки»[14], создаваемой этим метафорическим сочетанием, и исповедать вместе с Петром: «Господи! К кому нам идти? Ты один имеешь слова вечной жизни» (6:68).
Метафорический процесс может происходить не только на уровне отдельных образов и предложений, но и на более высоком уровне рассказа, как это видно в синоптических притчах[15], возьмем, например, притчу о неверном управителе (Лк 16:1-9). Перед нами ловкач, который, находясь на грани увольнения, срабатывает расположение должников своего хозяина, списав им часть долгов. У этой притчи неожиданная развязка: хозяин не приходит в ярость, а хвалит управителя за то, что тот умно поступил. Мы-то ждали, что притча закончится нравственным обличением мошенника! Но нас застали врасплох, и мы вынуждены пересмотреть свое восприятие. Почему хозяин не осудил управителя? Возможно, потому что управитель понял: близок час суда, и надо действовать быстро и решительно. Как раз такого решительного отклика ждет от слушателей Иисус, проповедуя им Царство. Если нам развязка притчи не нравится, то, быть может, мы чем-то похожи на самодовольного старшего сына из притчи о блудном сыне (Лк 15:11-32), непосредственно предваряющей этот отрывок. И, подобно ему, мы отказываемся от пира, если настаиваем, что людям надо давать то, что они заслуживают... «Понять» эти притчи - значит, быть измененными ими, позволить им трансформировать свое представление о мире. «Понять» их - значит, начать размышлять о том, как изменить свою жизнь в ответ на Евангелие. Евангелие, которое показывает, сколь многое мы еще не знаем об ответственности и этике.
Еще более радикальный вызов нашему обыденному восприятию бросает евангельская весть о распятом Мессии. Эта Весть - для иудеев соблазн, а для эллинов - безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христос - сила Божия и премудрость Божия (1 Кор 1:23-24).
Фундаментальная задача новозаветной этики - снова и снова призывать нас открыться той трансформации, которая начинается при метафорическом соотнесении своей жизни и этого рассказа[16].
Стивен Крафчик резюмирует: «Метафора - способ создать диссонанс мысли с целью реструктуризации значимых отношений»[17]. Это и делает Новый Завет, если его читать метафорически в соединении с нашим собственным опытом. Мир, который мы знаем, - или думаем, что знаем, - меняет свои очертания, когда мы соотносим его с Новым Заветом. Герменевтическая за дача состоит в том, чтобы поместить наш опыт на карту новозаветного рассказа об Иисусе. Новый Завет опрокидывает обыденное мировоззрение и предоставляет образы и категории, в свете которых можно иначе взглянуть на жизнь нашей общины[18].
Временной разрыв между христианами I века и христианами конца XX века можно преодолеть только с помощью воображения. Как это происходит? Возьмем несколько примеров.
Притча о богаче и Лазаре (Лк 16:19-31). Согласно Луке, Иисус рассказал ее фарисеям, которые были «падки до денег» (Лк 16:14), а потому смеялись над Ним. Однако когда мы читаем текст метафорически, мы слышим притчу, словно она обращена к нам, и она преображает нашу жизнь. Это не аллегорическое толкование: мы не соотносим каждую деталь притчи с каждой деталью нашей жизни. Здесь происходит другое: мы вдруг видим аналогию между нашим собственным поведением в денежных вопросах и поведением богача, у ворот которого лежал Лазарь. Его участь, страшные муки в адском пламени, служит для нас суровым предупреждением. Нас тревожат горькие слова Авраама о братьях богача: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Становится ли это словом предупреждения для нас - нас, которые стоят по эту сторону воскресения Иисуса? Слово преодолевает временной разрыв.
Рассказ о ранней иерусалимской общине (Деян 2:42-47; 4:3237) дает Церкви не предостережение, а позитивный образец. Однако в том смысле, о котором я говорю, нормативная функция этого повествования - тоже метафорическая. Ведь здесь нет ни правил для общинной жизни, ни экономических принципов. Вместо этого мы читаем рассказ, который зовет нас задуматься: как мы можем вести сходную жизнь в наших собственных общинах? Как своим поведением в экономической сфере свидетельствовать о силе воскресения так, чтобы о нас можно было сказать: «И великая благодать была на всех их»? Слово преодолевает временной разрыв.
Такие метафорические проекции не требуют от нас в точности воспроизводить поведение героев этих рассказов или реанимировать древний экономический уклад[19]. (Не будем забывать, что для метафоры характерна способность отражать напряжение между сходством и различием семантических полей, которые мы метафорически соединяем.)[20] Скорее, метафорическое уподобление иерусалимской церкви (Деян 2; 4) и нашей Церкви разрушает обыденное восприятие экономических реалий и призывает нас решительно пересмотреть свое поведение.
Такая метафорическая герменевтика неоднократно встречается в самом Писании. Посмотрим, как Павел использует рассказ о скитании Израиля в пустыне (1 Кор 10). В своем письме к коринфским языкохристианам апостол выстраивает яркую метафору, связывая события в пустыне с проблемой коринфян (можно ли есть идоложертвенное). Надо полагать, некоторые коринфяне оправдывали свое вкушение идоложертвенного тем, что крещение и вечеря Господня привили им иммунитет против пагубного духовного влияния. Однако Павел использует метафорическую стратегию прочтения, которая представляет проблему в более сложном свете:
Отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея [!] в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пишу,и все пили одно и то же духовное питие...Но не о многих из них благоволил Бог,и они были поражены в пустыне (1 Кор 10:1-5).
Метафорическая взаимосвязь рассказа об Исходе и положения коринфян многогранна. Во-первых, Павел сознательно идет на анахронизм, вычитывая в ветхозаветном повествовании упоминания о христианских таинствах. Далее, однако, герменевтическая логика меняет направление: опасную ситуацию церкви Павел сопоставляет с участью израильтян: «Неужели мы [т.е. мы тоже] решимся раздражать Господа?» (1 Кор 10:22а; ср. Втор 32:21). Отсюда и основание для нравственного суждения, к которому Павел призывает коринфян: «Итак, мои дорогие друзья, бегите от идолопоклонства» (1 Кор 10:14).[21]
Задумаемся на секунду: Павлов совет может стать метафорой и для нашей собственной борьбы с искушениями идолопоклонства! (В нашем случае идолы могут искушать нас не мясом, а «национальной безопасностью», или сексуальным удовлетворением, или знаками социального статуса.) Если и когда происходит этот метафорический перенос, Слово преодолевает разрыв между Коринфом и Америкой, как оно преодолело разрыв между Исходом и Коринфом.
Далее. Если такая метафорическая герменевтика лежит в основе новозаветной этики, то наши нормативные апелляции к Писанию чаще всего будут апелляциями к образцу или к миру символов. Мы постараемся «перечитать», с помощью Духа Святого нашу жизнь в категориях новозаветного повествования, выявляя аналогии (порой поразительные) между каноническими рассказами и положением нашей общины.
Конечно, здесь есть большая сложность: как узнать, правы ли мы в построении той или иной метафоры? Никаких гарантий нет. Нужно молиться. И нужно предоставлять наши метафорические прочтения на проверку другим членам верующей общины, которые так же ищут воли Божьей, внимательно читая текст. И община, стремящаяся жить по Писанию, должна в конечном счете взять на себя ответственность: сказать, какие способы прочтения - хорошие, а какие - плохие. В данной книге я предложил один из способов это сделать: мы должны спросить, насколько та или иная интерпретация созвучна основополагающему сюжету библейского рассказа, его ключевым образам - общине, кресту и новому творению.
3. Церковь как воплощенная метафора
И наконец, задача выявления метафорических взаимосвязей между Новым Заветом и нынешним временем незаметно переводит в задачу превращения наших общин в живые воплощения смысла новозаветных текстов.
Обращаясь к своей непослушной и незрелой маленькой коринфской общине, Павел создает поразительную метафору:
Вы - письмо Христа... написанное не чернилами, а Духом живого Бога, не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца[22] (2 Кор 3:3).
Несмотря на все их грешки и перебранки, он не говорит им: «Подтянитесь! Вспомните, что вы должны быть письмом Христа». С метафорическим дерзновением он пишет, что они уже есть письмо Христа, - письмо, которое должны знать и читать все. Существование этой (проблемной!) общины - благовестие миру[23].
Так мы можем понять нечто очень важное о герменевтической взаимосвязи между текстом и общиной, между Новым Заветом и Церковью. Если нравственное суждение предполагает построение метафор, через которые Новый Завет трансформирует наше понимание общинной идентичности, то верно и обратное: преображенная община отражает славу Божью и проливает свет на смысл текста. Согласно Павлу, когда люди читают Писание без Христа, на их сердце словно лежит покрывало:
Но когда обращаются к Господу, то покрывало снимается... Мы же все, с непокрытыми лицами, видя славу Господню, словно отраженную в зеркале, преображаемся в тот же образ из одной степени славы в другую (2 Кор 3:16, 18).
Так сама Церковь, преображаясь в образ Христов, становится живой метафорой силы Божьей, о которой также свидетельствует текст[24]. Сила метафоры диалектична: текст формирует общину, а община воплощает смысл текста. Возникает своего рода герменевтическая петля, которая создает все новые и новые прочтения Нового Завета, по мере того как община делается более зрелой и имеет дело с меняющимися ситуациями.
Конечно, такое преображение общины происходит не только в силу человеческой изобретательности. Апостол подчеркивает: «Это исходит от Господня Духа» (2 Кор 3:18). Церковь идет на новые и дерзновенные интерпретации Писания только потому, что она полагается на действие Святого Духа в общине, - как обещано в самих новозаветных текстах (см. также 1 Кор 2:6-16; Ин 16:12-15). Дух делает из общины неожиданное метафорическое отражение библейских рассказов и тем самым проливает новый свет и на тексты. Такое действие Духа невозможно предсказать и трудно распознать. Однако церковь, которая попытается отрицать его или помешать ему, оказывается в удушающих объятиях «буквы» (gramma, 2 Кор 3:6) и теряет способность слышать Слово Божье. Иначе говоря, в конечном счете метафоры пишет Бог.
Так мы подходим к последнему аспекту нашей задачи: правильное прочтение Нового Завета происходит лишь там, где воплощено Слово. Мы узнаем смысл текста, только если откроемся его действию и он изменит нас[25]. Вот почему Джордж Стайнер определяет герменевтику как «осуществление активного понимания»[26]. Герменевтическая задача не заканчивается на анализе и комментарии. Правильно интерпретировать текст - значит, обратить его в действие, исполнить его так, чтобы наши интерпретации стали «рискованным выбором»[27]. Как доказывает Николас Лэш, «фундаментальная норма христианской интерпретации Писания - жизнь, деятельность и организация верующей общины»[28].
Это, в частности, означает, что интерпретация Нового Завета не может быть сугубо индивидуальным делом. Слово воплощается в теле Христовом - Церкви. Герменевтика - это обязательно общинная деятельность[29]. Лэш говорит:
Исполнение Писания - жизнь Церкви. Отдельно взятый человек не более способен исполнять эти тексты, чем квартет Бетховена или трагедию Шекспира[30].
Те интерпретаторы, которые не только признают важность общины, но и реализуют в ней Писание, способны на гораздо более глубокое и тонкое понимание текста.
Конечно, это парадокс: мы можем понять Писание только тогда, когда увидим его исполнение. Разве понимание не предваряет действие? На этот вопрос можно ответить двояко.
Первое. Мы начинаем не с нуля. Новозаветные тексты не нашли вчера в запечатанной пещере: мы - наследники общины, которая их читала и претворяла в жизнь на протяжении девятнадцати веков. Да, наша интерпретация остается нашей собственной интерпретацией, - как любая новая постановка «Короля Лира» (пример Лэша) будет свежим плодом таланта и вдумчивости актеров. Однако в своих толкованиях мы стоим на плечах тех, кто жил до нас. Мы знаем, как освещала смысл текста жизнь многих наших предшественников. Как любит говорить Стэнли Хауэрвас, «жизнь святых - герменевтический ключ к Писанию».
Второе. Любой человек, который участвовал в театральной или музыкальной постановке или хотя бы играл в спортивной команде, знает, как отличается групповое исполнение от индивидуальной репетиции. Во взаимодействии с другими исполнителями к концу пьесы мы узнаем то, чего не знали раньше. В лучшем случае при серьезном исполнении великого текста мы узнаем нечто не только о тексте, но и о себе[31].
Новый Завет постоянно настаивает на необходимости воплощения Слова. Обратим внимание на последовательность глаголов:
Представьте тела ваши в жертву живую [Услышьте метафору!]... Преобразуйтесь... чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим 12:1-2).
Познание воли Божьей следует за подчинением и преображением общины. Почему? Потому что до тех пор пока мы не увидим, как можно прожить текст, мы не поймем, что он значит. Пока мы не увидим действие среди нас силы Божьей, мы не узнаем, о чем читаем. Таким образом, важнейшая герменевтическая задача - формирование общин, старающихся жить по Слову[32].
4. РОЛЬ ВЕТХОГО ЗАВЕТА В НОВОЗАВЕТНОЙ ЭТИКЕ
Кто-то может поинтересоваться: не означает ли эта книга по новозаветной этике, что Ветхий Завет функционально выводится за пределы канона? Может быть, она, в криптомаркионитском духе, умаляет Израиль и Писания Израилевы? Никоим образом! Однако этот вопрос важен, и на него необходимо обстоятельно ответить.
Мое первое оправдание - многогранность проблемы. Очень трудно разработать цельную нормативную этику даже на основании Нового Завета, - что уж там говорить о Завете Ветхом! Если нам удастся сформулировать убедительную новозаветную этику, то следующим логическим шагом будет попытка рассмотреть, как она вписывается в более широкий канонический контекст. Однако этой задачи я пока перед собой не ставил[33].
Тем не менее мы не можем полностью сбрасывать Ветхий Завет[34] со счетов. Мы должны решить, какое место он занимает в процессе этической рефлексии. И я предлагаю троякий ответ на эту проблему.
(А) Голос Ветхого Завета в Новом Завете. Новозаветные тексты вышли из среды Писаний Израилевых. Их авторы ведут диалог с этими Писаниями. Невозможно правильно читать Новый Завет и при этом не слышать в нем голос Писаний. Новозаветные тексты имеют смысл только как герменевтические раз мышления над Писаниями, как богословский разговор с предшественником[35].
Например, Павел в самом начале своего Послания к Римлянам объявляет, что Евангелие было «прежде обещано через пророков [Божьих] в святых писаниях» (1:2). Далее в этом послании он цитирует Писания более 50 раз. В 1 Кор 15:3 он утверждает как вопрос «первоочередной важности» традиционное исповедание: смерть и воскресение Христовы произошли «по Писаниям». Оба вышеназванных отрывка, видимо, воспроизводят до-Павловы исповедания. Если так, то перед нами свидетельство раннего и распространенного раннехристианского убеждения в необходимости осмыслять Евангелие в его отношении к библейской традиции. Аналогичную установку мы находим у Матфея и Иоанна, в Луке - Деяниях, в Послании к Евреям и Первом послании Петра.
Как это влияет на место Ветхого Завета в новозаветной этике? Мы видим: весь канон - необходимый контекст для понимания новозаветного суждения по любому этическому вопросу. Распознать голос Ветхого Завета в Новом Завете можно только через кропотливый экзегетический труд. Ограничимся здесь лишь некоторыми примерами того, как используется Ветхий Завет в новозаветных этических текстах.
Иногда ссылки на авторитет Ветхого Завета - имплицитные. Например, новозаветные учения о сексуальной нравственности регулярно предполагают прямой запрет Ветхого Завета на блуд и гомосексуальные связи. В некоторых случаях новозаветные авторы могут давать общую ссылку. Скажем, императив заботы о бедняках и бездомных уходит корнями в требования Завета, как это видно из отрывков вроде Лк 16:19-31: если богач и братья будут слушать «Моисея и пророков», они поймут, что о нищих (символизируемых Лазарем) нужно заботиться. Здесь содержится аллюзия на такие отрывки, как Втор 15:7-11 («отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей»).
Иногда новозаветные авторы выдвигают нормы, в Ветхом Завете отсутствующие. Тогда они открыто признают различие и объясняют свою позицию ссылкой на более глубокие богословские цели Ветхого Завета. Типичный пример - вопрос о разводе (Мк 10:2-12/Мф 19:1-9). Отметим также шесть антитез Нагорной проповеди (Мф 5:21-48), где более суровые требования Иисуса представлены не как отмена, а как исполнение Закона.
Во всех упомянутых случаях новозаветные этические учения необходимо читать в их каноническом контексте[36], а также в и итоге с ветхозаветными отрывками, которые они неизбежно предполагают. Таким образом, при ответственном подходе к новозаветной этике голос Ветхого Завета будет услышан даже без прямого обзора ветхозаветной этики.
(Б) Ветхий Завет как основа для общины, креста и нового творения. В рамках синтетической процедуры, необходимой для выявления единства в новозаветном этическом свидетельстве, весь канон значим для определения образов общины и нового творения. Одна из причин того, что общину мы ставим прежде креста, состоит в том, что, как говорит Герхард Лофинк, Иисус не пришел основать церковь, ибо церковь уже существовала - Израиль[37]. Смысл новозаветного представления об общине в значительной мере обусловлен израильской общиной Завета. Избрание Иисусом Двенадцати было, видимо, символическим актом, который означал: происходит восстановление Израиля[38]. Павел называет своих языкохристиан «семенем Авраамовым и по обетованию наследниками» (Гал 3:29). Он рассматривает их как духовных потомков израильтян поколения Исхода, которых именует «нашими отцами» (1 Кор 10:1-13). Церковь как община в новозаветном смысле не могла бы существовать без предшествовавшего ей избрания Израиля, описанного в Ветхом Завете.
Аналогичным образом, новозаветное упование на новое творение укоренено в ветхозаветных пророческих традициях, особенно в Книге Исайи:
Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостию (Ис 65:17-18).
Содержание новозаветных представлений о новом творении находится под глубочайшим влиянием богатых ветхозаветных образов Бога как Творца и эсхатологического Искупителя Израиля. Не случайно Апокалипсис описывает Новый Иерусалим, в котором «Бог отрет всякую слезу», используя именно ветхозаветные образы.
Однако, как соотнести с Ветхим Заветом крест? Как известно, это - проблема старая и интересная. Ветхозаветные корни креста сложнее прослеживаются, чем ветхозаветные корни общины и нового творения. И не следует здесь пускаться в надуманные апологетические попытки доказать, будто Иисус и крест предсказаны в Ветхом Завете. Правильнее сказать: в свете креста христианская традиция способна по-новому прочесть Писания Израилевы и увидеть в них новый смысл. Смерть Иисуса осмысляется как спасительное событие только тогда, когда она рассматривается как исполнение Писаний (т.е. типологическое исполнение жертвоприношения Исаака, или Пасхи, или жертвы на День Искупления, или Страдальца из Исайи, или страдальца из царских псалмов плача). Однако увидеть, что эти ветхозаветные тексты предвещали такое событие, можно лишь ретроспективно... В плане темы данной книги можно сказать: крест как образец для этики - вклад Нового Завета. Это одно из ярких отличий Нового Завета от Ветхого.
Так мы подходим к последнему моменту.
(В) Новый Завет как линза для прочтения Ветхого Завета. Нормативная роль Нового Завета в христианском богословии и этике - иная, чем роль Ветхого Завета. У нас нет простого и недифференцированного канона, охватывающего книги от Бытия до Апокалипсиса. Если смерть и воскресение Иисуса - поворотная точка в Божьем промысле о человечестве, то крест - герменевтический центр канона. Соответственно, Новый Завет получает в каноне привилегированную герменевтическую функцию. Это особенно важно при осмыслении проблемы войны и насилия. Ветхий Завет сам по себе легко использовать для легитимации вооруженного насилия. Однако Новый Завет дает послушанию совершенно иной смысл, определяя его через крест. Ученикам Иисуса запрещено поднимать меч. (Подробнее об этом мы поговорим далее, в части IV.) Как мы уже видели, Апокалипсис совершенно переосмысляет ветхозаветный образ священной войны: космическую победу Бога одерживает закланный Агнец, и призвание святых - участвовать в этой битве не через насилие, а через «слово их свидетельства».
Аналогично обстоит дело и с другими проблемами, например проблемой здоровья и материального благополучия. Христианское богословие читает Ветхий Завет в свете Нового. После решающего откровения Бога в Иисусе Христе иначе и быть не может.
Подведем итоги. При разработке новозаветной этики мы не можем отвести для Ветхого Завета какой-то отдельный уголок. Ветхий Завет будет с нами во время всего нашего предприятия, ибо большинство богословских категорий и образов Нового Завета взято из Ветхого Завета. Новозаветный рассказ имеет смысл только как продолжение и кульминация рассказа об Израиле. Отношение новозаветных авторов к Ветхому Завету диалектично; они ведут с ним диалог, стремясь утвердить преемство между Писаниями и Евангелием и в то же время подчеркнуть новизну Евангелия. Новизну, которая требует герменевтического переосмысления Писания[39]. Для нас существует лишь один способ отдать должное этой сложной ситуации: читать новозаветные тексты, обращая самое пристальное внимание на ветхозаветные аллюзии. Наш экзегетический анализ в частях I и IV учитывал эту задачу.
5. РЕЗЮМЕ: ПРИНЦИПЫ НОВОЗАВЕТНОЙ ЭТИКИ
На предыдущих страницах мы очертили ряд методологических предложений относительно того, какой должна быть роль Нового Завета в формировании нормативной христианской этики. Далее мы посмотрим, как эти предложения работают на практике: в последней части книги мы остановимся на нескольких этических проблемах и подумаем, как новозаветные тексты могут помочь и их решении. Однако сначала было бы полезно предложить краг кое резюме, свести воедино нормативные рекомендации по поводу использования Нового Завета в этической рефлексии.
Предлагаю вниманию читателя десять фундаментальных положений.
1. Базовым требованием является серьезная экзегеза. Тексты, используемые в этических аргументах, должны быть как можно лучше поняты в их историческом и литературном контексте. При этом следует быть глубоко внимательными к ветхозаветным аллюзиям в новозаветных текстах.
2. Необходимо учитывать весь спектр канонических свидетельств.
3. Необходимо признать наличие в каноне существенных противоречий.
4. Синтетическое прочтение Нового Завета возможно через последовательное использование трех ключевых образов - общины, креста и нового творения.
5. Новозаветные тексты обладают (или не обладают) авторитетом именно в том способе благовествования, который им присущ. (А) Все четыре способа (правило, принцип, образец, мир символов) законны и необходимы. (Б) Не следует с помощью одного способа апелляции к Писанию отменять свидетельство Нового Завета в другом способе.
6. Новый Завет - это преимущественно рассказ об искупительном деянии Божьем. Следовательно, из упомянутых способов богословский приоритет имеет образец. Повествовательные тексты - фундаментальные ресурсы нормативной этики.
7. Не следует рассматривать предание, разум и опыт как самостоятельные и независимые источники авторитета: их необходимо соотносить с Новым Заветом.
8. В Новом Завете невозможно отделить «вечную истину» от «культурно обусловленных элементов».
9. При использовании Нового Завета в нормативной этике требуется воображение. Таким образом, когда мы апеллируем к авторитету Нового Завета, то неизбежно занимаемся построением метафор.
10. Правильное прочтение Нового Завета происходит лишь там, где воплощено Слово.
На мой взгляд, этими принципами необходимо руководствоваться при разработке новозаветной этики как нормативной богословской дисциплины. Конечно, некоторые из них (особенно 4, 5, 7) вызовут возражения. Однако все, кто не согласен с моими тезисами, должны предложить не менее ясную методологическую альтернативу. В части IV я рассмотрю ряд этических проблем, опираясь именно на эти принципы. Моя цель - предложить возможную модель цельного подхода к новозаветной этике.
Часть четвертая: Жизнь в этом мире: некоторые конкретные вопросы
Глава 14. Насилие в защиту справедливости
В одной маленькой епископальной вашингтонской церкви есть витраж: Иисус как Добрый Пастырь с ягненком в руках. Внизу трогательная надпись: «Памяти ребят из нашего прихода, которые были участниками Великой Войны». Когда создавался этот витраж, еще не возникла необходимость писать «Мировая война», а перед ней ставить определение: «Первая», «Вторая»... Такие же надписи есть в бесчисленном множестве церквей по всей Европе и Северной Америке: молчаливое свидетельство тому, что церковь иногда требует от христиан участия в войне. На это могут смотреть как на печальный долг, и церковь не только празднует память погибших солдат, но и скорбит по ним. Однако мало кто задает вопрос: насколько вообще военная служба совместима с христианским служением? Витраж говорит о надежде - надежде на то, что сражавшиеся (и, возможно, погибшие) «ребята» окажутся в любящих объятьях Иисуса. Однако ненамеренно он ставит и вопрос: уместно ли тем, кто считает себя учениками кроткого Пастыря, брать в руки смертельное оружие?
Иначе говоря: хочет ли Бог, чтобы христиане иногда использовали насилие в защиту справедливости? Некоторые новозаветные тексты предполагают однозначно отрицательный ответ. Однако нам снова и снова приходится сталкиваться с ситуациями, которые вроде бы требуют от нас противления злу силой. В качестве примера часто приводят мучительное решение Дитриха Бонхеффера участвовать в заговоре против Гитлера. Представители богословия освобождения иногда призывают к революции против угнетателей. И христианское богословие, по крайней мере, со времен Августинова «Града Божьего» обычно одобряло службу верующих в полиции и армии, считавшуюся необходимой для поддержания порядка и хотя бы некоторого подобия справедливости.
Кроме того, христиане нередко прибегали к насилию и без богословского обоснования своих действий. Один из моих любимых примеров содержится в газетной вырезке 1986 года.
Концерт Оззи Осборна был отменен после протестов и угроз против жизни певца... в Тайлере (Техас), где спорная британская рок-звезда должна была выступать в субботу. Некоторые группы, в том числе религиозные лидеры и Городской совет ассоциаций родителей и учителей, заявили, что Осборн олицетворяет антихристианские ценности... Окружной шериф Дж. Смит поставил шефа безопасности Осборна в известность об угрозах в адрес певца, включая использование пожара и динамита[1].
Когда слышишь, что с помощью террористического убийства собираются устранить певца, представляющего «антихристианские ценности», возникает естественный вопрос: о защите каких «христианских» ценностей идет речь? Казалось бы, абсурд, но в данном случае ментальность мало отличается от того инстинкта, который поражал людей со времен Каина, - импульс навязывать собственную волю через насилие.
Как показывает история, этот импульс легко крестить и конфирмовать, легитимировав убийство. Такой трагический сценарий недавно был проигран в бывшей Югославии, когда церковь санкционировала «этнические чистки» боснийских мусульман боснийскими сербскими христианами. Митрополит Николай, высший в Боснии церковный иерарх, публично поддержал организаторов этнических чисток как людей, следующих «трудной дорогой Христа»; «сербские священники благословляли милицию, возвращающуюся с убийств и грабежей»[2]. Последствия предсказуемы и трагичны: «Этнонационалисты отпраздновали праздник св. Саввы, основателя Сербской церкви, сожжением 300-летней мечети и убийством мусульман в Требне»[3].
На такой культурной дистанции легко осуждать подобное насилие как искажение христианской этики. Но что сказать о католическом армейском капеллане, который отслужил мессу католическому же летчику, который 9 августа 1945 года сбросил атомную бомбу на Нагасаки? Отец Джордж Забелка, капеллан эскадрильи, впоследствии раскаялся. Но его рассказ о том времени - поразительное свидетельство о неблаговидной роли церкви:
Не обличить нравственную мерзость массового убийства мирных жителей было моим провалом и как христианина, и как священника... Я был там и скажу вам: отношение церкви к массовому убийству вражеского населения было в лучшем случае полностью безразличным, молчаливым и испорченным; в худшем же случае церковь поддерживала эти действия и благословляла тех, кто их совершал... Католики сбросили атомную бомбу на самый крупный и первый католический город в Японии. Можно было бы ожидать, что я, католический священник, обличу атомную бомбардировку монахинь. (Тогда в Нагасаки было уничтожено три католических женских ордена.) Можно было бы ожидать, что я скажу: самая минимальная католическая нравственность запрещает бомбардировку католических детей. Но я этого не сделал. Я, подобно католическому пилоту бомбардировщика, «Великого Художника», был наследником христианства, которое в течение 17 столетий мстило, убивало, пытало, искало власти и совершало насилие во имя Господа нашего.
После войны я ходил по руинам Нагасаки и пришел на место, где когда-то стоял Собор Ураками. С груды развалин я подобрал обломок кадильницы. Когда я смотрю на него сегодня, я молю Бога простить нас за то, как мы извращали учение Христа, как разрушали его мир этим извращенным учением. Я - католический капеллан, который был там, где чудовищный процесс, начавшийся с Константина, достиг низшей до сего времени точки[4].
Когда читаешь такие рассказы, невольно вспоминаешь плач Иисуса о Иерусалиме: «О, если бы ты... узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих» (Лк 19:42).
После проведенной США операции «Буря в пустыне» (1991г.) много спорят о справедливой войне. Некогда христианские богословы разработали это учение, чтобы поставить заслон бесконтрольному применению насилия, а также артикулировать нормы, оправдывающие участие христиан в вооруженном конфликте на стороне государства[5]. Однако, как мы показали в нашем обзоре богословских этиков, найти новозаветное обоснование подобной доктрине далеко не просто. Как правильно сказал Забелка, теория справедливой войны - это «то, чему Христос никогда не учил и на что Он никогда не намекал»[6].
Какие нормы применения насилия дает нам Новый Завет? Начнем с отрывка из Нагорной проповеди, в котором часто видят самый ясный призыв к отказу от насилия.
1. Ключевой текст: МФ 5:38-48
Вы слышали, что сказано: «Око за око, и зуб за зуб». А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, молитесь за гонящих вас. Да будете детьми Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас,какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев и сестер ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Христиан часто озадачивает этот текст: его требования столь тяжелы, что представляются попросту невыполнимыми. Поэтому толкователи идут на всевозможные ухищрения, пытаясь смягчить его заповеди, уйти от буквального их понимания[7]. Вот некоторые из таких влиятельных интерпретаций:
· Эти слова говорят о жизни в эсхатологическом Царстве Божьем, а потому не требуют буквального исполнения в нынешнем земном существовании. (См., например, высказывания Нибура о «недостижимом идеале».)
· Эти слова предписывают Иисусовым ученикам «промежуточную этику» на том основании, что очень скоро предстоят конец истории и Последний суд, - столь скоро, что не надо задумываться о долгосрочных результатах жизни в соответствии с такой максималистской этикой. Как мы видим, данное толкование противоположно первому. Оно видит Мф 5:38-48 не как высший идеал, а как временное установление, сделанное в пылу эсхатологического энтузиазма.
· Эти слова запрещают самозащиту, но не запрещают сражаться в защиту невинной третьей стороны. (Так понимал данный отрывок Августин.)
· Эти слова говорят о «совершенстве» (см. 5:48) и применимы лишь к тем, кто хочет быть святым, монахом или клириком. К простым же верующим они не применимы.
· Эти слова демонстрируют невозможность жизни в соответствии с Божьим стандартом праведности (см. 5:20). Они обличают нашу совесть и показывают, что мы - грешники, которым нужна благодать.
· Эти слова следует рассматривать в конкретном социальном контексте. Соответственно, «не противься злому» означает «не выступай против злого человека в суде»[8]. Под «врагами» же подразумеваются лишь личные враги в палестинской деревне, но не враги чужеземные или политические[9].
Однако если мы внимательно рассмотрим этот отрывок в контексте всего Евангелия, то увидим, что ни одно из упомянутых толкований не удовлетворительно. Обратим внимание для начала на контекст непосредственный - Нагорную проповедь (Мф 5-7).
Эти стихи составляют кульминационные 5-ю и 6-ю антитезы («вы слышали, что сказано... а Я говорю вам...») в первой главе Нагорной проповеди, базовой инструкции об ученичестве. Такой контекст очень показателен. Нагорная проповедь, первый из пяти больших блоков поучений у Матфея (см. главу 4), говорит о начале Иисусова служения в Галилее, - когда Иисус впервые призвал учеников (Мф 4:18-22) и начал собирать толпу (4:23-25). Соответственно, в повествовательной схеме Матфея Нагорная проповедь выступает в качестве программного раскрытия Царства Божьего и жизни, к которой призвана община учеников. Место проповеди (гора), видимо, содержит аллюзию на ветхозаветный рассказ о Моисее и Исходе, а также намекает: Иисусово учение - новая Тора, хартия для общины нового Завета.
Этот материал представлен в Мф 5:1-2 как инструкция Иисусовым ученикам. Однако в конце проповеди написано: «Толпы дивились учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий» (7:28-29). Значит, Иисус наставлял учеников открыто перед народом. Это отражает убеждение евангелиста в призвании общины учеников быть светом миру (5:14-16). Ученики призваны жить по строгим меркам шести антитез именно потому, что они должны воплощать Царство Божье в плюралистическом и греховном мире.
Характер этого Царства удивителен. Заповеди блаженства (5:3-12) попирают здравый смысл, утверждая, что Божье благословение почиет на скорбящих, кротких, миротворцах и (особенно) гонимых. (Отметим, что 5:11-12 повторяют и расширяют блаженство гонимым в 5:10.) Блаженства переворачивают реальность с ног на голову, - или, точнее говоря, показывают, что Бог видит наши ценности перевернутыми. Призвание общины быть «солью» и «светом» миру (5:13-16) осуществляется, когда ученики Иисуса воплощают альтернативную божественную реальность через качества, о которых говорят Блаженства. Община Иисусовых учеников должна быть «городом, построенным на холме», образцовым полисом, демонстрирующим мирную политику нового божественного порядка.
Матфей подчеркивает: этот контркультурный полис - не отмена Торы, а ее исполнение (5:17-20). Праведность, к которой призваны Иисусовы ученики, усиливает и превосходит самые жесткие установления израильских законников. Поэтому шесть антитез (5:21-48) поднимают планку, радикализируя требования Закона. Они показывают, как должна выглядеть новая община, которую создает Иисус. Перед нами не всеобъемлющий юридический кодекс: евангелист дает лишь несколько примеров. Он указывает, что в новой общине гнев побеждается через примирение (5:21-26), похоть держится под контролем (5:27-30), брак почитается через верность на всю жизнь (5:31-32), речь - прямая и честная (5:33-37), мести нет места (5:38-42), а ненависть заменяется любовью к врагам (5:43-48). Хотя этот образ общины учеников - новое откровение, он также представляет собой исполнение глубинной истины Закона и пророков (ср. Мф 22:34-40).
Одним словом, Царство Божье, как оно описано в Мф 5, полно неожиданностей. Радикальную контркультурную общину учеников отличает «более высокая праведность». Ее члены свободны от гнева и похоти, лжи и насилия. Особенно же яркая черта нового града - любовь к врагам; причем интересно, что антитезы, посвященные этим темам, - кульминация, завершающая раздел (5:38-48). Община Иисусовых учеников не прибегает к насилию, но остается милосердной, чистой, миротворческой и готовой к гонениям. А еще - благословенной, благословенной именно из-за своей верности этому чудному видению.
Как такой образ ученичества вписывается в более широкий контекст Евангелия? Некоторые экзегеты считают, что между Нагорной проповедью и богословскими взглядами Матфея существует противоречие[10]. Однако с ними трудно согласиться. Они недооценивают то, насколько концепция ученичества в Нагорной проповеди согласуется с образом Иисуса у Матфея. Так, в рассказе об искушении (4:1-11) Иисус отвергает власть над царствами мира сего, предпочитая поклоняться и служить только Богу. В трех предсказаниях о Страстях (16:21-23; 17:22-23; 20:1719) Иисус относит себя к «гонимым за правду» и объявляет, что Его учеников ждет та же участь (16:24-26)[11]. В Гефсимании Иисус снова испытывает внутреннюю борьбу, но предоставляет все воле Отца, будучи готовым испить чашу страданий (26:36-47). Как убедительно показал Иод ер, искушение отказаться от чаши - это именно искушение прибегнуть к вооруженному сопротивлению[12]. Однако насилию Иисус предпочитает страдание и послушание. У Матфея это даже более ясно видно, чем у Марка и Луки, ибо при аресте Иисус увещевает ученика, пытающегося сопротивляться:
Возврати меч свой в его место, ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут (Мф 26:51-54).
Ульрих Маузер отмечает:
Иисус не уступает искушению сохранить Себе жизнь, сопротивляясь злу оружием самого зла. В Евангелии от Матфея эта сцена ареста - наиболее яркое истолкование заповеди из Нагорной проповеди: «Не противься злому» (Мф 5:39) . Соответственно, рассказ о Страстях устремляется к своему неизбежному завершению: Иисус умирает беззащитный и подвергаемый насмешкам (27:39-44). Смерть Иисуса дает образец тех самых качеств, которые в Мф 5 предписываются Иисусовым ученикам[13].
Концовка Евангелия от Матфея снова акцентирует Нагорную проповедь. Через воскресение Иисуса Бог оправдывает Его власть учить и направлять общину. В финальной сцене Иисус является одиннадцати ученикам, опять же на горе, и возвещает:
Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите и сделайте все народы учениками Моими, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф 28:18а-20б;курсив мой - Р.Х.).
Задача Иисусовых учеников состоит в том, чтобы набрать побольше учеников. Причем они должны не только обратить людей, но и научить всех крещеных тем вещам, которым они и сами научились от Иисуса. Каким именно вещам? Из контекста ясно видно, что речь - о Нагорной проповеди.
Из завершения рассказа ясно видно: Матфей не считает жизнь по Нагорной проповеди недостижимым идеалом. Напротив, именно ее заповедует нам Иисус, который обладает «всякой властью на небе и на земле». Она возможна, ибо власть воскресшего Господа пребывает в общине и с общиной: «Помните, что Я с вами во все дни до скончания века» (28:206). (Очень важные слова: оказывается, век церковной жизни - не краткий промежуток времени, а пространный исторический период, в который Иисус пребывает с Церковью и направляет ее.) Единственный вопрос состоит в том, чтобы ученики оставались верны наученному. Ведь в верующей общине будут и сомнения, и провалы. Как мы уже видели[14], Матфей, при всем своем максимализме, видит человеческую слабость и греховность, призывая общину к взаимному прощению и исправлению. Однако, по его мнению, это не отменяет необходимости исполнять заповеди. Лишь слово суда имеет евангелист для тех, кто говорит «Господи, Господи», но не исполняет воли Божьей, как она открыта в учении Иисуса. В день Суда Иисус скажет им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (7:21-23). Заповеди Нагорной проповеди не только божественны, но и практичны: человек, который слушает и исполняет Иисусовы слова, подобен мудрецу, построившему дом на камне; человек, который слушает Иисусовы слова, но не исполняет их, подобен тому, кто построил дом на песке (7:24-27). Жить в соответствии с парадоксальной мудростью Иисуса, значит, жить в соответствии с высшим замыслом Бога о человеке. Евангелист Матфей все время это подчеркивает. Все это отметает вышеописанные шесть способов смягчить заповедь, данную Церкви в Мф 5:38-48.
• Учение о ненасилии и любви к врагам - не просто эсхатологическая концепция или идеал. Иисус исполнял его до смерти, и, согласно Евангелию от Матфея, Иисусовы ученики так же должны исполнять его.
• Матфей пишет спустя как минимум полвека после смерти Иисуса и прекрасно знает: история продолжается, и «до скончания века» Церкви предстоит пройти долгий путь. За это время Церковь должна научить народы соблюдать заповеди Иисуса, в том числе заповедь о ненасилии и любви к врагам.
• Евангелие от Матфея не ограничивает запрет на насилие запретом на самозащиту. Пример, данный в Мф 5:39 («обрати другую щеку»), явно относится к самозащите, - можно сказать, даже к самозащите. Но стоит присмотреться к поведению самого Иисуса, как оно описано у Матфея, и становится очевидно: насилие вообще не может быть орудием воли Божьей. Именно это входило в искушение, отвергнутое Иисусом в пустыне и в Гефсимании. Он не встает на защиту палестинских бедных и угнетенных, поднимая восстание против Рима или еврейских коллаборационистов. Вместо этого он исцеляет и проповедует. Он проповедует любовь и добровольно идет на гонения и смерть. Более того, он не хвалит ученика, который попытался мечом защитить Его от несправедливого ареста, но изрекает пророческое слово суда против всех «взявших меч» и велит вложить меч в ножны. Вооруженная защита - не путь Иисуса. И Евангелие от Матфея не содержит ни малейшего намека на то, что насилие в защиту третьей стороны допустимо. Более того, Мф 26:51-52 прямо отвергает эту идею.
• «Великое поручение» в конце Евангелия от Матфея показывает, что Нагорная проповедь предназначена не только для каких-то суперсвятых христиан. Все крещеные верующие должны быть научены исполнению заповедей Иисусовых.
• Представление о том, что максималистские учения Нагорной проповеди предназначены лишь показать нам необходимость благодати, опровергается концовкой самой проповеди (Мф 7:21-27). Эти слова надлежит исполнять на практике.
В своих аргументах я исхожу из целостного повествовательного контекста Евангелия. Я читаю его как литературное и богословское единство. Те, кто желают иначе осмыслить Мф 5:38-48, порой опираются не на весть Матфея, а на то, что «на самом деле» сказал или имел в виду Иисус. Попытки реконструировать учение Иисуса интересны, но мы еще раз подчеркнем: нормативным богословским использованием текста руководит именно канонический повествовательный контекст. Историческая же реконструкция - всего лишь гипотеза[15].
Однако как быть с гипотезой, что смысл Мф 5:38-48 следует ограничивать конкретным социальным контекстом этого материала? Для ответа на данный вопрос более внимательно проанализируем отрывок.
В большинстве шести антитез Иисус не отменяет Закон, а усиливает его требования. Закон говорит «не убий», - Иисус запрещает и гнев. Закон говорит «не прелюбодействуй», - Иисус запрещает и похоть. Однако 5-я антитеза (5:38-42) противоречит Торе (вопреки 5:17-18!). По мнению большинства комментаторов, lex talionis («око за око, и зуб за зуб») возник как ограничение на месть: то есть не больше, чем око за око. Так работает данное правило в Исх 21:24. Если речение понимать в этом ключе, то Мф 5:39 просто устрожает требование Торы: там, где Тора месть ограничивает, Иисус запрещает ее совсем.
Однако во Втор 19:15-21 lex talionis - предписание. Лжесвидетели должны быть наказаны именно тем способом, который они готовили своей жертве. Согласно Второзаконию, это правило должно снизить число лжесвидетельств:
Если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на другого, то сделайте ему то, что он умышлял сделать другому. И так истреби зло из среды себя. И прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Не выказывай жалости: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу (Втор 19:186-21).
Никаких сантиментов! Чтобы в обществе царила справедливость, нужно тщательно и справедливо отмерять наказание. Но где Второзаконие требует: «Не выказывай жалости», - Иисус говорит: «Не противься злому». Заботу Закона о стабильности и справедливости Иисус заменяет на ненасилие, долготерпение и щедрость со стороны обиженных[16]. Это настоящая перемена парадигмы, которая подрывает учение Торы о справедливом наказании.
Интересно, что здесь меняется имплицитный адресат заповеди. Заповедь Втор 19:15-21 обращена к людям, облеченным судебной властью. Заповедь Мф 5:43-48 обращена к беззащитным, к жертвам власть имущих; возмездие же отдается в руки Бога. Это многое говорит о композиции и социальном контексте Евангелия от Матфея. Община Иисусовых учеников, как она описана в Нагорной проповеди, находится вне круга власти. Впоследствии мы вернемся к этому моменту, когда будем говорить о герменевтической рецепции отрывка.
Роберт Гюлих пытается ограничить Мф 5:39а залом суда, тесно связывая этот текст с юридическим сценарием во Втор 19:15-21 . По его мнению, 5:39а «запрещает выступать против злодея в суде», а глагол antistenai («сопротивляться») относится к «юридическому оправданию» против ложного обвинителя[17]. Однако, хотя слово antistenai и можно так перевести, оно безусловно не является техническим обозначением противостояния в суде, и для Нового Завета такое его употребление нехарактерно. Гипотеза Гюлиха делает Мф 5:39а адекватным ответом на цитату в 5:38, сохраняя правдоподобную связь с 5:40, где также речь идет о судебной процедуре. Но вот проблема: как быть с другими иллюстрациями в 5:39-42, например «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (5:396)? Здесь Гюлих следует за Дэвидом Даубе. По его мнению, упоминание о правой щеке подразумевает не удар кулаком, а удар тыльной стороной руки - «действие, особенно унизительное для еврея». Соответственно, «речь более об оскорблении, чем о травме, и люди в таких ситуациях искали компенсации и оправдания»[18]. Иисус же, по мнению Гюлиха, запрещает подобное обращение в суд.
В ответ на предложение Гюлиха уместно сделать несколько замечаний.
1. Отказ от юридического возмездия за оскорбление не имеет ни малейшего отношения к вопросу о сопротивлении лжесвидетельству. Следовательно, логическая связь с Мф 5:38-39а и Втор 19:15-21 - шаткая.
2. Представление об оскорблении, требующем юридического возмездия, привносится в текст на основе той предпосылки, что по правой щеке можно ударить лишь тыльной стороной руки[19]. Однако, невзирая на распространенность такого толкования, следует заметить: ничто у Матфея не указывает на этот сценарий. Текст не говорит: «Если кто-то оскорбит тебя, ударив тыльной стороной руки... » Он не говорит: «Если кто-то ударит тебя в правую щеку, не веди его в суд». Он говорит иное: «Подставь другую щеку», то есть подчеркивает именно отказ от физического возмездия.
3. В теорию об отказе от юридической защиты не вписывается Мф 5:41-42. Гюлих вынужден признать, что прохождение лишнего поприща и подаяние просящему не имеют отношения к его пониманию 5:39. По его словам, «присутствие здесь этих материалов отражают желание Матфея следовать традиции даже там, где она лишь косвенным образом соотносится с его основной редакторской интенцией»[20]. Однако, если мы говорим это о 5:41-42, что мешает сказать это и о 5:39? Почему бы не считать, что все материалы раздела соответствуют редакторской интенции евангелиста?[21]
В реальности в Мф 5:39-42 мы находим различные примеры того миролюбивого и добросердечного поведения, к которому призывает нас Иисус. Иисусовы ученики должны отказаться от принципа «око за око», от мести за себя и от своекорыстия. Эти действия прекрасно согласуются с качествами, описанными в Блаженствах: смирение, кротость, готовность нести мир и страдать ради правды.
Это не означает, что община должна пребывать в инертной пассивности[22]. Описанные действия - параболические жесты самоотречения и служения. Ученики делают больше, чем требует от них обидчик, и тем самым свидетельствуют о другой реальности (Царстве Божьем) - реальности, в которой миролюбие, служение и щедрость ценятся выше самозащиты и личных прав. И пророческое несопротивление общины может не только сбить врага с толку, но и помочь ему обратиться к истине Царства Божьего[23].
Таким образом, Мф 5:39 действительно учит ненасилию, хотя отрывок в целом и содержит более широкое видение Царства Божьего. Запрет отвечать ударом на удар - лишь один из «фокусных примеров» (focal instances), образно описывающих представления Матфея об общине учеников[24]. Это не просто правило, запрещающее определенное действие; это символическое указание на характер мирного града, построенного на холме.
Материал в 6-й антитезе (Мф 5:43-48) менее сложен. Слова «любите врагов ваших, молитесь за гонящих вас» сформулированы недвусмысленно. Любя врагов, Иисусовы ученики, как свет мира, отражают характер Бога, который также милостив и к праведным, и к неправедным.
Здесь, однако, есть три проблемы, имеющие самое непосредственное отношение к вопросу о нормативном значении текста. Каков источник речения, процитированного в 5:43? Какие «враги» имеются в виду в 5:44? Что означает призыв к «совершенству» в 5:48? Рассмотрим эти вопросы по очереди.
(А)Источник речения. В первых пяти антитезах Иисус использует фразу из Писания. В последней антитезе заповедь о любви к ближнему взята из Лев 19:18. Однако заповеди о ненависти к врагам в Ветхом Завете нет. Какую же традицию Матфей противопоставляет учению Иисуса? Это не вполне ясно. Псалмы полны горьких проклятий врагам праведников, поэтому за Мф 5:43 может стоять какой-то отрывок вроде этого:
Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи? И не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их; враги они мне (Пс 138:21-22).
Однако более вероятно предположение Уильяма Классена: никакой конкретный отрывок из Писания не имеется в виду.
Формула «быть добрым к друзьям (или любить друзей) и ненавидеть врагов» была широко распространена в античном мире и встречается во многих слоях документации. Поэтому лучше не смотреть в какие-то конкретные еврейские тексты (в том числе кумранские), а просто видеть в этих словах часть общей народной мудрости, известной как слушателям Иисуса, так и аудитории Матфея[25]. В таком случае последняя антитеза задает новый стандарт послушания Богу не в оппозиции к Торе, но в оппозиции общепринятым ценностям и интерпретациям Торы. Ограничение любви любовью к «ближнему» (т.е. другим членам израильской общины Завета) заменяется всеохватной любовью, включающей даже врагов. Это расширение императива, возможно, связано с общим тематическим интересом Матфея к тому, как благовестие выходит за пределы этнических границ Израиля и распространяется на язычников.
(Б) Кто такие «враги». По мнению Ричарда Хорсли, термин echthroi («враги» 5:44) в первоначальном историческом контексте Иисуса обозначал не чужеземных врагов или врагов в войне, но только «личных врагов», часто - жителей маленьких палестинских деревушек, борющихся друг с другом за жалкие экономические ресурсы. Будучи неспособными выразить свое недовольство «господствующей системой... подчиненные народы находят выход отчаянию во внутренних раздорах»[26]. В таком случае Иисус прежде всего хотел, чтобы бедные крестьяне перестали ссориться друг с другом и начали сотрудничать ради взаимной экономической выгоды. Соответственно, в призыве «любить врагов» нельзя видеть общий этический принцип, и он не применим напрямую к проблемам войны и вражды между народами[27]. Это интересная гипотеза. Однако она не проходит.
• У Матфея нет никаких указаний на описываемую Хорсли социальную ситуацию: никаких деревенских ссор и раздоров.
• Судя по непосредственному контексту, echthroi - это те, кто гонят Иисусовых учеников за «правду», то есть за путь Иисуса. Сопоставим 5:10-12 и синонимический параллелизм в 5:44: «Любите врагов ваших / молитесь за гонящих вас».
• Гипотеза Хорсли не опирается на лексикографические данные. Понятие echthroi носит общий характер. В библейском греческом оно часто обозначает национальных или военных противников. Оно использовано, например, во Втор 20:1 (следующее предложение после отрывка с «око за око», процитированного в Мф 5:38): «Когда ты выйдешь на войну против твоих врагов [LXX: echthroi] и увидишь коней и колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их; ибо с тобою Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской». (Отметим также Лк 19:43, где упоминается об осаде Иерусалима со стороны echthroi.) В отсутствие специальных указаний нет основания понимать echthroi из Мф 5:44 в узком смысле. По верному замечанию Хайнца-Вольфганга Куна: «Это указание не имеет границ. Здесь имеются в виду любые враги -религиозные, политические, личные»[28].
• Хорсли пытается воссоздать гипотетический смысл речения, который в него вкладывал сам Иисус. При этом у него получается, что этот смысл противоречит тому, который мы находим у Матфея. Однако, как мы уже отмечали, именно смысл в Евангелии от Матфея имеет определяющее значение для нормативной новозаветной этики. (Историческая реконструкция, проделанная Хорсли, в любом случае вызывает серьезные сомнения. Однако критика ее уведет нас слишком далеко от темы.) Предложение Хорсли не проходит как толкование Нагорной проповеди в ее канонической форме. Хорсли и сам признает, что контекст Матфея не только поддерживает, но и требует понимания врагов в более широком смысле – как аутсайдеров и гонителей[29].
(В) Смысл «совершенства». И наконец, что же означают слова: «Будьте совершенны [teleios], как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:48)? Являются ли они заключением только 6-й антитезы или всей серии антитез? Все говорит в пользу второй из этих возможностей. Увещание резюмирует раздел, соединяя аллюзии на два важных ветхозаветных текста:
• Лев 19:1-2: «И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш».
• Втор 18:13 LXX: «[Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой дает тебе] будь teleios перед Господом, Богом твоим...»[30]
Заключительное увещание в Мф 5 собирает эти идеи воедино: община Иисусовых учеников должна отражать святость Божью, неукоснительно исполняя Его волю, как она открыта в учении Иисуса, который занял место Моисея как окончательный истолкователь Закона[31]. Результат видится так: те, кто увидят «добрые: дела» общины нового Завета, города на холме, «прославят Отца вашего Небесного» (5:16).
Слово teleios можно еще перевести как «зрелый». Однако этот перевод не вмещает всей богословской мощи речения. Ведь смысл в том, что община Иисусовых учеников призвана являть в мире характер Бога. И особенно наглядно этот характер виден в любви к врагам (5:44-45), - нечто несовместимое с убийством врагов![32] Миротворцы нарекутся «сынами Божьими» (5:9), ибо они, подобно Богу, любят своих врагов (5:45; ср. 5:48)[33].
Таким образом, согласно Нагорной проповеди, воплощение Церковью ненасилия - незаменимое свидетельство благовестия.
2. Синтез: Насилие в каноническом контексте
На основании экзегетического анализа Мф 5:38-48 мы сделали вывод: этот отрывок учит ненасилию и любви к врагам. Причем у Матфея заповедь подставлять другую щеку - не просто одна из инструкций. Она входит в число «фокусных примеров» ученичества. Она работает метонимически, демонстрируя жизнь общины Завета, призванной быть без остатка верной тому представлению о Царстве Божьем, которое Иисус явил своей проповедью и своей жизнью. Если взять этот текст сам по себе, он исключает любую попытку Иисусовых учеников оправдать свое обращение к насилию. Однако возникает вопрос: насколько представления Матфея о мирной общине согласуются со свидетельствами других канонических текстов? Поддерживают ли другие тексты учение Нагорной проповеди о ненасилии, или они предлагают другие возможности, которые могут обосновать взятие христианами меча?
Как заметил Барт[34], стоит задать этот вопрос, как становится заметно единодушие новозаветных авторов в ответе на него. Все евангелисты изображают Иисуса Мессией, который нарушает ожидания, следуя путем страдания, а не побеждая врагов Израиля. Он резко обличает власть имущих, но никогда не пытается использовать силу для достижения социальной или политической власти. (Об одном возможном исключении - акции против торговли в Храме - мы поговорим чуть ниже.) Иисус запрещает ученикам говорить о своем мессианстве до тех пор, пока Он не даст, через Крест, этому титулу другое понимание. Он объясняет ученикам, что они должны разделить Его призвание (Мк 8:279:1). Он уходит от толпы, которая хочет «схватить Его и насильно провозгласить царем» (Ин 6:15). Всюду Иисус отвергает насилие как стратегию установления Царства Божьего (напр., Лк 9:51-56, где он упрекает Иаков а и Иоанн а за желание низвести огонь с неба на негостеприимных самарян.) Он наставляет учеников быть рабами (Мк 10:42-45; Ин 13:1-17) и ожидать страдания от рук властей мира сего (Мк 13:9-13; Ин 15:18-16:4а). Никакой надежды на оправдание и справедливость через использование мирской силы быть не может: то есть лишь сатанинское искушение, и Иисус отвергает его еще в самом начале своего служения. Оправдание и справедливость лежат в эсхатологической власти Божьей. Смерть Иисуса полностью соответствует Его учению: Он ничего не делает, чтобы себя защитить, и укоряет тех, кто пытается защитить Его мечом. Он отказывается призывать «легионы ангелов» на священную войну против своих врагов (Мф 26:53). В повествовании Луки Он также молится о своих палачах (Лк 23:34а; если это не поздняя вставка)[35].
В Деяниях Апостолов Лука рассказывает о начале движения, которое проповедует, исцеляет, молится и делится имуществом.
Те, кто несут Слово в различные части Римского мира, не завоевывают территорию военными операциями; они возвещают Евангелие и часто сами оказываются объектами насилия. Их реакцию на это насилие мы видим на примере мученика Стефана, который, в свою очередь, подражает Иисусу в Его смерти, когда молится о прощении врагов (Деян 7:60).
Апостол Павел в своих посланиях интерпретирует смерть Христа как мирную инициативу Бога[36]:
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы Кровью Его, спасемся Им от гнева Божьего. Ибо, если будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его (Рим 5:8-10).
Как Бог обращается с врагами? По мнению Павла, Бог не уничтожает их, но отдает Сына своего на смерть ради них. Это имеет колоссальное значение для последующего поведения тех, кто примирился с Богом через смерть Иисуса: быть «спасенным жизнью Его», значит, войти в жизнь, которая подражает самоотдаче Христа. Как мы уже говорили[37], подражание Христу в Его жертвенном служении ради других - один из центральных этических мотивов у Павла (напр., Флп 2:1-13). Отсюда очевидно: те, чьи жизни преображены во Христе, должны обращаться с врагами так же, как Бог во Христе обошелся со своими врагами.
Самое важное поучение Павла, имеющее прямое отношение к вопросу о насилии (Рим 12:14-21), настолько похоже на Нагорную проповедь, что некоторые критики предполагали использование здесь Павлом преданий об Иисусе, невзирая на малое число вербальных совпадений[38]. Однако для нас в нашей задаче синтетического размышления о проблеме насилия в новозаветной этике не столь уж принципиально, был ли Павел напрямую знаком с поучениями Иисуса. Отметим лишь существенное сходство в их взглядах на призвание общины народа Божьего:
благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте... Живите в согласии друг с другом... Никому не воздавайте злом за зло, но заботьтесь о добром перед всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». Итак, «если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья»[39]. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим 12:14, 16а, 17-21).
Власти носят меч, чтобы исполнять гнев Божий (13:4), но это не дело верующих. Члены единого тела во Христе (12:5) никогда не должны мстить (12:9); им надлежит благословлять гонителей и служить своим врагам, делая добро в ответ на зло. В Павловых посланиях нет ни единого слога, которым можно было бы обосновать использование христианами насилия. Эпизодическое обращение апостола к военным образам (напр., 2 Кор 10:3-6; Флп 1:27-30) имеет противоположный эффект: эти образы переходят на службу благовестию, а не наоборот. С помощью образа битвы Павел описывает апокалиптический контекст, в котором живет община, но само «сражение» ведется через возвещение Евангелия и представление своих членов Богу как hopla («орудие») праведности (Рим 6:13). Значение этой логики замечательно резюмируется в следующем отрывке: «Ибо хотя мы живем во плоти, мы не ведем войну в соответствии с плотью; ибо оружие воинствования нашего не плотское» (2 Кор 10:3-4). Развитие этой линии образов мы видим в Еф 6:10-20: община борется не против людей, но против «духовных сил тьмы»; и ее оружие и облачение - истина, праведность, мир, вера, спасение и слово Божье. Если мы верно поймем эти метафоры, то ясно увидим: они свидетельствуют против насилия как выражения послушания Богу во Христе.
Аналогичным образом, в Послании к Евреям и других Соборных посланиях, постоянно описывается община, призванная страдать без гнева и возмездия. Автор Послания к Евреям просит читателей:
Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, вы держали великий подвиг страданий, то выставляемые напоказ л поношениях и притеснениях, то приняв участие в тех, кто находились в таком же состоянии. Ибо вы и узникам сострадали, и расхищение имущества вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее (Евр 10:326-34).
Пройдя через такие испытания в прошлом, читатели и ныне должны сохранять упование и верность. Расхищение имущества должно приниматься «с радостью» (meta charas), и ему не надо сопротивляться силою. Здесь, без всякой дословной аллюзии, есть прямая параллель с Мф 5:40.
Тема ответа общины на испытания и страдания проходит красной линией и через 1 Петр (1:6-7; 3:13-18; 4:12-19; 5:8-10). Такие горести описываются в манере, напоминающей Павла, как «участие в страданиях Христовых» (4:13). И даже в более выраженной, чем у Павла, форме автор говорит о страданиях Христа как образце для верности христиан:
Ибо вы к тому призваны; потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его... Когда Его злословили, Он не злословил взаимно; когда Он страдал, Он не угрожал; но предавал себя Судье Праведному[40] (1 Петр 2:21, 23; ср. 3:17-18).
Отсылка здесь идет не к какому-либо конкретному учению Иисуса, но к его поведению в страданиях. В результате образуется знакомая картина, полностью созвучная Нагорной проповеди.
И наконец, Иак 4:1-3. Автор послания приписывает «войны и распри»[41] «вожделениям», воюющим в человеке: «Вы желаете – и не имеете; поэтому вы совершаете убийство». Нигде у Иакова не видно, чтобы сражения и ссоры могли вести к чему-то хорошему.
Основания для христианской агрессии часто выводили из Апокалипсиса. Однако, как мы уже показали в части I, это совершенно неверно. Апокалипсис стремится привить читателям те же качества, что и остальные новозаветные авторы: верность и стойкость в страданиях, упование на эсхатологическое оправдание Богом своего народа, в ответ на враждебность - подражание Агнцу закланному». Святые побеждают силу зла «кровью Агнца и словом свидетельства своего» (Откр 12:11), а не через насилие.
Таким образом, весь Новый Завет, от Матфея до Апокалипсиса, свидетельствует против насилия и зовет общину подражать Иисусу, который принимал страдание, а не причинял его. Есть, однако, несколько текстов, иногда цитируемых в обоснование христианского участия в войне или, по крайней мере, как оговорка к радикальному ненасилию Нагорной проповеди. Необходимо рассмотреть, действительно ли они противоречат основному свидетельству Нового Завета о насилии.
Мф 10:34: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч». Если вырывать этот стих из контекста, то он противоречит всему, что мы только что сказали о новозаветном свидетельстве. Однако в контексте трудность исчезает. Ведь эти слова - часть наставления, которое дает Иисус ученикам, посылая их проповедовать и исцелять (10:5-42). Он предупреждает учеников, что они столкнутся с сопротивлением, их будут арестовывать и бить, на них будут клеветать. Их ждет вражда даже со стороны членов их семей. В этом контексте «меч» из Мф 10:34 - образ разделения, которое произойдет между благовестниками Царства и теми, кто откажется принять Весть. Смысл речения раскрывается далее в 10:35-36: «Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его». Параллельное место у Луки, во избежание недоразумений, перефразирует образ «меча»: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение.» (Лк 12:51; курсив мой -Р.Х.) Если при чтении Мф 10:34 нам придет на ум меч в буквальном смысле слова, то мы сразу увидим, что Иисусовым ученикам предстоит стать его жертвами (10:18, 21, 28), а не носителями. Ученики не должны «бояться убивающих тело». Когда они отправляются на проповедь, им нельзя брать с собой даже посох (10:10), - что уж там говорить о мече! Этим они последуют примеру Иисуса, возьмут крест и отдадут жизнь за Него (10:38-39). Вычитывать из Мф 10:34 обоснование насилия - чудовищное герменевтическое насилие над текстом.
Лк 22:36б: «У кого нет меча, продай одежду свою и купи меч». Опять-таки это образное выражение. В ночь ареста, сразу после Тайной вечери с учениками, Иисус напоминает им, как ранее они могли полагаться на доброжелательность и гостеприимство тех, кому они проповедовали. Отныне настала пора отвержения и гонений. Им самим придется позаботиться о провизии; меч же - яркий символ того факта, что они столкнутся с враждой. Как отмечает И. Говард Маршалл: «В этом высказывании содержится мрачная ирония. Иисус говорит о смертельной силе вражды, которую предстоит испытать Ему и Его ученикам»[42]. Ученики же, по-прежнему не понимая призвания Иисуса, интерпретируют Его речение буквально: «Господи! Вот здесь два меча». Но Он прерывает их, показывая, что они не уловили смысла Его слов: «Довольно!»[43] Джозеф Фицмайер объясняет: «Ирония касается не числа мечей, а ментальности апостолов. Иисус отказывается использовать мечи даже для самозащиты»[44]. Правильность такого толкования подтверждается последующей сценой при аресте. Ученики спрашивают: «Господи! Не ударить ли нам мечом?» И один из них, не дожидаясь ответа, отсекает ухо рабу первосвященника. Но Иисус упрекает его («Оставьте, довольно!») и исцеляет раба (Лк 22:49-51). Здесь снова буквальное вооруженное сопротивление разоблачается как глупое непонимание Иисусовой вести.
Такое непонимание особенно иронично в свете Лк 22:37: ведь образный совет купить меч - это предсказание о скором исполнении Писания. Иисус цитирует Ис 53:12: «И к злодеям причтен»[45]. От читателя Луки не должно ускользнуть, что Ис 53:12 - завершающая часть пророческого описания страдающего раба[46], чья жизнь была «предана на смерть» за грехи многих. Это излюбленная Лукой драматическая ирония[47]: в тот момент, когда Иисус поставляет учеников о своей участи как праведного страдальца, они размахивают мечами, словно столь жалкое оружие способно принести Царство Божье. Не удивительно, что Иисус обрывает разговор.
Мк 11:15-19пар.: случай в Храме. Третий отрывок, который иногда цитируют в противовес пацифистским интерпретациям Нового Завета, - рассказ о протесте Иисуса против торговли в Храме[48]. Иисус изгоняет продающих и покупающих и опрокидывает «столы менял и скамьи продавцов голубей» (Мк 11:156). В Иоанновой версии рассказа Он даже делает «из веревок бич», чтобы выгнать овец и скот (Ин 2:15а). Как понять это повествование? Показывает ли оно, что иногда Иисус все же допускал насилие? Ведь в некотором смысле перед нами именно насилие (особенно - опрокидывание столов): Он невежливо просит продавцов и менял покинуть помещение. Однако здесь надо прежде всего точно понять, что именно делает Иисус.
Иисус совершает пророческие символические действия. Он входит в Храм, совершает бросающуюся в глаза акцию, а в конце дня уходит из города (Мк 11:19). Он не пытается захватить постоянный контроль над операциями в Храме. Свои действия Он интерпретирует ссылкой на два пророческих текста.
• Ис 56:7: «Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов». Здесь - аллюзия на эсхатологическое видение Ис 56-66, в котором Бог восстановит и искупит Иерусалим, и все народы будут истинно чтить Бога в Иерусалиме[49]. Неотъемлемая часть этого видения - отмена насилия, символизируемая мирным сосуществованием волка и ягненка, а также обетование «Не будут причинять зла и вреда на всей священной горе Моей» (Ис 65:25).
• Иер 7:11: «Вы сделали его вертепом разбойников». Здесь аллюзия на проповедь Иеремии о Храме (Иер 7:1-15), страстный призыв к покаянию, обличающий Израиль за кражи, убийства, прелюбодеяния, лжесвидетельства и идолопоклонство. Продолжать фарс храмового богослужения, совершая все эти преступления, значит, «надеяться на обманчивые слова, которые не принесут пользы» (Иер 7:8).
В свете этих пророческих отрывков Иисусову акцию в Храме следует понимать как призыв к покаянию и знак близости обетованного эсхатологического восстановления. У Марка эпизод обрамляет проклятье смоковницы: по-видимому, евангелист интерпретировал действие Иисуса как пророчество о разрушении Храма[50]. Иоанн, цитируя Пс 68:9 («ревность по дому Твоему съедает Меня»; Ин 2:17), прочитывает этот рассказ как предзнаменование смерти Иисуса. Кроме того, в уста Иисуса Иоанн вкладывает слова: «Не превращайте дом Отца Моего в рынок» (Ин 2:16); они могут быть аллюзией на апокалиптические представления Захарии о дне Господне, когда «не будет более ни одного торговца в доме Господа Саваофа» (Зах 14:21). В любом случае никто из евангелистов не истолковывает эпизод как попытку религиозного или политического переворота в Иерусалиме. Скорее, перед нами акт символического «уличного театра»[51], имеющий много аналогов в израильской пророческой традиции (напр., Иер 27:1-22). Насилия здесь не больше, чем в действиях участников антивоенных маршей, когда они врываются на военные базы и кропят свою кровь на атомные подводные лодки. Иисус никого не убил и не поранил. Он всего лишь совершил акцию протеста против господствующей системы, в которой торжествуют насилие и несправедливость. Эта акция - знак того, что Иисус собирается принести новый порядок в соответствии с пророчествами Исайи об эсхатологическом мире. Просто непонятно, как кто-то может отсюда выводить возможность христиан участвовать в войне и убивать.
Солдаты в Новом Завете. Некоторые из новозаветных персонажей - солдаты. В Евангелии от Луки группа солдат в ответ на проповедь Иоанна Крестителя приходит узнать, как им себя вести. Иоанн отвечает: «Не грабьте и не вымогайте, и довольствуйтесь своим жалованием» (Лк 3:14-15). Он не велит им отказаться от своей профессии, а просто заповедует быть в ней честными, не обижая гражданское население. Или вспомним рассказ Матфея и Луки об исцелении Иисусом слуги центуриона: Иисус порадовался вере центуриона и не задал тому никаких вопросов о его службе в армии (Мф 8:5-13; Лк 7:1-10). Еще одного центуриона мы видим у подножья креста. Именно он первым в Евангелии от Марка исповедует Иисуса Сыном Божьим (Мк 15:39)[52]. И наконец, в Деяниях Апостолов центурион Корнилий со своими домашними - первые обращенные из язычников (10:1-11:18). Корнилий описывается как «муж добродетельный и богобоязненный» (10:22; ср. 10:34-35). Сошествие Духа Святого на его дом Лука характеризует как решающий знак принятия Богом язычников. И если впоследствии эфесские обращенные публично сожгут книги по колдовству в знак отказа от своих бывших занятий (Деян 19:18-20), ничего не сказано о том, что Корнилий оставил службу в римской армии.
О чем все это говорит? Судя по всему, новозаветные авторы не считали, что служить в армии греховно само по себе. Видимо, вопрос о военной службе также не обсуждался в их общинах. Однако упомянутые отрывки нужно читать в контексте: евангелисты подчеркивают, что сила Слова Божьего достигает даже римских солдат. Римские солдаты упоминаются наряду со сборщиками налогов (Лк 3:12-13) как пример того, что на Иоаннову проповедь откликались даже крайне малосимпатичные фигуры.
Аналогично Марк достигает своих богословских целей через шок, который испытывает читатель, когда видит правильное исповедание со стороны явного аутсайдера в момент смерти Иисуса. Похожим образом обстоит дело и с праведным центурионом, чьего слугу исцелил Иисус: его вера противопоставляется маловерию израильтян (Мф 8:10-13). Повествовательный и богословский смысл рассказа аналогичен тому, что мы видим в высказывании: «Истинно говорю вам: сборщики податей и проститутки впереди вас идут в Царство Божие» (Мф 21:31). Точно так же, как в Мф 21:31, Иисус не рекомендует мошенничество и проституцию, так и в рассказах о центурионах нельзя видеть легитимацию военной карьеры для христиан. Правда, в Новом Завете ничто прямо не исключает и не запрещает такую карьеру[53]. Но только эти упоминания о солдатах могут использоваться в обоснование того, что для христиан допустимо применять насилие в защиту социального порядка и справедливости.
Ветхозаветные повествования о священной войне. Основной внутриканонический вызов свидетельству Нагорной проповеди о ненасилии и любви к врагам содержится не в Новом Завете, а в Ветхом Завете, особенно в повествованиях о священной войне. Эти тексты прямо заповедуют израильтянам убивать своих врагов. Согласно Второзаконию, при захвате города израильской армией необходимо «предать мечу всех мужчин», а женщин, детей и скот захватить как добычу (Втор 20:10-15). Этот закон применяется к городам, расположенным вне непосредственной территории Израиля. Иное дело - земля, которую Израиль считает своей. На ней захваченные города должны быть уничтожены: «Не оставляй в живых ни одной души» (Втор 20:16-18). Яркую иллюстрацию этой заповеди мы находим в 1 Цар 15, где Господь через пророка Самуила велит убить амаликитян: «Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но убей и мужчину и женщину, и отрока и грудного младенца, и вола и овцу, и верблюда и осла» (1 Цар 15:3). Саул выполняет это повеление не полностью, оставляя в живых амаликитянского царя Агага. Повествование описывает это как страшный поступок Саула, повлекший за собой отвержение его Богом как царя Израилева. (Затем Самуил исполнил-таки волю Господа, «зрубив Агага в куски перед жертвенником (1 Цар 15:7-35))
Христиане поступали с такими текстами по-разному. Иногда ими обосновывали жестокие крестовые походы. Барт усматривал в них указание на то, что мы не вправе ограничивать свободу Бога, даже свободу заповедовать насилие. (Рассуждая в аналогичном ключе в период вьетнамской войны, я понял, что не могу быть отказником: я не смогу поручиться, что никогда не буду сражаться. Ведь Бог может повелеть мне, как некогда повелел Саулу, убить врага!) Другие христиане прибегали к аллегорическому толкованию: речь якобы лишь о том, что мы должны истребить грех из нашей жизни. Однако, даже если аллегорическое толкование полезно для назидания, оно никуда не годится как экзегеза. Совершенно очевидно, что Ветхий Завет легитимирует использование вооруженного насилия народом Божьим при определенных обстоятельствах.
Здесь, однако, мы прибегаем к методологическим принципам, изложенным в части III: в конечном счете, норму определяет Новый Завет. Если в каком-то нравственном вопросе свидетельство Нового Завета противоречит свидетельству Ветхого Завета, то мы опираемся на Новый Завет. Точно так же, как мы легитимируем с помощью Нового Завета отсутствие обрезания, несоблюдение пищевых запретов или запрещение развода, так прямое учение Иисуса и поданный Им пример ненасилия меняют наше представление о Боге и общине Завета: оказывается, убивать врагов больше нельзя. Герменевтическим водоразделом оказываются шесть антитез Нагорной проповеди. Как мы уже говорили, Ветхий Завет проводит грань между любовью к ближнему (т.е. ближнему - израильтянину!) и поведением с врагами. Однако:
А я говорю вам: любите врагов ваших, молитесь за гонящих вас. Да будете детьми Отца вашего Небесного.
После того как Иисус сказал эти слова и воплотил их в своей жизни и смерти, мы не можем апеллировать к примеру Самуила. Крест и воскресение изменили все. Мы живем в ситуации, в которой можем исповедовать:
Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения (2 Кор 5:19).
Те, кому доверена такая Весть, будут читать Ветхий Завет так, что его образ милости Божьей и эсхатологического восстановления мира будет иметь приоритет над ветхозаветными рассказами о заповеданном насилии.
Теперь мы должны рассмотреть, как на наше понимание вопроса влияет его прочтение в свете ключевых образов - общины, креста и нового творения.
Община. Если посмотреть на новозаветные тексты о насилии в свете общины, сразу станет ясно: Церковь должна идти по пути ученичества и любить врагов[54]. Призыв Матфея быть светом миру, призыв Павла воплощать служение примирения, призыв Апокалипсиса святым побеждать дракона через слово свидетельства своего - все они обращены к Церкви в целом, и ответить на них может лишь Церковь в целом. Ненасилие - не частный выбор наиболее святых христиан и вообще не вопрос индивидуальной совести. Оно лежит в основе идентичности Церкви и самого смысла ее существования. Основные протестантские церкви обычно рассматривали эту проблему как частное дело, одобряя «право» отдельных христиан отказываться от службы в армии, но в целом санкционируя христианское участие в войне. Однако в свете новозаветного призыва к общине воплощать учение Иисуса эта позиция несостоятельна и богословски некогерентна. Церковь призвана быть знаком грядущего Царства Божьего, быть городом на холме - городом, живущим иной мудростью. Вот почему примеры отдельных «добрых воинов» в Новом Завете имеют малый вес в синтезе новозаветного свидетельства. Да, христианин может быть военным, он может сражаться. Но если спросить о призвании общины, то становится ясно: община призвана к делу примирения и, как часть этого призвания, к страданию даже перед лицом великой несправедливости. Когда мы осмысливаем роль общины в таких категориях, место военного в церкви не может не выглядеть аномальным.
Крест. Община живет мудростью Креста (см. 1 Кор 1:18-2:5). Определяющую роль для нее играет не только (и даже не столько) учение Иисуса, сколько Его личный пример. Рассказ о Страстях становится фундаментальным образцом христианской жизни.
Это означает, что общине придется заплатить суровую цену за свое свидетельство: гонения, насмешки, обвинения в бесполезности и устранении от дел. Когда мы смотрим на новозаветный канон в свете Креста, в центре этического размышления сразу оказывается смерть Иисуса. Мы не должны просто выискивать в Новом Завете принципы (императив справедливости) или доказательства («не мир пришел Я принести, но меч»). Все принципы и тексты должны интерпретироваться через Крест. Смысл dikaiosyne («справедливости») меняется в свете Праведника, который ее являет: Христос стал нашей dikaiosyne (1 Кор 1:30). Когда мы слышим слова о том, что Иисус пришел принести не мир, но меч, мы должны понимать: они сказаны Мессией, который отказался защищать себя мечом и умер от рук языческого государства, имеющего власть меча. И Новый Завет можно понять, только если читать его под этим углом. Когда мы в нашей интерпретации отрицаем нормативность Креста для христианской общины, мы можем быть уверены: наше толкование - искаженное.
Новое творение. Новозаветное свидетельство было бы лишено смысла, если бы общину, любящую врагов и отказывающуюся от насилия, не ждало оправдание через воскресение из мертвых. Смерть не имеет последнего слова: в воскресении Иисуса сила Божья уже восторжествовала над насилием и предзнаменовала искупление всего творения. Церковь живет в настоящем как знак нового порядка, обещанного Богом. Все новозаветные тексты о насилии следует рассматривать в этом эсхатологическом ракурсе. Например, хотя Мф 5:3848 не содержит прямого упоминания об эсхатологии, его указания должны интерпретироваться именно через образ нового творения. Иначе «подставь другую щеку» будет просто мирской поговоркой о том, как вести себя в конфликте. Однако это смешно: если мир всегда будет таким, как сейчас, и если логика, правящая миром, есть имманентная логика правителей века сего, то кроткие потерпят поражение и подставление ими другой щеки обернется все новым и новым бессмысленным надругательством. Как мирская поговорка, «подставь другую щеку» - просто плохой совет. Такое действие имеет смысл только в том случае, если Бог и Отец Иисуса Христа действительно есть высший Судья и Его воля окончательно явлена в Иисусе. Используя язык Матфея, можно сказать: подставлять другую щеку имеет смысл, только если кроткие и вправду наследуют землю, а исполняющие слова Иисуса построили свой дом на камне, который выстоит в день Суда. Подставлять другую щеку имеет смысл, только если Иисусу и вправду дана всякая власть на небе и на земле.
Другой пример. Павел заповедует благословлять гонителей, не мстить и давать еду и питье врагам. Это имеет смысл только в том случае, если действительно «ночь прошла, а день приблизился» (Рим 13:12), - день, когда все творение будет освобождено из рабства (Рим 8:18-25). Переводя на богословский язык: новозаветное этическое учение всегда необходимо рассматривать в контексте эсхатологической надежды. Если мы не будем читать новозаветные тексты о насилии в свете нового творения, мы совершим одну из двух противоположных ошибок. Либо мы впадем в глупый утопизм, ожидая, что злой мир встретит наши милые жесты дружелюбной улыбкой. Либо мы разочаруемся в «нереалистических» стандартах, заповеданных Иисусом. Однако образ нового творения, позволяет понять: Церковь призвана стать знаком божественного обетования в темном мире. Если мы это поймем, наш путь будет труден, но ясен.
3. ГЕРМЕНЕВТИКА: Ответ на новозаветный запрет на насилие
Рассмотрев новозаветный запрет на насилие в свете общины, креста и нового творения, зададимся теперь вопросом: как нам быть с этим свидетельством? Можем ли мы исполнять новозаветное учение? Если да, то как его исполнять? Что говорят эти тексты Церкви по прошествии столь долгого времени?
В части III мы уже подробно рассмотрели различные герменевтические ответы на проблему насилия. Представим теперь несколько нормативных суждений, используя также то, что мы говорили в дискуссии о пяти богословах.
(А)Способ нормативного усвоения. В части III я выдвинул следующий принцип: новозаветные тексты обладают авторитетом именно в том способе благовествования, который им присущ. Поразительно, что Новый Завет свидетельствует против насилия во всех четырех способах благовествования.
Правила. У нас есть целый ряд четких указаний: если кто-то ударит вас, подставьте другую щеку; благословляйте ваших гонителей; никогда не мстите за себя; если ваш враг голоден, накормите его. Как мы уже говорили, это не просто правила: через метонимию они намекают на миротворческий характер народа Божьего. И все же христианин должен им следовать, став членом общины верных.
Принципы. Мы находим несколько общих этических норм: возлюбите врагов, возьмите крест, живите в согласии друг с другом; «обуйте ноги в готовность благовествовать мир» (Еф 6:15). Сюда же можно отнести Блаженства: «Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся детьми Божьими» и т.д.[55] Ни один из новозаветных авторов нигде не апеллирует к таким принципам, как любовь или справедливость, для оправдания актов насилия.
Образцы. Это основной способ новозаветного свидетельства об отношении к насилию. Средоточие его - евангельские рассказы о Страстях, а также Павлова керигма о примирении, достигнутом Богом через смерть Его Сына. Рассказ об отвержении Иисусом насилия в свою очередь отражен, например, в рассказе о мученичестве Стефана и в призыве 1 Петр идти «по Его следам». Нигде в Новом Завете ни Иисус, ни Его ученики не используют насилие в защиту справедливости. (В данном отношении Новый Завет стоит особняком в мировой литературе!) Иисусова акция протеста в Храме, которую часто используют для легитимации насилия, плохо подходит под это описание[56]. Как еще можно обосновать участие христиан в занятиях, требующих использования силы? Разве что ссылкой на позитивные новозаветные упоминания о солдатах, обратившихся к вере... Но ни в одном из этих упоминаний не говорится, что эти солдаты сражались или использовали насилие во имя Бога. Да, они были военными. Но это само по себе не больше легитимирует военное дело, чем обращение мытарей и блудниц легитимирует мошенничество и проституцию.
Мир новозаветных символов. Новозаветные тексты изображают мир, где настоящая борьба ведется не против плоти и крови и в которой единственное оружие церкви - вера и Слово Божье Истину о реальности открывает Крест: сила Божья обнаруживается в слабости. Все, кому дано видеть истину через Иисуса Христа, будут воспринимать мир через Блаженства и странное повествование Апокалипсиса, в котором Царь царей и Господь господствующих - закланный Агнец. Насилие - это кажущаяся сила зверя, иллюзорность которой разоблачает верное свидетельство святых. В мире новозаветных символов причиной войн и раздоров видятся нечистые вожделения в людях (Иак), однако те, кто обрел целостность во Христе, становятся посланниками примирения и членами тела Христова, общины, чье единство знаменует окончательное примирение мира с Богом. И глубинная истина о реальности коренится в характере Бога, который любит врагов и пытается примирить их с собой через смерть Христову.
Итог: новозаветное свидетельство не дает никаких оправданий насилию. Попытка Нибура легитимировать его как приближение к идеалу любви с герменевтической точки зрения ошибочна, ибо не отдает должное тому, что Новый Завет говорит об использовании принципов любви и справедливости. Нибур также пренебрегает тем фактом, что насилие запрещают ряд новозаветных правил. Йодер и Хауэрвас гораздо более правы в своих нормативных высказываниях против насилия, особенно в своем акценте на смерть Иисуса как образец для христиан. Шюсслер Фьоренца полностью находится в мире новозаветных символов, когда рассматривает насилие не с точки зрения его носителей, а с точки зрения жертв. Однако она отступает от этого мира, когда теряет из виду значение Креста как образца для новозаветной этики.
(Б) Другие авторитеты. Здесь мы сталкиваемся с колоссальной методологической проблемой: высказывания Нового Завета о насилии противоречат тому, что говорят традиция (предание), разум и опыт. Поэтому наше конечное суждение о насилии во многом будет определяться тем, как мы соотносим авторитеты небиблейские и авторитет библейский. Скажем, Нибур оправдывает насилие, ибо сознательно отводит разуму и опыту решающую роль в христианской этике. Однако в части III я выдвинул принцип: не следует рассматривать предание, разум и опыт как самостоятельные и независимые источники авторитета: необходимо соотносить их с Новым Заветом. Это означает: предание, разум и опыт помогут нам понять Писание, но не отменят его свидетельтво. Попробуем применить этот принцип.
Традиция (предание). Хотя христианская традиция I-III веков имела решительно пацифистскую ориентацию, со времен Константина христиане обычно легитимировали войну (по крайней мере, допускали ее при определенных обстоятельствах). Легко южно видеть, что, как отмечал еще Барт, классические критерии справедливой войны (правое дело, легитимный правитель, разумные шансы на успех, справедливое ведение военных действий и т.д.) взяты не из Нового Завета, а получены путем рассуждений, опирающихся не на Библию, а на представления о естественном законе. Поэтому мы не вправе использовать учение о традиционной войне как герменевтическое средство при истолковании Нового Завета. Более того, создатели этого учения и сами первоначально не пытались этого делать[57]. Соответственно, несмотря на древность данного предания и тот факт, что оно отражало мнение большинства христианских богословов, оно не может быть принято, доколе не будет доказано, что оно не противоречит свидетельству Нового Завета. Для подробного анализа здесь нет места, и я обрисую свою позицию лишь в общих чертах. Новый Завет не дает никаких оснований считать, что христианское участие в войне может быть «справедливым». Поэтому учение о справедливой войне, хотя и представляет мнение большинства, должно быть отвергнуто или скорректировано в свете новозаветного учения. И здесь следует вспомнить о малом, но значительном облаке свидетелей против насилия: сами новозаветные авторы, Послание к Диогнету, Тертуллиан, св. Франциск Ассизский, анабаптисты, квакеры, Дороти Дей, Мартин Лютер Кинг... Апеллируя преимущественно к Новому Завету и примеру, поданному Иисусом, они обличали всякую войну и насилие, называли подобное поведение несовместимым с ученичеством у Иисуса. И огромное историческое значение этих свидетелей совершенно непропорционально их малому количеству, - ибо их взгляды были глубоко созвучны Новому Завету, а сами они выделялись своей принципиальностью. Наша задача состоит в том, чтобы более полно востребовать и использовать это христианское наследие, ибо оно помогает нам лучше понять, каким должен быть наш собственный отклик на новозаветное свидетельство.
Разум и опыт. Здесь дело обстоит сложнее. С одной стороны, некоторые толкователи (например, Августин и Нибур) убеждены: превратности человеческого исторического опыта иногда вынуждают христиан прибегать к насилию для обеспечения мира. Ведь христиане должны ясно осознать последствия своего действия или бездействия и принять нравственную ответственность за общество, в котором они живут. (Подробнее об этой позиции см. в дискуссии о Нибуре в разделе 12.1) Такой подход очень серьезно учитывает тот факт, что социальный и политический контекст христианского нравственного выбора с I века кардинально изменился. Если Нагорная проповедь была обращена к маргинальной общине вне круга власти, ее поучения невозможно прямо применить к ситуации, когда христиане обладают властью и влиянием или составляют большинство жителей в демократическом государстве.
С другой стороны, с не меньшей уверенностью можно утверждать: история учит, что насилие порождает насилие. (Кто-то может спросить о Второй мировой войне: что было бы, если бы христиане отказались сражаться против Гитлера? Я задам встречный вопрос: что было бы, если бы немецкие христиане отказались сражаться за Гитлера и убивать людей в концлагерях?) Долгая история христианских «справедливых войн» принесла массу невыразимых страданий, и страданиям этим не видно конца. Как отмечал Йодер, представления того же Нибура об «историческом парадоксе» должны открыть нам глаза на неспособность нашего разума создать мир, который идет к справедливости через насилие. Может быть, разум и горький опыт, наконец, избавят нас от той иллюзии, что к божественной справедливости можно приблизиться через убийство? В соответствии с моими методологическими принципами разум должен быть исцелен и научен Писанием; наш опыт должен быть преображен обновлением ума в согласие с умом Христовым. Иначе от безумства войны не избавиться.
На практике это означает: христиане должны отказаться от власти и влияния, если их положение во власти несовместимо с учением и примером Иисуса. Как отмечает Хауэрвас, такой отказ вполне может привести к вытеснению Церкви на периферию нашей культуры, - культуры, во многом построенной на необходимости и даже величии насилия. Задача Церкви - рассказать альтернативный рассказ, научить людей сопротивляться соблазну насилия и предложить иной дом для тех, кто не поклонился зверю. Если Церковь будет жить по Писанию, она будет все более приобретать социально маргинальный статус, которым облагала контркультурная община Матфея. Сейчас, в конце XX века, необходимо серьезно отнестись к тому, что подсказывает опыт: секулярный град не потерпит подлинно христианского служения и подлинно христианских норм. Не случайно в западной культуре христиане, если хотят оказаться во власти, должны подавлять свои христианские мотивации. Парадоксальным образом христианская община может оказать большее влияние на мир, если она будет казаться менее разумной в глазах мира сего и более преданной воплощению новозаветного учения против насилия.
Скажем ясно: такое поведение по обычным меркам неблагоразумно; оно - чистой воды безумие. Тогда почему же мы должны отказываться от насилия и любить врагов? Если наши основания в пользу такого выбора обусловлены Новым Заветом, то причина не в страхе перед войной, не в желании спасти собственну ю шкуру (если мы хотим ее спасти, пацифизм - крайне неподходящая стратегия), не в желании спасти наших детей, не в общем уважении к человеческой жизни и не в наивной вере в то, что все люди по природе своей добры и на нашу доброту ответят добром. Если наши мотивы обусловлены Новым Заветом, то мы просто слушаемся Бога, который пожелал, чтобы Его собственный Сын умер на кресте. Мы делаем этот выбор в уповании: хотя мы идем крестным путем, Божья любовь победит, - победит, хотя мы пока не видим, как это может произойти. К такому ученичеству постоянно призывает нас Новый Завет. И когда община верна своему призванию, она предзнаменует мирное Царство Божье в мире, разрушаемом насилием.
4. Церковь как община мира
Мир не верит новозаветной вести о любви к врагам потому, что сама церковь в массе своей неверна ей. В данном вопросе она постоянно идет на компромиссы и скатывается в национализм, насилие и идолопоклонство. (В сравнении с этим наши проблемы с сексуальным грехом - пустяки.) Богословы освобождения оправдывают насилие против угнетателей. Представители христианского истеблишмента служат капелланами в военно-промышленном комплексе, ссылаются на учение о справедливой войне и отстаивают защиту того или иного конкретного народа словно христианскую ценность.
Люди увидят смысл Евангелия только тогда, когда Церковь отвергнет путь насилия и пойдет путем Иисуса. Когда христиане откажутся от насилия и самозащиты, им придется формировать новые творческие подходы в конкретной исторической обстановке. Эти отклики могут быть не менее неожиданными, чем решение пройти с солдатом лишнее поприще после того, как тот заставил беззащитного ученика Иисуса пройти с ним первую часть пути. Конкретный характер христианского ответа может быть выработан лишь в жизни конкретных христианских общин[58]. Однако в любом случае речь идет о подражании Иисусу, которого путь любви к врагам привел на крест. Если мы послушаемся Иисуса и отвергнем насилие, то Церковь станет местом, где будущее божественной праведности уже входит в наше настоящее и бросает ему вызов. Смысл новозаветного учения о насилии станет ясен только в общинах Иисусовых учеников, которые пойдут трудным путем мира.
Глава 15. Развод и повторный брак
Брак труден. Строить совместную жизнь, приводить в гармонию свои потребности и желания - нелегкая задача, осуществимая лишь через благодать. Когда, по прошествии долгого времени, паре удается создать благополучный брак, она обретает глубокую радость и утешение. Однако дорога к радости и утешению лежит через терпение, взаимное самопожертвование и верность. Поэтому столь хрупки браки, поэтому столь актуально стоит в церкви проблема развода.
В западных странах долгое время, до середины XX века, церковный запрет на развод поддерживался мощными социальными условностями, которые делали его делом почти немыслимым, крайней мерой в отчаянных обстоятельствах. Однако в современной американской культуре развод столь распространен, что кое-где он стал чуть ли не нормой. Согласно известной статистике[1], в США распадается половина браков. У каждого человека развод коснулся либо его собственной жизни, либо жизни семьи, либо жизни друзей. Мои дети ходили в школу, где в некоторых классах более половины учеников не жили с обоими родителями.
Исчезновение культурных запретов на развод поставило церковь перед необходимостью по-новому осмыслить данную проблему с богословской и пастырской точки зрения. Однако, хотя в каждом приходе есть люди, у которых рухнул брак, церковь порой словно не замечает этой темы. В некоторых церквах она вообще табуирована, а разведенные подвергаются остракизму[2].
В других церквах же к разводу относятся настолько легко, что вообще не принимают всерьез брачные обеты.
Например, моя собственная деноминация, Объединенная методистская церковь, дрейфовала с основными тенденциями американского общества и де-факто признала развод. В той мере, в какой за этой переменой вообще стояли богословские мотивы, главным было нежелание судить ближнего. Ведь для методизма, как и для многих протестантских церквей, рабочим каноном внутри канона является фраза: «Не судите, и не судимы будете» (Мф 7:1). (В изначальном евангельском контексте речь о том, что судящих будет судить Бог. В популярном же понимании высказывание превратилось в молчаливое социальное согласие: «Не суди меня, и я не буду судить тебя».) Если кто-то решает развестись, это его или ее личное дело, и, как предполагается, критиковать человека ни в коем случае нельзя. Более того, раз Евангелие - слово благодати, надо любой ценой избегать законничества. Требовать от людей оставаться в трудном браке вопреки их желанию, значит, навязывать им суровый закон, противоречащий духу любви... На мой взгляд, такие рассуждения привели к катастрофическим последствиям для церкви.
Церковь стала попустительствовать разводу в более широком культурном контексте, в котором брак считается сугубо частным делом, основанным на романтической любви. Когда человек «влюбляется», он вступает в брак; когда «влюбленность» заканчивается, заканчивается и основа для брака. Хуже того, в господствующем терапевтическом мировоззрении брак рассматривается как средство к самореализации и обретению полноты жизни. Если партнер начинает мешать достижению этой цели, развестись не только можно, но и нужно... И ведь об этом говорят не только в телевизионных ток-шоу и в дешевых книжках из серии «Помоги себе сам». Так думают многие протестантские клирики, об этом постоянно пишут христианские журналы. Например, по мнению Джона Шелби Спонга, епископа Епископальной церкви, церковь должна ввести специальные литургические церемонии, чтобы благословлять конец браков:
Не отказываясь от своей основной ориентации на идеал прочного и моногамного брака, церковь должна возвестить: иногда именно развод дает надежду для жизни, и иногда именно сохранение бракa приносит смерть. Христианская церковь считает, что каждая Божья тварь должна обрести полноту жизни. Когда брак служит этой цели, он - самый дивный и глубокий вид человеческих отношений. Когда брак не служит или не в силах служить этой цели, он теряет свое высшее предназначение и может оказаться не таким уж вечным. В таких случаях церковь должна смириться с фактом, принять страдание, которое приносят народу Божьему разделение и развод, а также помочь искупить и преобразить эту реальность и боль[3].
Интересно, что прочный и моногамный брак Спонг называет идеалом». (Здесь явно есть перекличка с Нибуром.) Интересно также, что, по мнению епископа, брак, не выполняющий свое высшее предназначение» вести к «полноте жизни», должен быть расторгнут. В этой статье Спонг приводит пример: между мужем и женой «возрастало взаимное отчуждение», и «они все реже находили общий язык», ибо избрали «совершенно разные жизненные пути». В итоге они осознали, что «в их отношениях больше нет жизни и потенциала для жизни», и решили расстаться «друзьями, которые уважают друг друга и заботятся друг одруге»[4]. Тогда они отправились к епископу Ньюаркскому за благословением на развод.
Но может ли церковь благословить развод? И какое решение нам здесь может подсказать Новый Завет? Далее я рассмотрю соответствующие новозаветные тексты и изложу собственную позицию[5].
1. Читая тексты
О разводе прямо говорят пять важных новозаветных текстов: Мк 10:2-12; Мф 19:3-12; Мф 5:31-32; Лк 16:18; 1 Кор 7:10-16. Рассмотрим их поочередно.
(А) Мк 10:2-12:
Подошли фарисеи и спросили, испытывая Его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводног письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам эту заповедь. В начале же создания, «Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики Его опять спросили Его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».
В Евангелии от Марка это поучение о разводе расположено в центральной части поучений об ученичестве (8:31-10:45), между исповеданием Петра в Кесарии Филипповой и входом Иисуса в Иерусалим. Как мы уже видели при обсуждении Марка[6], этот раздел неоднократно подчеркивает цену ученичества, необходимость служения и страдания для всех учеников Иисусовых. Ученики призваны взять крест (8:34), быть «слугой всех» (9:35; 10:4245), жертвовать всем ради вхождения в жизнь (9:43-48), быть, как маленькие дети (10:15), отдавать семью и имущество ради Евангелия (10:29-30). На первый взгляд, перикопа о разводе (10:2-12) сюда плохо вписывается, и в плане формы, и в плане содержания. Почему Марк поместил ее именно в этот контекст, а не включил в одно из двух больших собраний, посвященных спорам (2:13:6; 11:27-12:37)? Если задуматься, ответ очевиден: с помощью такого композиционного решения евангелист рассматривает брак как один из аспектов ученичества. Если Моисей разрешал развод, то Иисус его запрещает, причем объявляет, что развод с целью брака с другим человеком - ловкая форма супружеской измены. Развод - знак жестокосердия; Иисусовы ученики же призваны к более высокому стандарту - вечной верности в браке. (Интересно, что мужья и жены не включены в список членов семьи, которых надлежит оставить ради Иисуса и Евангелия [10:29].) Судя по контексту, Марк, возможно, рассматривал брак и как одну из форм жертвенного служения (хотя прямо он об этом не говорит).
Согласно Марку, фарисеи задают Иисусу вопрос о разводе, желая Его «испытать» (10:2). При чем тут испытание? Практика развода была в иудаизме общепринятой; спорили лишь о законных основаниях для развода[7]. Видимо, Марк понимает ситуацию так[8]: фарисеи уже слышали, что Иисус выступает против развода, и увидели здесь возможность разоблачить Его противоречие Закону Моисееву[9]. Иисус искусно отвечает вопросом на вопрос: «Что заповедал [eneteilato] вам Моисей?» В своем ответе фарисеи подставляют другой глагол: «Моисей позволил [epetrepsen] писать разводное письмо и разводиться». Эта разница между разрешением и заповедью позволяет Иисусу уйти от обвинения в нарушении Закона: Тора, разумеется, не предписывает развод. Собственно говоря, Втор 24:1-4 (отрывок, который здесь имеется в виду) просто принимает существование развода как данность и всего лишь запрещает мужчине повторно жениться на своей бывшей жене, если после развода с ней у него был другой брак. Этот запрет - единственная заповедь, прямо оговоренная в данном тексте. Разводное письмо, без сомнений, было задумано как юридическая защита женщины: с ним она могла снова выйти замуж. Однако опять-таки Втор 24:1 это не заповедует, а предполагает.
Вынудив своих вопрошателей согласиться, что единственный подходящий текст Торы разрешает, а не заповедует развод, Иисус делает два смелых герменевтических хода.
1) Иисус объявляет: установление, запрещающее мужу предъявлять свои права на женщину, которой он ранее дал развод, - уступка «жестокосердию вашему»; для читателя же Марка «жестокосердие» ассоциируется с неверием в Иисуса и противлением силе Божьей (см. 3:5; 8:17). Тем, кто доверяет Богу, как Он открыл себя в Иисусе, не нужна «клаузула возможного отказа». Богу все возможно (см. 10:27), и жестокосердие верующих может быть преодолено. 2) Более важный момент: Иисус апеллирует не к Закону Моисееву, а к первоначальному намерению Бога, как оно описано в рассказе о сотворении мира. «В начале создания» Бог сотворил мужчину и женщину друг для друга (Быт 1:27) и объявил, что их союз сделал их «единой плотью» (Быт 2:24). Важность этого последнего момента подчеркивается в 10:86, экзегетическом комментарии Иисуса к Быт 2:24, где он снова говорит о «единой плоти». Сексуальная связь в браке не просто удовлетворение личного аппетита (как еда), но соединение двух людей, физическое и духовное. Она создает то, что символизирует, и символизирует то, что создает. Сексуальный союз мужчины и женщины рождает нерушимую связь.
Эти два герменевтических шага позволяют Иисусу сделать аподиктическое утверждение: «Итак, что Бог (theos) сочетал, того человек (anthropos) да не разлучает» (10:9). Бог соединяет, падший человек разъединяет. Характерным для него образом Иисус отказывается ответить на вопрос в тех категориях, в каких он поставлен. Он признает Закон Моисеев, хотя и определяет его как уступку человеческому греху. Однако вместе с тем Он намекает: те, кто входят в Царство Божье, будут жить иными представлениями; в частности, на брак они будут смотреть в свете изначального замысла Божьего о мире. Когда Иисус открывает этот новый ракурс на проблему, сразу обнаруживается, что вопрос фарисеев - не только лукавая ловушка, но и мелочная увертка, попытка уйти от исполнения воли Божьей[10]. Новое вино Евангелий прорывает старые мехи ограничений и разрешений Закона (ср. 2:21-22).
Эту ситуацию можно иначе описать так. Фарисеи спрашивают Иисуса по поводу правила относительно развода, однако Иисус переформулирует проблему, апеллируя к повествованию Бытия как миру символов, в свете которого следует судить о браке. Пусть даже в каком-то узком смысле развод разрешен, - все равно осмысление его в категориях, предложенных Иисусом, показывает: он противоречит замыслу Бога о людях.
Избежав ловушки фарисеев и показав, что Его учение против развода глубоко укоренено в Торе, Иисус дает частное наставление ученикам: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Есть два способа интерпретировать эти слова.
Согласно одному толкованию, Иисус соглашается, что бывают ситуации (из-за человеческого жестокосердия), когда развод допустим, но запрещает разведенным вступать в новый брак. В этом случае позиция Иисуса близка позиции кумранитов, как та артикулирована в «Дамасском документе». Резкая критика кумранитами иудейского истеблишмента включала обвинение в блуде:
«Берут вторую жену при жизни первой, тогда как основа творения - "мужчиною и женщиною сотворил их"»[11]. Большинство исследователей понимает CD 4:21 не как запрет на полигамию, а в смысле Мк 10:11, то есть как запрет вступать после развода в новый брак[12]. Особенно интересна цитата Быт 1:27 в качестве библейского обоснования (ср. Мк 10:6): она показывает, что позиция, приписываемая Иисусу Марком, имела ясные точки соприкосновения с одним из направлений строгого дохристианского иудаизма.
Согласно другому толкованию, Мк 10:11-12 - повторение сказанного в 10:9. Тот, кто разводится с целью вступить в новый брак (обычная процедура), прелюбодействует. Поэтому развод должен быть отвергнут изначально. У этой интерпретации тот плюс, что она обеспечивает более логический ход мысли в Мк 10. Возможно, Марк взял из традиции речение Иисуса (ср. Мф 5:31-32; Лк 16:18), запрещающее вступать после развода в новый брак, и сделал смысл радикальнее, соединив его с рассказом о споре в 10:2-9.
В любом случае Мк 10:11-12 содержит неожиданности. Особенно поразительно, что, кто разведется с женой и женится на другой, «тот прелюбодействует от нее». Перед нами принципиально новая концепция прелюбодеяния: ведь в еврейском Законе и традиции, прелюбодеяние - кража у мужчины его собственности, жены[13]. Соответственно, прелюбодеяние можно по определению совершить только против мужчины, ибо сам мужчина не бывает сексуальной собственностью жены. Иисус же меняет правила игры. Уильям Кантримен подчеркивает новизну Его учения:
Согласно Торе... мужчина не может совершить прелюбодеяние против своей супруги. Всего лишь одной фразой Иисус создал такую возможность и тем самым сделал жену в данном отношении равной мужу. Он не только запретил мужу разводиться с женой, но и предоставил ей постоянное и нерушимое право на мужа как на свое сексуальное имущество. Впредь сексуальная свобода мужчины не должна быть выше сексуальной свободы женщины[14].
Мк 10:11 не просто обычное галахическое установление, но революционное переосмысление брака и отношений между мужьями и женами. Есть и другая неожиданность: 10:12 рассматривает случай, когда жена хочет развестись с мужем. Поскольку еврейский Закон обычно не предоставлял женщинам такой возможности[15], большинство экзегетов видит здесь марковскую адаптацию предания к юридической ситуации в греко-римском мире, где жены имели право инициировать развод (см. также 1 Кор 7:10-16).
Подведем итоги. Мк 10:2-12 начинает с вопроса о юридической допустимости развода и переходит к символическому переосмыслению брака как одного из аспектов христианского ученичества и отражения изначального замысла Божьего о человеке. Если посмотреть на развод в этом ракурсе, становится очевидно, что он противоречит воле Божьей. Иисусовы ученики должны отвергнуть его, как они отвергают многие другие прерогативы ради следования крестным путем за Иисусом.
(Б) Мф 19:3-12. Матфей, который при изложении Иисусова учения находится в непрестанном диалоге с возникающим раввинистическим иудаизмом, переформулирует вопрос фарисеев.
Теперь он соотносится с проблемой, живо дискутировавшейся раввинами I века: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Это аллюзия на спор между различными раввинистическими школами, упоминающийся в Мишне:
Школа Шаммая говорит: Мужчина не имеет права разводиться со своей женой, если она не нарушит супружескую верность; ибо написано: «Потому что находит в ней что-нибудь противное». Школа Гиллеля говорит: [Он может развестись с ней], даже если она плохо приготовила еду; ибо написано: «Потому что находит в ней что-нибудъ противное». Р. Акива говорит: Даже если он нашел женщину красивее ее; ибо написано: «Если она не найдет благоволения в глазах его»[16].
С точки зрения Матфея, фарисеи хотят узнать мнение Иисуса по поводу известного спора. Имеет ли право муж развестись с женой, стоит ей в чем-то прийтись ему не по нраву, или только по причине супружеской неверности?
Матфей редактирует материал так, что Иисус не отвечает вопросом на вопрос (как у Марка), а дает четкий и прямой ответ, заканчивающийся утверждением: Бог сделал мужа и жену единой плотью, и людям нельзя этот союз разрывать (Мф 19:4-6). Здесь его позиция даже строже школы Шаммая. Далее фарисеи возражают, апеллируя к Втор 24:1, причем, в отличие от Марка, говорят: «Как же Моисей заповедал [eneteilato]...?» В ответ Иисус высказывает обвинение (Моисеево установление было уступкой их жестокосердию) и фактически соглашается со школой Шаммая: «Кто разведется с женою своею не за porneia и женится на другой, прелюбодействует» (19:9)[17].
Последняя формулировка имеет три отличия отМк 10:11-12.
1) Матфей пропускает поразительные марковские слова «от нее». (В результате учение Иисуса выглядит более патриархальным и более созвучным традиционным еврейским представлениям о разводе[18].)
2)Матфей пропускает упоминание об инициации развода женщиной (Мк 10:12). (Тот же эффект.)
3)Наиболее трудный момент: Матфей вводит оговорку - реальное основание, на котором муж может развестись с женой. Этой оговорки нет в марковской традиции, а также в традиции, переданной Лукой и Павлом. По всей видимости, она, как и ее аналог в Мф 5:32, представляет собой казуистическую адаптацию традиции Матфеем. (Другой вариант: Матфей ее не придумал, но взял из предания своей общины[19]. Для наших нынешних целей эта разница не принципиальна. Главное, что некоторые ранние христиане - Матфей или его предшественники - сочли нужным дополнить полученную традицию оговоркой. Ради простоты я буду называть эту оговорку матфеевской модификацией речения.)
Радикальность Иисусова учения здесь смягчена, чтобы его было легче исполнять в общинной жизни.
Однако что именно означает porneia? Какое именно исключение делает развод возможным? Для ответа на этот вопрос необходима переоценка раввинистического спора о смысле «чего-нибудь противного»[20]. Здесь есть три возможных линии объяснения.
Первая версия: porneia - это супружеская измена, незаконная сексуальная связь жены с другим мужчиной. Или, поскольку в эллинистическом греческом языке понятие porneia могло охватывать довольно разные формы нарушения сексуального приличия, речь может идти о некой сексуальной нескромности. В такой трактовке позиция Иисуса довольно близка школе Шаммая. Против первой версии высказывались следующие возражения. (1) Позиция Иисуса в ней слишком «неоригинальна», и концовка спора в 19:2-9 лишается напряженности. (2) Отсутствует слово «прелюбодеяние» (moicheia). (3) Закон наказывал супружескую измену не разводом, а смертью (Втор 22:22). Контрвозражения против (2) и (3): евангелист намеренно прибег к более широкому термину [porneia] с целью охватить больший спектр сексуальных прегрешений; по-видимому, на практике смертную казнь, предписанную Торой, заменяли принудительным разводом. Реймонд Коллинз отмечает: «Возможно, в Палестине римского периода супружеская измена не каралась смертью»[21].
Вторая версия: porneia - это не супружеская измена, а добрачная сексуальная связь. В данном случае оговорка относится к ситуации, описанной во Втор 22:13-21, где муж обнаруживает, что его невеста не девственна.[22] При таких обстоятельствах Второзаконие предписывает смертную казнь, но на практике мужчины могли просто отпускать женщину, как в Мф 1:19, где Иосиф решает по-тихому отпустить беременную Марию. Вторая версия способна объяснить, почему не использовано понятие moicheia. Однако, как мы уже говорили, выбор слова porneia легко может объясняться стремлением к широте формулировки. В любом случае непонятно, почему Матфей считает развод допустимым на основании добрачного блуда, но не на основании супружеской измены.
Третья версия: porneia - это брак внутри степеней родства, запрещенных еврейским Законом (Лев 18:6-18)[23]. (Эта версия получила особую популярность среди католических экзегетов.) В таком случае porneia - перевод еврейского понятия zenut, которым раввины обозначали подобные незаконные союзы. В эллинистическом мире их разрешали, но евреи видели тут инцест. Соответственно, могла возникнуть проблема в связи с прозелитами в иудаизм или язычниками, обращенными в христианство, которые уже находились в браке со слишком близким родственником. По мнению некоторых исследователей, апостольский указ в Деян 15:28-29 основан на законах Лев 1718, причем запрет на porneia относится к инцестным бракам, запрещенным в Лев 18. Тогда Матфей со своей оговоркой просто следует апостольскому указу, разрешая расторгать инцестные браки. Как пытаются доказать сторонники данной гипотезы, оговорка была особенно важна, поскольку община Матфея миссионерствовала язычникам: без соответствующих ограничений не могло быть братского общения между иудео-христианами и языкохристианами. Сила третьей версии, в частности, состоит в том, что она делает учение Иисуса строже школы Шаммая: брак нельзя расторгать даже из-за супружеской измены; аннулировать можно лишь браки, априорно запрещенные Законом. Третья версия хороша тем, что она утверждает (porneia действительно может относиться к инцестным бракам), но проблематична тем, что она отрицает (допустимость развода из-за прелюбодеяния). Против нее можно выдвинуть следующие возражения.
1) Лев 18 запрещает не только инцест (18:6-18), но и сексуальную связь во время менструации, супружескую измену, гомосексуализм и скотоложство (18:19-23). Поэтому, даже если porneia в апостольском указе содержит отсылку к Лев 18, нет оснований ограничивать значение данного термина инцестным браком; он представляет собой общее обозначение различных сексуальных грехов, описанных в Кодексе святости (Лев 18-20).
2) Согласно богословской программе Матфея, Иисус зовет учеников к более высокой праведности, чем та, которую предписывает Закон. Поэтому было бы странно, если бы евангелист терпимо относился к прелюбодеянию. Правильно говорит Роберт Гюлих: «Как могут община или евангелист, взыскующие более строгого, чем раввины, соблюдения Закона, требовать развода в случае запрещенных браков (Лев 18:6-18), но исключать прелюбодеяние, за которое в Ветхом Завете полагалась смертная казнь... и за которую раввины назначали развод?»[24]
3) Любая интерпретация оговорки должна отдавать должное самому общему смыслу слова porneia в греческом узусе I века. Так обозначалось всякое неправильное сексуальное поведение. И если непосредственный контекст не дает веских оснований для сужения смысла, в понятии porneia следует видеть всеобъемлющую формулировку, а не terminus technicus для какого-то отдельного греха.
Поэтому, скорее всего, Матфей оставляет дверь открытой для развода на основании самых разных видов сексуальной безнравственности. В любом случае перед нами процесс адаптации, обусловленной практическими соображениями. Матфей опять предстает перед нами как церковный политик, стремящийся примирить различия, найти равновесие между строгостью и милостью, требованиями ученичества и повседневными реалиями.
В соответствии с традицией своей общины Матфей дает практическое наставление, позволяющее решать актуальные проблемы порядка[25].
Какие именно то были проблемы, мы не знаем. Шла ли речь о языкохристианах, еще до обращения вступивших в брак со слишком близкими родственниками? Или, как предполагает Коллинз, Матфей пытался «успокоить совесть» иудеохристиан, которые ранее, в соответствии со своим пониманием Закона, развелись с женами за прелюбодеяние?[26] А может, ему просто не верилось, что Иисус мог привязать христианских мужей к своим неверным женам... Как бы то ни было, матфеевская оговорка - отражение процесса нравственного размышления, в котором радикальное представление Марка о браке как неразрушимом единстве смягчается с целью создания правила, работоспособного в общинной жизни.
(В)Мф 5:31-32; Лк 16:18. У Матфея мы находим целых два важных отрывка, говорящих о разводе. Это может означать, что проблема развода была актуальной для его общины. Напротив, у Луки есть только одно краткое речение, к тому же плохо вписывающееся в повествовательный контекст. Спор, описанный Марком (10:2-12), Лука вообще опускает.
Третья антитеза Нагорной проповеди (Мф 5:31-32) дает сжатое рассмотрение проблемы развода. Для контраста евангелист вводит парафраз Втор 24:1:
Сказано также: «Если кто разведется с женою своею, пусть даст ей
разводное свидетельство». Но я говорю вам: всякий, кто разводится с женою своею, если только не из-за ее любодеяния, тот толкает ее к прелюбодеянию; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
Здесь формулировка оговорки (parektos logou pomeias) отличается от формулировки в 19:9 (те epi porneia). Неидиоматический греческий язык в 5:32 - очень буквальная передача еврейского выражения 'erwat dabar («вещь непристойная»; Втор 24:1)[27]. По-видимому, здесь еще более ясно, чем в 19:9, учение Иисуса о разводе отождествляется с позицией школы Шаммая. Существительное porneia содержит те же возможности и проблемы, которые мы отмечали в связи с Мф 19:9.
Есть, впрочем, одно новое утверждение: мужчина, который разводится с женой, превращает ее в прелюбодейку, и мужчина, женящийся на законно разведенной, тоже прелюбодействует. Судя по всему, здесь отрицается реальная действенность разводного свидетельства: брак по-прежнему остается в силе. Если разведенная женщина снова выйдет замуж (например, ради юридической и экономической защиты), она де-факто совершит измену против своего бывшего мужа, который ее отпустил; и мужчина, который взял ее в жены, также будет совершать прелюбодеяние против ее первого мужа. В результате установление Второзакония о разводе признается действительным лишь в случае porneia. Как и в Мф 19, формулировка проблемы - традиционно еврейская: прелюбодеяние может быть совершено только против мужа через измену жены.
По мнению некоторых экзегетов, Мф 5:31-32 запрещает всякий новый брак после развода, даже если развод разрешен из-за porneia. Однако, строго говоря, ничто не мешает мужчине, который развелся с женой на основании porneia, найти себе новую жену, ранее не бывшую замужем. А вот разведенная женщина не может снова выйти замуж: иначе она совершит прелюбодеяние.
Будем помнить: Мф 5:31-32 - не просто часть списка нравственных правил. Этот отрывок входит в описание Матфеем более высокой праведности, к которой призваны Иисусовы ученики. Мф 5:31-32 - лишь одна из иллюстраций того, как ученики должны выходить за рамки формальных требований Закона, чтобы исполнить его глубинную интенцию. Закон требует, чтобы мужья, разводясь с женами, давали им разводное свидетельство; ученики Иисуса же вообще не должны разводиться. (Андроцентрическая формулировка сознательна: для Матфея только муж может инициировать развод.) Отпустить жену, значит, подтолкнуть ее к греху или к беззащитному одиночеству в патриархальном обществе. Поэтому Матфей ставит перед христианскими мужьями более высокую планку. Они должны взять на себя полную моральную ответственность за прочность своих браков, - за тем единственным исключением, что porneia может положить браку конец. Здесь, как и в Мф 19, оговорка - казуистическая адаптация традиции к еврейским обычаям и попытка решить конкретные проблемы, которые не позволял решить безусловный запрет на развод.
Теперь кратко рассмотрим параллельное место у Луки. Оно почти точно соответствует Мф 5:32, за двумя существенными исключениями.
1)Отсутствует оговорка относительно случая, когда развод возможен.
2)Подобно Мк 10:11, Лука объявляет: муж, который разводится с женой и вступает в новый брак, прелюбодействует[28].
В отличие от Марка, Лк 16:18 не сообщает, что жена, которая разводится с мужем и снова выходит замуж, прелюбодействует. Вместо этого вторая часть Лк 16:18 согласна с Мф 5:32: мужчина, который женится на разведенной, прелюбодействует. Таким образом, у Луки получается: мужчина не должен ни разводиться с женой, ни жениться на разведенной. Эта лаконичная формулировка исключает возможность нового брака после развода для обоих партнеров.
(Г) 1 Кор 7:10-16. Этот отрывок - хронологически самый ранний из новозаветных текстов о разводе. Он чрезвычайно интересен тем, что Павел сознательно адаптирует Иисусово учение о разводе, как оно известно ему из предания.
1 Кор 7 отвечает на вопросы, ранее заданные коринфянами в письме к Павлу (7:1). Вопрос первый: надо ли христианским супружеским парам воздерживаться от секса? Павел резко отвергает радикальный аскетизм и советует им продолжать сексуальные отношения (7:7)[29]. В 7:8-9 апостол советует неженатым, незамужним и вдовам отказаться от вступления в брак, - хотя этот совет не относится к тем, в ком сильны страсти. Затем он переходит к директивам относительно развода (7:10-16) - теме, о которой коринфяне, видимо, также спрашивали[30]. Почему же эта проблема волновала коринфян? Возможно, причиной опять-таки было стремление к святости. Другой вариант: некоторые женщины особенно хотели расторгнуть брак как знак новообретенной свободы во Христе и всецелой преданности Господу[31].
Павел начинает с прямой ссылки научение Иисуса. Это - одно ил очень немногих мест в его посланиях, где он непосредственно апеллирует к авторитету слов Иисуса.
А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не следует быть отделенной от мужа (если же она стала отделенной, то пусть не выходит заму ж или примирится с мужем); и мужу жены не отпускать (1 Кор 7:10-11).
Газница в терминологии несущественна: в древнем Средиземноморье не было нашего различия между «разделением» и «браком». Поэтому оба глагола (choristhenai и aphienai) относятся к разводу. Павел на еврейский манер использует пассивную форму применительно к женщине («быть отделенной»)[32] и активную форму применительно к мужчине («отпускать»), но его комментарии предполагают эллинистические обычаи Коринфа, где женщины имели право инициировать развод (10:13!). В плане евангельских традиций формулировка Павла ближе всего к Мк 10:11-12: запрет на развод равно относится и к мужу, и к жене. Однако использованные здесь глаголы не встречаются ни в одном из евангельских текстов о разводе: Павел не цитирует, а резюмирует традицию. Ремарка в 1 Кор 7:11а («если же она стала...»), по-видимому, представляет собой Павлову глоссу к преданию. В отличие от евангелистов, Павел не называет повторный брак прелюбодеянием, но все же считает его нежелательным. Здесь он, очевидно, строит выводы, которые углубляют значение заповеди Господней. Однако примечательна сдержанность апостола. Он не говорит: «Если разведется, изгоните ее из церкви...» или «если разведется, то прелюбодействует...» Он опирается на предание об Иисусовом учении о разводе, но считается с возможностью, что некоторые его читатели могут не внять этой заповеди.
Однако в 1 Кор 7:12-16 Павел рассматривает новую тему, которой Иисус не касался. Эта тема могла возникнуть именно в обстановке миссионерской проповеди, где был четкий контраст между верующими и неверующими, общиной верных и миром.
Как быть с браками между христианами и нехристианами? Надо полагать, в большинстве случаев эти браки были заключены еще до обращения мужа или жены в христианство. Легко представить, что такие обстоятельства могли создать серьезный конфликт в браке: один примкнул к странной еврейской секте со странными обрядами и восторженными сборищами, а другой остался в стороне, озадаченный или даже проникнутый осуждением. Что делать? Часть коринфян высказывала сомнение в целесообразности сохранения таких браков, - возможно, в словах, похожих на 2 Кор 6:14-7:1:
Не впрягайтесь в чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?.. Поэтому выйдите от них и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас; и буду вам Отцом, а вы будет Моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель»[33] (2 Кор 6:14-15, 17-18).
Если, как подчеркивал сам Павел в 1 Кор 6:12-20, секс с проституткой (описанный в 6:18 как porneia) оскверняет тело Христово, разве не применим тот же аргумент к бракам с неверующими, которые не омылись и не очистились через крещение (6:11) и продолжают жить под властью греха? Когда мы задаем этот вопрос, то видим, сколь серьезная проблема стояла перед такой первохристианской общиной, как коринфская церковь. Ответ Павла удивителен:
Остальным же я говорю, а не Господь: если верующий имеет неверующую жену, и она согласна с ним жить, то он не должен разводиться с ней. И если женщина имеет неверующего мужа, и он согласен с ней жить, то она не должна оставлять[34] его (1 Кор 7:12-13). Отметим три особенности этого отрывка.
Павел прямо называет свой совет пастырской импровизацией. Иисус ничего не говорил по поводу возникшей ситуации; следовательно, Павел дает совет собственной властью. К этому моменту мы вскоре вернемся.
Павел исходит из предположения: у части христиан - неверующие супруги. Он не считает, что жены христиан обязаны переходить в веру своих мужей. Более того: он не считает, что мужчины-христиане имеют право принуждать своих жен к вхождению в церковь. О насильственном обращении здесь и речи быть не может[35]. Это резко противоречит мнению, отраженному еще в знаменитых словах Плутарха: «Жене приличествует поклоняться и знать только тех богов, в которых верит ее муж, и держать входную дверь плотно закрытой от всяких странных ритуалов и чужеземных суеверий. Ибо ни у одного бога тайные и скрытые обряды, исполняемые женщиной, не найдут милости»[36].
Несмотря на кажущуюся опасность оскверниться от неверующего супруга (или неверующей супруги), Павел советует не расторгать брак. Причины такого совета не менее интересны, чем сам совет: «Ибо неверующий муж освящается через жену, и неверующая жена освящается через мужа. Иначе ваши дети были бы нечисты, но теперь они святы» (1 Кор 7:14). Святое здесь не оскверняется нечистым. Происходит обратное: святое проникает в несвятое и освящает его. Святость сильнее нечистоты. Или даже позволю себе такое выражение: святость - как венерическая болезнь, передаваемая от одного супруга к другому. Этот переворот в еврейском отношении к ритуальной чистоте диаметрально противоположен призыву 2 Кор 6:14-7:1 к разделению... Дополнительный аргумент в 7:146 (о святости детей) не вполне ясен. Павел предполагает, что дети святы, даже если один из родителей - не христианин. (Откуда такая уверенность? Были ли они крещены? Павел не сообщает.) Отсюда он выводит, что неверующий супруг освящается через верующего супруга. Это естественным образом приводит его к идее спасения неверующего через верующего: «Жена, откуда тебе знать, не спасешь ли мужа? Муж, откуда тебе знать, не спасешь ли жену?» (7:16). Толкователи обычно считают, что Павел выражает надежду на обращение неверующего через любовь и милость верующего. Однако, с учетом загадочного учения Павла о квазифизическом заместительном освящении (7:14), вполне возможна иная трактовка: Павел надеется, что Бог спасет даже неверующего благодаря сотериологической помощи верующего.
И последний аспект Павловых наставлений - оборотная сторона его совета не расторгать смешанные браки:
Если же неверующий отделяется, пусть отделяется. В таком случае брат или сестра не связаны. К миру призвал нас Бог[37] (1 Кор 7:15).
Здесь заключена важная мысль: принадлежность к христианской общине требует большей верности, чем верность браку. Линия, отделяющая новое творение от старого, может пролегать через брак. Старый век еще претендует на свое, а надежда на спасение неверующего супруга существует, - поэтому верующий обязан оставаться в браке, доколе возможно. Однако если возникнет ситуация выбора, когда неверующий решит разорвать отношения, у верующего не должно быть сомнений, как ему себя вести: «Пусть отделяется». Бог призвал нас (т.е. Церковь, общину народа Божьего) к миру. Участие в эсхатологическом мире важнее, чем попытка спасти тонущую лодку брака с человеком, которому этот мир неведом.
Здесь мы видим, как у Павла рождается ответ в процессе написания послания. Миссия к язычникам поставила его перед проблемой, ответа на которую не было в преданиях об Иисусе. И апостол разрабатывает ответ, основываясь на своем богословском понимании избрания и общины. Он проявляет дерзновение, расширяя и углубляя содержание Иисусова учения. Да, говорит Павел, заповедь Иисуса истинна и верующему не подобает инициировать развод. Однако, с другой стороны, в ситуации смешанного брака верующий не привязан (dedoulotai; букв, «порабощен») к браку. Он относится к образу преходящего мира (7:31), а потому не требует всепоглощающей верности.
Означает ли фраза «брат или сестра не связаны», что верующий свободен в такой ситуации вступить в новый брак? Об этом Павел прямо не говорит. И стих 7:11а напрямую здесь неприменим. Общий принцип Павла в 1 Кор 7 очевиден: безбрачному лучше не менять свой статус (7:8, 17-24, 25-27, 39-40). Лучше оставаться одному и всего себя посвятить служению Господу (7:32-35). Однак о не менее очевидно, что принцип не носит безусловного характера (по крайней мере, для вдов и дев). Если они решат выйти замуж, то не согрешат. Более того, иногда это даже лучше, чем «гореть страстью» (7:9, 28, 36-38, 39б). Стало быть, Павел высказывает мнение «как получивший от Господа милость быть ему верным» (7:25), но затем предоставляет читателям самим судить. Была ли бы такая же свобода дана верующему супругу, которого бросил неверующий? Ни в Павловых посланиях вообще, ни в 1 Кор 7 в частности ничто не говорит против этой интерпретации. Павел, видимо, не разделяет мнения «Дамасского документа» и Лк 16:18, что всякий повторный брак - прелюбодеяние. Как мы уже видели, его мало волнуют традиционные понятия ритуальной чистоты - понятия, лежащие в основе левитских запретов на повторный брак. Для него важнее всего неотступно служить Господу (7:35) и пребывать в эсхатологическом мире народа Божьего (7:15).
Из 1 Кор 7 не создается впечатления, что Павел категорически запрещает повторный брак для верующих, описанных в 7:12-16. Скорее, он приглашает их задуматься вместе с ним над тем, как лучше всего можно послужить Богу в «нынешней нужде» (7:26) в оставшееся время.
2. Синтез: развод и повторный брак в каноническом контексте
Пять текстов о разводе обнаруживают как глубокое единство, так и поразительное разнообразие. Их объединяет отношение к браку как к союзу вечной верности, в котором мужчина и женщина обретают единение. Эту мысль новозаветные тексты проводят предельно четко. Развод не может быть нормой. Он есть лишь трагическое исключение из нормы.
Между этими текстами существуют и различия в интерпретации частных моментов. Согласно Марку и Павлу, в браке мужчина и женщина обладают равной свободой и равной ответственностью за прочность отношений. Однако матфеевская редакция систематически утверждает патриархальные предпосылки еврейского Закона и предания. Матфей и Лука исходят из традиционной еврейской юридической системы, в которой только муж имеет право инициировать развод. Марк и Павел же обращаются к эллинистическому миру, где это право имеет и жена. Марк и Лука категорически запрещают развод, но Матфей и Павел признают существование исключений из правила - ситуаций, в которых необходима пастырская чуткость. Павел получает контроль над традицией, прямо разграничивая заповедь Господа и свое собственное мнение; Матфей просто вставляет оговорку в материал речений Иисуса.
Как быть с повторным браком? Лука исключает его совсем; Матфей считает, что повторный брак для разведенных женщин - прелюбодеяние, но оставляет такую возможность для мужчин, если они развелись из-за porneia жены. Павел не советует вступать в новый брак никому, даже вдовам, но подает свою позицию скорее как приглашение поразмыслить о лучшем способе служения Господу в эсхатологическом промежутке между воскресением и парусией; возможность повторного брака для тех, от кого ушел неверующий супруг, остается открытой возможностью. Марк резко отвергает развод как орудие серийного многобрачия, но не обсуждает возможность повторного брака при особых обстоятельствах (вроде тех, о которых пишут Матфей и Павел).
Разнообразие отрывков ставит нас перед рядом возможностей. Как синтезировать новозаветные свидетельства? Важный ключ дает марковский рассказ о споре: было бы страшной ошибкой изолировать какое-либо конкретное правило относительно развода от более широкого канонического повествовательного контекста. Мы не сможем правильно понять Втор 24:1, если не будем смотреть на него в свете Быт 1-2. Аналогично, у нас не получится сделать точные нормативные суждения о разводе, если мы прежде не вникнем в каноническое суждение о браке. Равняясь на Марка, мы должны вернуться к канону и проследить, что он говорит о воле Божьей относительно союза мужчины и женщины. Это очень большая задача, и я предложу лишь краткий набросок возможного решения.
Начнем, вослед Марку, с повествования Бытия. Бог сотворил мужчину и женщину как дополняющих друг друга партнеров (Быт 1:27; 2:18). Мужчина и женщина становятся единой плотью (2:24), и Книга Бытия считает это единение одним из фундаментальных и благих аспектов замысла Творца о мире. Именно на эти элементы рассказа обращают наше внимание Марк и Матфей. Или посмотрим ветхозаветные тексты за пределами Бытия: посмотрим, например, символический сюжет, разыгранный пророком Осией, который женился на Гомерь, «жене-блуднице», в знак отношений между Богом и Его неверным народом.
И сказал мне Господь: «Иди и полюби женщину, у которой есть любовник и которая прелюбодействует, - подобно тому, как любит Господь народ Израилев, а тот обращается к иным богам и любит виноградные лепешки их» (Ос 3:1).
Этот символ ярко символизирует ужас Израилевой неверности Завету. Но у него же есть и более великая весть: любовь Божья в тоге окажется сильнее неверности Израиля. Конец Книги Осии содержит трогательное описание воссоединения:
Я исцелю их неверность;
Я возлюблю их свободно,
ибо гнев Мой отвратился от них...
Они снова будут обитать в тени Моей,
разрастутся, как сад,
расцветут, как виноградная лоза,
и благоухание от них будет, как от вина Ливанского (Ос 14:4-7).
Пророк говорит в первую очередь о верности и любви Божьей. Но разве эта история ничему не учит нас и в отношении брака и развода? Несомненно, она дает образец любви, которая побеждает даже супружескую измену и утверждает нерушимость брачного завета.
Книга пророка Малахии обличает развод и описывает брак как завет. На это понимание брака намекал еще Осия, но здесь об этом сказано прямо. По словам пророка, Богу не угодны приношения Израиля, ибо
...Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, хотя она подруга твоя и жена согласно завету. Разве не Единый Бог соделал ее? И плоть, и дух - Его. А чего желает Бог? Праведного потомства. Следите же за собой, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Ибо я ненавижу развод, говорит Господь, Бог Израилев (Мал 2:14-16а).
Не случайно Малахия ставит рядом верность брачному завету и верность Завету с Богом (Мал 2:10-12). Они отражают и символизируют друг друга. Вот почему Бог ненавидит развод. (Удивительно, что этот текст никогда не цитируется в новозаветных дебатах о разводе.)
В Новом Завете мы также видим ряд образов, которые представляют брак как зеркало отношений между Богом и Его народом. Еф 5:21-33 развивает троп брака как символ отношений между Христом и Церковью. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и отдал себя за нее» (Еф 5:25). Еф далее цитирует Быт 2:24, чтобы возвестить: муж и жена в браке становятся единой плотью. Здесь, однако, автор прибегает к этой цитате не для акцента на нерасторжимость брака, а увещевая мужей любить жен, как самих себя:
Мужья должны любить жен, как свои тела...Ибо никто и никогда не ненавидит собственное тело, но лелеет его и заботится о нем, - как и Христос заботится о Церкви, ибо мы члены тела Его (Еф 5:28-30).
Таким образом, автор Еф устанавливает трехуровневую типологию, связывая рассказ Бытия с конкретными браками в христианской общине, а также с отношениями между Христом и Церковью[38]. Каждый элемент типологии отражает и освещает остальные два. Естественно, эта типология заключает в себе иерархическую модель брака: «Как Церковь подчинена Христу, так и жены должны быть во всем подчинены своим мужьям» (Еф 5:24). Как я уже говорил в разделе 2.2, высокая экклезиология Еф несколько ослабляет авторитарный потенциал этой парадигмы, ибо Церковь должна вырасти в «полный рост Христов». В то же время Христос «отдал себя за Церковь», тем самым показав, как мужьям следует обращаться со своими женами. Поэтому, хотя мир символов в Еф остается патриархальным, мы видим начало примечательной герменевтической ревизии патриархии через рассказ о кресте. Отметим: типология Христос/Церковь задает исключительно высокую мерку для брака; если брак подлинно отражает любовь между Христом и Церковью, то он отличается безграничной верностью и жертвенной любовью. О разводе здесь и речи быть не может, а любой реальный развод в общине - трагический удар по символическому единству, описанному в Еф. Мимоходное увещание в Евр также превозносит брак:
Брак да будет в чести у всех; и брачное ложе да будет непорочным. Ибо блудников и прелюбодеев будет судить Бог (Евр 13:4).
О разводе здесь прямо ничего не сказано. Однако высокий взгляд на святость, неприкосновенность и почтенность брака созвучна со словами Иисуса в Мк 10:6-9.
И наконец, Апокалипсис. Используя брачные образы Еф 5, он изображает эсхатологическое завершение вещей как «брачную вечерю Агнца» (Откр 19:6-9). В противоположность великой блуднице, с которой блудодействовали цари земные (Откр 17-18), невеста Агнца облечена в «виссон чистый и светлый», символизирующий праведные дела святых (19:8). Также, в символическую противоположность Вавилону, невеста названа новым Иерусалимом, сходящим с небес (21:2, 9). Вместе с Духом она призывает последнее и славное пришествие Христа (22:17). Если в ветхом Завете Израиль часто назывался неверной женой[39], то теперь все меняется. В завершении, обещанном автором Апокалипсиса, народ Божий обретет восстановление и единство, которое предвещал еще Осия. Поскольку Ветхий Завет постоянно соотносит Завет Божий с Израилем и брачный завет, не удивительно, что новозаветный канон запечатывает свое торжествующее видение нового Завета, прибегая к образу истинного брака. Таким образом, хотя Апокалипсис ничего прямо не говорит о разводе, структура его символов подтверждает и дополняет нарисованную нами картину. В мире, о котором повествует этот текст, развод может быть лишь шагом в ложном направлении, шагом от целостности, обещанной народу Божьему, когда сам Бог будет обитать с ним, «и отрет... всякую слезу с очей» (21:3-4).
Сделав этот краткий обзор, мы можем видеть: постоянство брака между одним мужчиной и одной женщиной - буквальное воплощение воли Божьей о творении, а также образ чаемого эсхатологического союза Христа и Церкви. В этом контексте брак никогда не может быть эфемерным: ведь он знаменует окончательный замысел Бога об искуплении. Поэтому те, кто во Христе, должны во что бы то ни стало избегать развода: развод не совместим с Благой вестью о примиряющей любви Божьей.
Теперь рассмотрим этот материал в свете ключевых образов общины, креста и нового творения.
Община. Когда мы читаем тексты о разводе в свете образа общины, то сразу понимаем: развод не может быть сугубо индивидуальным делом. Это касается здоровья и свидетельства всей общины. Одна из ошибок фарисеев, с их фиксацией на правиле в Втор 24:1, состояла именно в том, что они недооценивали общественный характер брака и его связь с Заветом, а оставляли вопрос на частное усмотрение мужа. (Впрочем, фарисеи хотя бы вели публичный спор о законных основаниях для развода и не рассуждали по принципу «это его личное дело, и нас оно не касается», как склонны поступать современные христиане!) Нам же следует обратить внимание на 1 Кор 7 и пастырское попечение Павла о строительстве общины, ибо цель Павловых советов состоит именно в том, чтобы помочь коринфянам не отвлекаться от предназначения их общины. Вспомним и Мф 5:31-32. В Нагорной проповеди этот отрывок явно имеет общинный контекст, ведь замысел Иисусовых наставлений - сформировать общину, которая будет светом миру (Мф 5:14-16). Решения о разводе нельзя принимать, абстрагируясь от заботы о призвании общины, призвании сделать учениками все народы, являя пример праведности, которой учил Иисус. Аналогичным образом, Марк осмысливает брак как один из аспектов ученичества и связывает его со служением внутри общины.
Крест. Образ креста раскрывает нечто очень важное: брак может быть трудным и требующим жертв. Иисусовы ученики должны полностью пересмотреть свои представления о структуре власти в браке: в частности, мужья призваны подражать образцу служения, поданному Иисусом (ср. Мк 10:42-45). Не случайно Марк помещает запрет на развод в середину центрального блока Евангелия - блока, структурированного по трехкратному предсказанию о Страстях. Для Марка путь ученичества - это крестный путь, а брак входит в ученичество. Да, закон Втор 24:1 предоставляет людям (по крайней мере, мужчинам) легкую увертку от тяжелых требований брака. Однако Иисус призывает своих учеников жить в верности первоначальной воле Божьей. Марк не говорит о жертвенном аспекте прямо, ограничиваясь по своему обыкновению, намеком. Зато красноречива реплика учеников у Матфея: «Если такова обязанность мужа к жене, то лучше не жениться» (Мф 19:10). Для мужчины отказаться от возможности развода (поразительное отречение от прав в патриархальном культурном контексте Мф!), вступить в брак с желанием прожить его в узах завета, значит, безоговорочно связать свою жизнь с другим человеком. (Относительно интересного повествовательного примера см. рассказ об Иосифе и Марии в Мф 1:18-25.) Таким образом, Матфей ставит отказ от развода рядом с отказом от гнева, подставлением другой щеки и даже любовью к врагам как знак того, какой характер носит Царство Божье. Подобно другим примерам и этом списке антитез, отказ от развода может быть связан со страданием. Если так, то брак следует осмысливать через повествование о Страстях. На это и намекает Послание к Ефесянам: мужья, в частности, должны отдать себя, отречься от власти и привилегий, - как это сделал Христос ради Церкви.
Конечно, жертвенность должны проявлять оба супруга. Однако я подчеркиваю именно жертву со стороны мужей, чтобы дать противовес тому, что к жертвенному страданию призывали исключительно женщин. В завершение подчеркнем: в браке как ученичестве, о котором говорит Евангелие от Марка, женщины и мужчины равно призваны к крестному пути, пути служения.
Новое творение. Если брак может вести к кресту путем жертвенного служения, он может быть и знаком эсхатологического искупления всех вещей. Даже в превратностях нынешнего времени он предзнаменует нерушимую верность Бога, которая принесет исцеление миру. Отвержение общиной развода - внешний и видимый знак эсхатологического спасения Божьего.
Евангелие от Марка. Указывая на изначальный замысел Божий, Марк дерзновенно возвещает: через стойкую верность брачному союзу Иисусовы ученики воплощают новое творение, показывают, что было задумано «от начала создания».
Евангелие от Матфея. Учение о разводе Матфей включает в Нагорную проповедь. Это означает: город на холме - знак надежды для всего мира; и в общине с таким призванием разводу нет места. Впрочем, Матфей делает уступку эсхатологическому «еще не»: до тех пор пока Царство не пришло во всей полноте, человеческая неверность потребует реалистических мер для решения пасторских проблем.
Послания Павла. Павел даже сильнее подчеркивает «еще не» эсхатологической диалектики. Возможно, отчасти такая стратегия - реакция на преждевременный энтузиазм коринфян по поводу своего эсхатологического блаженства. Ссылаясь на такое блаженство, они могли захотеть расторгать браки или отвергать секс между супругами. Следовательно, Павел увещевает их оставаться в том состоянии, в каком они были призваны (1 Кор 7:20). Хотя роль браков умаляется ввиду скорого наступления Царства Божьего, браки остаются действительны, даже браки с неверующими. Более того, для христиан оставаться в смешанных браках - знак надежды на будущее, которого мы пока не видим (7:16)...Таким образом, Павел рассматривает брак и развод в глубоко эсхатологическом контексте: с одной стороны, время коротко и имеющие жен должны быть как не имеющие (7:29); с другой стороны, пока продолжается нынешний век, мужья и жены должны давать друг другу сексуальное удовлетворение и развод для них недопустим. Надежда и здравый смысл находятся здесь в тонком равновесии. Отметим, что, в отличие от Матфея и Марка, Павел в данном отрывке не приписывает позитивного значения отказу от развода как знаку нового творения.
Апокалипсис. Брачный пир Агнца - то, в чем все земные браки обретают свой telos. И если брак - последний новозаветный символ эсхатологического искупления, то развод не может быть волей Божьей.
3. Герменевтика: отклик на новозаветное свидетельство против развода
Как мы видим, при всей многогранности новозаветных учений о разводе и повторном браке в новозаветном каноне есть глубоко цельная концепция. Постоянный моногамный брак - норма. Христиане призваны увидеть в своих браках выражение ученичества и отвергнуть развод, который обычно допускался (по крайней мере, для мужей) в культурной среде авторов новозаветных текстов.
Как же мы откликнемся на это свидетельство в эпоху, когда развод стал распространенным явлением не только в секулярном обществе, но и в церкви?[40]
(А) Способ герменевтического усвоения. Как и в случае с насилием, новозаветное свидетельство против развода содержится во всех выделенных нами четырех способах благовествования, хотя и не во всех выражено одинаково. В данном случае новозаветные тексты делают гораздо больший упор на конкретные правила и гораздо меньший упор - на повествовательные образцы, показывающие норму.
Правила. Все пять текстов о разводе содержат правила, и все они приписывают первоначальную формулировку правила самому Иисусу. Оговорка Матфея особенно ясно показывает, что он воспринимает данное учение как правило, которым христиане должны руководствоваться. Аналогично, изолированное речение в Лк 16:18 - несомненно, правило. Павел добавляет некоторые собственные правила (1 Кор 7:12-16) ввиду ситуации, по поводу которой Иисус ничего не говорил. В марковском рассказе о споре (Мк 10:2-9) Иисус сначала отвергает просьбу фарисеев о правиле, но затем формулирует правило для учеников (10:10-12). Как и в случае с правилами относительно насилия, матфеевский запрет на развод (5:31-32) больше, чем просто правило, хотя и не меньше, чем правило. Он указывает на формирование характера общины и делает это в качестве нормы, которой надо следовать.
Принципы. Лишь два высказывания могут восприниматься как принципы.
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мк 10:9; Мф 19:66).
К миру призвал нас Бог (1 Кор 7:15в).
Смысл второго из этих высказываний туманен, если не видеть в нем основание для предшествующего ему правила, разрешающего верующему разводиться с неверующим супругом[41]. Первый же принцип («...человек да не разлучает») - кульминационный момент в конце спора; соответственно, непосредственный повествовательный контекст определяет, что это именно запрет на развод. Впрочем, надо заметить, что если данный принцип абстрагировать от контекста (рассказ о полемике), станет неясно, как его применять. Ведь христианин может сказать: «Я не верю, что нас в этом браке соединил именно Бог, поэтому мы вполне можем развестись». В последнем случае принцип вырвали из повествовательного контекста, в результате чего он стал использоваться в смысле, противоположном тому, который вкладывали в него Иисус и евангелисты. (Этот последний пример хорошо показывает, почему герменевтический приоритет должен отдаваться не принципам, а повествованиям.)
Интересно, что ни один из наших текстов не апеллирует к любви как к принципу, определяющему, следует ли разводиться. Современные читатели, разумеется, ожидают, что при обсуждении данной темы о любви будет сказано. Однако евангелистов и Павла это вроде бы не волнует. Лишь в Послании к Ефесянам, где речь не о разводе, упомянута любовь. Впрочем, и здесь «любовь» не столько принцип, лежащий в основе брака, сколько повествовательное описание того, как Христос действует по отношению к Церкви. Это повествование, в свою очередь, становится основой для увещания мужьям любить своих жен и не отделяться от них.
Не рассуждают новозаветные авторы о разводе и исходя из каких-то других формальных принципов (таких, как справедливость или самореализация). Принципы играют лишь малую роль в суждениях Нового Завета по данному вопросу.
Образцы. Здесь в Новом Завете поразительно мало материала. Определенную значимость имеет рассказ о сотворении: союз Адама и Евы дает образец для всех последующих браков. Вместе с тем их история практически не излагается в Новом Завете, а сами Адам и Ева - неподходящие примеры для подражания. Апелляция к повествованию Бытия будет актуальнее, когда речь пойдет о мире символов... Большую значимость имеет образец Христа и Церкви (Еф, Откр). Однако Новый Завет не развивает этот образец как основу аргумента против развода. Далее. Тот факт, что сам Иисус был неженат - или, во всяком случае, ни из чего не видно, что он был женат, - оставляет учение против развода без того мощного центрального примера, который мы имели при обсуждении проблемы насилия. Павел же может предложить себя лишь в качестве примера безбрачия (1 Кор 7:7), - даже убеждая читателей не воздерживаться от секса в браке[42]. Можно только посожалеть, что Новый Завет не содержит каких-нибудь трогательных историй о супругах, которые преодолели трудности, чтобы сохранить свой брак в послушание учению Иисуса. Ближе всего к этому подходит ветхозаветная история – история Осии и Гомери... Нет и рассказов, иллюстрирующих юридическое применение матфеевской оговорки или Павлова совета верующим, состоящим в смешанных браках.
Правда, есть несколько отрицательных примеров в текстах, которые мы не рассматривали, - особенно Ирод и Иродиада (Мк 6:17-29; Мф 14:1-12). Однако для нашей дискуссии о разводе от них мало толку. Эти герои плохи с самых разных точек зрения: их брак не только последовал за разводом, но и был инцестным по еврейским стандартам.
Мир новозаветных символов. Весьма показателен контекст, в котором происходит осмысление данной проблемы. Еф 5:21-33 и Откровение имеют отношение к дискуссии о разводе именно через мир символов. В рассказе о споре, который играет основополагающую роль в новозаветном учении о разводе (Мк 10:29), акцент переносится на мир символов из рассказа о творении. Ведь ссылаясь на Книгу Бытия, Иисус не хочет сказать, что Адам и Ева - образцовые супруги. Речь о том, что Бог установил нормативную реальность, сделав их мужчиной и женщиной и соединив их в одну плоть. С учетом этой интерпретации человеческой жизни и Божьего замысла о творении осуждение развода неминуемо. В случае с Павлом мир символов составляют эсхатологическое упование на возвращение Господа и глубокое осознание церкви как избранной общины, в которой действует освящающая сила Божья. Пасторские суждения апостола о разводе сделаны с отсылкой именно на это восприятие реальности, и, например, его совет христианам, имеющим неверующих супругов, иначе не понять.
Итак, Новый Завет свидетельствует против развода преимущественно правилами и миром символов. Более того, правила, запрещающие развод, имеют смысл только в мире символов, присущем этим текстам. Отметим, что этот мир в первую очередь очерчен Ветхим Заветом, а затем развит через новозаветную христологию. Те, кто пытаются оправдать развод среди христиан - по причинам, не оговоренным Новым Заветом, - обычно апеллируют к общим принципам (например, «полноте жизни», как Спонг в процитированном отрывке), а конкретные новозаветные правила сбрасывают со счетов. Однако, как мы показали, эти правила глубоко укоренены в мире новозаветных символов. Поэтому, чтобы оправдать свой отказ от использования правил, интерпретаторам приходится выстраивать (или принимать) иной мир символов. Это последнее наблюдение подводит нас к вопросу о соотношении авторитетов.
(Б)Другие источники авторитета. Вследствие разнообразия внутри новозаветного канона церковное предание о разводе и повторном браке неоднородно. Католическая церковь включила в каноническое право строгое толкование новозаветного учения. Она не признает развода (за исключением права крестившегося развестись с некрещеным супругом) и исключает повторный брак. На практике это приводит к разработке казуистического разграничения между разводом и «аннулированием», при котором церковь объявляет, что такой-то конкретный брак никогда не был законным, а потому супруги имеют право развестись, не будучи отлучены от причастия. Вполне можно понять это как процесс, начавшийся еще у Матфея и Павла, - процесс адаптации учения к различным обстоятельствам. Однако трудно избежать подозрения, что есть некое лукавство в столь широком использовании понятия «аннулирование», позволяющем обойти новозаветные нормы в ситуациях, когда люди действительно жили друг с другом как муж и жена. Скажем, когда брак аннулируется из-за нежелания одного из партнеров иметь детей, честнее признать такую ситуацию разводом, дарованным по причинам, которые церковь считает столь же вескими, сколь веской Матфей считал porneia. (Хотя в Новом Завете нет ни единого намека на то, что супруги обязаны иметь детей.)
Протестантство же, видя человеческую греховность, было склонно признавать развод в некоторых случаях печальной несходимостью и разрешало повторные браки. Вспомним истоки чилийской Реформации: король Генрих VIII хотел вступить в новый брак на условиях, которые не удовлетворяли Рим. Ни один протестантский богослов никогда не был в восторге от разводов, но традиционное протестантство остерегалось принимать библейское учение в качестве церковного права. Со своим акцентом на любовь как центр христианской вести и на совесть как на священное средоточие индивидуального нравственного выбора либеральное протестантство мало ограничивало разводы, когда широкое культурное табу на них стало исчезать. Правда, в некоторых консервативных протестантских церквах к новозаветному запрету на развод подходят очень серьезно и тщательно его исполняют. Однако в таких традициях понятие «верующий» понимается столь узко, что многие крещеные христиане других церквей просто воспринимаются как неверующие; в результате развод и повторный брак на основании 1 Кор 7:12-16 получили достаточно широкое распространение...
Как показывает наш беглый обзор, церковное предание обычно соглашалось с новозаветным запретом на развод, но расширяло спектр возможных исключений, тем самым продолжая герменевтическую траекторию, которую мы находим уже в самом Новом Завете. Широта спектра исключений варьируется от традиции к традиции. Некоторые церкви столь попустительствуют разводу, что по отношению к ним новозаветное свидетельство звучит как слово обличения и исправления. В других случаях церковному формализму и законничеству в применении новозаветного учения бросает вызов гибкость, заключенная в том, как сам же Новый Завет адаптирует слово Иисуса к новым ситуациям.
Разум. Роль разума здесь второстепенна. С одной стороны, можно провести психологические и социологические исследования, насколько развод вредит психике и благосостоянию супругов и их детей. Если вредит, то разводы пагубны. С другой стороны, могут возразить, что психологический вред от плохого брака иногда хуже вреда от развода... Опять-таки, распространенный позитивный аргумент: стабильные браки хороши для общества, ибо способствуют порядку и детскому воспитанию. (Вспомним, как в 1992 году в США во время выборов политиканы постоянно взывали к «семейным ценностям»[43].) Что тут сказать? Никто и не спорит, что стабильные браки хороши. Но при решении индивидуальных проблем от таких общих рассуждений толку мало. Едва ли они убедят людей, которые несчастливы в своем браке.
Опыт. Именно апеллируя к опыту, часто разрешают развод. В примере, который цитирует Спонг, супружеская пара («верующие христиане»), «часто ходившая в церковь», решила развестись. Оказывается, между мужем и женой «возрастало взаимное отчуждение» и они обнаружили, что «в их отношениях больше нет... потенциала для жизни». Спонг уверен: этих причин для развода достаточно. В таких случаях церкви, дескать, остается лишь «смириться с фактом» развода и попытаться предоставить литургическую структуру, которая бы позволила бывшим супругам и их друзьям переживать происходящее. Сейчас подобными идеями не удивишь, и даже непросто вспомнить, как дико и не по-христиански прозвучали бы они практически для всех авторов до, скажем, 1950 года. Лишь в культуре, которая ставит самореализацию превыше брачных обетов (и слова Иисусова!) возможны такие рассуждения.
Читаем у Спонга описание службы, посвященной расторжению брака. Разведенные мужчина и женщина стоят перед алтарем и общиной, «просят друг друга о прощении, обещают оставаться друзьями, вместе заботиться о детях, быть вежливыми и ответственными друг перед другом»[44]. Неужели люди, которые искренне могут все это сказать перед Богом, не способны обрести Божье исцеление в браке?
Неужели церковь может сказать им лишь это:
Мы утверждаем вас в новом завете [!], заключенном вами. Этот завет находит вас разделенными, но по-прежнему заботящимися друг о друге и желающими друг другу добра. Этот завет дает вам возможность поддерживать и любить ваших детей, исцелить вашу боль. Положитесь на присутствие Божье. Доверьтесь нашей помощи и начните заново[45].
Возможно, участвовать в такой странной пародии на брачные обеты и лучше, чем поругаться и уйти из церкви[46]. Но почему епископ, служитель Благой вести об Иисусе Христе, не считает себя обязанным сказать этим людям: «Не я повелеваю, а Господь: жене не быть отделенной от мужа, и мужу не разводиться с женой?» Кто дал этому епископу право говорить: «Мы утверждаем вас в новом завете»?
Ответ ясен: он опирается на опыт, который дает ему основание пренебречь и Писанием, и преданием. Супруги чувствуют себя чужими друг другу и не могут найти общего языка, - конец делу. Из описания Спонга не следует, что брак был расторгнут из-за того, что жена изменила мужу, или из-за того, что муж бил жену, или из-за того, что один из супругов был неверующим и хотел развода. Вовсе нет! Просто «в браке стало больше обид, чем прощения». Но ведь это же христиане! Разве им не сказано прощать 77 раз (Мф 18:21-22)? Зачем называть себя христианином и при этом не учиться прощать там, где это труднее и больнее всего и где это ближе к дому? Правильно говорит Уильям Уиллимон:
Во время венчания пастор не спрашивает: «Джон, ты любишь Сьюзан?» Он спрашивает: «Джон, ты будешь любить Сьюзан?» Здесь любовь определяется как то, что мы обещаем сделать, как будущее действие, как результат брака, а не его причина[47].
Супружеская пара из статьи Спонга, пережившая трагедию развода, оказалась брошенной на милость собственных чувств. Церковь не смогла их научить тому, что любовь - это акт воли, что брак отражает жертвенную верность Христа и Церкви, что Бог в силах преобразить нас и вывести из безнадежных ситуаций...
Какой же вывод мы можем сделать относительно герменевтического усвоения новозаветного свидетельства против развода и повторного брака? У меня есть следующие предложения.
Во-первых, мы должны восстановить новозаветное представление о браке как об одном из аспектов ученичества и отражении нерушимой верности Божьей.
Во-вторых, Церковь должна вернуться к своему традиционному учению: поскольку брак - это завет перед Богом, то развод в корне противоречит воле Божьей, за исключением крайних обстоятельств. Новый Завет оговаривает два таких обстоятельства: супружеская измена (Мф) и желание неверующего супруга отделиться (Павел). Исчерпываются ли этим законные основания для развода? Думаю, что список законных обстоятельств можно продолжить. Например, я полагаю (я, а не Господь!), что развод допустим в случае физического насилия со стороны супруга, - хотя Новый Завет этого прямо не оговаривает[48]. Иными словами, я рассматриваю новозаветный герменевтический процесс выявления исключений к запрету на развод поучительным в плане того, как Церковь должна размышлять над этой проблемой.
Каноническое свидетельство само отражает процесс размышления и адаптации фундаментального нормативного запрета на развод.
В-третьих, Церковь должна признать и учить: брак основывается не на чувствах любви, а на действиях любви. И брачные узы не должны зависеть от самореализации и самовосхваления. Церковь проглотила колоссальное количество популярной психологии, противоречащей библейской концепции брака. Поэтому сейчас необходимо критическое размышление, которое позволило бы вернуть понимание брака, основанное на Новом Завете. Когда брачный союз правильно осмысляется как завет, вопрос о разводе приобретает особое звучание. Те, кто принес перед Богом обеты, должны уповать на то, что Бог дарует благодать исполнить эти обеты. И они должны ожидать, что церковная община будет укреплять их в вере, поддерживать их самих и стойкость в них.
В-четвертых, как признает Матфей, иногда один супруг причиняет другому столь серьезное зло, что браку приходит конец. Жестокосердие, присущее нам всем, может помешать самым искренним попыткам жить, как Иисусовы ученики. И в таких ситуациях может произойти развод. Если это происходит и когда это происходит, Церковь должна по-прежнему любить и поддерживать разведенных партнеров. Как Павел в 1 Кор 7 не вводит дисциплинарных санкций против разведенных, так и в наши дни Церковь должна относиться к разведенным как к полноправным своим членам.
В-пятых, после развода нельзя исключать возможность повторного брака. Хотя некоторые новозаветные тексты не одобряют, а то и запрещают его (Лк 16:18), другие тексты вроде бы оставляют открытой такую возможность при определенных обстоятельствах. Евангелие от Матфея явно разрешает мужу, чья жена виновна в porneia, найти себе новую жену ((Мф 5:31-32; 19:9), - хотя и не предоставляет аналогичной привилегии жене. Даже если запреты на повторный брак в Мк 10:11-12 и 1 Кор 7:10-11 относятся только к одному партнеру (мужчине или женщине) - тому, кто инициирует развод, - есть веские основания считать, что молчание текстов по поводу ограничений для стороны, пострадавшей при разводе, предполагает возможность для «невинного» снова вступить в брак[49]. Разведенные становятся agatnoi («безбрачными»), а потому, на мой взгляд, к ним относится совет из 1 Кор 7:89: им хорошо оставаться безбрачными, но если в них сильны страсти, пусть лучше вступают в брак, чем сгорают от страсти. И, конечно, возможность повторного брака особенно видна в двух случаях, которые Новый Завет оговаривает как законное основание для развода: сексуальная измена партнера и отделение от нехристианского супруга (или нехристианской супруги). (Даже строгое католическое учение допускает эту последнюю возможность на основании 1 Кор 7:15.) Однако, как я уже говорил, это не единственные возможные случаи. Если церковь принимает на себя власть судить о других исключениях к запрету на развод, она должна признать и возможность повторного брака в таких случаях, ибо «к миру призвал нас Бог». Если брак предназначен быть знаком любви Божьей в мире (символизируя отношения Христа и Церкви), разве можем мы отвергать возможность того, что второй брак после развода послужит именно знаком благодати, знаком искупления от греха и нечистоты прошлого? Об этом не говорит ни один новозаветный автор, но я выдвигаю это как конструктивное богословское предложение. И дерзновение мне придает именно тот факт, что сам Новый Завет (особенно 1 Кор 7) приглашает читателей к конструктивному размышлению о разводе и повторном браке.
В-шестых, церковная община должна стараться, чтобы в ней находили глубокую «койнонию» и дружбу те разведенные, которые решили не вступать в новый брак, а посвятить себя Богу. К ним подобает относиться не с жалостью, а с уважением. Их нужно поддерживать в их служении. (Разумеется, это относится и к людям, которые изначально приняли обет безбрачия.) Иными словами, пора покончить с мифом, что нормальны только женатые и замужние и что для самореализации без брака не обойтись. Пора понять, что и одиночный путь может быть божественным призванием (см. 1 Кор 7:25-40).
Таким образом, в процессе нравственного рассуждения мы должны задавать вопросы:
Как свидетельствовать против опошления и ложного понимания брака в нашей культуре, - подобно тому, как это делали Иисус и Павел в свое время?
Какими словами и делами формировать общину так, чтобы она свидетельствовала об изначальном замысле Божьем относительно постоянного союза мужчины и женщины во Христе?
... С этими вопросами мы сможем выработать творческий подход, найдем способ обратить новозаветное свидетельство против развода к нашему времени. И в этом мы будем подражать самим новозаветным авторам, которые искали творческие пути адресовать Иисусово учение своему времени.
4. Церковь как община, делающая зримой любовь Божью
Джон Карвей тонко оценил перспективы христианского брака в постхристианской культуре:
Может быть, со временем брак, рассматриваемый как таинство и проживаемый как тайна благодати, станет столь же радикальным выбором, сколь и монашество - контркультурным явлением. Может быть, он уже таков, - когда его правильно понимают[50].
Как нам в церкви строить совместную жизнь, чтобы заключаемые среди нас браки стали знаками тайны благодати? Как поставить заслон культурному растлению, которое толкает браки к гибели?
Здесь, как и во многих других случаях, Церкви необходимо ясное учение. Мы не вправе дожидаться, пока у супружеских пар возникнет кризис, чтобы изложить им новозаветное учение о браке и разводе. Мы должны возвещать это учение постоянно. Пасторы часто робеют: даже когда в лекционарии попадется текст вроде Мк 10:2-12, они избегают касаться слишком больной (или трудной), по их мнению, темы. Такое молчание дорого обходится. Люди остаются в невежестве и неверности, и браки их распадаются. Нужно не только проводить беседы с людьми, собирающимися вступить в брак, но и в проповедях с кафедры возвещать истину о трудных задачах брака и о браке как завете.
Как я уже говорил, задача новозаветной этики - акт воображения, который приводит мир Нового Завета в соприкосновение с нашим миром. Здесь я предложу лишь один небольшой пример такого размышления - отрывок из проповеди, прочитанной мною на свадьбе двух моих друзей, Тима и Сью. В ней я говорю кое-что из того, что нам следует говорить, неся новозаветное свидетельство нашим современникам. Текст, избранный парой, - 1 Ин 4:7-21.
...Иоанн не пишет о браке, но он сообщает нам две важные истины о любви. Истины, которые помогут нам понять брак, брак между этим мужчиной и этой женщиной. Они просты:
Любовь стала известна через смерть Христа за нас.
Любовь, осуществленная в общине, дает миру познать Бога.
Подумаем об этих истинах.
Любовь стала известна через смерть Христа за нас. Здесь основная мысль Иоанна: любовь исходит от Бога. Бог - ее источник. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин 4:10). Для нас это образец любви. Как выглядит любовь? Кругом столько подделок! Как мы узнаем ее, когда увидим? Снова и снова Писания отвечают, указывая на крестную смерть Христову. Любовь, которая исходит от Бога, выражается в жертвенной самоотдаче. Иисус отказался от власти и божественных привилегий и отдал себя за нас. Вот какова любовь: она жертвует собой ради возлюбленного, а не ищет своего, чтобы обладать возлюбленным. Любовь, ищущая лишь своего удовлетворения, - в конечном счете, разрушительная и разочаровывающая иллюзия. Но когда мы познаем исходящую от Бога любовь, мы позволяем ей течь через нас к другим. И это указывает на вторую важную истину.
Любовь, осуществленная в общине, дает миру познать Бога. Любовь Божья по-прежнему зрима, и не только через рассказ о том, как Бог послал Сына своего ради нас, но и через продолжающуюся жизнь верующей общины, которая живет этим рассказом. Иоанн говорит: «Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг друга, то Бог пребывает среди нас и любовь Его совершенна среди нас (1 Ин 4:12). Видите? Через наши деяния любви незримый Бог становится зримым - ощутимым - среди нас.
Какое отношение это имеет к браку? А вот какое: любовь, связывающая мужчину и женщину в христианском браке, - не только теплые весенние вечера и розы или дурманящая греза сказочного романа. Любовь, связывающая мужчину и женщину в христианском браке, это любовь крестная.
Это значит, Тим и Сью, что ваш брак - не просто соглашение, которое продержится, лишь пока не исчезнет восторг взаимной радости. Это - завет, который продлится «в радостях и в печалях... в болезни и в здоровье». Недавно я сидел и молился с другом, чья жена лежала без сознания в блоке интенсивной терапии. Во время родов у нее начался приступ, и врачи опасались за состояние мозга. И вот среди страданий моего друга и его неуверенности относительно будущего я увидел в его любви и неустанной заботе о жене притчу о любви Божьей - любви, которая преодолевает страх и страдание.
Но не думайте, что страдания приходят только извне, через трагические происшествия. Ваш брак - завет, который должен выстоять, далее если кто-то из вас станет угрозой для спокойствия и самореализации другого. Даже если настанет время, когда вы почувствуете, что человек, который делит с вами постель, стал - по крайней мере, на миг - вашим врагом. Иисус заповедал нам любить врагов. Возможно, такое время никогда не придет для вас. Но такие времена приходилось переживать и Джуди, и мне; и, я подозреваю, вашим родителям, и некоторым друзьям... Конечно, в браке есть радость. Есть дружба и утешение. Но брак во Христе - не временная связь, которая длится, пока не настали тяжелые времена. Радость брака во Христе переносит всякую боль, ибо любовь, связывающая вас во Христе, глубоко укоренена в любви Божьей.
Итак, ныне вы заключаете завет любить друг друга так, как Бог возлюбил вас - безусловно, свободно, жертвенно. Вы обещаете служить друг другу в любви. Вы образуете союз, который отражает любовь Божью и стоит знаком Божьей любви в мире. Брак - таинство в подлинном смысле: это знак и средство благодати.
Итак, Тим и Сью, сейчас, когда вы пришли соединить ваши жизни, вот наша молитва о вас:
Пусть ваш брак свидетельствует против всех пошлых и эгоистичных представлений о любви.
Пусть верующая община будет поддерживать вас в любви и принимать от вас любовь.
Пусть ваш брак свидетельствует об истине Божественной любви и явит эту любовь другим людям в мире. С верой, что Бог ответит на эту молитву, я теперь приглашаю вас подойти и заключить друг с другом свой завет перед Богом.
...На мой взгляд, если смотреть на брак в этих категориях, станет понятна логика жесткого учения Нового Завета против развода. Такая контркультурная интерпретация брака как ученичества может быть присуща лишь общине, которая воспринимает себя как носитель определенного и четкого призвания в мире. Поэтому даже в столь личном вопросе, как брак и развод, Новый Завет требует понимания: самая актуальная задача Церкви - формирование общин, которые воплощают удивительную надежду на новое творение.
Глава 16.Гомосексуализм
Летом 1989 года Гэри приехал в Нью-Хейвен попрощаться. Мой лучший друг со студенческих лет в Иельском университете умирал от СПИДа. Пока он еще мог путешествовать, я и мои домашние пригласили его еще раз побывать у нас[1].
В ту неделю, пока Гэри жил у нас, мы вместе ходили в кино («Поля снов», «Общество мертвых поэтов»), пили вино и смеялись, подолгу беседовали о политике и литературе, о Евангелии и сексе и обо всем прочем. А еще слушали музыку. Ностальгическую музыку - записи студенческого хора, которым с вдохновенной точностью дирижировал Гэри; музыку шестидесятых, напоминавшую ту пору, когда мы участвовали в маршах протеста против войны во Вьетнаме, - «Битлз», Бирдс, Боб Дилан, Джонни Митчелл. И новые открытия - я познакомил Гэри с R.E.M. и «Индиго Герлз», он меня - с «Реквиемом» («Заупокойной мессой») Иохаынеса Окегема. Вкус Гэри оставался все таким же острым и проницательным; и, как прежде, он прямо смотрел в лицо истине - хотя смерть уже накрыла его своей тенью.
Мы много молились вместе и обсуждали богословские вопросы. Было ясно, что Гэри приехал не только попрощаться с нами, но и обдумать - вместе с нами и перед Господом, - как его христианская вера соотносится с его гомосексуальностью. Самодовольные движения геев-христиан возмущали Гэри: его положение виделось ему гораздо более сложным и трагичным, нежели предполагала их апологетическая позиция. Гэри беспокоило также, что эти апологеты поощряют верующих гомосексуалистов «находить самоидентификацию в своей сексуальной ориентации» и тем самым почти незаметно уводят их в поисках себя от Бога - к идолопоклонству. Более двадцати лет Гэри боролся со склонностью к гомосексуализму, воспринимая ее как болезнь и как навязчивое состояние. Теперь, перед лицом смерти, он хотел еще раз проговорить все сначала, потому что знал, как я люблю его, и мог общаться со мной без притворства. У Гэри не оставалось лишнего времени, чтобы ходить вокруг да около. Как поет Дилан: «Не будем лгать, время не ждет».
В первую очередь Гэри хотел разобрать те библейские тексты, где речь идет о половых актах между гомосексуалистами. К числу разносторонних талантов Гэри принадлежали и выдающиеся кавыки читателя. Закончив Иельский университет и приняв участие в создании в Торонто христианской театральной труппы, он получил степень магистра французской литературы. Хотя Гэри не специализировался на библеистике, он был внимательным и вдумчивым истолкователем текста. С величайшей надеждой он обратился к «обязательной литературе» расцветавшего движения в защиту гомосексуалистов-христиан: John J. McNeill The Church and the Homosexual, James B. Nelson Embodiment, Lei ha Scanzoni and Virginia Ramey Mollenkott Is the Homosexual My Neighbor?; John Boswell Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality[2]. Но в итоге его постигло разочарование: все эти авторы (несомненно, из самых лучших побуждений) в своих толкованиях библейских текстов выдают желаемое за действительное. Как бы Гэри ни хотелось поверить, будто Библия не осуждает гомосексуализм, он не мог вопреки своей интеллектуальной честности признать подобные аргументы убедительными.
Чем больше мы говорили об этом, тем больше обнаруживали родство наших взглядов. У нас обоих вызывало беспокойство растущее давление на Церковь с требованием «узаконить» гомосексуализм в качестве «нормального» варианта христианского поведения. Меня как новозаветника тревожили некоторые сомнительные экзегетические и богословские приемы апологетов гей-культуры. Гэри же, христианин и гомосексуалист, считал, что эти работы не отдают должного ни библейским текстам, пи его собственному тернистому пребыванию в общине гомосексуалистов (в течение двадцати лет Гэри то присоединялся к общине, то покидал ее).
Мы пришли к выводу, что наши мысли взаимно дополняют друг друга и нам есть, что сказать Церкви. До сих пор в публичной дискуссии по этому вопросу доминировала идеология: с одной стороны, активисты гомосексуального движения требовали от Церкви безусловного приятия гомосексуальности; с другой стороны, следовало столь же безоговорочное осуждение всех христиан-гомосексуалистов. В результате Церковь стремительно поляризовалась. Мы с Гэри решили предпринять попытку более тонкого и сложного диалога, основанного на общности нашей веры. Гэри хотел написать статью о своей жизни, о том, как стремление жить в христианской вере постоянно искажалось сексуальной ориентацией, которую сам Гэри считал несовместимой с учением Писания. Я должен был написать ответ на эту статью.
К несчастью, Гэри вскоре стало значительно хуже, и он не успел осуществить свой план. В последнем письме ко мне он постарался набросать кое-какие мысли, пока еще мог писать. В мае 1990 года Гэри умер.
Итак, данный раздел этой книги написан во исполнение договора с возлюбленным братом во Христе, который уже ничего не скажет в нашей земной жизни. Я решаюсь опубликовать эту главу в надежде способствовать сочувственной и вместе с тем глубоко богословской дискуссии, основанной на общности веры[3]. Потребность в такого рода дискуссии велика: ни одна проблема не вызывала в церкви столь резкого размежевания в 90-е годы, как вопрос о статусе гомосексуалистов. Как правильно применять Писание при обсуждении этого вопроса?
1. Чтение текстов
В Библии гомосексуальное поведение упоминается крайне редко - с десяток коротких замечаний на весь текст Писания. Судя по всему, эта проблема была малоактуальной - в отличие, например, от экономической несправедливости. Скудость текстов по данному вопросу характерна также для новозаветной этики. К слову Библии надо внимательно прислушиваться, но здесь важно правильно расставить акценты, отделить главное от второстепенного. (О, если бы с той страстью, какую нынче пробуждает проблема гомосексуальности, Церковь поощряла богатых делиться с бедными! Некоторые пылкие фанатики «библейской морали» в области половых вопросов становятся странно уклончивыми, когда речь заходит о новозаветном учении о собственности)[4].
Приступая к разбору этой проблемы, будет полезно для начала кратко прокомментировать те ветхозаветные тексты, которые обычно цитируют при ее обсуждении. Так мы сможем сразу устранить возможные недоразумения и наметить основы традиционного еврейского учения, хорошо известного новозаветным авторам.
(А) Быт 19:1-29. Известная история Содома и Гоморры, которую столь часто вспоминают в связи с гомосексуализмом, на самом деле не имеет отношения к этой теме. «Мужи Содома» стучали в дверь Лота, по-видимому, желая изнасиловать его гостей - то есть, как заранее известно читателям, ангелов. Ангелы вынесли приговор городу, а Лота с его близкими спасли. Покушение на групповое изнасилование иллюстрирует испорченность нравов в Содоме, но в данном контексте ни слова не сказано о моральности или аморальности гомосексуального полового акта по взаимному согласию. Ни здесь, ни где-либо еще в библейской традиции, кроме не очень ясного контекста Иуд 7, нет и намека на то, что грех Содома сводился к тому или иному половому извращению[5]. Самое четкое определение греха Содома мы находим в пророчестве Иезекииля: «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала» (Иез 16:49).
(Б) Лев 18:22, 20:13. Однако те немногие библейские тексты, которые все же рассматривают гомосексуальное поведение, выносят однозначный и беспощадный приговор. Правила сохранения святости в Левит безоговорочно запрещают половой акт между мужчинами:
Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость (Лев 18:22).
(О женском гомосексуализме здесь ничего не сказано). В Лев 20:10-16 этот же половой акт перечислен в ряду сексуальных грехов наряду с прелюбодеянием, инцестом и скотоложством, которые подлежат наказанию смертью. Следует отметить, что категорически запрещен сам акт «возлежания с мужчиною, как с женщиною», причем моральность или аморальность побудительных мотивов даже не рассматривается. Этот безусловный юридический запрет служит основанием для всей последующей традиции иудаизма, решительно отвергавшей гомосексуализм[6].
Разумеется, ссылка на свод законов Левит не всегда может решить проблемы христианской этики. В Ветхом Завете содержится множество заповедей и запретов, которые начиная с I века оставались в пренебрежении или были отвергнуты Церковью как устаревшие - в особенности ритуал обрезания и предписание воздерживаться от многих видов пищи. Некоторые моралисты полагают, что христианство подобным образом «переросло» и запрет на гомосексуальные половые связи - это-де всего лишь часть ветхозаветной «ритуальной чистоты», а сегодня этот запрет сделался в моральном смысле неактуальным[7].
Однако Ветхий Завет не проводит систематического разграничения между ритуальными и этическими предписаниями. В том же разделе «правил святости» мы находим и запрет инцестных связей (Лев 18:6-18). Куда отнести это правило - к обрядовым или к моральным? Книга Левит вообще не знает такой классификации. В каждом случае Церкви приходится решать, сохраняют ли традиционные нормы Израиля силу и для новой общины последователей Иисуса. Чтобы разобраться, какие решения приняла ранняя Церковь на этот раз, придется обратиться к Новому Завету.
(В) 1 Кор 6:9-11, 1 Тим 1:10, Деян 15:28-29. В области сексуальной этики ранняя Церковь последовательно принимает ветхозаветное учение, включая запрет на гомосексуальные половые связи. К примеру, в 1 Кор 6:9 и 1 Тим 1:10 гомосексуалисты названы в числе лиц, творящих неугодное Богу.
В 1 Кор 6 Павел, выведенный из терпения коринфянами (некоторые члены этой общины, по-видимому, вообразили, будто достигли небывалых духовных высот и прежние этические нормы к ним более неприменимы, ср. 1 Кор 4:8, 5:1-2, 8:1-9), грозно вопрошает: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?» И далее перечисляет всех, кого относит к числу «неправедных»: «блудники, идолослужители, прелюбодеи, malakoi, arsenokoitai, воры, лихоимцы, пьяницы, злоречивые, хищники».
Я намеренно оставляю без перевода ключевые для данной главы слова, поскольку в недавнем прошлом точный перевод этих терминов оспаривался Босуэлом и другими авторами[8]. Слово malakoi - это не общепринятое обозначение гомосексуалистов (подобный термин отсутствовал и в греческом, и в древнееврейском), а часто используемое в греческом койне оскорбление - «пассивный» партнер в гомосексуальном акте, как правило, молоденький мальчик. Другое слово, arsenokoitai, не зафиксировано в более ранних греческих текстах. Некоторые ученые вообще отказываются определять его значение, но Роберт Скроггз доказал, что это слово представляет собой кальку еврейского mishkav zahur, «лежащий с мужчиной», - это выражение восходит непосредственно кЛев 18:22 и 20:13 и в раввинистических текстах относится к гомосексуальному половому акту[9]. В Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета) Лев 20:13 звучит так: «Кто возляжет с мужчиною, как с женщиною (meta arsenos koiten gynaikos), оба делают мерзость» (подстрочник мой). С полной уверенностью можно утверждать, что именно это выражение послужило источником для существительного arsenokoitai. Итак, Павел прибегает к термину, заведомо предполагающему и подкрепляющему осуждение гомосексуальных половых актов в строгом соответствии с Кодексом святости. Этот пункт учения Павла не подвергался дискуссии; в Послании нет ни намека на то, чтобы хоть один коринфянин настаивал на допустимости физической близости между лицами одного пола. Павел, несомненно, уверен, что его слушатели полностью разделяют это убеждение: люди, вступающие в гомосексуальную связь, - неправедны (adikoi, то есть, буквально, «несправедливы»), точно так же, как и все остальные злодеи из этого списка.
В 1 Кор 6:11 Павел напоминает, что коринфяне прежде допускали те или иные виды неправедного поведения из приведенного им перечня пороков. Но теперь, когда адресаты Павла перешли под власть Христа, они должны забыть прежние привычки: «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Заключительная часть главы (1 Кор 6:12-20) наставляет коринфян прославлять Бога в своих телах, ибо тела их принадлежат уже не им самим, а Богу.
Текст 1 Тим включает arsenokoitai в перечень «беззаконных ослушников», поведение которых классифицируется согласно списку пороков, где не забыто ничто - от лжи до работорговли и отцеубийства. Все это «противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога». Здесь опять же имеется в виду традиционный ветхозаветный запрет, хотя контекст не предлагает обсуждения сексуальной морали как таковой.
Другой текст, возможно, имеющий отношение к нашей проблеме, это апостольское постановление Деян 15:28-29, каковым всем обращенным в новое христианское движение из язычников приписывалось соблюдать минимальные предписания ритуальной чистоты, чтобы общаться с доминировавшими в ранней Церкви евреями:
Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживайтесь от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда (porneia)[10].
Если - что кажется вполне вероятным - данные требования основаны на предписании соблюдения ритуальной чистоты в Книге Левит (17:1-18:30), которые распространялись не только на израильтян, но и на «пришельцев, обитающих среди них» (Лев 17:8-I б, 18:26), то общий термин porneia вполне может включать все виды сексуальных извращений и отклонений, перечисленные в Лев 18:6-30, в том числе и гомосексуальные связи. Такая интерпретация ветхозаветного источника Деян 15:28-29 правдоподобна, но необязательна. В любом случае ближайший контекст Деян отражает совершенно иную животрепещущую проблему: надо ли обращенному из язычников непременно совершать обрезание, а половая мораль здесь отнюдь не является главным пунктом. И спектр поступков, относимых к запретной porneia, здесь не очерчен.
(Г) Рим 1:18-32. Ключевой для христианской этики в области гомосексуализма остается глава Рим 1, поскольку это единственное место Нового Завета, где гомосексуализм безоговорочно осуждается в богословском контексте:
То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили[11] сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца... Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение (Рим 1:24-27).
(Кстати, это единственный пассаж во всей Библии, где вообще упоминается лесбийская любовь). Поскольку этот текст цитируют очень часто, при этом обычно искажая и неверно трактуя, понадобится тщательное исследование, чтобы понять, какое место он занимает в рассуждениях Павла.
После приветствия и вступительных слов благодарности (Рим 1:1-15) апостол формулирует суть своего послания в программной декларации (1:16-17): Евангелие (благовествование) - это «сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Евангелие не сводится к этическому или философскому учению, которое слушатели вольны принять или отвергнуть; скорее, это эсхатологическое орудие, с помощью которого Бог осуществляет в мире свой замысел[12].
Как задолго до него Аввакум и много веков спустя - Мильтон, Павел на свой лад пытается «пути Творца пред тварью оправдать»[13], утверждая, что Божья праведность и справедливость (dikaiosyne theou) ныне полностью явлена в благовествовании. Главное доказательство праведности Бога: Он отдал в жертву Иисуса Христа, именно «к показанию правды Его в настоящее время» (Рим 3:25-26). Помимо всего прочего, Евангелие представляет собой оправдание Бога. Само собой, свидетельство о праведности Бога подразумевает нечто большее, нежели общее заявление о Его неколебимой этике: для Павла благовествование о Божьей справедливости становится также силой, «силой Божьей ко спасению» (1:16), милостиво избавляющей человечество от оков греха и смерти[14].
Но за этой торжествующей нотой у Павла внезапно появляется контрастный тон, когда он выносит приговор падшему человечеству: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (1:18). Греческое слово, переведенное в «Новой пересмотренной стандартной версии» как «wickedness», то есть «неправда» (adikia), - в 1:18 оно для пущей выразительности повторено дважды - воспринимается как антоним «праведности» (dikaiosyne). Лучше перевести это слово как «неправедность», чтобы не упустить из виду намеченный апостолом контраст: праведность Бога проявляется в Его гневе на неправедность людей. Дальнейшее рассуждение (1:19-32) поясняет, иллюстрирует и развивает мысль о неправедности людей. Главным образом «неправда» заключается в принципиальном отказе чтить Бога и благодарить Его (1:21). Бог явственно обнаружил свою «власть и божественную природу» в тварном мире (1:19-20), но род человеческий в целом пренебрег таким свидетельством и обратился к идолопоклонству (1:23). Гениальность Павла обнаруживается в том, что он не поддался соблазну представить каталог грехов как причину отчуждения человечества от Бога - нет, он добирается до источника проблемы: все извращения начинаются с того, что тварь взбунтовалась против Творца (1:24-31). Эрнст Кеземан комментирует это так: «Павел парадоксальным образом меняет местами причину и следствие: этические извращения не вызывают Божий гнев, а сами вызваны им»[15].
Для пущей убедительности Павел напоминает, что люди сознательно восстают против Бога и не могут оправдаться своим неведением. Здесь очень важно построение аргументации: неведение тоже оказывается последствием изначального бунта человека против Бога. Поскольку люди не признали Бога, «они осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (1:21; ср. 2 Фес 2:10-12). Павел не рассматривает индивидуальные случаи - каждый ли человек сперва познал, а затем отверг Бога - нет, он мыслит мифо-историческими категориями и обвиняет род человеческий в целом. Весь пассаж - это «история всеобщего грехопадения по Павлу»[16]. Как сформулировал Кеземан, «согласно апостолу, история определяется первородным грехом бунта против Создателя, каковой грех повторяется и распространяется на всех»[17]. Этот текст не сводится к полемическому обличению некоторых языческих грехов - это диагноз общего состояния человечества. Различные виды дурного поведения, перечисленные в стихах 24-31, суть симптомы единой болезни человечества как целого. Все отвернулись от Бога, а потому «как иудеи, так и эллины, все под грехом» (3:9).
Павел утверждает, что гнев Бога против падших созданий находит парадоксальное выражение: Бог предоставляет людям свободу следовать избранным путем, оставляет их во власти их заблуждений.
Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они замени ли истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца... (Рим 1:22-25).
Эти и дальнейшие фразы, в которых трижды повторяется рефрен «предал их Бог» (1:24, 26, 28), повторяют и оттачивают основную мысль Павла: в конечном счете идолопоклонство оскверняет и язычника, и то, чему он поклоняется. Божий суд попускает до конца раскрыться парадоксу греха: потребность твари прославлять саму себя приводит к самоуничижению. Нежелание чтить Творца ведет к бессмысленному искажению творения.
Конкретные отклонения, перечисленные в 1:24-31, служат у Павла двум главным полемическим целям. (Заметьте, что пороки, названные в 1:29-31, никак не связаны с сексуальным поведением).
1). Эти многообразные проявления «осуетившегося ума» и «недолжных дел» рассматриваются как проявление (не причина!) Божьего гнева, наказание вроде десяти казней египетских[18]. Это не предостережение читателям - мол, если совершать указанные здесь поступки, гнев Божий неотвратим - скорее, Павел, в лучших традициях еврейских пророков, приводит наиболее яркие примеры распространившегося среди людей беззакония в доказательство того, что гнев Божий и Его суд уже действуют в мире.
2) Такое нагромождение грехов соответствует вынесенной Павлом оценке: человечество глубоко погрязло в «нечестии и неправде» (1:18б).
Жан Кальвин ясно увидел, что тему гомосексуализма Павел привел в качестве примера, иллюстрирующего его мысль:
Безбожие - это скрытое зло, а потому Павел прибегает к более очевидному примеру (т.е. ссылается на гомосексуальные акты), дабы показать, что никто не избегнет справедливого суда, ибо безбожие вызвало последствия, каковые явно обнаруживают свидетельство гнева Божьего... Павел перечисляет эти признаки, доказывающие ущербность людей и отпадение от Бога[19].
Безусловно, обличение гомосексуальных актов носит вторичный, и илюстративный характер в данном рассуждении Павла[20], однако этот пример и Павел, и его читатели считали самым наглядным. Мятеж против Создателя, которого можно увидеть и познать в сотворенных Им вещах, с очевидностью проявляется в подобном нарушении половых различий, составляющих часть творческого замысла Бога. Упоминание Творца сразу же отсылало читателей Павла к истории творения (Быт 1:-3), где говорится: «сотворил Бог человека по образу Своему... мужчину и женщину сотворил их» и велел «плодиться и размножаться» (Быт 1:27-28)[21]. Как мы уже отмечали в главе, посвященной разводу, в Быт 2:18-24 сказано, что мужчина и женщина сотворены друг дли друга до такой степени, что «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут оба одна плоть». Итак, творческая активность Бога закладывает богословские основания для представления о мужчине и женщине как о естественной, дополняющей друг друга паре. В Рим 1 Павел резко противопоставляет этой концепции гомосексуализм как своего рода «таинство» антирелигии людей, не чтящих в Боге Творца. Предаваясь гомосексуализму, люди обнаруживают внешние и явные признаки внутренней духовной реальности - они нарушают замысел Создателя. Вот почему Павел отнюдь не случайно выбирает в качестве иллюстрации грехопадения именно гомосексуализм: с риторической точки зрения, этот пример как нельзя более уместен, поскольку наглядно передает принципиальный отказ человечества признавать верховную власть Творца.
В этом отрывке большую роль играет метафора «замены», подчеркивающая непосредственную связь между отвержением Творца и отказом от предусмотренного творением распределения половых ролей. Образ «замены» впервые возникает в Рим 1:23, где Павел обличает мятежников, которые «славу нетленного Бога изменили (ellaxan) в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То же обвинение кратко повторено в 1:25, где оно впервые сочетается с обличением сексуальных отклонений: поскольку «они заменили (metellaxan) истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца», Бог предал их «нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Вплоть до этого момента осуждение касалось любых сексуальных извращений, как гетеро-, так и гомосексуальных.
Но в 1:26-27 апостол вносит новую ноту в историю трагической «замены», осуществляемой человечеством: «Женщины их заменили (metellaxan) естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались друг на друга». Упорное повторение глагола metellaxan образует выразительную связь между мятежом против Бога и тем «срамом» (1:27), который является прямым следствием и проявлением этого мятежа.
Описывая «замены», на которые пустилось заблудшее человечество. Павел в 1:26 впервые вводит в свое рассуждение понятие «природы» (physis). Люди заменили «естественное употребление на такое, которое противоположно природе» (ten physiken chresin eis ten para physin). Что Павел подразумевает под «природой» и откуда вообще взялась эта концепция?
И в трудах по этике греческих и римских философов, и в художественных текстах изобилуют примеры противопоставления «естественного» (kata physin) и «противоестественного» (para jiliysin) поведения. Эти категории играют заметную роль в стоицизме, поскольку это философское течение непосредственно отождествляет моральное поведение и жизнь kata physin. Наиболее часто оппозиция «естественного» и «противоестественного» поведения возникает с целью разграничить гетеросексуальные и гомосексуальные отношения (тем более что в греческом языке отсутствуют такие удобные обозначения, как «гетеросексуальный» и «гомосексуальный»)[22].
Представление о гомосексуализме как о поведении «противоестественном» с особым пылом отстаивают эллинистически к еврейские авторы, в глазах которых философское понятие о «соответствии природе» оказывается близким Закону Моисееву Иосиф Флавий пишет:
Закон не признает никаких сексуальных связей, за исключением естественного (kata physin) союза мужа и жены, и тот лишь с целью деторождения. Но он с отвращением взирает на совокупление мужчины с мужчиной и карает тех, кто занимается подобными делами, смертью[23].
Так и у Плутарха Дафний, один из участников «Диалога о любви», осуждает «противный природе союз с мужчинами» (hepara physin how ilia pros arrenas), противопоставляя его «естественной» (tephysei) «любви между мужчинами и женщинами». Несколькими строками ниже Дафний сокрушается о том, что мужчины, «сообщающиеся с мужчинами», становятся «изнеженными и слабыми», потому что «вопреки природе (paraphysin) позволяют, говоря словами Платона, «покрывать себя словно скот» (Диалог о любви, 751С, Е). Ссылка на Платона подтверждает, что Павел отнюдь не был первым, кто применил к гетеросексуальным и гомосексуальным связям дихотомию kata physin/para, physin. Частое появление этой терминологии в этических произведениях эпохи эллинизма свидетельствует о традиции, которую можно проследить по крайней мере вплоть до Платона (Законы I.636C). Практически всегда эта дихотомия возникает в связи с осуждением аморальности или неприличия «противоестественных» гомосексуальных отношений.
Во временаПавла противники гомосексуализма, особенно в сфере эллинизированного иудаизма, привычно относили его к рубрике para physin. И в Рим 1 Павел не вносит никаких дополнений в уже существующую богословскую мысль; он опирается на культурную традицию эллинистического иудаизма, в которой гомосексуализм рассматривался как извращение и мерзость (причем по сравнению с некоторыми своими современниками, евреями и язычниками, Павел высказывается достаточно сдержанно), и рассчитывает, что читатель разделяет эту негативную оценку - это подразумевается и композицией, и логикой отрывка. Хотя Павел не дает четкого определения «природе», здесь она, по-видимому, отождествляется с сотворенным порядком вещей. В таком традиционном словоупотреблении концепция «природы» отнюдь не вытекала из эмпирического наблюдения фактов - скорее, это было понятием о том, как должен быть устроен мир, каким он сотворен Богом и открывается в Писаниях и Законе. Люди, вступающие в половую связь para physin, бросают вызов Творцу. В этом обнаруживается отчуждение людей от Бога.
Сформулируем кратко учение Павла по этому вопросу. Рим 1 не ставит себе задачи преподать некий кодекс сексуальной этики, этот отрывок не представляет собой также предостережения о грядущей Божьей каре всем, кто виновен в тех или иных грехах. Павел ставит диагноз, нащупывает недуг человечества, и широко распространенный гомосексуализм служит, с его точки зрения, лишним доказательством того, что люди действительно восстают против Создателя. Источник греха - отказ почитать Бога и благодарить Его (1:21), а наказание выражается в том, что Бог попускает идолопоклонство, пока не приведет людей к окончательной гибели. Гомосексуальные связи не провоцируют «гнев Божий» (Рим 1:18), они сами - последствие принятого Богом решения «предать» мятежные создания их собственным заблуждениям и тщетным желаниям. Типы неправедного поведения в Рим 1:26-31 складываются в каталог симптомов, а болезнь у всех, иудеев и эллинов, одна: они отвернулись от Бога и подпали под власть зла (ср. Рим 3:9).
Теперь, когда мы разобрали контекст, можно сделать несколько существенных выводов:
Павел не рассматривает индивидуальную биографию грешника-язычника, тем более что отнюдь не всякий язычник узнает истинного Бога Израиля, а затем вновь впадает в идолопоклонство. Слова Павла «Они заменили истину Божью ложью» дают общее представление о глобальном грехопадении человечества[24]. Грехопадение постоянно проявляется в различных типах противного Богу поведения, которые перечислены в стихах 24-31.
Павел особо выделяет гомосексуальные связи, поскольку, с его точки зрения, это наиболее наглядный пример того, как людская испорченность искажает сотворенный Богом порядок. Творец создал мужчину и женщину друг для друга, чтобы они сочетались в пару и имели потомство. Когда человек «изменяет» предусмотренные творением роли на гомосексуальную связь, он становится образцом духовного состояния тех, кто «заменили правду Божью ложью».
Однако гомосексуальные акты не являются самым отвратительным грехом; они заслуживают не большего порицания, чем любые другие проявления человеческой неправедности, названные в этом отрывке (ст. 29-31). В принципе они принадлежат к той же категории, что и алчность, злоречие и неуважение к родителям.
Гомосексуальная активность не навлекает Божью кару, она сама по себе - кара, как «противоположность награде». Павел здесь продолжает иудаистскую традицию. Книга Премудрости Соломона, сочинение межзаветной эпохи, оказавшее несомненное влияние на Рим 1, формулирует эту мысль так: «Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями» (12:23).
В дискуссиях последних лет вновь и вновь повторяется соображение, что Павел-де осуждает исключительно гомосексуальные акты, совершаемые гетеросексуалами, причем как вариант адюльтера, поскольку они действительно «заменили естественное употребление противоестественным». Согласно этой концепции, негативная оценка Павла не применима к людям, «от природы» склонным к гомосексуализму. Однако подобная интерпретация не выдерживает критики. «Замена» не сводится к индивидуальному решению; Павел характеризует падшее состояние всего языческого мира. К тому же Павел, как и любой его современник, понятия не имел о «сексуальной ориентации». Вычитывать подобный смысл из этого отрывка, предполагая, будто Павел осуждал лишь тех, кто вел себя вопреки индивидуальной сексуальной ориентации, значит, допускать вопиющий анахронизм. Любой вид гомосексуальных связей Павел рассматривает как несомненное свидетельство трагической запутанности нашего положения, отчуждения человечества от Господа и Творца.
Но следует отметить еще один момент. Отрывок Рим 1:18-32 по всем правилам гомилетики таит в себе жало: здесь обвинения идут крещендо, провозглашается гнев Божий за все виды неправедности, ощущается знакомый дух иудаистского обличения языческой аморальности. В читателе разжигается негодование против «других»: неверующих, идолопоклонников, аморальных противников Бога. Но в 2:1 ядовитое жало вонзается в самого читателя: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Читатель, радостно подхвативший обвинение неправедным, «неизвинителен» (anapologetos) перед Богом (2:1), как неизвинительны (anapologetos) те, кто отказывается признать Бога (1:20). Павел решается на радикальный шаг: он провозглашает всех людей, равно иудеев и язычников, виновными перед праведным судом справедливого Бога.
То есть в глазах Павла самодовольное осуждение гомосексуализма столь же греховно, как и сам гомосексуализм. Это отнюдь не означает, что порицание гомосексуальных актов и других видов греховного поведения в Рим 1:24-32 было всего-навсего уловкой - нет, эти грехи остаются грехами (ср. также Рим 6:1-23)[25]. Но никто не изъят от Божьего суда; все мы отчаянно нуждаемся в Его милосердии. Предостережение Павла принципиально меняет основания современной дискуссии о гомосексуализме: ни у кого из нас нет почвы под ногами, нет надежной «платформы», с которой мы могли бы произнести приговор другим людям.
Всякий, числящий за собой подобное преимущество, обманывается иллюзией и забывает о Благой вести, уравнявшей нас всех перед святым Богом.
2. Синтез: гомосексуализм в каноническом контексте
Хотя лишь немногие библейские тексты вообще упоминают однополую любовь, все они единодушно и безоговорочно осуждают ее, а потому и в новозаветной этике не возникает необходимости примирения тезиса и антитезиса в новом синтезе. Тем самым подход к гомосексуализму заметно отличается от разбора таких вопросов, как рабство или подчиненное положение женщин, относительно которых Библия дает разноречивые суждения, порождающие внутреннее напряжение. О гомосексуальных актах все библейские тексты отзываются одинаково.
Однако богословское рассуждение о гомосексуализме не может удовлетвориться кратким перечнем текстов, непосредственно затрагивающих эту проблему. Нужно обратить внимание на более широкий контекст, в который Писание помещает данную дискуссию: какой подход к сексуальности человека в целом предлагает канон и как можно истолковать в этом более широком каноническом контексте немногочисленные тексты, явно и конкретно посвященные гомосексуализму. Чтобы поместить запрет на гомосексуальные акты в канонический контекст, нужно принять во внимание следующие принципиальные моменты библейской концепции бытия человека перед Богом:
(А) Сексуальность человека входит в творческий замысел Бога. Начиная с Быт 1 Писание постоянно напоминает: Бог создал мужчину и женщину друг для друга, и половое желание находит законное удовлетворение в гетеросексуальном браке (см., например, Мк 10:2-9; 1 Фес 4:3-8; 1 Кор 7:1-9; Еф 5:21-33; Евр 13:4. И Песнь Песней, какое бы истолкование ей ни придавалось, славит любовь и физическую близость мужчины и женщины). Эти основные принципы уже были сформулированы в главе, посвященной разводу, а потому нет надобности повторять их здесь. Нормативный канонический взгляд на брак задает тот позитивный фон, на котором и следует воспринимать немногочисленные, но крайне суровые высказывания Библии против гомосексуализма.
(B) Падшее состояние человечества. Анализируя тяжкое положение людей (с наибольшей остротой этот анализ проведен в богословии Павла), Библия выстраивает четкую картину нашего рабства греху. Мы, правнуки Просвещения, рады были бы представлять себя в качестве свободных существ, которые разумно и морально выбирают наиболее правильный из всех возможных поступков. Однако Писание разоблачает подобные оптимистические иллюзии, показывая нам, как глубоко проникла в наши души склонность к самообману. Иеремия сокрушался: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (17:9). Рим 1 изображает путаницу в умах людей и их глубочайшее самодовольство: «Осуетились в умствованиях своих, помрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели... Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим 1:21-22, 32). Поскольку мы пребываем в падшем состоянии, мы не обладаем свободой не грешить, мы - «рабы греха» (Рим 6:17), который искажает восприятие, подавляет волю и препятствует послушанию (Рим 7). Искупление (этот термин означает «освобождение от рабства») - это Божий акт эмансипации, который освобождает нас из-под власти греха и отдает под преобразующую власть Бога, дающую нам силы соблюдать праведность (Рим 6:20-22, 8:1-11; ср. 12:1-2).
Так суровая библейская антропология отвергает разумное с виду предположение, будто моральному осуждению подлежат лишь поступки, совершаемые по свободному выбору. Напротив: грех по самой своей природе не бывает свободным выбором. Это и означает жить «по плоти», как падшее творение. Мы находимся в оковах греха и тем не менее за свои дела подлежим праведному суду Божьему. В свете этой богословской антропологии не остается возможности утверждать, что гомосексуальная ориентация не является аморальной, поскольку человек не выбирал ее добровольно.
(С) Демифологизация секса. Библия идет вразрез с присущим нашей цивилизации культивированием сексуального удовлетворения. Писание, как и все последующие поколения верующих христиан, свидетельствует, что и без сексуальных отношений можно жить полной жизнью - жизнью, полной свободы, радости, служения. Как бы это ни казалось дико нашим современникам, некоторые новозаветные тексты (Мф 19:10-12, 1 Кор 7) рекомендуют именно целибат как основу христианской жизни. В том мире, который предстает перед нами на страницах Писания, секс играет второстепенную роль. Разумеется, мощь сексуального влечения нельзя отрицать, но ее учились сдерживать либо с помощью брака, либо с помощью целомудрия. В перспективе канона сексуальность никогда не становится основой для самоопределения человека, для обретения смысла жизни или подлинного удовлетворения. Важно другое: справедливость, милосердие и вера (Мф 23:23). Любовь Божья гораздо важнее всех человеческих чувств. Сексуальному удовлетворению отводится в этой картине лишь место второстепенного блага.
Как с учетом этой более широкой канонической перспективы мы можем применить три образа - общины, креста и нового творения - к истолкованию новозаветного свидетельства о гомосексуализме? Следует помнить, что эти образы рассматриваются не как самостоятельные богословские мотивы, а как орудие более четкого осмысления новозаветных текстов. Поскольку в данном случае мы располагаем весьма скудным набором текстов, использование ключевых образов также окажется ограниченным. Но все же кое-какие наблюдения нам удастся сделать.
Община. В Ветхом Завете предостережения против гомосексуальной активности касаются не только личной этики индивидуума, но и здоровья, целостности и чистоты избранной общины. Эта точка зрения наиболее отчетливо проступает в Кодексе святости из Левит. Непосредственно к запрету гомосексуальной деятельности (Лев 18:22) примыкает общее предостережение, подытоживающее все перечисленные выше предписания относительно половой жизни (Лев 18:6-23):
Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас: и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами (Лев 18:24-26).
Израиль, святой народ, призван соблюдать Божьи заповеди ради общего благополучия. Люди, нарушающие эти заповеди, оскверняют не только самих себя, но и всю общину в целом. Вот почему «если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего» (Лев 18:29).
Так и призыв Павла к коринфянам: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших» (1 Кор 6:20) рождается из страстного попечения (неоднократно выраженного в 1 Кор) о единстве и освящении общины как целого. Блуд с проституткой помимо всего прочего плох и потому, что «тела ваши суть члены Христовы» (6:15). Аморальное поведение оскверняет тело Христа. Крещением христианин входит в единое тело, здоровье которого зависит от поведения каждого из членов. Грех подобен распространяющейся в теле инфекции, а потому моральные и аморальные поступки затрагивают нечто большее, чем индивидуальную свободу или склонности. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены» (1 Кор 12:26). Эта аргументация не применяется конкретно к каждому из перечисленных в 6:9-10 грехов, но не требуется особого напряжения ума, чтобы увидеть: в глазах Павла Церковь похожа на Израиль (хотя не тождественна ему), которому дается код святости. Именно такой логикой обуславливается требование к коринфской общине отлучить человека, предающегося блуду со своей мачехой (5:1-13)[26]. В заданной Павлом перспективе та же логика, несомненно, применяется и к malakoi и arsenokoitai 1 Кор 6:9. Община людей, омытых, освященных, оправданных во имя Господа Иисуса Христа, должна была отмежеваться от подобного поведения. Новый Завет никогда не рассматривает сексуальное поведение как частный акт, совершаемый по взаимному согласию двух взрослых людей и никого, кроме них, не затрагивающий. Согласно Павлу, любые поступки христианина, в том числе его сексуальная деятельность, отражаются на всем Теле Христовом.
Нужно уточнить, что целое, о котором печется Павел, это Церковь, а не гражданское общество, и в этом заключается одно из существенных расхождений между Лев и Кор. В светском обществе невмешательство в частную жизнь может оказаться весьма полезным правилом, но гражданская свобода человека не предполагает такой же свободы сексуального поведения для члена церкви, поскольку здесь каждый несет ответственность за духовное благосостояние общины в целом, и отсюда вытекает особая, гораздо более строгая система норм и критериев, по которым будут оцениваться наши поступки. Со своей стороны церковь обеспечивает своим членам общность, koinonia, внутри которой они с большей уверенностью могут осуществлять жизнь в послушании и вере.
Крест. Ни один новозаветный текст не соотносит напрямую проблему гомосексуализма со смертью Иисуса, однако в Рим эта связь присутствует подспудно и играет принципиальную роль. Мятеж и неправедность человечества, проиллюстрированные примерами в Рим 1:18-32, привели к тому критическому состоянию, когда смерть Иисуса сделалась неизбежной. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим 5:8). Человеческая неправедность, подробно расписанная в Рим 1, искуплена Божьей праведностью, подвигшей Иисуса умереть за грешников (Рим 3:23-25) и таким образом даровавшей им новую жизнь:
Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу (Рим 8:3-4).
Как это деяние Бога применить к интерпретации сказанного в Рим 1 о гомосексуализме?
Прежде всего, гнев Божий - проявляющийся в том, что Бог «предал» мятежное человечество его страстям и обманам - это еще не последнее слово. Евангелие креста провозглашает, что Бог любит нас, даже пока мы пребываем в состоянии мятежа, и что мерой этой любви служит жертвенная смерть Его Сына. Эта фундаментальная богословская логика лежит в основе «жалящего» обличения самонадеянной «праведности» в Рим 2:1: не спешите осуждать других, ибо сами мы в такой же степени, как люди, «оскверняющие свои тела», подлежим суду Божьему, и на этих людей в такой же степени распространяется безграничная жертвенная любовь Бога. Вот чем должна руководствоваться христианская община в своей реакции на лиц, имеющих гомосексуальные наклонности. Даже если какие-то поступки этих людей противоречат Божьему замыслу, крест представляет образец того, как должна реагировать община веры: не осуждением, а самоотверженным служением. Эта весть с особой настойчивостью обращена к Церкви в пору, когда среди гомосексуалистов распространилась чума СПИДа, причиняющая неимоверные страдания. (Не следует также забывать, что многие члены гомосексуальной общины встретили этот кризис актами самоотверженной и безусловной любви, которые вполне соответствуют образцу креста, и всей Церкви не помешало бы последовать в этом их примеру).
Далее, крест кладет конец прежней жизни под властью греха (Рим 6:1-4). Ни один человек, кто во Христе, не может быть пленником своего прошлого или какой-либо психологической или биологической «необходимости». Только с верой в преобразующую власть Креста мог Павел произнести слова ободрения, обращенные ко всем христианам, которые, подобно моему другу Гэри, боролись с гомосексуальным влечением:
Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию (Рим 6:12-14).
Павел помещает гомосексуальное поведение в область греха и смерти, откуда выводит лишь крест Божий. Все это означает, что обличение гомосексуализма в Рим 1 следует читать только в контексте Послания в целом, в свете этой вести милости и надежды, дарованной нам крестом Христовым.
Новое творение. И здесь то же самое: ни осуждение гомосексуализма, ни надежду на преображение к новой жизни нельзя вырвать из эсхатологического контекста Послания к Римлянам. Христианская община живет в эпоху напряжения между «уже» и «еще не». Мы уже обрели радость Святого Духа, мы уже ощутили на себе преобразующую благодать Божью, но мы еще не ощутили всей полноты искупления, мы полагаемся на веру, а не видим воочию. Творение стонет в оковах, в страданиях, «и не только тварь, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим 8:23). Помимо прочего, это означает, что христиане, освобожденные смертью Христовой из-под власти греха, продолжают борьбу, поскольку в настоящем жизнь в вере не дается без борьбы. «Искупление тела нашего» - это упование на будущее; окончательное преображение нашего падшего физического состояния произойдет после воскресения. Те, кто настаивает на полном осуществлении всего прямо сейчас, страдают от подростковых иллюзий. Разумеется, преображающая власть Духа проявляется среди нас уже сейчас, но столь же явственно проступает и «еще нет»: мы живем в реальности искушения, в реальности тяжкой борьбы за сохранение веры. В это время между временами для некоторых людей дисциплина воздержания может оказаться единственной возможной альтернативой распущенной сексуальности. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем со стойкостью» (Рим 8:18)[27].
3. Герменевтика: реакция на новозаветное обличение гомосексуальности
Как показало это экзегетическое обсуждение, Новый Завет не допускает исключений или недомолвок, которые хоть в каких-либо случаях предполагали допустимость гомосексуальной активности. Вопреки усилиям некоторых комментаторов, пытавшихся перетолковать и устранить эти свидетельства, осуждение гомосексуального поведения в Новом Завете остается столь же однозначным и единодушным. Однако Церковь должна иметь дело с рядом трудных вопросов, и все эти вопросы герменевтические. Как применить данные тексты к проблемам, с которыми мы сталкиваемся в конце XX века, когда от Церкви со все большей настойчивостью требуют принятия и признания гомосексуалистов?
(А) Модальность и нормативность. Наш обзор того небольшого числа текстов, которые имеют непосредственное отношение к проблеме, принес неожиданный результат: оказалось, что нигде в Новом Завете нет ясно сформулированного закона, запрещающего гомосексуальную ориентацию. Само собой, текст Левит сурово и решительно запрещает однополую любовь между мужчинами, и Павел, как мы убедились, опирается на это правило. В Рим 1:32 просматривается аллюзия на Лев 20:13, где для мужчины, который «ляжет с мужчиною, как с женщиною», предусматривалась смертная казнь, но Павел не повторяет эту формулу, и там не предписывает никаких правил в этой области. Итак, если новозаветные тексты рассматривать строго в той модальности, в какой они написаны, мы не можем ссылаться на Рим 1 как на источник правил сексуального поведения. Также и 1 Кор 6:9-11 не дает никаких правил, регулирующих поведение христиан, - более того, здесь говорится, что христиане уже перешли от прежней жизни в грехе к новой жизни, в которой они принадлежат Иисусу Христу. Иными словами, этот текст представляет собой описание нового, на символическом уровне, мира, внутри которого должны выноситься суждения о поведении христианина (подробнее об этом см. ниже). Учитывая, какое внимание Павел уделяет роли Закона Моисеева в жизни христиан, было бы, мягко говоря, странно читать (и почитать) Павла как основоположника нового закона относительно гомосексуальности. Даже если запрет porneia в апостольском постановлении (Деян 15:28-29) распространялся также на гомосексуальные акты, этот текст останется единственным примером законодательного решения этой проблемы во всем Новом Завете, - но, как мы убедились, подобное понимание данного текста хотя и вероятно, но не безусловно.
Рассматриваемые нами новозаветные пассажи формулируют идеи, которые можно рассматривать в качестве принципов, регулирующих сексуальное поведение. Из Рим 1 можно с полным основанием вывести принцип, согласно которому человек обязан своими поступками воздавать должную честь Творцу. С учетом истории творения, рассказанной в Книге Бытия, этот принцип подводит Павла к выводу, что гомосексуализм противен воле Бога. Однако такое применение данного принципа связано с конкретной концепцией иерархии творения. Сам по себе, за пределами библейского повествования о творении, этот же принцип мог бы послужить доводом в пользу совершенно иных суждений. Например, если бы гомосексуализм на основе эмпирических фактов расценивался как «естественная» составляющая сотворенного мира, данный принцип послужил бы сильным доводом в пользу признания гомосексуализма Церковью. Этот пример лишний раз убеждает нас в том, в сколь малой степени общий принцип способствует формированию норм, или, точнее говоря, в том, что нормативное применение принципа главным образом зависит от конкретного повествовательного контекста.
Так и из несколько более широкого контекста 1 Кор 6 мы можем извлечь принцип: «Прославляйте Бога в ваших телах» (1 Кор 6:206). Прекрасный совет, но как он соотносится с конкретной проблемой, которую мы рассматриваем сейчас? В «родном» контексте этот принцип дополнен более конкретными указаниями 1 Кор 6:9-10 и 6:15-18. Если вырвать принцип из этого окружения, его можно истолковать как угодно, вплоть до: «Славьте божество своего тела и как можно шире раздвигайте границы своего сексуального опыта». Разумеется, такое истолкование стало бы чудовищным искажением изначального смысла. Вот почему интерпретация «библейских принципов» должна оставаться в определенных рамках, заданных тем применением, которое дают этим принципам сами новозаветные авторы.
Все парадигмы, предлагаемые Новым Заветом для гомосексуального поведения, сводятся к крайне стереотипным и негативным наброскам в трех текстах Павла (Рим 1:18-32, 1 Кор 6:9, 1 Тим 1:10). Новый Завет ничего не сообщает о христианах-гомосексуалистах, не содержит ни единого сюжета о любовниках одного пола, не содержит метафор, которые предполагали бы позитивное отношение к гомосексуализму. Порой в литературе натыкаешься на досужие домыслы: Иисус якобы был геем (ибо у него был «возлюбленный ученик», ср. Ин 13:23), а Мария и Марфа были не сестрами, а лесбийской парой[28]. Подобного рода экзегетические курьезы, не принимаемые серьезными учеными, - всего лишь жалкая попытка создать новозаветную «индульгенцию» для гомосексуальной деятельности, при том, что ничего подобного в Новом Завете нет. Если бы Иисус или Его поеледователи практиковали гомосексуализм или хотя бы проявляли к нему терпимость, это вызвало бы крайнее возмущение в иудейской культуре I века. Такое столкновение оставило бы в традиции не менее заметный след, чем обыкновение Иисуса делить трапезу с мытарями и блудницами. Однако никаких намеков на подобное противостояние не осталось. Незначительное количество свидетельств, предоставляемых Новым Заветом в качестве парадигмы, единодушно в своем негативном отношении к однополой любви.
Более тонкий парадигматический довод в защиту гомосексуализма предлагают люди, сопоставляющие принятие геев в Церковь XX века с принятием язычников в христианскую общину 1века[29]. Деян 10-11 свидетельствует: Церковь раздвигала границы христианской общины, признавая присутствие Божьего Духа в людях и группах, которые прежде считались нечистыми. Эта аналогия чрезвычайно интересна и заслуживает подробнейшего изучения. Однако остается вопрос, насколько эта аналогия уместна и может ли она перевесить все перечисленные выше факты, укрепляющие решимость Церкви не принимать гомосексуалистов. (См. далее рассуждение о роли опыта.)
Ясно и однозначно говорит против гомосексуализма и мир новозаветных символов. Рим 1 изображает, как мы уже говорили, человечество в состоянии мятежа против Бога, погрязшее в неправедности и смятении. Среди прочих отталкивающих черт этого портрета упомянуты и гомосексуальные акты - однозначно и безоговорочно - как один из симптомов трагической путаницы и мятежа. Если понимать эту модальность Нового Завета как авторитарную, то и этот портрет надо принимать как «откровенную реальность», как абсолютно авторитетное откровение об истинном состоянии человечества. Из такого понимания текста вытекает нормативная оценка гомосексуальной активности как искажения Божьего порядка творения.
Рим 1 содержит также более чем достаточно информации, которая должна повлиять на представление о Боге: Господь наш – Бог праведный, создавший людей, чтобы они повиновались Его замыслу, но вместе с тем наделивший их свободой восставать против Него; Он справедливо осуждает мятеж людей и проявляем свой «гнев», позволяя людям нести законные последствия своего греха. Такая характеристика Бога подлежит диалектическом) сопоставлению со столь же тщательно разработанным в Рим портретом милосердного Бога, справедливость которого главным образом проявляется в акте избавления людей смертью Иисуса Христа, чья праведность преображает нас и наделяет силами. Однако в противоположность другим новозаветным текстам, где характер Бога представляется как образец для подражания (напр., Мф 5:43-48), портрет Бога в Рим 1 предлагается не столько в качестве источника конкретных норм, сколько в качестве источника мотивации для этичного поведения.
Итак, Новый Завет ставит нас лицом к лицу перед реальностью: в какой мере был искажен назначенный Богом порядок человеческой жизни. Чтобы правильным образом использовать эти тексты в морализаторских рассуждениях о гомосексуализме, не следует пытаться выжать из них правила, но нельзя и выводить из них абстрактные «принципы». Прежде всего нужно обратить внимание на то, как эти тексты обрисовывают мир символов, в рамках которого и должно понимать нашу сексуальность. Если ключевой текст Рим 1 может быть использован как основа нормативной оценки гомосексуальности, то он может функционировать в качестве инструмента диагностики, скальпеля, вскрывающего истину об оскверняющей человечество «замене» естественного противоестественным. Согласно Павлу, гомосексуальные отношения, как бы ни понимали их (и как бы ни оправдывали, см. Рим 1:32) падшие и растерянные люди, являются трагическим искажением тварного устройства. Если мы признаем в этом вопросе авторитет Нового Завета, нужно научиться соответствующим образом относиться к гомосексуальности. (Очевидно, эта оценка оставляет открытыми множество вопросов, в том числе вопрос, как наилучшим образом пастырски решать эту проблему). Тем не менее, мы пока еще не решили, как свидетельство Нового Завета соотносится с другими моральными высказываниями по этой проблеме. Признаем ли мы за анализом Павла нормативную силу?
(Б) Другие авторитеты. Признав новозаветный диагноз гомосексуальности как симптома отдаления человека от Божьего замысла, мы, тем не менее, должны еще подумать над тем, как это учение соотносится с другими источниками этической философии. Адекватное обсуждение этой проблемы заняло бы слишком иного места. Здесь я предлагаю лишь несколько кратких соображений - отправные пункты для дискуссии.
Гораздо более решительно, чем само Писание, гомосексуализм обличает традиция христианской Церкви, на протяжении более чем девятнадцати столетий рассматривавшая такое поведение как богопротивное. Исследование Босуэла на обширнейшем материале доказывает непримиримую враждебность этического учения христианства гомосексуальной практике[30]. Только в последние двадцать лет впервые начали ставить серьезные вопросы о справедливости полного церковного запрета на этот тип поведения. При этом в традиции не обнаруживается сколько-нибудь надежной опоры на Новый Завет - тексты, подобные Рим 1, могли бы скорее смягчить традиционное отвержение гомосексуалистов как якобы особо омерзительных грешников. (К примеру, Иоанн Златоуст, известный богослов и епископ IV века, заявлял, что гомосексуальный акт хуже прелюбодеяния и даже убийства[31]. Библейские тексты не дают ни малейшего основания для такого утверждения). Но выстроить аргументацию в пользу признания гомосексуализма путем противопоставления авторитета традиции и авторитета Писания все равно не удастся - это сопоставление только усилит запрет, уже сформулированный в Библии.
Более туманная картина возникает при попытках сослаться на разум или данные науки. Большое количество материалов, собранных современной психологией и другими науками, доказывает широкое распространение гомосексуальной практики. Некоторые исследователи подсчитывают, что предпочтение однополой любви обнаруживается у 10% населения, и кое-кто из теоретиков считает гомосексуальную ориентацию врожденной (или же она закладывается в самом раннем возрасте), а потому неизменной. Такой точки зрения придерживается большинство людей, выступающих за полное допущение гомосексуализма в христианской среде: поскольку гомосексуальная ориентация определяется генетически, говорят они, любая форма неодобрения этой склонности представляет собой дискриминацию, граничащую с расизмом. Однако другие специалисты видят в гомосексуальной ориентации тип нарушения развития или «символическую путаницу». Кому-то из психотерапевтов удается вроде бы добиться существенных клинических результатов и даже помочь человеку с гомосексуальной ориентацией «перестроиться» на гетеросексуальную; однако коллеги этих врачей опровергают подобную возможность. В настоящий момент укоренилось мнение, что лечение может лишь способствовать модификации поведения, но не может вызвать изменения в сексуальной ориентации индивидуума.
Впрочем, есть причины усомниться в теории, согласно которой сексуальная ориентация является врожденной. Кросскультурологический труд, опубликованный Дэвидом Гринбергом, профессором социологии Нью-Йоркского университета, подводит к выводу о том, что гомосексуальное самоопределение закладывается социально[32]. Согласно Гринбергу, различные культуры предлагают различные парадигмы однополого эротического поведения, а представление о гомосексуальной «ориентации» как о врожденной и пожизненной индивидуальной черте характера возникло сравнительно недавно. Разумеется, даже если Гринберг прав, этот аргумент не может служить доводом в пользу теории о генетической предрасположенности к гомосексуализму или против нее.
И вообще, этиология гомосексуальной ориентации не может быть решающим фактором для формирования нормативной христианской этики. Мы не должны занимать ту или иную сторону в споре между «природой» и «культурой». Даже если бы удалось показать, что склонность к своему полу каким-то образом закладывается генетически, это не сделало бы гомосексуальное поведение морально приемлемым[33]. Христианская этика отнюдь не признает любые врожденные свойства человека непременно желательными или благими. Прояснить это поможет аналогия с алкоголизмом (речь идет только об аналогии): накоплено немало доказательств того, что некоторые люди имеют врожденную предрасположенность к алкоголизму. Однажды отведав спиртного, они начинают испытывать столь сильную тягу к нему, что противодействовать ей возможно лишь с помощью психолога, поддержки общины и абсолютного воздержания. Теперь мы привыкли отзываться об алкоголизме как о «болезни» и следим за тем, чтобы неодобрительное отношение к подобного рода поведению не мешало нам окружить любовью и заботой человека, страдающего от недуга. Возможно, такого же отношения заслуживает и тяга к лицам своего пола[34].
Еще меньшее значение для нормативной этики имеет статистика распространенности гомосексуального поведения. Даже если 10% населения США обнаруживает гомосексуальные предпочтения (а эта цифра остается сомнительной),[35] нормативный вопрос тем самым не решается: как будет «правильно», не определяется тем, как «есть». Если бы результаты опроса показали Павлу, он бы заметил печально: «Да, грех силен в этом мире».
Наиболее серьезным аргументом защитников гомосексуалистов в церкви остается ссылка на опыт. Если люди живут в стабильном и полном любви гомосексуальном союзе и утверждают, что ощущают в этом союзе не гнев Бога, а благодать, то как мы должны оценивать подобные притязания? Заблуждался ли Павел? Или эти притязания - всего-навсего очередное проявление самообмана, о котором также предостерегал апостол? Или следует допустить появление за пределами этих двух непримиримых альтернатив каких-то новых факторов, которые Павел попросту не мог предвидеть? Вполне ли совпадает поведение, осужденное Павлом, с нынешним опытом гомосексуальных отношений? Так, Скроггз утверждает, будто новозаветное осуждение гомосексуализма распространяется исключительно на конкретную модель «эксплуататорской» педерастии, которая была присуща эллинистической культуре, а потому это осуждение совершенно не применимо к опыту современного мира - опыту гомосексуальных отношений, основанных на взаимной любви[36]. По моему мнению, позиция Скроггза расходится с Рим 1, поскольку там ничего не сказано о педерастии и неодобрение Павла вызвано отнюдь не «эксплуатацией».
Но факт остается фактом: многие христиане-гомосексуалисты, в том числе мой близкий друг Гэри и некоторые из числа моих способнейших студентов-богословов, обнаруживают в своей жизни явные признаки присутствия Бога, их служение вполне искренне и приносит плоды. Как оценивать подобного рода свидетельство? Должны ли мы, подобно ранним христианам еврейского происхождения, которые сомневались, принимать ли в общину веры «нечистых» язычников, признать работу Святого Духа и сказать: «Можем ли мы противиться делу Божьему» (ср. Деян 10:1-11:18)? Или мы должны видеть в этом еще одно проявление той печальной истины, которую каждый из нас, служителей, знает о себе: «Сокровище мы храним в сосудах скудельных»? Бог посылает Духа падшим и слабым людям и дает благодать грешникам, отнюдь не поощряя при этом сам грех.
В части III я наметил правило герменевтического истолкования: притязание на боговдохновенный опыт, противоречащий свидетельству Писания, может получить нормативный статус в церкви только после продолжительного и скрупулезного исследования собранием верующих. На данный момент община верующих как целое отнюдь не готова признать личный опыт гомосексуалистов в качестве основы для нормативного одобрения гомосексуальной практики. Более того, стремясь быть «всеобъемлющей», Церковь не должна, однако, пренебрегать опытом таких христиан, как Гэри, которые страдают от гомосексуального влечения и видят в нем препятствие к тому, чтобы полностью посвятить свою жизнь служению Богу. Это комплексная проблема, и мы далеко еще не исчерпали ее.
Очень важно помнить, что опыт является лишь герменевтическими очками для прочтения Нового Завета, а не самостоятельным и равноценным авторитетом. Именно в этом пункте аналогия с принятием язычников ранней Церковью оказывается неверной. Ведь дело не сводилось к тому, что община обратила внимание на опыт Корнилия и его домашних и пришла к выводу, что Писание в этом вопросе заблуждалось. Напротив, опыт необрезанных язычников, принимающих с верой Евангельскую весть, побудил Церковь по-новому перечитать Писание. Это новое чтение выявило в тексте несомненные указания на то, что начиная с завета с Авраамом и далее в замысел Божий входило благословить все народы и научить язычников (как язычников) чтить Бога Израиля. Именно эту концепцию отстаивает Павел с помощью сложной экзегезы в Гал и Рим. Следы подобного рассуждения мы обнаруживаем в Деян (10:34-35), где Петр начинает обращенную к Корнилию речь со ссылки на Втор 10:17-18 и Пс 14:1-2, признавая, что «Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Церковь в свое время пришла к решению принять язычников в общину народа Божьего только потому, что новый опыт обращенных из язычников герменевтически освещал Писание. Такой шаг не могут - или пока не решаются - сделать адвокаты гомосексуализма в церкви. Существует ли возможность перечитать Новый Завет и показать, что приятие гомосексуализма укладывается в откровенный в Писании, но до сих пор остававшийся непонятым Божий план человеческой сексуальности? В свете приведенных выше библейских текстов трудно даже вообразить себе подобную аргументацию.
В итоге, учитывая недостаточную надежность научных и экспериментальных данных, а также царящую ныне в нашей культуре путаницу и неопределенность тендерных ролей и склонность человека к самообману, я считал бы наиболее благоразумным и даже необходимым для Церкви руководствоваться в этом сложном и болезненном вопросе единогласным свидетельством Писания и христианской традиции. Следует признать, что Новый Завет предъявляет нам истину о нашем состоянии: мы - грешники, и мы - Божьи создания, наделенные полом; брак между мужчиной и женщиной - нормативная форма полового удовлетворения, а гомосексуализм - один из многих трагических симптомов нашей падшей природы, отчуждения от замысла любящего Бога.
4. Текст и жизнь: церковь - община, страдающая вместе со всей тварью
Каким же образом Церковь должна реагировать на пастырские и политические реалии нашего времени? Установив, что Новый Завет не оставляет нам возможности сочувствовать гомосексуальному поведению, мы так и остаемся лицом к лицу со сложными проблемами, требующими твердых и вместе с тем исполненных сочувствия мер. Какие решения должна принимать Церковь, сталкиваясь с практическими вопросами, вытекающими из ее отношения к гомосексуализму? Как воплотить свидетельство Нового Завета в жизнь Церкви? На этих страницах я перечислю несколько основных проблем и предложу некоторые решения, основанные на изложенных выше экзегетических и богословских рассуждениях. Прежде всего, люди, разделяющие библейское осуждение гомосексуализма, не должны забывать предостережения Павла (Рим 2:1-3): все мы «неизвинительны», все мы подпадаем под Божий суд, как и под Его милосердие.
(А) Должна ли Церковь отстаивать гражданские права гомосексуалистов? Да. Любой разговор о попытках Церкви влиять на социальную политику «кесаря» требует комплексной ориентации. (Насколько сложна эта проблема, видно хотя бы из споров вокруг приема геев на военную службу в США. В этой книге я уже говорил, что христианам вообще не место в армии. В таком случае вправе ли мы настаивать на допущении геев в ряды организации, которую мы в принципе не одобряем?[37]) Конечно же, Церковь не может допустить, чтобы лица с гомосексуальной ориентацией подвергались злонамеренной дискриминации, и в той мере, в какой христиане были повинны в такого рода дискриминации в прошлом, мы должны покаяться и стараться впредь жить согласно Евангелию примирения.
(Б) Могут ли гомосексуалисты быть членами Церкви? С тем же успехом можно спросить: «могут ли быть членами Церкви завистники?» (ср. Рим 1:29) или «могут ли быть членами Церкви алкоголики?» Де-факто они само собой являются членами Церкви. Если только мы не воображаем, будто Церковь - это идеальная и безгрешная структура, гомосексуалисты должны быть допущены и приняты наравне с прочими грешниками в сообщество людей, верующих в Бога, который оправдал безбожных (Рим 4:5). И если они не будут приняты, я уйду вместе с ними, и пусть в святом месте остаются лишь те, кто вправе бросить первый камень.
Это означает, что и впредь мы должны искать способы жить в общине, раздираемой несогласиями по важнейшим вопросам морали, и сохранять при этом уважение к своим братьям и сестрам во Христе. Если Церковь намерена прибегать к суровому наказанию и отлучать кого-либо, существуют гораздо более тяжкие провинности, нежели гомосексуализм - например, насилие и материализм, - и тогда уж начинать надо с них.
Вместе с тем я готов утверждать, что в пастырские обязанности Церкви входит обличать христиан-гомосексуалистов, дабы они обратились и искали иного самоопределения в рамках Писания. Люди, исполняющие в общине обязанности учителей и проповедников, должны блюсти библейский стандарт и призывать следовать ему всех, кто готов слушать. Это непростой и узкий путь между крайностями, но подобный путь Церковь избирает также во многих других вопросах. Может ли расист быть членом Церкви? Вероятно, да, но мы уповаем, что Церковь предъявит такому человеку моральную парадигму, которая поможет ему измениться, и молимся об этом. Может ли солдат быть христианином? Вероятно, да, но мое понимание Писания требует, чтобы я побуждал солдата отвергнуть путь насилия и последовать за Иисусом по нелегкому пути отказа от насилия как средства осуществления справедливости (см. главу 14). По своим богословским взглядам на природу насилия я принадлежу к меньшинству как в современной американской церкви, так и с точки зрения доминирующей позиции Церкви на протяжении истории. Я не собираюсь изгонять из общины наших воинственных братьев и сестер и надеюсь, что они не изгонят меня. От наших взаимоотношений я ожидаю совсем иного: упорной этической дискуссии, в ходе которой мы постараемся выяснить, подобает ли христианину в каких-то случаях браться за меч. Некоторые вполне искренние христиане добросовестно принимают на веру доктрину справедливой войны, а другие столь же искренние христиане столь же свято уверены, что гомосексуальные связи не противоречат воле Божьей. Лично я по причинам, изложенным в данной книге, полагаю, что обе эти группы заблуждаются, но данные проблемы настолько сложны, что нам следует для начала принять друг друга как братьев и сестер во Христе, а потом уже, в совместном размышлении над свидетельством Писания, искать способы примирить наши разногласия.
(В) Могут ли христиане, обнаружившие в себе склонность к однополой любви, продолжать свою гомосексуальную деятельность и считать при этом себя христианами! Нет. Тот Единственный, кто имел право бросить первый камень, удовольствовался приказом: «Иди и больше не греши». Для христианина с гомосексуальной ориентацией столь же неприемлемо сохранять гомосексуальные связи, как для христианина-гетеросексуала - пребывать в блуде. (В той мере, в какой Церковь идет на компромисс в вопросах гетеросексуального целомудрия за пределами брака, всякое неодобрение гомосексуальных связей с ее стороны будет выглядеть предвзятым и несправедливым). Если христианин-гомосексуалист не в состоянии сменить ориентацию и вступить в гетеросексуальный брачный союз, ему остается лишь подчинить свою жизнь строгому половому воздержанию.
Вопреки удобной иллюзии, поддерживаемой массовой культурой в Соединенных Штатах, сексуальное удовлетворение не принадлежит к числу «священных» прав человека и соблюдение целомудрия не является худшей участью, нежели смерть. Католическая традиция может кое-чему научить нас, выросших в протестантских общинах. Хотя принудительное безбрачие священников отнюдь не предписывается Библией, пожизненное воздержание от секса полезно для того, чтобы «благочинно и непрестанно служить Господу без развлечения» (1 Кор 7:35). Христианская этика могла бы обратить внимание на тот факт, что без половых отношений обходились и сам Иисус, и Павел. Следует также отметить, что в 1 Кор 25-49 целомудрие рекомендуется в качестве предпочтительного образа жизни для всех, а не только для избранной касты священников. Нам предстоит большая работа в Церкви, чтобы вернуть достоинство и ценность безбрачию.
В последнем письме ко мне мой друг Гэри с настойчивостью говорит об императиве ученичества: «Следует ли исключить гомосексуалистов из общины верных? Ни в коем случае. Но всякий, кто вступает в такую общину, должен знать, что это - место преображения, место дисциплины и учения, а не только приют, где к тебе отнесутся с пониманием и утешат». Община требует от своих членов стремления к святости и способствует трудному процессу формирования характера, который совершенно обязателен для учеников Иисуса. Церковь - это община, внутри которой складываются истинные дружбы, оказывается эмоциональная поддержка и происходит духовное формирование каждого, кто вступает в ее круг. Одиночки, независимо от их сексуальной ориентации, особенно остро испытывают потребность в такого рода поддержке. В этой области, как и во многих других, Церковь сохранит верность своему призванию, только если будет функционировать как антипод светскому сообществу.
(Г) Должна ли Церковь санкционировать и благословлять гомосексуальные союзы? Нет. Церковь должна и впредь, как прежде, учить, что для созданных Богом и наделенных полом существ есть лишь два способа построить свою жизнь по правилам верного ученичества: гетеросексуальный брак или воздержание от секса.
(Д) Означает ли это, что люди с гомосексуальной ориентацией принуждены к безусловному целибату, в отличие от людей с гетеросексуальной ориентацией? Ответ на этот вопрос требует нюансировки. Павел считал целомудрие даром, но из этого отнюдь не следует, что люди, не получившие такого дара, вправе удовлетворять свои сексуальные влечения вне брака. Индивидуумы с гетеросексуальной ориентацией точно так же призваны воздерживаться от секса, пока не вступят в брак (1 Кор 7:8-9). Единственное - хотя и весьма существенное - различие заключается в том, что люди с гомосексуальной ориентацией не располагают альтернативой гомосексуального «брака». Что же им остается? Они находятся точно в таком же положении, в каком находятся гетеросексуалы, желающие вступить в брак, но не нашедшие подходящего партнера (а таких людей немало): они обязаны соблюдать отнюдь не легко дающуюся дисциплину, «стеная об искуплении тела нашего» (Рим 8:23). С подобным описанием подлинно христианского состояния не согласится только человек, никогда не сталкивавшийся по-настоящему с грозными императивами Писания, которые постоянно бросают вызов нашим «естественным» порывам и обличают их тщету.
В значительной степени нынешние дискуссии сосредотачиваются на этом последнем пункте. Сторонники безусловного приятия гомосексуализма опираются на упрощенную антропологию: мол, что существует, то и оправдано. В их богословии есть место творению, но только не греху и не искуплению. Более того, эти люди живут в осуществившейся эсхатологии, где личное удовлетворение приравнивается к удовлетворению сексуальному и сексуальное «спасение» наступает прямо сейчас. Написанный Павлом портрет человеческого рода - падших созданий, живущих в оковах греха, но обладающих свободой во Христе для послушания веры, предлагает совершенно иную оценку нашей сексуальности: полное спасение тела наступит в грядущем, по воскресении. Эсхатологический вопрос становится водоразделом, отделяющим традиционную позицию от ревизионистской.
(Е) Должны ли христиане-гомосексуалисты пытаться изменить свою ориентацию! Трудный вопрос, но и на него отвечать следует в рамках новозаветной эсхатологии. С одной стороны, преображающая власть Духа реально присутствует среди нас и нельзя не принимать всерьез свидетельства бывших гомосексуалистов, излечившихся и изменивших свою ориентацию. Эти люди исповедуют (говоря словами гимна, сочиненного Чарльзом Уэсли), что Бог «разрушает власть греха, отпускает пленников на свободу[38]. Если в нашей жизни отсутствует подобная надежда, значит, мы немногого ждем от Бога. С другой стороны, «еще нет» играет огромную роль в нашей жизни и с не меньшим вниманием мы обязаны прислушаться к свидетельству тех, кто, как Гэри, годами безуспешно молился, страдал и искал исцеления в христианкой общине. Возможно, для многих людей наилучшим выходом в это время между времен окажется жизнь в дисциплинированном воздержании, свободная от одержимости похотью. (Этого же стандарта должны придерживаться и неженатые люди гетеросексуальной ориентации). Ближе к концу своей жизни Гэри достиг такого духовного состояния: «Со Дня всех святых я чувствую себя преобразившимся. Больше я не считаю себя гомосексуалистом. «Подумаешь, - скажет кто-нибудь, - тебе сорок два года, и ты умираешь от СПИДа. Тоже мне, жертва!» Но я пришел к этому состоянию не усилием воли, не в попытке исправиться и сделаться более угодным Богу. Нет, Бог сделал это для меня. С моих плеч свалилась огромная тяжесть. Я не сделался «нормальным» - говоря словами апостола Павла, я стал скопцом ради Христа»[39].
(Ж)Можно ли посвящать в сан человека с «нетрадиционной» сексуалъной ориентацией? Я намеренно оставил этот вопрос напоследок, поскольку его и нужно рассматривать в последнюю очередь. Очень жаль, что в различных деноминациях водоразделом сделался именно вопрос о посвящении в сан гомосексуалистов. Постоянные дискуссии имели одно несомненно дурное последствие: укрепился двойной стандарт морали – для священства и для мирян. Гораздо лучше было бы сформулировать единую норму для всех последователей Иисуса. Запрет на гомосексуальные связи входит в моральный катехизис Церкви, а не в набор требований, предъявляемых к священству. Было бы произволом выделять гомосексуализм как единственный грех, препятствующий посвящению (и в Новом Завете об этом речи не идет). Ведь Церковь не вводит специальных ограничений, запрещающих посвящать жадных или самодовольных. Эти вопросы остаются на усмотрение органа, экзаменующего кандидата на сан. Совет или коллегия решают, обладает ли конкретный кандидат дарами и благодатью, потребными для служения. В любом случае человек с гомосексуальными наклонностями будет вполне достойным кандидатом на рукоположение, если будет стремиться жить в целомудрии.
Итак, мы живем в общине, которая, следуя примеру Иисуса, принимает грешников, не умаляя при этом Божьей справедливости. Мы исповедуем благодать Божью, освобождающую от смятения и отчуждения, помогающую нам достичь цельности, но мы знаем, что цельность остается в этой жизни мечтой и упованием, а не реальным достижением. Христиане-гомосексуалисты, живущие среди нас, могут указать нам на кое-какие подлинные факты нашей жизни в эпоху между Крестом и окончательным искуплением наших тел.
В культурной среде, поощряющей удовлетворение всех желаний, в церковной среде, где зачастую проповедуется ложное учение об Иисусе, который якобы потакает всем нашим желаниям, людям, идущим по узкому пути послушания, есть, что сказать миру и общине. Павел видел в языческом гомосексуализме один из наиболее очевидных симптомов падшего состояния человечества, и, напротив, в Гэри и в других гомосексуалистах из числа друзей и коллег я видел проявление Божьей благодати, совершенное в слабости (2 Кор 12:9). Гэри на собственном опыте убедился в зловещей власти греха над падшим миром и все-таки сохранил веру в любовь Божью. Так в нем воплотилось «страдание нынешнего времени», о котором Павел говорит в Рим 8: вкушая сладостную свободу «первых плодов Духа», мы продолжаем стенать вместе со всей тварью, страдающей и гибнущей в оковах.
Глава 17. Антисемитизм и этнический конфликт
В книгах по новозаветной этике редко заходит речь об отношении христиан к евреям и иудаизму. Это печальное упущение - проявление того «слепого пятна» в христианском богословии, которое - увы, уж этот-то урок наше столетие нам преподано! - приводит к трагическим последствиям. Стандартные тексты по этике Нового Завета[1], если и предлагают дискуссию по нормам этики, обсуждают сексуальные проблемы, развод, богатство, послушание властям, насилие и ненасилие - все это, конечно, животрепещущие вопросы, но ни одна из этих проблем не играла столь важной роли в самоопределении ранней христианской общины, как вопрос об отношении нарождающейся Церкви к Израилю. Возможно, такая лакуна возникает оттого, что в Новом Завете содержится слишком мало текстов, непосредственно трактующих проблему антисемитизма и других националистических предрассудков. На протяжении всей этой книги я старался показать, что исследование новозаветной этики не может сводиться к текстам, содержащим прямые высказывания по вопросам морали, а также не может ограничиваться вопросами личного морального выбора. Исследование новозаветной этики должно опираться на символы единства и самоопределения общины и рассматривать, каким образом эти символы формируют этос той или иной общины[2]. Вопрос об отношении христиан к Израилю и евреям должен находиться в центре любого исследования этики Нового Завета. Отношение Церкви к Израилю - это вечная проблема этики, она будет существовать до тех пор, пока сосуществуют Церковь и синагога, поскольку самосознание Церкви как народа Божьего вытекает из свидетельства ранних христианских общин, для которых проблема этих отношений была чрезвычайно мучительной.
И в последующие века проблема не рассасывалась. Сложная история взаимоотношений Церкви и синагоги в течение девятнадцати веков оставила нам позорное наследие полемики и насилия. Эта проблема, ужасным образом гальванизированная в середине XX века гитлеровским террором, постоянно подогревается вспышками антисемитских настроений с самых неожиданных сторон. В Европе и Америке участились акты вандализма, направленные против синагог и мемориалов жертвам Холокоста. В 1992 году опрос, проведенный Антидиффамациоиной лигой «Бнай Брит», показал, что 20% американцев «питают сильное предубеждение против евреев»[3]. Совсем недавно в газете был опубликован отрывок из дневника X. Халдеманна, руководителя аппарата президента США при Ричарде Никсоне. Согласно этим запискам, Никсон однажды провел полтора часа с проповедником Билли Грэмом после «молитвенного завтрака» в Белом Доме, обсуждая «страшную проблему засилья евреев в СМИ». Собеседники пришли к выводу, что «с этим нужно что-то делать»[4]. Другой пример: в пятидесятую годовщину «Хрустальной ночи» представитель западногерманского Бундестага расхваливал Гитлера за то, что тот укрепил национальную гордость немцев. Разразился скандал, и чиновник был вынужден уйти в отставку, однако данное событие служит отрезвляющим напоминанием: этнические предрассудки свойственны отнюдь не только злодеям прошлого или скинхедам настоящего.
В 1994 году прекрасный фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера» вновь обратил общественное сознание к событиям Холокоста. Как могло большинство христиан Германии потакать чудовищному истреблению еврейского народа? Возможно ли, чтобы христианское богословие или даже сам Новый Завет в каком-то смысле «подписался» под нацистской пропагандой? Эти вопросы требуют серьезного обдумывания. Вокруг них сложилась настолько обширная литература, что здесь не хватит места для подробного обзора[5]. Главную свою задачу в рамках этой книги я вижу в том, чтобы проанализировать различные высказывания Нового Завета в адрес еврейского народа и рассмотреть нормативное применение этих контекстов для христианской этики.
Проблема отношений между Церковью и Израилем заостряет ключевой вопрос о методе новозаветной этики: как разобраться с многообразием новозаветных свидетельств, если некоторые тексты противоречат друг другу? До сих пор нам было проще. О гомосексуализме канонические документы высказываются редко, но единодушно. В подходе канонических документов к насилию и разводу, несмотря на небольшие и непринципиальные различия, также присутствует глубокое единство: христиане призваны отринуть насилие и развод. Даже в таких вопросах, как распоряжение имуществом (его мы в данном исследовании не затрагивали), хотя мы и располагаем множеством текстов с различными нормативными предписаниями, все они настаивают на необходимости справедливого распределения ресурсов и попечения о бедных... Следовать этим призывам Нового Завета нелегко, но они ясны и понятны. Все меняется, когда мы всматриваемся в позицию новозаветных авторов по отношению к иудаизму. Одни тексты указывают в одном направлении, другие - в другом направлении. В исторической ретроспективе некоторые из этих высказываний кажутся морально несостоятельными и зловещими. Простая гармонизация невозможна. Вот почему здесь особенно наглядно видны трудности, сопряженные с формированием этики по Писанию[6].
Проблема иудео-христианских отношений чрезвычайно актуальна. Однако новозаветная этика стоит здесь и перед вопросом глобальным: новозаветный подход к отношениям между евреями и греками неизбежно превращается для христиан в парадигму восприятия любых этнических и расовых различий. В нашу истерзанную этническими конфликтами эпоху для христиан принципиально важно иметь ясное представление о том, как и в чем они могут положиться на новозаветные тексты, чье свидетельство в данной сфере является столь ощутимо неоднородным. Однако к этим методологическим и нормативным вопросам мы вернемся после того, как исследуем непосредственное содержание самих новозаветных текстов.
1. Чтение текстов
Важнейшим достижением новозаветной науки второй половины XX века стал радикальный пересмотр отношений между ранним христианством и формативным иудаизмом. Эти выстраданные представления дают нам ключ к пониманию богословских суждений Нового Завета о евреях и иудаизме. Соответственно, прежде всего мы поговорим о новозаветном историческом контексте. Многие детали еще остаются спорными, но в целом приводимый ниже обзор отражает современный консенсус исследователей, как христианских, так и иудаистских.
1) Иудаизм I века отличался не монолитностью, а многообразием. В особенности это можно сказать о периоде, предшествовавшем антиримскому восстанию 66-70 н.э. С фарисейским движением, из которого впоследствии вырос нормативный раввинистический иудаизм, соперничали многие другие интерпретации израильской веры и истории: саддукеи, ессеи, разные формы воинственного и/или апокалиптического иудаизма, философски ориентированный иудаизм диаспоры (например, в лице Филона Александрийского). Все они сосуществовали и с переменным успехом боролись за популярность в народе[7].
2) Христианство возникло как иудаистская секта. Сам Иисус был евреем/иудаистом, соблюдал Тору, участвовал в израильских праздниках и, в традиции израильских пророков, призывал к реформе и обновлению иудаизма. Еще до разрушения Храма (70 н.э.) ученики Иисуса провозгласили Его Мессией Израиля и разработали новые интерпретации израильских Писаний - в свете Его жизни, смерти и Воскресения. Первые христиане, все поголовно евреи, не считали, что они перешли в иную религию или положили начало новой религии. Они считали себя евреями/иудаистами, которые предлагают новое понимание Божьего замысла об Израиле; и так их воспринимали другие евреи/иудаисты, даже те, кто (подобно Савлу из Тарса) видел в них отступников, заслуживающих наказания.
3). К концу I века успех миссии к язычникам и относительный провал миссии к евреям/иудаистам породили серьезный кризис самоидентификации общины. Христиане спрашивали себя: что означают знамения времени? В новой мессианской общине оказалось «слишком много язычников и слишком мало евреев»[8], и ей грозила опасность окончательно утратить связь с иудаизмом, - особенно после судьбоносного решения не требовать от языкохристиан обрезания и соблюдения еврейских пищевых запретов. После гибели Храма вопрос о преемственности движения Иисуса с иудаизмом встал с особой остротой. В социальном и богословском плане это был критический период как для формировавшихся христианских общин, так и для иудаистской общины, которой также пришлось переосмыслить свою идентичность (ибо не стало Храма, центра иудаистского культа). Противоречивые высказывания об иудаизме, которые мы находим в Новом Завете, следует понимать как реакцию на подобное положение вещей. Ключевую роль сыграл тот факт, что большинство канонических новозаветных текстов (особенно Евангелия), сложились именно в период «кризиса самоидентификации» раннего христианства.
4) В свете вышеупомянутых фактов враждебность некоторых новозаветных текстов по отношению к евреям и иудаизму следует понимать как проявление «соперничества между детьми». Ранние христиане боролись со своими еврейскими братьями и сестрами за обладание израильским наследием[9]. В пылу полемики иудео-христиане не довольствовались защитой (т.е. заявлениями о своей принадлежности к иудаизму), но переходили в нападение. Они говорили, что их противники - не настоящие евреи, не настоящие хранители аутентичной израильской традиции.
Например, в Послании к Филиппийцам Павел предостерегает своих греческих читателей против иудео-христианских миссионеров, которые могут проповедовать обрезание:
Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь калечащих плоть. Ибо обрезание - мы[10] поклоняющиеся в Духе Божием и хвалящиеся Христом Иисусом, и на плоть не надеющиеся (Флп 3:2-3).
Система понятий переворачивается с ног на голову. Языческая община, которую созидал Павел, необрезанная в буквальном смысле слова, получает почетный статус «обрезанной», а те, кто на самом деле практиковал и проповедовал обрезание согласно Закону, объявляются дурными людьми, полагающимися на плоть вместо Духа.
Сходным образом в Апокалипсисе слово пророчества во имя «Имеющего ключ Давидов» утешает филадельфийскую церковь:
А те из синагоги Сатаны, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю так, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя (Опер 3:9).
Разумеется, «синагога Сатаны» - в данном случае никакие не сатанисты. Это полемический выпад в адрес нехристианских евреев, которые, возможно, преследовали маленькую и беззащитную христианскую общину (ср. Откр 2:9-10). Интересно, что автор Апокалипсиса вообще отказывается признавать этих людей евреями, подразумевая, очевидно, что всякий «настоящий еврей» верит в мессианство Иисуса (ср. Флп 3:2-3). Он предрекает эсхатологическое оправдание, в котором «лжеевреи» из синагоги поймут, что Бог любит именно христиан.
Таким образом, не вполне корректно вносить в новозаветные документы четкое разграничение между «иудаизмом» и «христианством». Нельзя забывать: эти тексты возникли в эпоху, когда иудаизм и христианство еще не выкристаллизовались как отдельные религии[11]. Иначе мы просто не поймем новозаветные высказывания об иудаизме.
К сожалению, у нас здесь нет возможности рассматривать каждое из новозаветных свидетельств по этому вопросу[12]. Исследуем лишь точку зрения четырех важных свидетелей: Павла, Луки, Матфея и Иоанна. Так мы сразу увидим спектр возможных позиций. Каждый из этих откликов глубоко принципиален для этической оценки иудео-христианских отношений.
(А) Павел: «Бог не оставил свой народ». Классическим местом в учении Павла об отношении Церкви к Израилю считается отрывок Рим 9-11, кульминацией которого служат слова: «Весь Израиль спасется» (Рим 11:26а). Вне контекста эти слова напоминают известное изречение Мишны:
Все израильтяне имеют долю в грядущем мире, ибо написано: «Весь Твой народ станет праведным и унаследует землю навеки; ветвь, Мною посаженная, произведение Моих рук, чтобы Меня славили»[13].
В Рим 11 мы видим, сколь близко Павлу традиционное представление иудаизма о верности Бога Своему Завету с Израилем. В то же время представления апостола об эсхатологическом спасении Израиля принципиально отличается от учения раввинов. Чтобы определить это расхождение, вчитаемся в Рим 9-11.
Текст Рим 11:26а очень любят комментаторы, приписывающие Павлу теорию двух заветов, согласно которой Завет, данный на Синае, сохраняет сотериологическое значение для евреев, а новый Завет во Христе предназначен исключительно для язычников[14]. Подобная интерпретация проходит мимо сложной, даже мучительной, диалектики Рим 9-11. Если бы Павел попросту считал, что евреям дан Моисей, а язычникам - Иисус, он бы так прямо и сказал. Адекватная экзегеза должна поместить Рим 11:26 в более широкий контекст всего Послания.
В целом Послание к Римлянам посвящено двум основным проблемам:
Распространяется ли милость Божья на язычников, не соблюдающих предписания Торы? Павел отвечает: безусловно, да. Праведность Бога ныне открылась в Иисусе Христе помимо Закона. Евангелие «силы Божьей ко спасению» адресовано «во-первых, Иудею, потом и Еллину» (1:16).
Если Бог милостью Своей принимает язычников, не требуя обрезания и соблюдения Закона, означает ли это, что завет, с Израилем отменен? На этот вопрос, который обсуждается в Рим 9-11, Павел с еще большей уверенностью, нежели на первый, отвечает: те genoito, ни в коем случае! «Бог верен, а всякий человек лжив» (3:4). Пафос Послания именно в этой страстной защите верности Бога Израилю вопреки столь очевидной неверности народа (3:3).
Различные группы христиан в Риме, вполне вероятно, спорили о том, какое место отводится евреям в Божьем замысле[15]. Из сообщения римского историка Светония нам известно, что в еврейской общине Рима начались столь серьезное беспокойство и внутренний раздор, что император Клавдий в 49 году н.э. изгнал всех евреев из города. Светоний пишет: беспорядки произошли impulsore Chresto, «по побуждению Хреста[16]». Весьма похоже, что это имя представляет собой искаженное написание имени Христа и что раздоры среди евреев начались в связи с попытками христианской проповеди в синагогах (см. аналогичные сообщения о беспорядках и народных волнениях в других городах в Деян 13:44-50, 17:1-9). В 54 н.э., после смерти Клавдия, евреям разрешили вернуться в город. Их возращение, по всей видимости, повлекло за собой конфликты между языкохристианами, остававшимися в Риме в этот пятилетний промежуток времени, и вернувшимися евреями, как христианами, так и нехристианами[17]. Хотя Павел не рассматривает эту конкретную ситуацию (как мы знаем, к моменту написания этого письма Павел еще не ездил в Рим), его Послание провозглашает «силу Божью ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину».
Начнем обсуждение с Рим 9. Только что Павел заявил, что попреки всем страданиям века сего никакая тварь «не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (8:39). Но как же Израиль, неверующий Израиль, отказавшийся признать Иисуса? Включен он в это «нас» Павла или исключен из него? Помещает ли неверие израильтян за пределы любви Божьей? Поначалу кажется, будто Павел опасается именно такого исхода. Ведь он пишет:
Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь. (9:2-5).
Но несмотря на былую славу и такие преимущества. Израиль не принял Евангельскую весть, отвернулся от Божьего Помазанника, своего же наследия. Трагическая ситуация причиняла Павлу «великую печаль», он готов был бы отказаться от собственного спасения, быть отлученным от Христа ради своего народа. И это желание - невероятное, неисполнимое - не просто риторический жест, оно свидетельствует о том, как глубоко проникло к душу Павла основание христианской этики - «подражание Христу». Вот как следует христианам относиться к людям иной веры: не превращать их в объект отчуждения и ненависти, а изливать на них самоотверженную любовь, подобно тому, как Христос изливает жертвенную любовь на грешный, погибающий мир. И вопреки страстному желанию Павла большинство его сородичей-евреев по-прежнему отвергает Евангельскую проповедь.
В такой ситуации Павел в первую очередь настаивает на необходимости богословского решения - отстоять истину Божьего Слова на основании учения об избранничестве:
Не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его (sperma, т.е. буквально «семя»)[18], но сказано: в Исааке наречется тебе семя (sperma, Быт 21:12). То есть не плотские дети суть дети Божий, но дети обетования признаются за семя (sperma). (9:6-8).
По этой теории неверующие израильтяне оказываются всего-навсего «детьми плоти», то есть не входят в избранный «Израиль», наследующий, по замыслу Божьему, обещание, данное Аврааму. В конце главы 9 Павел отстаивает учение, согласно которому Бог постоянно осуществляет исторический выбор: «Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (9:18). Итак, на первом этапе рассуждения выясняется, что нет ничего неожиданного в таком предпочтении - кого-то из среды евреев Бог избирает, других отвергает, как прежде Он избрал Иакова и отверг Исава. Сам образ верного «остатка» Израиля восходит к известной пророческой традиции (9:27 с цитатой из Ис 10:22-23). Происхождение по плоти и принадлежность к определенному этносу не гарантирует Божьей милости; неверующие будут уничтожены Его судом, хотя бы по рождению и обычаям они причисляли себя к общине израильтян. Исайя предвидел это:
Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени (sperma), то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре (9:29 с цитатой из Ис 1:9).
Перевод слова sperma в «Новой пересмотренной стандартной версии» как «выжившие» затемняет тематическую связь данного отрывка с 9:7, где употреблено то же слово: весь текст 9:6-29 представляет собой искусно выстроенный мидраш на ряд ветхозаветных пассажей, в ходе которого Павел приходит к выводу, что верный остаток, о котором говорит Исайя, и есть семя, обещанное Аврааму, а большинство израильского народа обречено на гибель[19].
Если бы на этой ноте в 9:20 Павел и остановился, мы получили бы четкую и однозначную богословскую теорию, продолжающую одну весьма существенную линию израильской пророческой традиции. Но Павла такое решение не удовлетворяет. Для Павла часть проблемы заключается в том, что Бог не просто избрал верный остаток из среды еврейского народа, - Он создал новую общину, включающую, наряду с остатком Израиля, также и язычников. Миссионерский опыт неотвратимо подводил Павла к странному, путающему выводу: необрезанные, не ведающие Закона язычники оказались гораздо более восприимчивыми к Вести о Божьем спасении в лице Иисуса Христа, нежели обрезанные и соблюдающие Закон иудеи. Что-то тут не так, казалось Павлу. И новый раздел своего рассуждения он начинает с вопроса, сразу же подводящего к этой аномалии:
Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? (9:20-32а).
Весь центральный раздел этих глав Павла посвящен в общем-то бесплодной борьбе с данным парадоксом. Не довольствуясь тем, чтобы приписать неверие еврейского народа избирательной милости Божьей, Павел продолжает сокрушаться о судьбе сородичей:
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что telos закона - Христос, к праведности всякого верующего (10:1-4).
Разумеется, можно подобрать различные ответы на этот вопрос. Еврейский народ искал праведности, основанной на делах, как бы пытаясь установить собственную праведность и не желая подчиниться Божьей правде, откровенной во Христе (9:32, 10:34). Но почему? Почему, когда Слово было так близко (10:6-8), они не разумели? Почему, когда было возвещено им слово Евангелия, они к нему не прислушались (10:18-21)? В конце раздела Павел возвращается к тайне, с которой начал этот разговор. Эту ситуацию, предсказанную в пророчестве Исайи, Павел теперь интерпретирует совершенно новым, неожиданным образом:
Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим обо Мне.
Это стих Ис 65:1 в переводе Септуагинты. Павел, применяя новый герменевтический подход, обнаруживает в этом пророчестве указание на христиан из язычников, которые прислушались к проповеди Благой вести. Но следующий стих пророчества (Ис 65:2) в Рим 10:21 прочитывается уже как намек на неверующий Израиль:
Целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному.
К концу главы 10 проблема, которая терзает Павла, остается неразрешенной. Он все так же бьется над загадкой неверия Израиля[20].
Аргументация подводит Павла к наболевшему вопросу, который и вырывается наконец из уст апостола в стихе 11:1: «Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой?» И в этот критический момент Павел провозглашает: «Никак... Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал». Неверие Израиля не ставит точку в этой истории. Каким образом Павел может отстоять свою точку зрения?
Прежде всего он пересматривает учение об остатке. Как во времена Илии Господь сохранил семь тысяч праведников, не преклонивших колени перед Вааалом, «так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток» (11:26-5). Этот избранный остаток получил Божью праведность, «а прочие ожесточились» (11:7). Здесь повторяются основные темы главы 9, однако с несколько иным акцентом: под «остатком» следует понимать не горсточку счастливчиков, спасенных ради них самих, - нет, эти люди становятся знамением и свидетельством продолжающейся любви Бога к народу Израиля, доказательством того, что Бог не оставил свой народ.
В стихе 11 Павел вводит новую тему, радикальным образом меняющую весь ход обсуждения:
Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота их (11:11-12).
Итак, приговор, вынесенный Израилю, нельзя считать окончательным: нужно еще посмотреть, каким будет окончательный итог отношений Бога с народом. Для прояснения этой необычной ситуации Павел прибегает к аллегории: некоторые из ветвей садовой маслины (Израиль) отвалились, чтобы на их место была привита дикая маслина (язычники, 11:17-24). Аргументация Павла перерастает в проповедь, когда он призывает язычников не похваляться и не заноситься:
Не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя (11:18-21).
По всей видимости, Павел имел дело с актуальной пастырской проблемой Церкви: обращенные из язычников начали презирать и осмеивать евреев, не уверовавших в Евангелие и потому «отрезанных». (Даже если эта проблема еще не возникла, у Павла есть все основания опасаться, что она в скором времени даст о себе знать). Порицая такую позицию, Павел призывает верующих из язычников к большему смирению и уважению к евреям. Израиль по природе своей составляет часть «маслины», даже если сейчас ради блага язычников какие-то ветви временно отсечены. Ни один христианин из язычников не может, читая этот текст, не услышать в нем призыв уважать еврейский народ и сохранять надежду на то, что он будет «привит» вновь (11:23-24). Павел говорит об этом не как о почти безнадежной мечте, а как о несомненном будущем: «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их».
И в этом контексте звучит знаменитое пророчество Павла: «весь Израиль спасется». Это пророчество обращено к язычникам и предостерегает их от самодовольного презрения к еврейскому народу:
Ибо я не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не войдет полное число язычников; и так (kai houtos) весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.
В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божий ради отцов. Ибо дары их и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать (11:25-32).
«В отношении к избранию» еврейский народ сохраняет любовь Божью вопреки непослушанию, вопреки нежеланию прислушаться к Благой вести Евангелия. «Тайна» (11:25) заключается не в том, что Израиль будет спасен, - на это уповали всегда, полагаясь на постоянство Бога. Тайна в том, что спасение Израиля произойдет не так, как ожидали прежде, а этим конкретным способом: раскрывая тайну, ударение Павел делает на словах kai houtos, «таким образом»[21]. Тайна в том, что написанный пророками сценарий выворачивается наизнанку: Исайя предвидел восстановление Израиля, вслед за которым язычники поспешат на гору Сион поклониться Господу, совершившему чудесное спасение своего народа (Ис 2:2-4, 60:1-16, 66:18-19), но Павел ныне заявляет, что Бог «ожесточил» Израиль ради того, чтобы язычники первыми пришли к почитанию Бога, чтобы в Израиле пробудилась «ревность» и он тоже наконец пришел к послушанию веры. Хотя Евангелие адресовано в первую очередь иудею, а уж затем эллину, первыми отозвались эллины. Тем не менее Павел сохраняет надежду на эсхатологическое спасение всего Израиля.
Суд и погибель, возвещенные в Рим 9, в итоге растворяются в более глобальном видении эсхатологического упования. В этом отношении Рим 9-11 весьма точно воспроизводят часто встречающуюся в Псалмах плача и в изречениях израильских пророков пропорцию между Божьим судом и полнотой милосердия.
Но из кого состоит «Израиль», который в итоге будет спасен Богом? Не следует забывать, что Павел вводит этот ряд рассуждений словами: «не все те Израильтяне, которые от Израиля» (9:6). Это заявление Павла никак невозможно понимать в том смысле, что будут спасены все когда-либо жившие на Земле евреи. (Даже в процитированном выше тексте Мишны тезис «все израильтяне имеют долю в грядущем мире» открывает долгую дискуссию об исключениях из этого общего положения, см. т. Sank. 10.1-3.) Павел рассматривает общую судьбу народа, а не сотериологическую участь каждого индивидуума. Не менее важно то обстоятельство, что «весь Израиль» в Рим 11:26 наряду с христианами еврейского происхождения включает и христиан из язычников. Экзегетический комментарий Карла Барта к этому пассажу не утратил своей ценности:
«Весь Израиль» - это богоизбранная община в Иисусе Христе, образованная из евреев и язычников. Это полнота Церкви, где ветви соединены со святым корнем Израиля и черпают в нем силы. Это Остаток, который составляют как дикие ветви, привитые от язычников, так и те ветви, которые были отрезаны и привиты вновь[22].
Разумеется, Павел не рассчитывает на эсхатологическое спасение Израиля помимо Иисуса Христа - на это со всей очевидностью указывает стих 23, где сказано, что прежние ветви будут привиты вновь, «если не пребудут в неверии». «Израиль», о котором говорится в Рим 11:26, - это «Израиль Божий» Гал 6:16, то есть избранный эсхатологический народ Божий, составленный из евреев и язычников во имя Христа[23]. Это, конечно же, «типичное для Павла полемическое переосмысление» понятия «Израиль»[24]. Но двусмысленный термин позволяет Павлу уповать на то, что приговор исчерпается в настоящем, а в будущем остается открытой перспектива прощения - Бог непостижимым образом все же осуществит спасение «народа противящегося и непокорного», эмпирического Израиля. В нынешний эсхатологический период христиане должны сохранять по отношению к еврейскому народу ту точно выверенную диалектическую позицию, которую наметил Павел: признавать особый статус возлюбленного народа Божьего и в то же время уповать на окончательное спасение Израиля во Христе.
Разделяет ли Церковь диалектическую точку зрения Павла? В ретроспективе обнаруживается, что Послание к Римлянам было воспринято лишь наполовину. По первому вопросу Павел одержал убедительную победу: доказал, что благодать Божья распространяется и на язычников. Но во втором, не менее важном, аспекте - убедить, что Бог не нарушил завет с Израилем, - Павел потерпел решительное поражение. Едва сменились два поколения, и языческая церковь, чье отношение к евреям формировали преимущественно Матфей и Иоанн[25], перестала разделять сердечное попечение Павла.
(Б) Лука: «падение и восстание многих в Израиле» Теперь мы обращаемся к свидетельству авторов трех Евангелий об отношении Церкви к Израилю. Ни один из них не предлагает последовательного богословского исследования, сопоставимого с Рим 9-11, но каждый вплетает в ткань своего повествования тему, которую мы, прибегая к анахронизму, именуем «иудео-христианкими взаимоотношениями».
Как мы уже видели, ключевую тему Евангелия от Луки составляет непрерывная история спасения, а Иисус выступает в этом Евангелии в качестве осуществления Божьих обещаний Израилю. Эта нота задана Лукой уже в рассказе о Рождестве. В момент Благовещения ангел Гавриил открывает Марии, что Господь Бог даст ее Сыну «престол Давида, отца Его» (Лк 1:32). Вот почему Мария в своей хвалебной песне провозглашает, что Бог
...воспринял Израиля, отрока Своего,
Воспомянув милость,
как говорил отцам нашим,
к Аврааму и семени его до века (Лк 1:54-55).
Также и Захария, отец Иоанна Крестителя, когда Святой Дух возвращает ему дар речи, пророчествует о том, что оба знаменательных рождения предвещают Божье спасение, издавна обещанное Его народу:
Благословен Господь Бог Израилев,
что посетил народ Свой и сотворил избавление ему,
и воздвиг рог спасения[26] нам в дому Давида, отрока Своего,
как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих,
что спасет нас от врагов наших и от руки ненавидящих нас;
сотворит милость с отцами нашими
и помянет святой завет Свой,
клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему,
дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,
служить Ему в святости и правде перед Ним,
во все дни жизни нашей (1:68-75).
И если бы всего этого было недостаточно, чтобы понять тенденцию главы 1, в главе 2 появляется набожный старец Симеон и подтверждает статус Иисуса - воплощения упования Израиля. Всю жизнь он чаял «утешения Израилева» (2:25) и узнал в восьмидневном младенце Иисусе то спасение, на которое уповал. Подхватив пророчество Исайи (49:6), Симеон провозглашает этого младенца «светом к просвещению язычников и славой на рода Твоего Израиля» (2:32). Самая структура песен и речей и первых главах Луки подводит нас к тому, чтобы увидеть в Иисусе назначенное Господом орудие осуществления древнего завета с Израилем.
Но последние слова Симеона, обращенные к Марии, предвещают также события печальные и страшные: «Се, лежит Сей на падение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, - и Тебе Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец» (2:34-35). Это первый намек на то, что путь Иисуса не будет только триумфальным и что в Нем Израиль обретет не только благословение, но и суд. Однако смысл пророчества о «падении и восстании» нам предстоит разгадать позже.
По мере того как разворачивается повествование, различные персонажи являют нам примеры такого «падения и восстания». Одни, как Закхей (19:1-10) и скрюченная женщина (13:10-17), отвечают Иисусу верой и тем самым оказываются истинными сынами и дочерьми Авраама (19:9, 13:16). Другие, как начальник синагоги, который вознегодовал на Иисуса, исцелившего женщину в субботу (13:14), и отказался признать в Его делах проявление Божьей силы, «стыдились» (13:17). Насколько важно определиться в ту или в другую сторону, подчеркивает сам Иисус, отвечая ученикам Иоанна, которые пришли спросить Его, Тот ли Он, «Которому должно прийти, или другого ожидать нам» (7:20): «Блажен, кто не соблазнится обо Мне!» (7:23).
В конце концов весь город Иерусалим отвергает Иисуса. Предсказывая это, Иисус плачет о судьбе города и прорицает ему жестокое разрушение за то, что Иерусалим «не узнал времени посещения» (19:41-44). Лука, писавший в последней четверти I века, успел убедиться в истинности этого пророчества: разрушение Иерусалима и Храма уже произошло и стало знамением Божьего суда над народом, не принявшим Иисуса.
Однако мотив «падения и восстания» у Луки остается не вполне проясненным вплоть до Деяний Апостолов. В Деян 3:17-26 Петр обращается с речью к евреям, собравшимся во дворе Храма подивиться исцелению человека, который был хром от рождения. Пояснив, что чудо совершилось именем того самого Иисуса, которого эти люди отвергли, Петр призывает их покаяться и обратиться к Богу в ожидании «времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян 3:21). Затем Петр объясняет значение Иисуса: в Нем сбылось ветхозаветное ожидание «Пророка, подобного Моисею»:
Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа (ср. Втор 18:15-20; Деян 7:37). И все пророки, от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные (Быт 22:18, 26:4). Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших (Деян 3:22-26, выделено мной - Р.Х.).
Иисуса, избранного Им пророка, Бог «воздвигнет» - двойной смысл глагола, с намеком на воскресение, как нельзя лучше устраивает Луку - в глазах людей, судьба которых зависит от их ответа Иисусу. Если они поведут себя как «потомки пророков» и уверуют в Иисуса, то получат благословение, а если не прислушаются к Нему, «будут истреблены из народа». Кстати, цитата из Второзакония (18:19) у Луки не соответствует ни древнееврейскому тексту, ни Септуагинте, где сказано попросту: «А кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу». Лука вводит мотив истребления из народа, уточняя и конкретизируя последствия неверия и давая ясно понять, что евреи, которые откажутся выслушать евангельскую проповедь, в его богословской концепции исключаются из Израиля. Далее в рассказе Луки Павел говорит неуверовавшим иудеям в Антиохии Писидийской:
Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам (Деян 13:46, курсив мой - Р.Х.; ср. 18:5-6).
История спасения приводит к Иисусу, а те, кто сворачивает с этого пути, уже не принадлежат к народу избранному. Так Церковь становится Израилем, или, точнее, после воскресения Иисуса Израиль состоит только из людей, поверивших воздвигнутому Богом пророку и последовавших за Ним. В этом смысле Иисус служит знамением для «падения и восстания многих в Израиле».
Это не означает, будто еврейский народ в целом подлежит окончательному осуждению. Для каждого индивидуума остается открытой возможность услышать проповедь Слова и присоединиться к народу Божьему. Этот момент в истолковании Луки и Деяний стал камнем преткновения[27]. Некоторые ученые понимают заключительные слова Деяний в том смысле, что миссия к евреям закончена: Павел цитирует пророчество Исайи (6:9-10) о недостатке понимания у народа и присовокупляет: «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат» (28:25б-28). Однако в силу ряда причин этот текст нельзя трактовать в том смысле, что для евреев раз навсегда закрылась возможность воспринять Евангелие. Во-первых, в пределах этого же самого контекста мы читаем, что некоторых из числа евреев, слушавших Павла в Риме, убедили основанные на Писании доводы в защиту статуса Иисуса (28:22-24). Во-вторых, подобные заявления в Деяниях Павел делает трижды (ср. 13:46-48, 18:5-6), но после первых двух продолжает благовествовать евреям; более того, стих Деян 28:28 воспринимается как иллюстрация к словам Павла в Рим 11:13-14, где он похваляется своими успехами в обращении язычников: «не возбужду ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них». Наконец, Деян 28:30-31 сообщает, что и, состоя под домашним арестом в Риме, Павел продолжал принимать «всех, приходивших к нему», и здесь нет ни намека на то, чтобы к нему не допускались евреи, проявившие интерес к его проповеди (28: 17-25).
В целом Лука рассматривал свою эпоху как время триумфального распространения христианской проповеди. Согласно его сообщению в Деяниях, Евангелие признали многие тысячи евреев. Об этом говорится не только в очерке состояния ранней Церкви непосредственно после Пятидесятницы (Деян 2:41-47, 5:12-16), но и в более позднем эпизоде, когда Павел прибывает в Иерусалим: там находится много тысяч уверовавших иудеев (21:20). Хотя апостолы сталкивались с противодействием еврейских властей Иерусалима и еврейских «толп» в диаспоре, Деяния отнюдь не свидетельствуют о единодушном отвержении евангельской вести евреями. Скорее, это история о «падении и восстании многих в Израиле», в зависимости от реакции людей на Слово и сопутствовавшие ему чудеса и знамения.
С точки зрения Луки, история Израиля, начавшаяся с патриархов и пророков, истинно продолжается в общине, откликнувшейся на проповедь апостолов. Именно таков апологетический пафос обеих книг Луки: Церковь как преемница Израиля, укорененная в Израиле. В этом смысле, хотя Деяния и сосредотачиваются преимущественно на миссии к язычникам, в целом Евангелие от Луки и Деяния представляют собой безусловно проеврейское произведение, вплоть до того, что Павел, вопреки всякой вероятности, изображен ревностным исполнителем Закона (Деян 21:17-26). Действие обеих книг Луки сосредотачивается вокруг Иерусалима, символического центра, откуда во все стороны распространяется христианская проповедь, и для всех событий своего рассказа Лука подыскивает символические и типологические аналогии в иудейском Писании.
Еврейские персонажи отнюдь не сводятся к положительным или отрицательным стереотипам. Среди них есть, разумеется, злодеи, но ведь все персонажи Луки - евреи начиная с самого Иисуса. Апостолы и первые христиане вступают с евреями в настойчивый, но уважительный диалог: «испытывают» и «пытаются убедить» на основании Писания уверовать в Благую весть. И лишь когда евреи с презрением отвергают проповедников или даже прибегают к насилию, апостолы произносят над ними приговор отлучения.
Во многих аспектах точка зрения Луки совпадает с позицией Павла[28]; он даже с большей убежденностью отстаивает преемственность Израиля и Церкви и словно не замечает уже возникших напряжений и даже разрывов в этой преемственности, которые так беспокоят Павла. Решительно расходясь с Павлом, Лука полностью включает историю спасения в историю Церкви.
У евангелиста не обнаруживается диалектического напряжения Рим 9-11 и даже мысли, что и неверующие евреи все еще каким-то образом остаются «возлюбленными ради отцов их». Нет здесь и надежды на окончательное спасение всего Израиля, убежденности, что, поскольку Бог соблюдает завет, еврейский народ как целое должен в конце концов войти в истину Евангелия; нет ощущения - и это, пожалуй, наиболее принципиальный момент, - что народ синагоги сохраняет свое значение и рядом с христианами в качестве народа, притязающего на особое расположение Бога. Непринятие Евангелия именно этим народом порождает мучительную проблему теодицеи. Лука воспринимает события проще, линейно: Бог в Иисусе подтвердил и осуществил обещание, данное Израилю, предоставил народу альтернативу: либо покаяться и уверовать, либо остаться глухим к Слову. Кто предпочтет второе, будет «полностью искоренен из народа». Выбор однозначный: или-или. Ни разу в Деяниях Лука не высказывает сожаления о тех, кто отвратился от Слова. Одна лишь поразительная сцена - Иисус, плачущий о судьбе Иерусалима (Лк 19:4144), - кажется отголоском горестных причитаний Павла об участи своего народа.
(В) Матфей: «кровь Его на нас и детях наших». У Матфея складывается своеобразная комбинация пламенного утверждения Закона и столь же яростного отвержения иудаизма, особенно религиозных вождей еврейской общины. Хотя о Евангелии от Матфея часто отзываются как о наиболее еврейском из всех четырех[29], в нем обнаруживаются явные приметы обостренного конфликта между Церковью и синагогой. Негодование прорывается гневным обличением «книжников и фарисеев» в Мф 23, где мы обнаруживаем целый блок антиеврейских высказываний, составляющих материал исключительно этого автора. Ряд намеков указывает, что Матфей не видел для еврейского народа возможность оправдаться: эти люди не прошли окончательного испытания, упустили свой шанс откликнуться на мессианский призыв, и дверь перед ними закрыта раз и навсегда (ср. Мф 25:10).
Как понять тот полемический задор, с каким Матфей обрушивается на иудаизм? Напрашивается гипотеза: в Евангелии от Матфея перед нами предстает классический пример того «соперничества между детьми», о котором мы уже говорили выше. Этот основополагающий документ стремится закрепить за общиной последователей Иисуса исключительное право на еврейское Писание и еврейскую традицию, вступая при этом в конкурентную борьбу с аналогичными притязаниями фарисеев. Иисус у Матфея становится единственным истинным и авторитетным истолкователем Торы. Противиться Ему (и Его ученикам) могут лишь лицемеры и «слепые вожди» (23:24).
Примечательное утверждение Мф 5:17-20 - дескать, Иисус пришел не отменить Закон и пророков, но исполнить их - следует читать в контексте разыгравшейся на исходе I века борьбы за «наследие Израиля». Первые иудеохристиане подвергались нападкам своих соплеменников за нестрогое соблюдение Закона. В Нагорную проповедь Матфей вставляет программное заявление, решительно отвергая подобные упреки:
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших[30] и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (5:17-20, выделено мной - Р.Х.).
Итак, Иисуса ложно обвиняют в антиномизме - Он даже вводит более суровый стандарт послушания Закону, нежели книжники и фарисеи. Фарисеи требовали всего-навсего минимального наружного соблюдения буквы Закона. Следующие за этим заявлением шесть антитез (5:21-48) демонстрируют, что ученикам Иисуса дан более высокий стандарт, более радикальное истолкование, при котором «исполнение» Закона обуславливается состоянием души. Книжники и фарисеи, по мнению Матфея, озабочены внешними подробностями, а Иисус обнажает глубочайший смысл Закона.
Иисус также «исполняет» Закон и пророков в событиях своей жизни, поскольку они даже в мелочах совпадают с пророчествами Писания. Матфей постоянно выделяет этот аспект служения Иисуса, предпосылая цитатам из Ветхого Завета формулу: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка» (1:22 и др.). Помимо прочего, эти цитаты подчеркивают слепоту и греховность евреев, не уверовавших в Иисуса: на их глазах сбывались мессианские пророчества, а они так и не признали власти Мессии! В этом смысле Матфея можно назвать источником основной линии антиеврейской полемики в христианской традиции; следующей стадией развития этой тенденции станет «Диалог с Трифоном» Юстина. (Однако на критически настроенного читателя Евангелие от Матфея производит впечатление, обратное задуманному: его «доказательные» цитаты до такой степени притянуты за уши, безо всякого учета контекстов самого Ветхого Завета, что и читатель-христианин призадумается, насколько уместны эти христологические притязания).
В Евангелии от Матфея сильнее, чем в других синоптических Евангелиях, выделена также тема еврейских гонений на христиан[31]. В «беседе о миссии» (Мф 10) Иисус посылает учеников специально к «погибшим овцам дома Израилева» (10:6) проповедовать, что приблизилось Царство Небесное. Но при этом Иисус заранее предупреждает их о весьма вероятных гонениях:
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища (synedria) и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками (10:16-18).
Ученики будут преданы на смерть своими же родичами (10:21); им придется искать убежища то в одном городе, то в другом, доколе Сын Человеческий не придет (10:23). Такова неизбежная участь приверженцев Иисуса: «Если хозяина дома назвали веельзевулом (ср. 9:34, 12:24), не тем ли более домашних его?» (10:25б). Однако в итоге Бог осудит тех, кто противится ученикам: «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому (который вас не примет)» (10:15). Весьма поучительно сопоставить этот пассаж с параллельным местом у Луки (9:2-5). Лука не упоминает преследования и порку в синагоге; в его изложении Иисус попросту велит Двенадцати отрясти со своих стоп прах города, который их не принял. Мотив суда над Содомом перенесен в более подробный отчет о миссии Семидесяти (Лк 10:1-16), но и там ничего не говорится о гонениях и тем более насилии по отношению к ученикам. Тема изгнания из синагоги вводится у Марка (13:9-13) и Луки (21?12-19) позднее, среди апокалиптических испытаний (отметим, что в параллельном месте у Матфея (24:9-14) речь идет о преследованиях со стороны язычников). Помещая предостережение насчет гонений непосредственно в контекст первой миссии среди израильтян, Матфей подчеркивает враждебность между Церковью и синагогой.
Однако наиболее ценное свидетельство мы обнаруживаем в той редакции, которой Матфей подверг некоторые притчи Иисуса, превратив их в аллегории того, как Бог отвергает еврейский народ. Весь материал здесь рассмотреть не удастся, но, чтобы проиллюстрировать эту мысль, достаточно будет двух примеров. Матфей заимствует у Марка притчу о злых виноградарях, убивших сына землевладельца (Мк 12:1-12, Мф 21:33-46). Близко следуя своему источнику, Матфей, однако, подытоживает рассказ по-своему: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу (etnei), приносящему плоды его». В то время как Марк своей притчей осуждает первосвященников, книжников и старейшин (Мк 11:27; 12:1, 12), Матфей превращает аллегорию в обобщение, в теорию о том, что Бог отверг евреев ради другого «народа» (то есть Церкви), который «приносит плоды»[32].
Так же и непосредственно примыкающая к притче о виноградарях притча о брачном пире (Мф 22:1-14) превращается у Матфея в прокламацию окончательного Божьего суда над Израилем. У Луки (14:15-24) оскорбленный хозяин довольствуется тем, что приказывает рабам позвать «нищих, увечных, хромых и слепых» вместо тех, кто был приглашен изначально, а у Матфея хозяин («царь») поступает гораздо суровее, и это естественно, - ведь гости не только отвергли приглашение, но и перебили рабов царя. (Просматривается очевидная связь с притчей о злых виноградарях). Как же поступил царь? Пока блюда еще дымились на праздничном столе, «послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их» (Мф 22:7). И только затем, нагуляв в военном походе аппетит, царь велит слугам пригласить на пир людей с улицы. Более простая версия Луки, скорее всего, ближе к традиции, хотя доказать это было бы нелегко, а Матфей отредактировал источник, аллегорически истолковав падение Иерусалима как Божий суд над «убийцами», отвергшими посланников царя.
И теперь мы переходим к заключительному тексту, в котором Матфей роковым образом возлагает вину за смерть Иисуса на весь еврейский народ:
Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И отвечая весь народ (pas ho laos) сказал: кровь Его на нас и на детях наших (Мф 27:24-25).
Введя в свое повествование эту страшную реплику, отсутствующую во всех остальных Евангелиях, Матфей тем самым приписал ответственность за смерть Иисуса всему еврейскому народу - и современникам, и потомкам. В повествовании о Страстях аллегорическое определение евреев как «убийц» (22:7) становится буквальным фактом.
К герменевтическому разбору этого текста мы приступим позже. Сейчас ограничимся экзегетическим выводом: Матфей создал теорию отвержения, которая оказывает существенное влияние на логику его текста. Согласно этой теории, первоначальная миссия Иисуса была к евреям, но они отвергли Его и, подобно виноградарям, стали виновниками Его смерти. А потому Бог, хотя и собирался раньше ввести их в Царство, теперь отнял Царство у евреев и дал его другому «народу», Церкви, которая отличается большей верой и послушанием. Разумеется, среди членов Церкви есть и (бывшие?) евреи, но ученики будут набраны из числа «всех народов» (28:16-20). Будущность Церкви - в среде язычников, поскольку Израиль раз и навсегда отвергнут Богом. Короче говоря, Матфея (наряду с автором Послания к Евреям) можно назвать основным каноническим провозвестником христианского богословия замещения: Церковь занимает место Израиля.
(Г) Иоанн: «ваш отец диавол». В Евангелии от Иоанна яростная полемика церкви с синагогой достигает кульминационной для Нового Завета высоты. Община Иоанна, состоявшая из христиан еврейского происхождения, перенесла болезненный опыт отлучения от общения с синагогой за то, что Иоанн и его последователи провозглашали Иисуса не только Мессией, но также Сыном Божьим, единосущным Отцу[33]. Четвертое Евангелие отражает горечь и гнев христиан, верящих, что Слово «пришло к своим, и свои Его не приняли» (Ин 1:11). В этом Евангелии «евреи» становятся отрицательными персонажами: при том, что у синоптиков само слово «евреи» появляется не чаще, чем по пять-шесть раз, Иоанн произносит его более чем семьдесят раз, и почти всегда с негативной нагрузкой. Некоторые ученые утверждают, будто под «евреями» Иоанн понимает не народ в целом, а только вождей[34]. Даже если в некоторых контекстах дело обстоит именно так, для этического истолкования текста это не столь существенно: вожди символизируют еврейскую общину в целом, общину, с которой Иоанн и его читатели решительно расходятся.
Конфликт между общиной Иоанна и синагогой передан в этом Евангелии в виде неоднократных драматических столкновений Иисуса с «евреями», каждое из которых завершается продолжительным монологом Иисуса. Эти сцены Луис Мартин предложил читать как «двухуровневую драму»: обращенные к евреям слова Иисуса (первый уровень) содержат также весть сторонников Иоанна (конец I века), обращенную к их соперникам и оппонентам (второй уровень)[35]. Речи, в которых Иисус раскрывает смысл диалога, нужно читать не как передачу некогда сказанного Иисусом, а как профетический и богословский комментарий, обращенный к читателям - современникам автора. Такая структура текста позволяет нам разглядеть - «сквозь тусклое стекло, гадательно» - конфликт между общиной Иоанна и еврейской общиной конца I века.
Так, в Ин 5, паралитик, исцеленный Иисусом в субботу, рассказывает об этом чуде «евреям»:
И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу (Ин 5:16-18).
На эти враждебные выпады Иисус отвечает развернутой речью, в которой, между прочим, обличает евреев в том, что они не в состоянии уразуметь, каким образом их любимый Закон свидетельствует о Нем:
Исследуете Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь... Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам? (5:39-40, 45-47).
Вновь проявляется борьба за традицию: синагога отвергает претензии Церкви, а Иоанн, споря с синагогой, повторяет, что Закон Моисеев предсказывает Иисуса. Тем не менее, несколько раз в этом Евангелии Иисус дистанцируется от израильских Писаний, называя их «закон ваш» (8:17, 10:34) или «закон их» (15:25). Последний контекст наиболее важен для нашей темы: «А теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно» (15:246-25, неточная цитата из Пс 68:4). Такие пассажи выдают все усиливающееся расхождение между традиционным иудаизмом и христианством Иоанна.
Как и у Матфея, в четвертом Евангелии мы находим намеки на то, что община претерпела гонения (или должна их претерпеть) от рук евреев. Мало того, что исповедующих Иисуса Мессией «отлучили от синагоги» (вопиющий анахронизм, поскольку речь идет об эпохе самого Иисуса), - Он предупреждает учеников о более жестоких преследованиях. В прощальной беседе Иисус подготавливает их к отлучению и другим несчастьям:
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, то ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше[36]. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня... Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня (15:18-21; 16:2-3).
Описывает ли это пророчество события, свидетелем которых стал Иоанн, или здесь выплеснулся страх перед тем, чему еще предстоит произойти, текст свидетельствует о смертельной вражде между двумя общинами. Одна из величайших трагедий истории заключается в том, что подобные тексты, написанные представителями беззащитного христианского меньшинства, со временем, когда расстановка сил кардинально изменилась, облекли христианское большинство правом ненавидеть, угнетать и убивать евреев.
С наибольшей силой раскаленная враждебность к евреям прорывается в Ин 8. Здесь Иисус задает «парадигму» провокационной и злонамеренной инвективы против евреев. Это выглядит тем более странно, что слова Иисуса обращены не против тех, кто его преследует, а как раз против евреев, которые уверовали в Него (8:30-31)! В ответ на их веру Иисус обещает, что если они пребудут в Слове, то познают истину и сделаются свободными[37].
Подобное предостережение кажется не совсем уместным людям, считающим себя свободными чадами Авраама, и тогда Иисус обрушивается на своих слушателей, объявляет, что на самом деле они - рабы, и обвиняет в желании умертвить Его. (Странность этого обвинения объясняется, вероятно, тем, что диалог резко переключился с одного уровня на другой, с повествования об Иисусе - на более поздний конфликт между христианами и евреями). Далее следует обмен репликами, в котором антиеврейские настроения находят выход с большей откровенностью, чем где-либо в Новом Завете.
Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины... Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божий. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога (8:39б-44а, 46б-47, выделено мной - Р.Х.).
Естественно, далее накал отрицательных эмоций возрастает, и в конце эпизода евреи действительно покушаются побить Иисуса камнями (8:59). Иисус спровоцировал их, и они подтвердили характеристику, которую Он им дал.
Эту сцену невозможно рассматривать в качестве реального эпизода из жизни Иисуса. Она имеет смысл лишь в качестве досадливой и озлобленной реакции общины Иоанна на евреев, которые проявили было интерес к Благой вести, но не пожелали «пребыть» и принять выходящие за всякие рамки утверждения христиан относительно личности и статуса Иисуса. Даже если кто-то из евреев и уверовал отчасти, они отвергли космогонические притязания четвертого Евангелия на извечность Иисуса и Его единство с Отцом (отметьте кульминацию спора в 8:58: «Истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь»). Евангелисту и его сторонникам подобное неверие казалось бессмысленным упрямством: «Почему вы не понимаете речи Моей?» Как может еврейский народ противиться истине, когда Иисус раскрывает ему то, что знает из общения с Отцом? Как могли люди не признать воплотившуюся и жившую среди них Славу? Отвечая на мучительный вопрос: «Почему вы не понимаете речи Моей?», Иоанн совершает роковой для богословия шаг: от эмпирического факта неверия евреев переходит к онтологическому дуализму. Неуверовавшие евреи - дети дьявола. Не верят они потому, что не могут, - в противном случае они позволили бы истине убедить себя. В заключительных словах стиха 44 формулируется чудовищная логика этой теории: народ не слышит слова Божьего, потому что он не от Бога.
Страшно подумать, какие этические последствия имеет подобное богословское учение о евреях. Однако дуалистическая антропология, прямым путем ведущая к гностицизму, обнаруживается отнюдь не только в этом пассаже четвертого Евангелия. Так, в 10:26 Иисус, войдя в Храм, объявляет евреям, которые просят Его раз навсегда сказать, Мессия Он или не Мессия, что они не верят, ибо они «не из овец Моих». Иоанн делит мир на тех, кто принадлежит Богу, и тех, кто Ему не принадлежит. С рождением Иисуса мир поляризуется, потому что истина стала очевидной. Те, кто от Бога, уверуют, кто «снизу» - нет. Вот почему у Иоанна krisis, суд, как бы уже произошел: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (5:24). С другой стороны, «неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (3:18).
Эсхатология Иоанна созидает принципиально иной богословский мир, нежели космос Павла, в котором Церковь стенала в мучениях вместе со всей тварью, ожидающей окончательного искупления. С точки зрения Иоанна, неверующему еврейскому народу уже вынесен окончательный приговор, до такой степени окончательный, что Иоанн с готовностью заявляет: мол, эти люди в некоем метафизическом смысле изначально были детьми дьявола. Павел относит суд и спасение в будущее, а потому надеется, что Бог еще совершит некий непостижимый нашим разумом поступок и искупит весь Израиль. Таким образом Иоанн и Павел распределяются по краям пестрого спектра отношений к иудаизму, представленного в Новом Завете.
2. Синтез: Израиль в каноническом контексте
Для полного исследования новозаветной позиции по отношению к иудаизму придется включить в обзор и другие каноничес кие тексты. Особенно важно Послание к Евреям. С другой стороны, даже более подробное чтение тех четырех авторов, которых мы рассматривали выше, чрезвычайно осложнит общую картину. Например, в 1 Фес 2:14-16 обнаруживается высказывание, по тону и содержанию более напоминающее Матфея, нежели Рим 9-11. Некоторые ученые считают данные стихи интерполяцией, но я полагаю, что они отражают другую грань (а может быть, раннюю стадию) мысли Павла. В любом случае, даже оставив незавершенным очерк, в котором представлены позиции четырех главных новозаветных авторов по отношению к иудаизму, мы собрали достаточно материала, чтобы осознать, насколько сложным окажется синтез. Возможно ли вообще говорить о каком-либо единстве новозаветной этики по вопросу отношений между Церковью и еврейским народом?
Начнем с перечня пунктов, по которым наши тексты не противоречат друг другу:
Все новозаветные тексты выражают озадаченность и разочарование по поводу того, что Израиль в целом не признал Иисуса как Господа и Мессию.
Ни один автор, даже Павел, не предполагает «раздельного и равного» спасения для язычников и иудеев. Теория двух заветов, согласно которой евреи будут спасены помимо Иисуса Христа, не проходит проверки экзегезой. Все новозаветные авторы признают, что человек не может быть спасен фактом рождения в той или иной этнической группе. Требуется слушать, принимать, верить и исполнять. «Бог нелицеприятен».
Все четыре изученных нами автора свидетельствуют о преследованиях христиан со стороны евреев. Павел, по его собственному признанию, и сам прежде неистово гнал Церковь, пытаясь вовсе истребить ее (Гал 1:13). Различные пассажи Нового Завета следует воспринимать в этом контексте как реакцию на конфликтную и враждебную ситуацию. Новый Завет и другие исторические источники не сохранили данных о каком-либо гонении христиан против евреев в течение I века. Отчасти это свидетельствует о том, что ранние христиане исполняли Иисусову заповедь любить врагов, но - учитывая мрачную дальнейшую историю обращения христиан с евреями - разумнее будет предположить, что о преследовании евреев христианами в данную эпоху мы не знаем только потому, что в I веке христиане составляли жалкое и бессильное меньшинство даже внутри еврейского народа, не говоря уж о мире в целом. (С учетом дальнейших трагических событий следует отметить, что и преследования христиан сводились преимущественно к изгнанию из синагоги. За исключением изолированных случаев мученичества, например Стефана в Деян 7, нет данных о систематическом насилии, погромах и массовых убийствах последователей Иисуса)[38].
Новозаветные тексты не обнаруживают ни малейших следов расового «антисемитизма». Рассуждать об «антисемитизме» в Новом Завете, значит, допускать грубый анахронизм. Здесь все сводится к проблемам религии и вероисповедания, разрыв обусловлен признанием или непризнанием Иисуса Мессией и соблюдением или несоблюдением Закона. Не следует забывать, что сами авторы Евангелия, а также Иисус и первые Его ученики были евреями[39].
Конфликт между ранним христианским движением и фарисейско-раввинским иудаизмом надо понимать в первую очередь как междоусобный раздор. Павел и Лука совершенно явно воспринимали себя и свои общины как часть Израиля и старались изменить веру и обычаи еврейского народа в соответствии с собственным представлением об Иисусе как о Мессии. Свидетельства Матфея и Иоанна не столь однозначны. С одной стороны, Матфей и Иоанн вынуждены признать разрыв уже состоявшимся и подыскивать богословские объяснения сложившейся ситуации; с другой стороны, они по-прежнему притязают наследовать Писание и подлинную традицию Израиля. Даже Иоанн, для кого разделение Церкви и синагоги было уже безусловным фактом, продолжает настаивать на свидетельстве Моисея и Авраама об Иисусе, на представлении об Иисусе как об осуществлении всех чаяний Израиля. Для маркионизма Новый Завет места не оставляет. И ни в каком смысле новозаветную христологию невозможно счесть антиеврейской, как представлялось позднее некоторым богословам[40]. Напротив, только в контексте иудаизма и можно осмыслить первоначальное развитие новозаветной христологии. Несмотря на серьезные трения между ранними христианами и евреями, они вели свой спор в пределах еврейского космоса.
Эти наблюдения помогают нам поместить истолкование текстов в рамки исторического контекста. Тем не менее, между этими текстами сохраняются вопиющие противоречия. Как разрешить эту проблему?
Прежде всего напряжение нельзя просто снять. Если мы верно понимаем индивидуальные свидетельства, нет ни малейшей возможности привести их к некоему компромиссу или гармонии. Евангелие от Иоанна занимает по отношению к иудаизму позицию, чреватую ожесточенной полемикой и враждебностью. Если бы скрупулезная экзегеза откорректировала мое чтение, возникающее внутри канона напряжение удалось бы снизить. Например, Эми-Джил Левайн выступила с расширенным экзегетическим рассуждением, доказывая, что богословию Матфея отнюдь не присущи осуждение иудаизма и теория замещения, о которых я говорил выше. По ее мнению, полемика направлена против еврейских вождей, а не против народа в целом. Левайн считает, что Матфей обрушивает свою критику на застой и неравенство в обществе, а не на иудаизм как таковой[41]. Хотя эти аргументы не кажутся мне достаточно убедительными, попытка такого рода экзегезы может способствовать разрешению непреодолимых с виду противоречий внутри Нового Завета. (Исследование Ле-вайн, однако, затрагивает только Евангелие от Матфея и не помогает разрешить проблему Евангелия от Иоанна).
Учитывая разнообразие несводимых позиций внутри новозаветного канона, я полагаю, что мы вынуждены будем сделать решительный выбор между различными представляющимися нам подходами. Полный синтез в данном случае невозможен. По причинам, которые я постараюсь изложить чуть позднее, я лично полагаю, что в качестве основополагающей для настроения и действий христиан по отношению к евреям следует принимать богословскую позицию Павла, изложенную в Рим 9-11, а все остальные контексты Нового Завета нужно интерпретировать или критиковать внутри схемы, заданной Павлом.
Почему в качестве оселка мы выбираем именно Павла? Во-первых, Павел наиболее адекватно уделяет внимание чрезвычайно важному следствию из библейской концепции избранного народа. С большей отчетливостью, чем все остальные новозаветные авторы, Павел видит, что здесь подвергается сомнению репутация Бога, доверие к Нему. Как только мы принимаем радикальное убеждение Павла - спасение в конечном счете зависит лишь от Божьей благодати, а не от воли человека или его действий, - становится ясно, что завет с Израилем принуждает Бога совершить некие искупительные деяния, чтобы не оставить без спасения народ Завета.
Можно сформулировать это несколько иначе: подход Павла к проблеме дихотомии Церковь-Израиль в наибольшей степени сохраняет преемственность Писания в целом. (Этим озабочен также и Лука, а потому важно было бы понять, в какой мере позиции Луки и Павла по отношению к Израилю можно рассматривать как взаимодополняющие). Не случайно в Рим 9-11 так много цитат и ссылок на Писание. Павел сознавал настоятельную необходимость пересказать историю таким образом, чтобы Израиль, пусть народ «непокорный и мятежный», в конце концов вошел в благодать. В противном случае Евангелие перестает быть Доброй Вестью.
Есть и другая причина предпочесть точку зрения Павла. Предвосхищая герменевтическое обсуждение, скажем, что за Павлом - опыт. Исторически выбор Церкви, пошедшей по пути, обозначенному Матфеем и Иоанном, привел к чудовищной катастрофе. Если канон указывает нам возможность иного пути, нужно его исследовать. Послание Павла написано прежде, чем иудаизм и христианство окончательно разошлись и оформились в две самостоятельные религии, а потому этот текст предоставляет нам оптимальную исходную позицию, чтобы заново рассмотреть эти болезненные проблемы.
Раз придя к такому решению, нужно разобраться также и с противоположными суждениями, выраженными в Новом Завете. Вот почему я предложил рассматривать полемические выступления Матфея и Иоанна главным образом в свете тех исторических обстоятельств, которыми они порождены. Эту полемику следует поместить в собственный контекст внутриеврейской дискуссии и конфликта[42]. (Здесь мы опять же забегаем вперед, предвосхищая герменевтический аргумент: эти тексты подверглись герменевтическому искажению, когда языкохристиане восприняли их как часть традиции Adversus Judaeos).
Наконец, нужно разобраться в том, как выглядят различные новозаветные тексты сквозь увеличительное стекло общины, креста и нового творения. Хотя эти ключевые образы не помогут нам преодолеть разногласия между новозаветными свидетельствами, по крайней мере они подскажут верное прочтение этих свидетельств.
Община. Новозаветные тексты решают проблему отношений между христианами и евреями не в терминах отношения христиан к отдельным «ближним» и не в терминах либерального идеала - каждый волен сам выбирать себе веру. Нет, здесь речь идет о судьбе определенных сообществ: формируются отношения между Церковью и Израилем. Красной нитью через все эти тексты проходит богословская тема созидания единой общности, народа Божьего. Павел рекомендует своим адресатам в Риме хорошо обращаться с евреями не потому, что каждый индивидуум имеет право на свободу вероисповедания, а потому, что «Бог не отверг Свой народ», и христианам из язычников подобает с уважением и даже со смирением смотреть на евреев, любимых ради их предков. И когда Матфей рассуждает о том, как Царство Божье было отнято у евреев и отдано «народу, приносящему плоды его», он также имеет в виду отношение Бога к народу как к целому. И сцена у Матфея, в которой кровь Иисуса ложится на «весь народ» вместе с потомством, предполагает острое ощущение корпоративной ответственности и судьбы. Хотя Матфей считает, что избранничество отошло от Израиля, а Павел утверждает, что такого не может случиться, в одном оба автора согласны: рассматривается судьба народа в целом. Из такого подхода к проблеме естественно вытекает этика корпоративной ответственности: община в целом должна принять к сведению наставления Павла (Рим 11).
Крест. Читая свидетельства Нового Завета через увеличительное стекло креста, мы первым делом убеждаемся в том, что смерть Иисуса была воплощением и доказательством верности Бога Израилю. Эту истину наиболее решительно формулирует Павел, но она присутствует и в Евангелиях, даже у Матфея и Иоанна. Распятие Иисуса как осуществление обещаний, данных Богом Израилю, - это неотъемлемая часть вести любого новозаветного автора, а потому эту мысль нужно принять за центральную позицию, с которой можно и нужно критиковать крайние точки зрения, такие, как теория замещения у Матфея и онтологический дуализм Иоанна. Эти периферийные теории, пытающиеся задним числом объяснить неуспех христианской проповеди в среде еврейского народа, внутренне совершенно несовместимы с глубочайшей христологической логикой тех самых произведений, в которые они вкраплены.
Два примера помогут прояснить эту мысль. Если Иисус умирает как Пасхальный Агнец (согласно Евангелию от Иоанна), то результатом Его смерти должен стать новый и окончательный исход Израиля, освобождение от рабства. Даже если кто-то забыл или не счел нужным защитить себя, помазав жертвенной кровью косяки дверей, главная цель этой смерти - спасти Израиль. Или опять же, у Матфея вино Тайной вечери - это «Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф 26:28). И какой трагической иронией звучит рядом с этими словами крик «всего народа»: «Кровь Его на нас и детях наших». Но ведь смерть Иисуса отнюдь не уничтожает прощение Бога и Его любовь к народу Завета, напротив, она их скрепляет.
Невозможно доказать, в какой мере Иоанн и Матфей подразумевали такое истолкование, но это, впрочем, неважно. Я хочу лишь подчеркнуть, что центральный для Нового Завета образ распятого Мессии обретает смысл именно и исключительно как доказательство воли Бога искупить Израиль. Если предпринимается попытка отрицать или умалять эту фундаментальную истину, тексты Нового Завета подвергаются искажению.
Помимо этого фундаментального богословского вывода можно отметить и некоторые другие следствия, возникающие при истолковании трудных пассажей об иудаизме в свете образа креста. Например, Иисус, рассказывающий притчу о злых виноградарях (Мф 21:33-46), отождествляется с убитым сыном, а не с царем из следующей притчи, который вершит месть - суд и месть предоставлены одному Богу. Даже разочарованный и гневный Иисус Евангелия от Иоанна принимает миссию умереть ради спасения противящегося Ему мира: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин 3:17)[43]. Негативные высказывания, приписываемые Иисусу в этих Евангелиях, нужно рассматривать в общем контексте повествования, согласно которому Иисус умер за всех, в том числе и за евреев.
Поскольку полемика Матфея и Иоанна против еврейского народа складывается в бессильных и гонимых коммунах, она полна горечи и обиды. Некоторые пассажи похожи на негодующие вопли праведного страдальца в Псалмах плача. Эти тексты надо воспринимать как крик боли, и читать их адекватно может лишь христианская община, находящаяся в столь же униженном, жалком положении. Знание исторического контекста не оправдывает злобные поношения, подобные Ин 8, но, по крайней мере, страхует от применения этого текста победоносной христианской общиной против слабого еврейского меньшинства, как это произошло впоследствии. Вновь оказывается актуальной проблема насилия, которую мы обсуждали выше: крест служит нормой, с которой христиане должны сверять свою реакцию даже - вернее, особенно - в пору гонений. С учетом этой нормы мы можем найти лучшие образцы для страждущей общины в других эпизодах повествования Луки, когда Иисус и Стефан перед лицом смерти молят Бога простить палачей (Лк 23:34, Деян 7:60). Или опять же примеры можно поискать у Павла, который готов быть отлучен от Христа ради спасения еврейского народа (Рим 9:3). Это - еще одна причина придавать большее нормативное значение Луке и Павлу, а не Иоанну и Матфею.
В размышлениях Павла о судьбе Израиля присутствует один существенный фактор, который отчетливо проступает лишь при чтении Рим 11 в свете ключевого образа креста. Нынешнее отвержение Израиля произошло ради язычников. Бог отрезал еврейские ветви затем, чтобы привить языческие. «Бог не пощадил (ouk epheisato) природных ветвей» (Рим 11:21) в том же смысле, в каком «Сына Своего не пощадил (ouk epheisato)» (Рим 8:32). Павел находит явную, хотя и загадочную, параллель между «ожесточением» Израиля и смертью Иисуса: оба эти ужасных события уготованы Богом для спасения мира. Судьба Израиля оказывается подобной судьбе Христа, и для евреев остается надежда на «жизнь из мертвых» (11:15)[44]. Любая христианская община, которая честно всмотрится в сотериологическое уподобление отверженного Израиля и Христа, сделавшегося за нас проклятым (Гал 3:13), вынуждена будет пересмотреть свое отношение к еврейскому народу.
Новое творение. Опасность Иоанновой эсхатологии заключается в том, что она решительно относит спасение к настоящему моменту и обуславливает его реакцией человека на призыв Иисуса. Слово стало плотью - новое творение «уже» имеет место, - а потому не остается упования на будущее. (Дальнейшая критика позиции Иоанна применима лишь с оговорками, поскольку он продолжает чаять воскресения в последний день, ср., например, 5:28-29 и 6:39-40). Иоанн с легкостью приходит к выводу, будто евреи, с первого раза не внявшие Евангелию, никогда не обратятся. Более того, как мы видели, их неверие он связывает с изначальным онтологическим отчуждением от Бога. Последствия избранного им пути очевидны и трагичны: будущее измерение Нового Завета («еще не вполне») съеживается, почти не оставляя надежды неуверовавшему Израилю. Матфей, не столь радикально, но в общем сходным образом, выдвигает теорию, согласно которой Царство было попросту отнято, у Израиля. Матфей сохраняет и даже развивает отнесенную в будущее эсхатологию, одна ко в этом грядущем не остается места для Израиля как такового.
В противовес этим подходам диалектическая эсхатология Павла сохраняет живую надежду на вещи, пока невидимые: на обращение Израиля к вере в Христа. Он продолжает уповать и молиться об эсхатологическом примирении Израиля, и эта надежда дает ему силы жить в напряжениях и разрывах нынешнего века, когда лишь остаток Израиля знаменует будущее спасение всего народа.
Мы предлагаем еще один способ интерпретировать осуждение Израиля у Матфея. Если мысль Матфея о том, что Царство было отнято у Израиля, поместить в более широкий контекст библейской эсхатологии, мы сможем прочесть его высказывания как пророчество о Суде, подобное пророчествам Амоса и Иеремии, провозглашавшим неотменимый суд Божий над Израилем. (Два наиболее близких примера: «Упала, не встанет более дева Израилева! повержена на земле своей, и некому поднять ее» (Ам 5:2) и «Так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен» (Иер 19:11). Но хотя суд Божий неумолим, пророчества о суде никогда не обозначали безусловный конец истории народа или отношений Бога с ним. Всегда на горизонте сияет слово обещания и надежда на восстановление - либо в той же самой книге, как в неожиданном завершении пророчества Амоса, либо еще где-либо в каноне, например в Ис 40:66. Возможно ли прочесть слова Матфея о вине Израиля и отвержении народа Богом внутри этой пророческой традиции, чтобы приговор прозвучал как предварительный, а не окончательный? Или даже понять эти стихи как призыв к покаянию? Мне кажется, это было бы уместной стратегией синтеза, прекрасным примером того, как текст Матфея может быть прочтен сквозь призму образа нового творения. Подобная реконструкция текста не зависит от нашей интерпретации «намерений» Матфея, а вытекает из соотнесения Евангелия от Матфея с более широким каноническим контекстом. Можно выразить ту лее мысль иначе: суждения Матфея об Израиле, взятые сами по себе, соотносятся с текстом Рим 9, так же «самим по себе», однако синтезное прочтение новозаветных свидетельств может превратить Рим 11 в диалектический ответ Матфея, и приговор Израилю будет помещен в более сложную систему координат.
К сожалению, я не вижу возможности применить такую методику к истолкованию Евангелия от Иоанна. Если неверующие евреи в четвертом Евангелии оказались прирожденными детьми дьявола, эсхатологической надежды на искупление для них не остается. Если мы принуждены выбирать между противоречивыми свидетельствами Нового Завета, мы предпочтем рассматривать позицию Иоанна как естественную с точки зрения исторических обстоятельств, но богословски ошибочную. Для Церкви более правильно будет вступить в диалог с иудаизмом, исходя из позиции Павла.
3. Герменевтика: реакция на новозаветное свидетельство об Израиле
Синтез новозаветных свидетельств оказался долгим и сложным, зато герменевтическую сторону данной проблемы можно изложить достаточно сжато.
(А) Герменевтическая апроприация Отношения между Церковью и синагогой обычно не выделяются в качестве особой области новозаветной этики в том числе и потому, что новозаветные авторы не формулируют правила или принципы, которыми следует руководствоваться в этих отношениях. Нет в Новом Завете правил, предписывающих или воспрещающих те или иные виды обращения с евреями. Авторы Нового Завета и не могли рассматривать подобные категории, потому что расхождение между иудаизмом и христианством только начинало оформляться. Однако следует особо подчеркнуть, что здесь должно безоговорочно применяться более общее учение о ненасилии (см. главу 14). Получив заповедь любить врагов и избегать насилия, мы уже не нуждаемся в специальной оговорке: мол, запрет применять насилие распространяется и на обращение с евреями.
Хотя некоторые ключевые тексты Нового Завета призывают проявить терпимость к разногласиям внутри христианской общины, новозаветные авторы не вводят принцип толерантности по отношению к иудаизму (или к любой другой религии или философии). Принципы свободы, автономии, равенства не играют никакой роли при обсуждении этого вопроса. Исходя из других соображений, можно предположить, что подобные принципы должны играть определенную роль в нормативной этике христианства, однако в Новом Завете эта аргументация не используется. Столкнувшись с пастырской проблемой - обращенные из язычников с презрением поглядывали на неуверовавших евреев, - Павел не провозглашает общие принципы, которыми христиане должны руководствоваться в своих мыслях и поступках, а рассказывает весьма конкретную историю отношений Бога с этим конкретным народом и предлагает христианам из язычников моделировать свою позицию в соответствии с этим.
Подойдя к проблеме с такой точки зрения, Павел задает парадигму для дальнейшей христианской мысли (и действий). Посреди аллегории о маслине он напрямую обращается к христианам из язычников, живущим в Риме: «Не гордись, но бойся». Это не общее правило, но конкретное указание римской церкви, все еще преодолевающей социальные и политические последствия изгнания евреев из Рима в 49 году н.э., а затем возвращения евреев после смерти Клавдия. Читая этот текст теперь, спустя девятнадцать с лишним веков, в эпоху, когда мы еще не вполне пережили и осмыслили гораздо более страшное гонение - Холокост, - мы находим в этих указаниях, которые Павел дает римским христианам, образец для собственных размышлений. Эта парадигма не позволяет нам погрязнуть в самодовольстве: мы преклоняемся молча перед тайной избранничества, перед постоянством любви Бога к Израилю и понимаем, что мы еще не видели конец и не знаем, в какой форме проявит себя Божье милосердие к этому народу.
Но это не означает, что христиане должны занять позицию благожелательного равнодушия. Парадигма Павла будет неполной без глубокой скорби апостола о том, что еврейский народ как целое не пришел к вере в праведность Божью, откровенную в Иисусе Христе. В ожидании эсхатологического спасения Израиля Павел пламенно желает своей проповедью «спасти некоторых из них» (Рим 11:14), помочь другим евреям, подобно ему самому, присоединиться к остатку, избранному благодатью исповедовать Иисуса Господом. Эту парадигму подкрепляют эпизоды Деяний, в которых Павел и другие апостолы изо всех сил пытаются убедить еврейскую аудиторию в том, что Иисус и есть Мессия и «что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса» (Деян 13:32-33а). Лука большое внимание уделяет этим попыткам убедить евреев с помощью экспозиции Писания и следующего за ней диалога (см. напр. Деян 13:42-43, 17:1-4, 28:23-24). Наиболее характерный модус обращения к еврейской аудитории в большинстве сцен Деяний - это призыв принять Благую весть о том, как Бог исполнил обещанное[45].
Текст Матфея отражает иную историческую ситуацию, в которой усилия убедить с помощью аргументации, основанной на Писаниях, сочетаются с пророческим осуждением еврейского народа, отвергшего Иисуса, или вовсе вытесняются этим приговором. Можно прочесть аллегорические притчи Матфея как имплицитный призыв к покаянию, но, в противоположность большинству речей Луки, интонация здесь - скорее угрожающая, нежели поощрительная. Парадигма Матфея гораздо более резко, чем парадигма Послания к Римлянам и Деяний, представляет Церковь и фарисейский иудаизм как две обособленные и находящиеся в противостоянии общины. В драматических диалогах Евангелия от Иоанна в общении с евреями чередуются загадочность (как в разговоре с Никодимом, Ин 3:1-10), призыв (например, 7:37-39) и враждебность пополам с высокомерием (8:31-59). Поскольку Иисус в этих диалогах выступает символом современной евангелисту христианской общины, Церковь конца XX века не может и не должна следовать этому образцу. Мы видим, что Новый Завет предъявляет нам как позитивные, так и негативные парадигмы, с которыми мы будем сверять свою позицию и поведение по отношению к еврейскому народу. Наш выбор одного ряда парадигм предпочтительно перед другим уже был задан, когда на распутье в подглавке о синтезе мы свернули именно в эту сторону.
Еще важнее, чем поведенческая парадигма, заданная в Рим 11 (в конце концов она не слишком конкретна), для нас - символический мир Павла. Послание к Римлянам рассказывает историю мира, внутри которой отводится место христианам. Мы помещены в незавершенную, развивающуюся историю Божьей праведности, включающую и суд Бога над Израилем, и верность Бога Израилю, которая проявится в искуплении. Языкохристиане не должны поддаваться иллюзии, внушаемой теорией замещения, - дескать, мы - итог и вершина спасительного труда Божьего. Последний акт драмы еще не сыгран, и тайна - в которую Павел позволяет нам мельком заглянуть - в том, что кульминацией драмы станет примирение всего Израиля с Богом. Такая картина мира возможна только при условии, что эсхатологическое упование абсолютно реально, то есть мы ожидаем от Бога действий в будущем. Павел (а также Лука и Матфей) учит нас жить с таким упованием и читать Писание как единую и продолжающуюся историю, внутри которой мы находимся[46]. Конец пока остается открытым, но Бог обещал, что не оставит свой народ, и в конце истории обещание милости должно осуществиться.
Важно понимать, что наше место в истории не вполне совпадает с местом Павла. Многое произошло с тех пор: церковь и синагога пошли каждая своим путем, и Церковь причинила еврейскому народу много зла, при этом зачастую кощунственно ссылаясь в своих злодеяниях на санкцию Бога. Какое бы разрешение ни готовилось в будущем, необходимо покаяние, нужно перевязать раны. Евреи и христиане должны примириться. И как бы мы этого ни хотели, как бы ни оплакивали все, что было совершено в прошлом, сейчас трудно себе представить, каким образом может произойти столь глубокое примирение.
Но Павел учит нас доверяться Богу. Его любовь к Израилю и к Церкви покрывает человеческую неверность, даже если мы не понимаем, как это возможно. Божий замысел предусматривает окончательное воссоединение евреев и христиан во Христе и в почитании единого Бога:
Посему принимайте друг друга, как и Христос принял нас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников - из милости, чтобы славили Бога (Рим 15:7-9).
Таков этический императив, вытекающий из нарисованного Павлом символического мира: «Принимайте друг друга, как и Христос принял нас». Павел обращается здесь к христианам из евреев и язычников, но вся логика его рассуждений в Послании к Римлянам учит нас воспринимать Церковь как образ окончательного эсхатологического примирения, которое включит в себя весь Израиль.
(Б) Другие источники Церковная традиция в этом вопросе неоднородна, многие источники, к несчастью, отравлены предрассудками и ненавистью по отношению к евреям. Бывали эпохи и страны, в которых евреи мирно сосуществовали с христианами, однако струя антииудаизма всегда была очень сильна в христианстве, особенно европейском[47]. Христиане не смеют забывать обо всем, что Церковь причинила в прошлом евреям[48]. Ожесточенная полемика с евреями Мартина Лютера, в особенности некоторые антисемитские трактаты, написанные в последние годы его жизни, впоследствии цитировались как историческое и богословское оправдание множества погромов, вплоть до попытки нацистов полностью истребить евреев. Например, в трактате «О евреях и их жизни», написанном в 1543 году, Лютер утверждает, что Бог «несомненно отверг» Израиль пятнадцать веков тому назад и еврейский народ «целиком предан в руки дьявола»[49]. По мнению Лютера, евреи постоянно проявляют ожесточение сердца, отказываясь принять Евангелие, даже когда его сунут им прямо под нос, как это произошло благодаря Реформации. Следовательно, «при виде истинного еврея можете с чистой совестью перекреститься и так прямо и сказать: «Вон дьявол во плоти»[50]. Эти убеждения побудили Лютера требовать, что бы евреев изгнали из Германии[51].
Однако убеждения Лютера порой уступают в четкости его ораторскому дару и прокурорскому красноречию. В данном случае он продолжает традицию, широко распространенную в средневековой Европе[52]. Как мы уже видели, Лютер развивает тему, достаточно ясно выраженную уже в Новом Завете, особенно у Матфея и Иоанна. Хотя некоторые богословские традиции протестантизма, в частности кальвинизм и веслеянство, большую ценность придают Закону, а потому менее враждебны к иудаизму, нежели раннее лютеранство, только после Второй мировой войны различные церкви подвергли серьезной переоценке сознательные и бессознательные антисемитские тенденции, которыми было отравлено их учение.
Итак, в области взаимоотношений христианства с иудаизмом традиция практически не помогает распутать клубок противоречий, оставленный нам в наследство Писанием. В лучшем случае мы можем вернуться к историческому исследованию традиции в попытке реконструировать и вычленить свидетельство тех церквей и отдельных личностей, которые подтверждают надежду Павла на примирение и противостоят общему потоку антииудаизма[53].
Разум может сыграть роль дополнительного фактора в нормативном обсуждении этой проблемы. Поскольку Просвещение провозгласило свободу вероисповедания и сосуществование различных групп в обществе, оно задало условия, в которых христиане могли войти в уважительный диалог с евреями. Историческое исследование Библии и древнего иудаизма, оказавшееся возможным благодаря развитию критической мысли, разрушило несправедливые стереотипные представления о евреях, выявило исторические обстоятельства, скрывающиеся за теми новозаветными пассажами, где выражена ненависть к евреям, и расчистило путь к герменевтическому открытию текста Рим 9-11 как неотъемлемой части богословия Павла. В частности, свободные и откровенные дебаты, которые ныне ведут христианские и еврейские богословы в рамках Общества Библейской Литературы, обнаруживают явные признаки надежды и выявляют необходимую общую основу экуменического взаимопонимания.
Но разуму отведены свои пределы. Никакие апелляции к разуму не помогут разрешить вопрос о том, является ли Иисус Мессией Израиля. Эта проблема так и будет разделять еврейские и христианские общины до конца времен. И самое главное, разум - поскольку этим термином мы обозначаем эвристическую фикцию нейтрального, объективного процесса исследования - не может полностью воздать должное фундаментальным основам церкви и синагоги. На общем основании, предложенном так называемым «разумом», ни та, ни другая община не может устоять, сохранив при этом свою идентичность и самый смысл существования. «Разум», столь ценимый современной либеральной демократией, готов признать вместе с Павлом необходимость соблюдать уважение по отношению к евреям, однако эта мораль вытекает из совершенно иных и даже несовместимых с логикой Павла посылок. Либеральный «разум» полагает, что каждый человек имеет право на собственные религиозные убеждения, каковы бы они ни были, а потому христиане и евреи должны оставить друг друга в покое, и пусть все верят, во что хотят. Павел же считает, что евреи - избранный народ Божий и что верность Бога своему народу пребудет вопреки неверию. Различие между этими двумя позициями сделается очевидным, если мы зададим вопрос, должны ли христиане и впредь прилагать усилия, стараясь обратить евреев. Новый Завет отвечает: безусловно, да; либеральному «разуму» подобная идея отвратительна.
Роль опыта, как мы уже отмечали, оказалась ключевой: именно опыт вынудил Церковь после Холокоста подвергнуть переоценке свое учение и прочтение Писания. Есть причины опасаться, что теоретическая траектория с исходной точкой в Ин 8 приводит в Освенцим. (Это отнюдь не означает, будто сами авторы Нового Завета поощряли истребление евреев или могли бы его одобрить; это вопрос Wirkungsgeschichte различных новозаветных традиций - к каким последствием привели эти традиции со временем). Из всех проблем, рассматриваемых в этой книге, в данном случае опыту отводится первостепенная герменевтическая роль. Поскольку Новый Завет представляет нам в Рим 9-11 иную альтернативу, глубоко созвучную более широкому библейскому свидетельству об Израиле, наш печальный исторический опыт побуждает нас исследовать возможности этого не избранного историей пути.
4. Церковь как община, преодолевающая этнический раздор
Наше обсуждение подтвердило обязанность Церкви прививать своим членам уважение к иудаизму и еврейскому народу. Ради этой цели Церковь должна не упускать ни малейшей возможности для диалога. Многие христиане, к сожалению, не имеют представления о еврейской истории и литургии. Незнакомство с иудаизмом не только укрепляет предрассудки, но и мешает Церкви разобраться в собственной истории и вере. Первоочередная задача - образование. Рука об руку с обязанностью Церкви распространять знания об иудаизме идет задача критически изучать собственные традиции и разоблачать те лживые и злопыхательские искажения, которые до сих пор таятся в нашем учении и проповеди.
Однажды в Атланте на занятиях в воскресной школе для взрослых кто-то высказал мнение: мол, Иисус освободил нас от чудовищной концепции иудаизма - оправдания делами. «Евреи вынуждены соблюдать все заповеди и живут в постоянном страхе перед Божьим гневом, - заявил этот человек, - а Иисус явился научить нас, что от нас требуется лишь одно: любить Бога всем сердцем, всей душой и всеми силами». Когда я напомнил этому слушателю, что Иисус здесь попросту цитирует текст Втор 6:5, составлявший часть Шема - молитвы, которую дважды в день повторяет каждый еврей[54], - он мне попросту не поверил, пока мы вместе не открыли Ветхий Завет на нужной странице. Подобные недоразумения кажутся забавными, но на самом деле это симптом весьма серьезной проблемы Церкви. В тот день на занятиях в воскресной школе у многих взрослых христиан, воспитанных в церковной общине, произошел сдвиг парадигмы в понимании иудаизма, и в конечном счете такого рода сдвиг приводит к соответствующему сдвигу в нашем понимании христианства.
И в местных общинах, и синагогах, и на крупных экуменических конференциях, и в работе ученых семинаров мы должны всячески поощрять развернутый диалог между евреями и христианами и глубокое изучение традиций друг друга. «Диалог» - это отнюдь не отказ от различий, не нивелирование различных убеждений. Я также не призываю к своего рода культурному обмену. По мере развития диалога будут возникать ситуации, когда представители обеих сторон смогут адекватно обсудить истинность и сравнительную ценность своих верований. Общение становится насущным только тогда, когда собеседники страстно убеждены, что решают важнейшие, главные вопросы. Любой диалог такого рода между евреями и христианами полон напряжения и подводных камней, особенно с учетом нашего печального прошлого. Мы продвигаемся вперед лишь милостью Божьей.
В начале этого раздела я указывал, что представленные в Новом Завете позиции христиан по отношению к иудаизму могут послужить парадигмой для христианской этики в области этнических и расовых конфликтов вообще. Здесь нет возможности рассмотреть эту гипотезу подробно, но отметим, что аргументацию придется разделить по крайней мере на две части.
Во-первых, Новый Завет с большой силой побуждает нас преодолеть этнические разногласия внутри Церкви. В Антиохии Павел открыто обличает Петра за то, что Петр вместе со своими сторонниками воздерживается от братских трапез с языкохристианами. Павел считал такое поведение не только оскорбительным по отношению к обращенным из язычников, но даже извращением евангельской истины (Гал 2:11-14). Разделять Церковь по этническим признакам или по тому, кто от какой пищи воздерживается, означает вновь вводить принцип разделения, уничтоженный смертью Христовой, то есть «Христос напрасно умер» - так рассуждает Павел. Церковь - знамение эсхатологического примирения мира в Боге, община, где «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3:28). Единение христиан за братской трапезой, преодолевающее этнические разделения, это внешний и видимый знак полного уничтожения подобных барьеров, прообраз эсхатологического пира народа Божьего. Вот почему Павел утверждает, что в том антиохийском инциденте на карту была поставлена истина Евангелия.
В Деяниях Апостолов Лука рассказывает о том, как Петр вместе с иерусалимской церковью пришел к сходному выводу: «Бог нелицеприятен»» (10:34) и принял бывшего язычника Корнилия вместе со всеми домочадцами в общину через крещение без обрезания (Деян 10:1-11:18). В видении голос свыше сказал Петру: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (10:15). Так Петр пришел к пониманию своей обязанности проповедовать Евангелие нечистому язычнику Корнилию. По мере того как разворачивается повествование, Бог подтверждает истину этого видения, излив Святого Духа на Корнилия и его дом. Судя по тому, как много места Лука отводит этому событию и его обсуждению на Иерусалимском соборе (15:1-35), эта проблема была принципиально важна для его концепции развития Церкви: Церковь призвана стать общиной, которая сметет этнические барьеры, понесет Евангелие «во все концы Земли» и объединит евреев с язычниками. Интересно отметить, что на первом этапе становления Церкви пришлось преодолевать негативное отношение отнюдь не к евреям, а к язычникам. Но с какой бы стороны ни возводились барьеры, Святой Дух рушит их, созидая единый народ Божий.
Такое учение о Церкви находит дальнейшее богословское обоснование в Еф 2:11-22. Язычники, которые были прежде «отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире», теперь «стали близки Кровию Христовой».
Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу (Еф 2:14-19).
Крестом созидается единая новая община. Видимое единство Церкви - это внешнее проявление «тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все» (3:9-10). Единство Евангелия неразрывно связано с существованием этой новой общины во Христе, которая поэтому должна «сохранять единство духа в союзе мира» (4:3).
Новый Завет предъявляет Церкви более чем убедительную парадигму, согласно которой она должна превратиться в общину, преодолевшую все расовые и этнические разногласия. В той мере, в какой Церковь осуществляет реальность этого идеала, она оказывает огромное влияние на общество; если же не живет в согласии с этой реальностью, подрывает истину Евангелия. Наглядные примеры обоих вариантов развития мы наблюдали в пору борьбы за гражданские права негров в США в 1950-е и 1960-е годы и во время сравнительно недавних событий в Южной Африке. Продолжающийся и в 1990-х годах расовый сепаратизм американских общин - тревожный симптом неверности Богу, который лишь усугубляет расовые напряжения во всей нашей цивилизации.
Но как быть с расовыми конфликтами за пределами Церкви? Это уже вторая - и гораздо более сложная - стадия обсуждения. Узрев однажды видение своей жизни - как зримого воплощения нового творения, в котором все расовые и этнические разногласия преодолены за трапезой Господней, - как может народ Христов продолжать питать враждебность к «чужакам»? Если Бог - Творец всего мира, желающий в конце концов искупить все творение; если смерть Христова - то средство, с помощью которого Богу было угодно «примирить с собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол 1:20), - то как может Церковь, призванная нести неискупленному миру весть о примирении с Богом (2 Кор 5:17-20), презирать или отвергать людей какой-либо национальности или наречия, независимо от того, христиане они или нет?! Более того: на Церковь возложено «служение примирения» во всем мире. Иными словами, Церковь призвана распространять то призвание, какое некогда принадлежало Израилю: Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли (Ис 49:6). Если сущность христианской общины понимается таким образом, участие в любого рода апартеиде или межрасовой ненависти становится немыслимым, а внутри Церкви этнические разделения превращаются в отрицание истины Евангелия. Вот почему расизм - ересь. Среди неотложных прагматических задач Церкви на 1990-е годы первой следует назвать формирование общин, ищущих примирения поверх этнических и расовых барьеров.
Глава 18. Аборт
Американские христиане ожесточенно и непримиримо спорят о допустимости аборта. Одну из противоположных позиций занимают «защитники жизни»: они называют аборты убийством и готовы препятствовать им любыми мыслимыми способами, порой вплоть до насилия против врачей и персонала клиник, где совершаются аборты; на другой стороне - «защитники свободного выбора»: с их точки зрения, аборт - неотъемлемое право женщины, обеспечивающее ей самостоятельность, равенство с мужчиной и свободу от несправедливых общественных условий. Многие христиане застывают на распутье: и те, и другие аргументы кажутся им достаточно убедительными, а неистовый пыл противников отпугивает. Но Церковь обязана иметь дело с этой проблемой. Любая «нежелательная» беременность порождает вопросы не только в области права и социальной политики, но и внутри общины веры.
Несколько лет назад я беседовал с близкими друзьями, которых проблема аборта коснулась лично. Здесь я изменю их имена - скажем, Билл и Дженнифер. Сорокалетние супруги, прекрасно образованные, талантливые, сделавшие успешную карьеру, принесшие много пользы обществу, экономически независимые. Кроме того, эти люди были набожными христианами, исполняли практику молитвы и духовного размышления. Они вырастили двух замечательных детишек, на тот момент старшеклассников. Но вдруг налаженная жизнь пошатнулась: Дженнифер внезапно забеременела. В первой реакции супругов радость смешивалась с тревогой. Хотя подобный поворот судьбы повлек за собой решительные перемены в их жизни, они решили родить и вырастить незапланированное дитя. Однако очередные анализы показали, что ребенок родится с синдромом Дауна. Страшный диагноз вынудил Билла и Дженнифер пересмотреть свое решение. Смогут ли они вырастить ребенка-инвалида? Будет ли вообще правильно и милосердно способствовать появлению на свет такого младенца? Не отнимут ли заботы о ребенке с синдромом Дауна все силы и энергию, которые сейчас они могли отдать работе, не обделят ли уже имеющихся детей? Прикинув, во что это обойдется, они склонились к мысли сделать аборт. Но им хотелось знать, как отношусь к этому я, их друг и вместе с тем специалист по Библии. Дает ли Новый Завет нам какие-то указания, помогающие принять столь трудное решение?
Как подойти к этому вопросу? Аборт оказывается чрезвычайно сложной проблемой, потому что новозаветные тексты не содержат вообще никаких прямых высказываний, затрагивающих столь важную этическую тему. Вот почему я не мог предложить Биллу и Дженнифер готовый ответ. Здесь требуется более глубокое размышление. Поможет ли намеченный в этой книге подход к новозаветной этике продумать проблему, к которой не обращается непосредственно сам Новый Завет? Или в таких случаях нам остается лишь молчать в недоумении либо обращаться к другим источникам по этике?
Отсутствие прямых новозаветных свидетельств прежде всего означает необходимость соблюдать смирение во всех наших убеждениях и прокламациях относительно аборта. Наши «противники» вовсе не чудовища, вполне вероятно, что и для их точки зрения имеются серьезные основания. Церковь - община морального дискурса, и мы должны все вместе прилежно думать над этой проблемой. Лозунги и взаимные оскорбления ничему не научат общину.
С методологической точки зрения чрезвычайно важным шагом будет уже само усилие поместить дискуссию в рамки христианской общины. Первостепенная задача при нормативном обсуждении новозаветной этики - повлиять на мысль и жизнь христианской общины. Независимо от мнений и поступков других людей, независимо от того, что санкционирует закон, как должны мы, которые принадлежим Иисусу Христу и строим свою жизнь в согласии с Евангелием, относиться к беременности, аборту и воспитанию детей? Какое решение должна с молитвой перед Богом принять супружеская пара, оказавшаяся в ситуации Билла и Дженнифер?
Наши рассуждения не должны определяться категориями и нормами светского плюралистического общества. Вот как Стэнли Хауэрвас объясняет, почему для нас привычные дискуссии по поводу абортов будут бессодержательными:
...Сопротивление христиан абортам ни к чему не привело, потому что, пытаясь решать моральную проблему в рамках публичной политики, мы не сумели раскрыть свои глубочайшие убеждения, исходя из которых только и можно понять наше отвращение к абортам. Мы потерпели поражение в первом своем политическом предприятии, потому что мы некритически приняли понятие «этической проблемы аборта» - понятие, порожденное политикой, чуждой христианским убеждениям[1].
И пусть нас не сбивают с толку определения, которые дает мир, или вопросы, которые попадаются в анкетах. Церковь обязана вести моральный дискурс с помощью категорий, вытекающих из Писания.
Если удастся достичь внутри церкви ясности по проблеме аборта, следующей задачей общины будет - свидетельствовать миру, воплотив в себе чуждое миру видение, наглядно, словно «град на горе», демонстрируя иную возможность, альтернативный и лучший способ решать проблему. Однако к вопросу о свидетельстве Церкви мы вернемся лишь после того, как исследуем обращенное к нам свидетельство Нового Завета.
1. Чтение текста
В Библии ничего не сказано об аборте. Этот элементарный факт - мимо которого часто проходят люди, превращающие борьбу с абортами в своего рода лакмусовую бумажку истинно христианской веры, - означает, что проблема аборта принадлежит к совершенно иной категории, нежели другие ключевые вопросы, которые мы разбирали до сих пор. Мы не можем так или иначе интерпретировать спорный текст (как в случае с Мф 5:38-48) или искать компромисса между противоречивыми высказываниями (как это было в главе об антисемитизме или о подчинении правительству), нет необходимости и преодолевать разрыв между авторитетными суждениями Нового Завета и современным опытом (как это было в главе о гомосексуализме). В данном случае Библия не дает нам никаких конкретных указаний.
Многие противники абортов принадлежат к богословской традиции, подчеркивающей авторитет Писания, а потому они пытаются подобрать какие-то библейские основания для своих убеждений[2]. В свою очередь, сторонники абортов порой ссылаются на Исх 21:22-25 в доказательство своего тезиса - эмбрион еще не «личность». Однако стихи, приводимые обеими сторонами в споре, имеют разве что косвенное отношение к обсуждению этой проблемы. Рассмотрим вкратце тексты, которые упоминаются в этой связи чаще всего.
Исх 20:13; Втор 5:17: «Не убий». Когда эту заповедь распространяют на аборты, возникает следующий вопрос: ни та, ни другая сторона отнюдь не предлагает разрешить убийство, но существует проблема определения: является ли аборт убийством? Ни в контексте Десяти заповедей, ни в Торе в целом мы не найдем ответа на этот вопрос.
Исх 21:22-25. Этот текст находится в разделе законоположений, устанавливающих пеню за увечья, причиненные насилием:
Когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках; а если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб.
Это предписание ничего не говорит об умышленном аборте - это часть кодекса, регулирующего экономические отношения, где предусмотрена компенсация за ненамеренный удар, повлекший за собой выкидыш. Если пострадавшая женщина умрет или станет инвалидом, удар будет рассматриваться как убийство или членовредительство, и преступник будет казнен или подвергнется физическому наказанию соразмерно причиненному ущербу (ст. 23-25, ср. ст. 12). Однако если все последствия сводятся к выкидышу, достаточно будет и денежной пени (ст. 22), выплачиваемой супругу этой женщины в качестве компенсации за неполученное потомство. Хотя об аборте здесь специально речи не идет, закон, по-видимому, классифицирует эмбрион и мать по-разному и только мать считает человеком, поскольку только ее увечья караются по lex talionis.
Однако в переводе Септуагинты этот же самый текст приобретает совершенно иной смысл. Согласно этому переводу, определяющим фактором при установлении ответственности будет не увечье самой женщины, а успел ли младенец (paidion) сформироваться (exeikonismenon), то есть достиг ли той стадии развития, когда эмбрион приобретает человеческий образ[3]. Если младенец не сформировался, уплачивается пеня, если сформировался, вступает в силу lex talionis. Таким образом, «сформировавшийся», но еще не рожденный ребенок имеет те же права, что и любой другой человек. Однако деформированный или еще не сформировавшийся плод не наделяется юридическим статусом человека. Согласно этой интерпретации, все зависит от того, на какой стадии беременности произошел выкидыш[4]. Нужно отметить, что протестантская богословская традиция исторически отстаивает канонический приоритет еврейского текста перед Септуагинтой, а потому истолкование греческого варианта Исх 21:22-25 представляет скорее исторический интерес. В любом случае нужно подчеркнуть, что греческий текст, как и еврейский, рассматривает случайное увечье, а не преднамеренный аборт.
Пс 138:13-16: из всех текстов, приводимых противниками аборта, этот, пожалуй, наиболее важен. Здесь выстраивается мир символов, в котором Бог активно созидает будущую жизнь в утробе и знает человека еще до его появления на свет.
Ибо Ты устроил внутренности мои,
и соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои,
и душа моя вполне сознает это.
Не сокрыты были от Тебя кости мои,
когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы.
Зародыш мой видели очи Твои;
в Твоей книге записаны все дни,
для меня назначенные,
когда ни одного из них еще не было.
Разумеется, эти стихи могут сыграть определенную роль в дискуссии об аборте, однако нужно проявить осмотрительность и не вычитывать из текста слишком многое. Псалом нужно истолковывать по законам поэтического жанра, к которому он относится, а не как научный или юридический документ. Суть этого текста - провозглашение любящего всеведения и предведения Бога, который говорил Иеремии (1:5):
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя.
Из этих высказываний нельзя выжать аргумент о статусе плода как «личности» - это исповедание божественного предведения и попечения. Бог знает и призывает нас не только с момента зачатия, но и до зачатия и даже до сотворения мира. Осмыслив в таком ключе пафос Пс 138:13-16, мы понимаем, что к проблеме абортов этот текст, в сущности, не имеет отношения. Никакого суждения по поводу этой проблемы здесь не выражено.
Лк 1:44. Елизавета делится с Марией: при звуке ее голоса «взыграл младенец радостно в чреве моем». Младенец - будущий Иоанн Креститель, который в искусно сложенном повествовании Луки еще до своего рождения узнает Того «сильнейшего», кто придет вслед ему крестить Святым Духом (ср. Лк З.Т6). Выводить из этого текста - с богословской точки зрения чисто христологического - общее учение о том, что нерожденные младенцы обладают личностью, было бы нелепо и тенденциозно. Подобную «экзегезу» даже неуместно называть экзегезой. Этот текст принадлежит скорее символическому миру: «младенец в чреве» - совсем не то же самое, что медицинское «эмбрион». Но с помощью этого текста не удастся доказать наличие у нерожденного ребенка личности, и к тому же он никоим образом не затрагивает проблему аборта.
Гал 5:20. В составленном Павлом перечне «дел плоти» упомянута pharmakeia, то есть «волшебство». Некоторые «защитники жизни», цепляясь за соломинку в попытках найти в Новом Завете доказательство в свою пользу, высказывали предположение, что этим словом заклеймено обыкновение вызывать выкидыш с помощью сильнодействующих лекарств[5]. Подобная гипотеза едва ли заслуживает серьезного обсуждения. Хотя медикаментозные выкидыши практиковались в древности[6], контекст не дает никаких оснований для подобного истолкования. Слово pharmakeia отнюдь не является специфическим термином - «прием лекарств, способствующих выкидышу», - это самое общее обозначение магических ритуалов (ср. Откр 9:21, 18:23).
Мф 19:14: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Этот стих противники аборта также используют иногда в качестве лозунга[7] - поразительный пример деконтекстуализации текста во имя аргументации. При контекстуальном чтении совершенно очевидно, что речь идет о рожденных детях, а не о нерожденных.
Итак, мы не располагаем текстами по проблеме аборта, хотя отдельные стихи Библии поэтически провозглашают провиденциальное попечение Бога о всякой жизни еще до рождения и даже до зачатия. Это дает нам недостаточно материала для выработки нормативов.
2.Синтез: аборт в канонических текстах
Синтезировать тут нечего. Поскольку ни один текст не рассматривает аборт напрямую, не возникает и проблемы противоречия внутри канона. Канон единодушно молчит.
А потому в данном случае невозможно использовать три ключевых образа: общины, креста и нового творения. Лишний раз мы убеждаемся в том, что эти образы не следует путать с принципами, которые можно применять к моральным проблемам более широко, без опоры на конкретный новозаветный текст. Эти образы служат вехами для истолкования конкретных текстов и соотнесения их с более широкой канонической перспективой. Где нет текстов, незачем обращаться к ключевым образам.
Однако мы можем предпринять более широкое исследование библейской концепции беременности и деторождения и задать контекст, внутри которого мы сумеем интерпретировать проблему аборта. Ради экономии места мы не станем здесь заниматься подробным исследованием, а сразу приведем основные итоги, очевидные каждому, кто хотя бы поверхностно ознакомился с Библией: дети - великое благословение Божье, а бесплодие - тяжкая кара[8]. Дети - гарантия продолжения рода, источник материального благосостояния и уверенности в завтрашнем дне. Приведем в качестве примера хотя бы Пс 126:3-4:
Вот наследие от Господа: дети;
награда от Него - плод чрева.
Что стрелы в руке сильного,
то сыновья молодые.
Блажен человек, который наполнил ими колчан свой.
Как показывает этот пример, библейские тексты выражают, главным образом, мужскую точку зрения, однако мы обнаруживаем множество контекстов, когда женщины молят Бога даровать им детей. Узнав о своей беременности, женщины благодарят Бога молитвами и песнями радости (напр., Быт 21:6-7; 1 Цар 1-2; Лк 1). Разумеется, за этими текстами стоит историческая реальность, принципиально отличающаяся от современной, и предполагается, что основная роль женщины в обществе - это роль женщины и матери. Такое представление о беременности и деторождении не может быть воспринято без герменевтического обсуждения (см. ниже). Тем не менее, для нас существенно, что канон, хотя и не уделяет специального внимания абортам, рисует мир, в котором аборт был бы не столько даже неэтичен, сколько просто немыслим.
3. Герменевтика: реакция на молчание Нового Завета по поводу аборта
(А) Герменевтическая апроприация. Поскольку в Новом Завете отсутствуют тексты, хотя бы косвенно затрагивающие проблему аборта, очевидно, здесь мы не найдем никаких правил для этого случая, и апелляция к библейским принципам не поможет разрешить нынешние споры. Представители разных точек зрения согласны в том, что христианин обязан поступать справедливо и уважать человеческую жизнь; трудность заключается в том, как применить эти принципы к нашей конкретной дискуссии[9]. Лично я предполагаю, что использовать свидетельство Нового Завета в обсуждении данной проблемы можно только в том случае, если саму проблему мы поместим в более широкий контекст символического мира Нового Завета[10] и на основании аналогий поразмыслим о том, какие парадигмы можно было бы попытаться выявить в каноне, чтобы с их помощью ответить на интересующий нас вопрос. Не совсем понятно, к каким герменевтическим приемам можно тут прибегнуть, однако можно выдвинуть некоторые полезные соображения. Теперь мне придется изменить принятый ранее порядок обсуждения и сначала обратиться к миру символов, потому что мои соображения в этой области более укоренены богословски и не столь спекулятивны, как мои попытки аналогического прочтения.
В мире новозаветных символов Бог - Творец и Источник жизни. Иоаннов Пролог провозглашает, что всякая жизнь возникает благодаря творческой энергии Слова:
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин 1:3-5).
Когда в утробе начинает развиваться новая жизнь, в ней принимает участие творческая сила Бога, и Христос, через которого совершается все творение, уже умер во искупление этой, еще только завязавшейся жизни. Вот почему Барт пишет: «Истинный свет мира сияет уже во тьме материнской утробы»[11]. Мы имеем редкостную привилегию соучаствовать в творческой работе Бога, зачиная, вынашивая и рожая детей[12], однако без порождающей силы Бога новой жизни не будет. Мы разбрасываем семена, а как они прорастают - нам неведомо.
Мы, создания Божьи, - домоправители, которым вверена жизнь. Прервать беременность, значит, не просто совершить акт насилия, но и понести ответственность за уничтожение работы Бога, «из Которого все, и мы для Него» (1 Кор 8:6). Если мы формулируем проблему таким образом, конкретный момент, когда эмбрион становится «личностью», уже не так важен. Признаем ли мы нерожденного ребенка «уже человеком» или нет, в любом случае, это - новая жизнь, исходящая от самого Бога. В каких-то обстоятельствах мы можем рассуждать о необходимости пресечь начинающуюся жизнь, однако решение принять эти крайние меры должно быть подкреплено весьма серьезными доводами[13]. Обычная реакция на беременность в символическом мире Библии - радоваться Божьему дару, даже если он застигает врасплох.
Осознав свои отношения с Богом в категориях библейского повествования, мы понимаем, что мы - творения Божьи. Мы не создали сами себя и себе не принадлежим. Внутри такого мировоззрения аборт - считать его «убийством» или нет - оказывается грехом в том же смысле, в каком являются грехом убийство и суицид: человек присваивает себе право уничтожить жизнь, которая не им сотворена.
В этой общей картине символического мира Писания удастся ли подобрать новозаветные образцы, которые помогли бы нам определиться с проблемой аборта? В разделе 13.2 я высказал убеждение, что этическое решение по необходимости является актом сотворения метафоры, когда новозаветные тексты и наш мир сопоставляются таким образом, что возникают новые связи, проливающие свет на проблему. Потребность в такого рода акте воображения становится особенно очевидной, когда, как в случае с абортом, мы имеем дело с проблемой, которую Новый Завет специально не рассматривает. На последующих страницах я хотел бы провести три линии метафорического рассуждения, три не самые очевидные на первый взгляд корреляции между сюжетами Нового Завета и проблемой аборта. Во всех трех случаях мы рассматриваем Новый Завет как образец: хотя напрямую Новый Завет не обсуждает проблему абортов, здесь описаны поступки людей, косвенным образом влияющие на наше отношение к этому вопросу. Сами по себе эти примеры ничего не доказывают. Они приобретают убедительность только в той мере, в какой метафорические корреляции проливают новый свет на проблему.
Добрый самаритянин (Лк 10:25-37). Притча Иисуса дает новый, сметающий прежние понятия ответ на вопрос «Кто мой ближний?» Двойная заповедь любви, в которой цитата из Втор 6:5 соединяется с Лев 19:18, призывает нас возлюбить Бога и ближнего (10:27), однако законник требует точнее определить термин «ближний», поскольку в исходном контексте Книги Левит оно означало «сородич израильтянин». Рассказав о сострадательном самаритянине, Иисус не столько уточняет термин «ближний», сколько переосмысляет эту категорию, причем двояко: во-первых, в категорию «ближнего» включаются ненавистные самаритяне, а, во-вторых, ближним оказывается тот, кто проявляет милосердие, а не тот, кто принимает его (10:36-37).
Какой свет проливает эта история на проблему аборта? Не в том дело, что нерожденный ребенок тоже, по определению, «ближний», а в том, что мы призваны стать ближними каждому, кто беспомощен, мы должны выйти за традиционные рамки долга и оказать жизненно необходимую помощь тем, кого мы прежде не сочли бы достойными сострадания. Этот принцип применим и к матери, принимающей «критическое решение», и к ее нерожденному ребенку. Задаваясь вопросом, является ли эмбрион человеком, мы вторим все тому же ограниченному и склонному к самооправданию законнику, который вопрошает Иисуса: «Кто мой ближний?» Ответив на вопрос законника этой притчей, Иисус отверг казуистические попытки ограничить нашу моральную ответственность и отнести каких-либо людей к категории «вне нашего попечения». Если мы сочтем нерожденного ребенка не-личностью, мы снимем с себя по крайней мере часть моральной ответственности, в то время как Иисус, напротив, призывал нас расширять ответственность, проявляя милосердие и активно заступаясь за беззащитных. Самаритянин являет нам образец любви, которая выходит за пределы обычных обязательств и создает отношения между ближними там, где прежде таких отношений не существовало. Заключительные слова притчи обращены ко всем нам: «Иди, и ты поступай так же». Если мы в самом деле примем доброго самаритянина за образец, как это отразится на нашем подходе к проблеме аборта?[14]
Иерусалимская община (Деян 4:32-35). Как мы уже говорили при обсуждении Лк и Деян 5, портрет ранней иерусалимской общины у Луки отражает его видение Церкви: апостольское свидетельство о воскресении подкрепляется принятой в общине практикой делиться имуществом и заботиться о нуждающихся:
У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.
Какой свет этот рассказ проливает на проблему абортов? Здесь сказано, что община принимает на себя ответственность и попечение о нуждающихся. Значит, внутри общины не может служить основанием для аборта ссылка на экономические условия или неспособность матери позаботиться о ребенке. Община принимает ответственность на себя и организует структуры, которые сумеют обеспечить мать и ребенка. Делиться, а не делать аборт - вот правильный ответ. Вот что означает для общины жить властью воскресения. Когда либеральная протестантская церковь отстаивает право сделать аборт для бедной женщины, которая-де не имеет средств для воспитания «лишнего» ребенка, это трагическое свидетельство того, что церковь утратила опыт жизни в общине, где все делятся друг с другом, и поддалась власти смерти. Неспособность церкви найти решение для проблемы развода - это симптом глубочайшей неверности экономическим постулатам Евангелия[15].
С этим пунктом тесно связан еще один: церковная дисциплина. Наша задача не сводится к тому, чтобы делиться финансами - мы должны призывать мужчин к ответственности. Аборт обычно рассматривается как сугубо женская проблема, и это показывает, до какой катастрофической степени современная цивилизация позволяет мужчинам уклониться от ответственности за ребенка. Хауэрвас справедливо замечает: «Аборт - это крайнее средство, к которому мужчины часто прибегают, чтобы избавиться от ответственности перед женщиной»[16]. В церкви такому не место. Мужчину, зачавшего незаконного ребенка, община должна призвать к ответственности и помочь ему взять на себя эмоциональную и финансовую заботу о женщине, а также продолжать попечение о ребенке и после его рождения. (Я говорю сейчас о мужчинах-христианах. Разумеется, церковь не может распространить свой авторитет и дисциплинарные взыскания на отцов-нехристиан). Община веры должна окружить мужчину и женщину всяческой поддержкой, чтобы помочь им исполнять роль родителей. Сюда входит не только финансовая поддержка, но и дружеское участие, совет и молитва. Если бы Церковь приняла за образец для своей жизни парадигму Деян 4:32-35, большая часть аргументов в пользу аборта отпала бы сама собой.
Подражание Христу (Рим 15:1-7; 1 Кор 11:1; Гал 6:2; Флп 2:1-13). В интерпретации Павла призыв «подражать Христу» означает, что община отказывается от поисков свободы и самоопределения, служа другим, в особенности «немощным»[17]. Если ради другого человека приходится отказываться от каких-то «естественных» прав, например от права есть ту или иную пищу, то христиане должны охотно пожертвовать этими правами, подобно тому как Христос отказался от божественных прерогатив и принял смерть на кресте, чтобы спасти немощных, состоящих под властью греха.
Какой свет эта парадигма проливает на проблему аборта? Здесь нам указано, что мы должны служить и приходить на помощь детям, как рожденным, так и еще не рожденным, даже если порой это очень сложно и влечет за собой нелегкие последствия. Отметим, что призыв Павла - подражать Христу - адресован всей общине, а не ее членам по отдельности. «Принимать детей» обязана не конкретная беременная женщина - тогда бы получилось, что Церковь попросту велит ей: «Подражай Христу и страдай ради этого ребенка», - нет, этот призыв возлагает ответственность на всю Церковь. В буквальном смысле община не может пройти через беременность и роды, но она может, если понадобится, принять на себя бремя заботы о ребенке с момента его рождения. Вот что означает «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию» (Рим 15:7). Такое самоотверженное приятие распространяется не только на ребенка, но и на мать - нельзя оставлять ее, чтобы она в одиночестве принимала «критическое решение» и его последствия. Община должна принять женщину, разделить с ней бремя и таким образом исполнить закон Христов (Гал 6:1-2). Если б так было в жизни, христиане почти прекратили бы делать аборты. А если мое предложение кажется непрактичным, то лишь потому, что Церковь очень далеко ушла от заложенных Новым заветом первооснов.
(Б) Другие источники. В отсутствие ясных указаний в текстах Писания традиция, разум и опыт с неизбежностью начинают играть большую роль в формировании норм, а затем в определении обстоятельств, когда будут допустимы исключения из этих общих норм. Обратимся же к обсуждению этих факторов.
Хотя в Новом Завете об аборте речь не идет, христианская традиция с древнейших времен последовательно и решительно выступает против этого акта. Среди особенностей, отличавших ранних христиан от окружающего языческого мира, был отказ от аборта и детоубийства. Самое раннее упоминание об этом мы находим в Дидахе (христианский «катехизис» конца I - начала II века). В первом разделе Дидахе сопоставляются «Два пути» жизни и смерти, и среди заповедей, направляющих «путь жизни» христианина, есть и такая: «Не убивай ребенка абортом и новорожденного не убивай» (Дидахе 2:2; ср. Послания Варнавы 19:5). Нет надобности приводить другие примеры, подтверждающие единодушное свидетельство традиции, - они уже собраны и четко изложены в научной литературе[18]. Любое исследование такого рода подтверждает, что христианская традиция единодушно запрещала аборт, хотя никогда не отказывалась от рассмотрения особых случаев, например трагических ситуаций, когда это единственный способ спасти жизнь матери. Произошедший в последние годы перекос, когда некоторые ветви либерального протестантизма начали отстаивать право на аборт, свидетельствует о глубоком разрыве с историческим учением Церкви.
Поскольку сторонники «свободы выбора» не могут сослаться на Писание или традицию, они апеллируют к разуму и/или опыту. Соответственно, и партия противников аборта начала отвечать им в тех же категориях, подыскивая нерелигиозные аргументы, которые показались бы убедительными в плюралистической культуре[19]. В особенности большая роль в этих дебатах отводится разуму, потому что многие проблемы, связанные с абортом, подменяют научными и философскими вопросами, как-то: физиология развития плода; психологические последствия аборта для женщины; абстрактные рассуждения о том, с какого момента начинается жизнь и в чем состоят естественные права человека. Все эти медицинские, психологические, философские и юридические соображения подпадают под рубрику разума как авторитетного источника богословия. У меня не хватит ни места, ни знаний, чтобы подробно разобрать такого рода вопросы, однако я могу указать, когда и каким образом некоторые типы аргументации со ссылкой на разум приходят в противоречие с Новым Заветом. Христианское богословие вправе решительно отвергнуть некоторые подходы к этой проблеме, поскольку они никоим образом не совместимы с новозаветным пониманием жизни общины Божьей. То есть хотя Новый Завет специально ничего не говорит об аборте, его учение играет принципиальную отрицательную роль, когда Церковь приходит к выводу о недопустимости тех или иных достаточно типичных формулировок самой проблемы - как со стороны «защитников жизни», так и со стороны «защитников свободного выбора». Спешу добавить, что это отнюдь не означает, будто разум вообще исключается из дискуссии. Дело в другом: некоторые виды аргументации не сочетаются с символическим миром Нового Завета, с миром, в котором живет община верующих. Чтобы не затягивать обсуждение, я кратко объясню, почему Новый Завет не принимает шесть наиболее распространенных «теорий» аборта:
• Неправильно подавать эту проблему как столкновение «прав»: права матери против прав нерожденного ребенка. В Писании ничего не сказано о «праве на жизнь». Жизнь - дар Божий, знак благодати. Никто не может притязать на нее, и никто из нас - ни мужчина, ни женщина - не имеет автономного «права» на свое тело. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших» (1 Кор 6:19-20). За все наши решения и поступки мы несем ответственность перед Богом.
• Еще менее уместно рассматривать эту проблему как «частное дело», как это было в приговоре по делу «Ро против Уэйда», или как личный выбор. (Напомним, мы говорим о решениях, принимаемых христианами, находящимися внутри Церкви). Все наши действия совершаются внутри общины веры и должны оцениваться по двойному стандарту: идут ли они во благо общине и свидетельствуют ли миру о воле Божьей. Новозаветная этика в первую очередь задает вопрос о том, как нормы жизни общины отражают истину ее отношений с Богом. В Церкви, как в Израиле: если каждый начнет делать то, что хорошо в его глазах, это приведет к хаосу и непослушанию Богу (Втор 12:8; Суд 17:6, 21:25).
• «Святость жизни», эта священная корова, не имеет оснований в Новом Завете. Хауэрвас убедительно разоблачает данный предрассудок: «Христианский запрет отнимать жизнь основан не на предпосылке, будто человеческая жизнь обладает высшей ценностью, а на убеждении, что у нас нет права ее отнимать. Христианский запрет на аборты вытекает не из предпосылки о высшей ценности жизни, но скорее из понимания, что мы, создания Божьи, не можем притязать на какую-либо власть над жизнью... Уважение христиан к жизни выражает их отношение не столько к самой жизни, сколько к Богу»[20].
• Неправильно подменять проблему аборта вопросом: «С какого момента начинается жизнь?» или «Является ли эмбрион личностью?» На эти вопросы ответа не даст ни наука, ни Библия. Писание не дает оснований не только для ответа на эти вопросы, но даже для самих вопросов. К тому же подобные рассуждения становятся крайне опасными постольку, поскольку люди ищут способа оправдать аборты, исключая ту или иную «маргинальную категорию» из человечества. Совершенно очевидно, как опасен такой прецедент. Иисус, напротив, направлял все усилия на то, чтобы включить любые маргинальные категории в человечество.
• Еще хуже аргумент о «качестве жизни», отстаивающий право на аборт, ибо «не стоит рождаться на свет нежеланному ребенку». Нежеланному для кого? Для матери? Такими рассуждениями можно оправдать и детоубийство, особенно в бедняцкой среде! Историческое свидетельство Иисуса и основанной Им общины - это свидетельство о принятии «нежеланных», о любви к ним, а не рекомендация «избавить их от страданий», попросту умертвив. Верующая община должна добиваться «качества жизни» для всех, приходящих в мир, независимо от того, «желанны» они для своих родителей или нет.
• Слаб гипотетический консеквенциалистский аргумент, иногда выдвигаемый в современных дебатах: «А что если бы Дева Мария сделала аборт?» На это можно возразить: «А что если бы мать Гитлера сделала аборт?» Ставя рядом эти глупые вопросы, мы лишь убеждаемся в том, насколько безразличен Новый Завет - в отличие от многих современных авторов - к консеквенциалистскому этическому дискурсу. Новый Завет учит нас подходить к этическим проблемам не с вопросом: «Что произойдет, если я сделаю то-то?», а «Какова воля Божья?».
Опыт играет менее значительную роль в спорах об аборте, поскольку здесь доводы обеих сторон оказываются недостаточно убедительными. Библиография по этому вопросу стремительно разрастается. В одних работах подчеркивается то облегчение, чувство освобождения и даже силы, которые женщины испытывали после аборта[21]. В других подчеркиваются те страдания и даже психическая травма, через которые проходят женщины, решившиеся на аборт[22]. Тот или иной «опыт» в области аборта конструируется в зависимости от культурной среды, в которой находится человек.
В противовес дискуссии о гомосексуализме для оправдания аборта христиане практически никогда не ссылаются на позитивный религиозный опыт. Аборт рассматривается абстрактно как «право» и как неприятная и болезненная процедура, на которую женщина вынуждена бывает согласиться ради большего блага - самостоятельно распоряжаться своим телом.
К каким нормативным суждениям относительно аборта подводит нас это обсуждение? Хотя Новый Завет не содержит высказываний, запрещающих аборт, библейское учение о Боге - Творце и Источнике жизни - должно заведомо насторожить нас против любых притязаний человека пресечь жизнь. Эту настороженность усиливают предложенные мной парадигмы: Церковь должна следовать примеру сострадательного самаритянина, ранней иерусалимской общины и самого Иисуса - все они жертвовали собой ради других, в особенности ради немощных, бедных и беспомощных. Приняв эту парадигму, Церковь усвоила бы новые способы общинной жизни и новые отношения к ближним, которые прежде не осознавались как таковые. Если бы свидетельство Нового Завета осуществлялось в жизни, необходимость аборта практически никогда не рассматривалась бы в христианской общине. Более того, Новый Завет категорически исключает некоторые логические схемы, обычно используемые сторонниками аборта, в особенности апелляцию к «праву» человека на самостоятельный этический выбор, к «праву на частную жизнь» и на «качество жизни». В нормативном христианском богословии эти посылки не могут рассматриваться в качестве аргументов. Если добавить к этим соображениям исторический факт - христианская традиция решительно не одобряет аборты, - противники абортов победят с большим отрывом.
Поэтому обсуждать имеет смысл лишь возможные исключения из правил. Возможны ли обстоятельства, при которых христианин оправдывает аборт как трагическую необходимость? Если уж новозаветные авторы осмелились найти оговорки для категорического запрета развода, который мы находим у Иисуса, Церковь может также, - со страхом и трепетом вверяясь руководству Святого Духа, - подобрать исключения и для традиционного запрета абортов, тем более, что в этом вопросе мы не опираемся на заповедь Божью. В качестве такого рода исключений часто предлагают две крайние ситуации: аборт ради спасения жизни матери и аборт в том случае, когда беременность наступает в результате изнасилования или инцеста. В особенности в последнем случае (насилие и инцест) сторонники аборта могут ссылаться на опыт: мы инстинктивно отталкиваем от себя даже мысль о том, что молодая женщина понесет такое бремя: ребенка, зачатого в акте совершенного против нее насилия. Как я уже говорил, ссылки на опыт оказываются особо весомыми в богословских рассуждениях тогда, когда, как в данном случае, мы не располагаем эксплицитным новозаветным учением по конкретному вопросу. Лично я считаю, что подобные исключения являются допустимым выбором для христиан[23].
Существуют ли другие оговорки? Как насчет ситуации, с которой столкнулись мои друзья Билл и Дженнифер - беременность, плодом которой станет ребенок-инвалид? Здесь мы имеем дело с чрезвычайно сложной проблемой, ибо сильную общую тенденцию Писания и традиции нужно противопоставить огромному личному бремени - родить и воспитать такого ребенка. (Современные медицинские технологии возложили на нас моральное бремя выбора, какого не знали прежние поколения, не умевшие заранее выявлять внутриутробные пороки развития). Продолжая линию аргументации, уже намеченную в этой главе, скажу, что подобное решение должно было бы приниматься совместно членами местной церковной общины, к которой принадлежат Билл и Дженнифер, с тем, чтобы бремя выбора и его последствий не ложилось только на плечи родителей. Если община будет ориентироваться на метафорические парадигмы, подобные тем трем, которые я приводил выше (добрый самаритянин, иерусалимская церковь, Иисус), она возьмет на себя любую необходимую ответственность и поддержит Билла и Дженнифер в их решении: дать жизнь незапланированному ребенку с болезнью Дауна. Если же эти парадигмы не покажутся общине убедительными или цена ответственности за такого ребенка будет в ее глазах непомерно велика, община санкционирует решение сделать аборт, молясь при этом о милости Божьей для всех: матери, отца, ребенка, врача и членов церкви.
Лично я считаю, что Новый Завет призывает общину избежать аборта, то есть взять на себя бремя помощи родителям, которые будут растить ребенка-инвалида. Однако в этой жизненной ситуации Билл и Дженнифер даже не выносили проблему на обсуждение общины, полагая (боюсь, справедливо), что местный приход - отнюдь не та организация, которая способна осознанно принять на себя ответственность в данной области. Оставшись наедине с проблемой, они предпочли аборт. Хотя мне кажется, что свидетельство Нового Завета должно было бы склонить весы в другую сторону, я признаю сложность ситуации и понимаю, как трудно было им сделать этический выбор. В тех случаях, когда Новый Завет не дает нам конкретных указаний, бывает и так, что христиане, полагаясь на свою совесть, приходят к взаимоисключающим выводам. Билл и Дженнифер поступили так, как сочли правильным: аборт стал для них тяжелым, но неизбежным выходом. Если такой выбор в самом деле необходим, то это в первую очередь трагедия Церкви, отрекшейся от своего призвания: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал 6:2). Новый Завет указывает нам лучший путь.
4. Проживая текст: Церковь - община живых
До сих пор я планомерно уклонялся от рассмотрения еще одного аспекта проблемы: аборт как политическая составляющая жизни США. Я не хотел переходить к этому разговору, пока не станет вполне ясно, каким образом Новый Завет может повлиять на христианскую Церковь при решении этой сложнейшей проблемы. Но теперь в свете проведенной дискуссии мы можем задать вопрос: а что должна в связи со всем этим делать Церковь? Каким образом мы можем воплотить здесь и сейчас, в дебатах за аборт и против, Слово Божье?
Начнем с того, что мы не можем добиться морального консенсуса в постхристианской культуре. Проблема допустимости или недопустимости аборта вызывает в Соединенных Штатах глубокий раскол, потому что нет единой культуры и этики, которой мы могли бы руководствоваться в этой области. Нужно осознать тщетность любых попыток навязать государству христианское учение об абортах. Это не означает, что мы допускаем дуализм и разделение жизни на независимые части - духовную и светскую или что мы признаем пресловутое «право на индивидуальный выбор», - просто мы видим, что убеждения, побуждающие нас противиться абортам, понятны лишь внутри символического мира Писания. Наше сопротивление абортам приобретает смысл лишь в свете Евангелия Иисуса Христа: мы занимаем по отношению к нашей культуре то же положение, что ранняя Церковь - по отношению к культуре Римской империи. Тем самым первостепенной задачей христианской общины в данной области становится формирование живого свидетельства, которое показало бы миру Евангелие в действии.
Вот почему гневные протесты против абортов, вперемежку с угрозами и оскорблениями, неэффективны и противоречат сути христианства: они демонстрируют отнюдь не Евангелие в действии, а совершенно иной дух. А уж те случаи, когда активисты борьбы с абортами прибегали к насилию, взрывая больницы или убивая врачей, и вовсе несовместимы с Евангелием. (См. главу 14 о неприменимости насилия даже ради правого дела). Но даже мирные усилия законодательно запретить аборты попросту обречены на провал в нынешней культурной атмосфере. Миру нужно указать иной путь, а не вынуждать законом отказываться от того, что он привык считать своим «правом»[24].
Как должна действовать Церковь в подобных обстоятельствах? Первая и главная задача общины - поступать в соответствии со своей верой и принимать жизнь как дар Божий. Уильям Дерленд пишет:
Не стоит требовать от государства, чтобы оно принуждало женщин доводить беременность до родов или, напротив, разрешало им пресекать ее. Бог призывает нас быть особым народом, отдельной общиной - свидетельствовать в обличение миру, любить и утешать тех, кому мир причинил боль. Если бы ту энергию, которую нынче тратят, пытаясь повлиять на приговор Верховного Суда, направить на создание разумной альтернативы аборту, системы поддержки и полномасштабного попечения для женщин, ставших жертвами насилия, для «нежеланных» детей и для семей, страдающих от бедности, болезней или домашнего насилия, быть может, в нашей среде зародилась бы истинно христианская община - свет народам и верное прибежище нуждающимся[25].
Такое же видение вдохновляет Билла Тилберта, пресвитерианского пастора из Колорадо, который проводит интересную аналогию между антивоенной борьбой и борьбой против абортов.
В 1960-е и 1970-е пацифисты выступали с антивоенным лозунгом: «А что если объявят войну и никто не пойдет?» Что будет, если правительство объявит войну, а весь народ попросту откажется в ней участвовать? Что будет, если абортарии не трогать, но женщины в них не придут? Если аборт останется законным, но никто не станет принимать такое решение? Никакие реформы, никакие пикеты возле абортариев и ожесточенная полемика не положат конец абортам. История Церкви на протяжении всех веков была историей постепенных перемен, осуществлявшихся в обществе благодаря той альтернативной концепции жизни, которую Церковь демонстрировала миру и сама активно проживала. Хватит твердить нашим неверующим ближним, что они живут неправильно, - лучше обнаружим власть Евангелия в нашей жизни... Позвольте задать вам вопрос: какая сила перевесит? Десять тысяч человек, демонстрирующих на улице перед абортариями и осыпающих оскорблениями идущих туда женщин, или десять тысяч калифорнийцев, направивших в столицу штата официальное заявление: они готовы усыновить всех нежеланных детей любого возраста и цвета кожи, с любыми недугами и любить каждого ребенка во имя Иисуса Христа?![26]
Заметьте, что в обеих цитатах выделяется роль Церкви как свидетеля. Церковь свидетельствует неверующему миру своей активной готовностью принять ответственность за нуждающихся, позаботиться о женщинах и детях, которые в противном случае окажутся жертвами господствующей системы ценностей.
Этой же богословской и специально церковной логикой проникнута «Даремская Декларация», манифест против аборта, обращение группы пасторов и богословов Объединенной методистской церкви к своей Церкви - не к законодателям и не к средствам массовой информации, но к общине верующих. Манифест завершается рядом обетов:
Мы обязуемся, с Божьей помощью, стать Церковью, которая гостеприимно обеспечит надежное убежище так называемым «нежеланным детям» и их матерям. Мы с радостью примем и щедро поддержим - молитвой, участием, деньгами - и мать, и дитя. В том числе мы постараемся убедить биологического отца стать своему ребенку настоящим отцом[27].
Подобными обязательствами не разбрасываются. Если церковь реально попытается осуществить такой обет, у нее быстро начнут таять ресурсы и члены церкви вынуждены будут пойти на значительные жертвы. Иными словами, эта община будет жить по евангельским законам.
Уильям Уиллимон передает рассказ о том, как несколько священников обсуждали моральную сторону аборта. Один из них утверждал, что в иных случаях аборт допустим, ведь девочка-подросток, например, не может самостоятельно вырастить ребенка. Однако чернокожий священник, настоятель большого афроамериканского прихода, выявил другую сторону проблемы:
У нас тоже такое случается. В прошлом месяце в моем приходе стала матерью четырнадцатилетняя девочка. В ближайшее воскресение будут крестины, - сообщил он.
И вы считаете, что она способна воспитать малыша? - возмутился его собеседник.
Разумеется, нет, - отвечал пастор. - Четырнадцатилетняя девочка не может вырастить ребенка. Да и не всякая тридцатилетняя женщина сумеет. Никому не под силу самостоятельно поднять ребенка.
Как же вы поступаете с младенцами? - спросил кто-то еще.
Мы крестим их, а потом растим все вместе. Что касается этой четырнадцатилетней девочки, мы передали ее малыша на воспитание паре пенсионеров, у которых достаточно времени и жизненного опыта для воспитания детей. Они будут воспитывать мамочку вместе с ребенком. Вот как мы это делаем[28].
Только община, где привилось столь самоотверженное служение, может достоверно свидетельствовать перед государством против абортов. Здесь мы видим, как Евангелие во всей полноте воплощается в жизни общины, и она до такой степени формируется Писанием, что три ключевых образа, к которым мы прибегали на протяжении всей книги, могут быть применены уже к «прочтению» действий этой церкви. Община: церковь принимает на себя ответственность за беременную девочку. Крест: девочка должна пережить стыд и физический дискомфорт беременности, а пожилая пара пожертвует ради беспомощного младенца комфортом и свободой. Новое творение, крещение младенцев - знак того, что разрушительная власть мира сломлена и ребенок получает благодать Божью и надежду на будущее[29]. Вот, в сжатом виде, вся этика Нового Завета! Пока община народа Божьего живет в осознанном послушании Слову Божьему, мы вновь и вновь будем находить такие исполненные благодати совпадения между библейской историей и сегодняшним днем.
Заключение
Мы подходим к концу книги, хотя отнюдь не к завершению спора обо всех затронутых здесь проблемах. Я попытался представить последовательный метод изучения новозаветной этики как богословской дисциплины и тем самым наметить подход для внедрения этического свидетельства Нового Завета в жизнь Церкви. Подобный подход к свидетельству с необходимостью ставит перед нами сложную, состоящую из четырех частей задачу: внимательное прочтение каждого свидетельства; выявление сходных элементов этих этических идеалов методом синтеза; обсуждение герменевтических процедур, с помощью которых мы можем сверить с текстами нашу конкретную ситуацию; и наконец, проживание текста в христианской общине. Чтобы проиллюстрировать эту процедуру на практике, я провел ряд рассуждений по пяти глобальным проблемам: насилие, развод, гомосексуализм, антисемитизм и аборт.
Предложенная мной модель не является точной методикой, дающей безусловные научные результаты. Это всего лишь система координат для дискуссии, вехи, ориентируясь на которые община может продолжать постоянный поиск в стремлении осознать и исполнить волю Бога. Подобного рода обсуждения могут протекать лишь под руководством Святого Духа, а потому от этой модели неотъемлемо требование сверять любые конкретные этические суждения и любые прочтения Слова с опытом и свидетельством общины. И данная книга подчиняется этому правилу: все сделанные здесь выводы, сложившиеся в единое представление о новозаветной этике, предлагаются широким кругам Церкви для обдумывания и обсуждения. Это - призыв к общине верующих вновь обратиться к свидетельству Нового Завета. Если я не ошибся, утверждая, что принятие морального решения требует от Церкви предварительно совершить акт переноса, новым и поучительным образом приведя текст Нового Завета в столкновение с жизнью общины, то отсюда с неизбежностью следует, что у многих читателей подобного рода перенос Слова не только произойдет иначе, нежели у меня, но и обнаружит другие аспекты истины, которых мы никогда бы не увидели без этого метафорического акта. И мои рассуждения в предшествующих главах прошу воспринимать не как ряд категорических высказываний, а как индивидуальную попытку сформулировать четкие выводы из чтения свидетельств Нового Завета применительно к животрепещущим проблемам нашего времени. Этой книгой я надеюсь не закрыть обсуждение намеченных выше проблем, а скорее открыть его заново.
И вновь повторю мысль, прозвучавшую в начале части IV: пятью разобранными здесь вопросами отнюдь не исчерпывается фундаментальное этическое учение Нового Завета, да и, по моему наиболее острые этические проблемы Церкви на рубеже XX века к этому не сводятся. Спектр проблем, намеченных в части IV, выбирался с целью показать, как предложенные мной категории работают с различными типами свидетельств, которые мы находим в Новом Завете. При таком отборе я руководствовался скорее методологическими соображениями, нежели содержанием.
Одно из последствий такой процедуры отбора заключается в том, что выводы, полученные в части IV, отражают самые разные уровни убеждения. Так, мои соображения по поводу аборта, о котором не идет специально речь в Новом Завете, нужно понимать именно как гипотезы, попытку развить косвенные намеки, скрывающиеся в новозаветном повествовании. С другой стороны, свое понимание концепции ненасилия я нахожу в самом средоточии Евангелия и буду настаивать на том, что ради решения этой проблемы христианин должен с готовностью положить жизнь; я буду страстно стремиться переубедить всех, кто мыслит иначе - историческое большинство христиан, - показать им, что они живут «как враги креста Христова» (Флп 3:18, речь идет не о язычниках, а о верующих, отказывающихся жить согласно апостолическому typos, парадигме, заданной Крестом). Но и в этом случае в мою аргументацию вовсе не входит требование отлучить теоретиков «справедливой войны» от Церкви (все мы принадлежим к общине народа Божьего лишь Божьей благодатью). Я хочу провести четкую линию разграничения, чтобы помочь выявить реальные разногласия по вопросам этики внутри Церкви и призвать общину внимательнее прислушиваться к Слову Божьему, решая такие вопросы.
Главная цель предпринятого мной труда заключается в том, чтобы ободрить Церковь в ее усилиях сделаться общиной, сформированной на основании Писания, привести свою жизнь в более точное соответствие с историями, рассказанными в Новом Завете. В начале части IV я высказал предположение: если бы наши моральные соображения формировались по образцу христианского ученичества, представленного в Новом Завете, мы бы направляли свою энергию и внимание на решение четырех основных задач: 1) отказаться от насилия, 2) делиться имуществом, 3) преодолеть этнические раздоры, и в первую очередь - отчуждение евреев и христиан, и 4) достичь единства мужчин и женщин во Христе. Я довольно подробно разобрал первую и третью из этих задач и предложил несколько попутных замечаний относительно четвертой[1]. Завершить книгу я хочу кратким размышлением о необходимости делиться имуществом, которой в моем исследовании не было уделено места соразмерно значимости этой темы для Нового Завета. Эти рассуждения подведут нас к окончательным выводам о назначении (и границах) новозаветной этики.
ДЕЛИТЬСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ: ВЫЗОВ, БРОШЕННЫЙ ЦЕРКВИ
Всегда сохраняется опасность того, что в своих герменевтических изысканиях по поводу новозаветной этики мы выстроим сложную систему доводов всего лишь с целью оправдать тот способ жизни, к которому мы уже привыкли. Ни в одной сфере эта опасность не проявляется так остро, как в экономической: нужно ли делиться деньгами и в какой мере? А потому мы не можем завершить исследование новозаветной этики, не затронув, хотя бы вкратце, ее учения по этому поводу[2].
Призыв Нового Завета звучит вполне ясно: начиная с Евангелия от Матфея и вплоть до Откровения новозаветные авторы страстно свидетельствуют о самоотверженной стороне ученичества. Обойдясь без полномасштабного дескриптивного прочтения отдельных текстов, мы и при самом поверхностном обзоре убедимся, что новозаветные авторы обнаруживают постоянную заботу о том, чтобы деньги распределялись и использовались но справедливости и чтобы нуждающиеся не были обделены. Припомним некоторые основные вехи новозаветного учения в данной области.
В Евангелии от Матфея Иисус наставляет учеников отложить тревоги по поводу своей финансовой обеспеченности и в первую очередь стремиться к правде Божьей (Мф 6:25-34). Он учит их молиться о хлебе насущном, то есть об удовлетворении повседневных нужд, и прощать тех, кто им задолжал (Мф 6:11-12, ср. 18:23-35). Когда двенадцать учеников отправляются проповедовать по городам Израиля, они не берут с собой денег и не смеют получать плату за свое служение (Мф 10:8-9). И самое главное: в великой притче о Страшном суде (25:31-46) овцы отделяются от козлищ именно на основании того, как они обращались с голодными, нагими, больными и заключенными. Очевидно, что в концепции Матфея истинное ученичество подразумевало использование собственных материальных средств для помощи нуждающимся.
Марк пересказывает эпизод, в котором Иисус бросает вызов богачу, пожелавшему узнать способ унаследовать жизнь вечную: «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мной». Юноша, выслушав такое требование, ушел в печали, «потому что у него было большое имение» (Мк 10:17-22). Эта встреча дала Иисусу повод высказать общее суждение: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (10:25-27)[3]. Богачу Иисус противопоставляет бедную вдову, которая положила в сокровищницу Храма две последние медные монеты (10:41-44).
Как уже отмечалось в общем обзоре морального учения Луки, этот евангелист прославляет власть Бога, несущую освобождение бедным и голодным (Лк 1:52-53, 4:18-19), и рисует идеал новой общины верующих, которые, во исполнение заповеди Второзакония, станут делиться всем своим имуществом, так что среди них уже не будет бедняков. Эта новая община воплощает власть Благой вести о воскресении (Деян 2:42-47, 4:32-35). Соответственно, Лука постоянно обращает внимание на конкретные материальные последствия ученичества - у него Иисус объявляет категорически: «Никто из вас не сможет стать Моим учеником, если не откажется от всего, чем владеет» (Лк 14:25-35). Всякий, делающий запасы на Земле, - глупец (Лк 12:16-21), а последователи Иисуса продадут все свое имущество и раздадут его в виде милостыни (Лк 12:33). Закхей служит примером аутентичной реакции на грядущее Царство: он сразу же вызывается отдать бедным половину своего состояния (Лк 19:1-10).
Павел побуждает свои общины поучаствовать в сборе средств для бедных христиан Иерусалима. Напомнив о том, как Бог посылал израильтянам в пустыне манну, которую нельзя было собрать и запасти на завтрашний день (2 Кор 8:13-15 с цитатой из Исх 1б:18)[4], Павел настаивает на соблюдении «равенства» (isotes) между теми, у кого всего в изобилии, и теми, кто испытывает нужду. Этот обычай делиться избытками - минимальное выражение верности Христову идеалу самопожертвования, который побуждает общину: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Флп 2:4).
Согласно 1 Тим, те, кого не преобразили «здравые слова Господа нашего Иисуса Христа», скорее всего, попадут в ловушку алчности и погубят сами себя:
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям (1 Тим 6:9-10).
Члены общины веры призваны вместо такого богатства «богатеть добрыми делами» (6:18).
Апостол Иаков языком Амоса и Исайи обличает богачей, злато и сребро которых пожрет ржавчина (ср. Мф 6:19-21), чтобы сокровища обратились в свидетельство против них в день Суда. От Господа не укроется, как они эксплуатируют бедных тружеников: «Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак 5:6). «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царства, которое Он обещал любящим Его?» (Иак 2:5).
Даже Иоанн, не уделяющий особого внимания этическому учению, призывает общину верующих поступаться материальными благами:
А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь Божья? Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною (1 Ин 3:17-18).
Во исполнение новой заповеди Иисуса («любите друг друга») мы непременно должны делиться имуществом с беднейшими членами общины.
Наконец, в Откровении мы видим поразительный контраст между общиной города Смирны, живущей в нужде и печали (2:9), и лаодикийской церковью, кичащейся своим богатством (3:17). К первой общине воскресший Христос обращает слово утешения; вторую грозит извергнуть из уст своих и говорит ее ангелу: «А не знаешь, что несчастен и жалок, и нищ, и слеп». В этом пророческом видении материальное благополучие постоянно ассоциируется с властью зверя, который пытается соблазнить святых. Когда произойдет описанное в Откр 18 падение Вавилона, «купцы земные восплачут и возрыдают», потому что они лишились рынка для сбыта предметов роскоши и «в один час погибло такое богатство» (18:11-17а).
Итак, хотя конкретные формы и выражения могут варьироваться, в этом вопросе все новозаветные свидетельства в унисон вторят друг другу: копить богатства несовместимо со служением Царству Божьему, и ученики Иисуса призваны по крайней мере, щедро делиться своим добром с нуждающимися, а может быть, и все отдать, чтобы следовать за Ним безо всякого стеснения[5].
Ключевые образы общины, креста и нового творения помогут нам сложить этот материал в выразительную целостную картину.
Община. Требование делиться имуществом адресовано общине в целом. Новозаветные авторы беспокоятся не столько о том, каким образом найдут путь к жизни вечной отдельные люди, сколько о том, каким образом Церковь, целое, воплотит в себе домостроительство Царства Божьего. Это общинное измерение явно выражено в рассказах о жизни первых общин в Деяниях; в указаниях, которые Павел дает своим подопечным - участвовать в сборе средств в пользу бедных, ибо это - выражение koinonia -, общности во Христе; в призыве 1 Ин делиться в доказательство взаимной любви членов Церкви; в пророчеством обращении Откровения к церквам Смирны и Лаодикеи как к организациям. Даже когда корпоративная составляющая этого экономического императива не столь ясно выражена (например, у Матфея), она вполне очевидно вытекает из общей концепции ученичества: сравнивает общину последователей Иисуса с градом на горе, с полисом, воплощающим Божью справедливость. Добрые дела (Мф 5:16; ср. 25:31-46) общины становятся знамением Божьей славы для мира.
Крест. Отказ от материальных благ входит в путь Креста. Это ясно сказано у Луки (14:25-33): Иисус начинает с призыва «нести свой крест», а заканчивает требованием к ученикам отказаться от своего имущества. Павел, предлагая коринфянам собрать пожертвования, также ссылается на самоотверженную смерь Иисуса (2 Кор 8:9). Тексту 1 Ин 3:17-18 (помогать брату или сестре в нужде) предпослано прямое упоминание Креста и его роли в нашей жизни: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев». И сразу после этого «полагать души свои» осмысляется в первую очередь как обязанность делиться материальными благами. Здесь, как и в других примерах, образец самоотверженной братской любви представляет нам Христова смерть[6].
Новое творение. Обычай делиться, характерный для Церкви новозаветной эпохи, следует понимать как эсхатологическое знамение, свидетельствующее о прорыве в наш ветхий мир преображающей власти Царства Божьего. Те, кто ищет прежде всего Царства Божьего (Мф 6:33), тем самым отодвигают финансовые попечения на второй план. В Евангелии от Луки требование делиться непосредственно вытекает из обещания грядущего Царства:
Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает (Лк 12:32-33).
Эти тексты не только смягчают нынешние финансовые тревоги обещанием небесных наград, но главным образом показывают, что Царство уже проникло в настоящее до такой степени, что мы свободны проявить щедрость, предвещающую это будущее, обещанное Богом благо. Разумеется, с наибольшей ясностью это прозвучало в описании иерусалимской церкви у Луки, где свидетельство апостолов о воскресении Иисуса подтверждается усвоенным членами Церкви обычаем продавать свое имущество и делиться вырученными деньгами, так что «не было между ними никого нуждающегося» (Деян 4:32). Связь между вестью о воскресении и принятым в ранней Церкви принципом общности имущества кажется непосредственной и вполне материальной. Об этом же говорит и автор 1 Ин: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев» (1 Ин 3:14а), - и эта любовь, как уже успели убедиться, непременно находит выражение в том, что люди делятся мирскими благами (3:17). Церковь, живущая во время между временами и все еще подчиняющаяся определенным светским обязательствам (например, платить подати кесарю, ср. Мк 12:13-17, Рим 13:1-7), своим обычаем делиться материальными ресурсами уже предвосхищает справедливость и радость грядущего мира.
Как же нам ответить на призыв Нового Завета? Полномасштабное обсуждение всех герменевтических и практических вопросов заняло бы слишком много места. На данный момент удовольствуемся несколькими принципиальными соображениями:
Прямые указания и общие правила Нового Завета относительно распоряжения имуществом включены в канонический текст таким образом, что однозначное и буквальное их применение было бы затруднительно. Как показал Люк Джонсон, даже в Евангелии от Луки и в Деяниях наряду с повелением ученикам отказаться от всего имущества (Лк 14:33) встречаются и другие наставления или же примеры персонажей, предъявляющие нам иные варианты приемлемой реакции на Евангелие[7]. Так, Закхей, покаяние которого Иисус чрезвычайно одобрил («Ныне пришло спасение дому сему» (Лк 19:9а), отдает отнюдь не все, а только половину. Даже иерусалимская община (Деян 2 и 4) требует от своих членов щедро делиться, а не вовсе отказаться от имущества. Нет возможности извлечь из Нового Завета простые и категорические императивы обращения с материальными благами.
Тексты Нового Завета крайне редко ссылаются на принципы равенства и справедливости, хотя эти принципы и просматриваются в некоторых пассажах, к примеру в 2 Кор 8:13-15. По большей части мы находим призывы к самоотверженному служению, выходящему далеко за пределы справедливости как таковой.
Новозаветные тексты исследуют эту проблему главным образом в форме притч и повествований. Многочисленные эпизоды и притчи Евангелий, а также события Деяний предоставляют нам развитую парадигму, с которой мы и должны добросовестно сверять свое поведение. Различные указания и предостережения относительно власти денег, рассыпанные по новозаветным посланиям, следует интерпретировать исключительно в категориях символического мира, намеченного этим повествованием. То есть в первую очередь мы должны ориентироваться на повествовательный текст, и для герменевтической интерпретации Нового Завета применительно к нашей жизни понадобится пересказать эти истории таким образом, чтобы и нам было отведено место внутри них - метафорически мы соотносим свои общины с Деян 4 (наиболее мощный образец) и задаемся вопросом: «Как организовать экономическую деятельность Церкви, с тем чтобы мы могли убежденно и мощно свидетельствовать о воскресении Иисуса?»
Если мы искренне и последовательно задаем такой вопрос, нам придется не только глубоко поразмыслить, но и пойти на серьезные жертвы. К каким бы герменевтическим изыскам мы ни прибегали, невозможно уклониться от обращенных к нам требований Нового Завета: полное послушание Богу потребует от нас куда более решительно делиться своим имуществом, чем того обычно требует Церковь. Разумеется, на протяжении истории складывались общины христиан, поразительным образом проживавшие эти тексты, отрекавшиеся от собственных интересов и делившиеся с бедняками. Но подобные воплощения Слова обычно (по крайней мере, в основных течениях протестантизма) рассматриваются как исключение, а не как аутентичная норма христианской веры и практики. Чтобы Церковь вполне приняла обращенный к ней вызов Нового Завета в сфере материальных благ, ей понадобится по меньшей мере новая Реформация.
Ближе к делу: пожалуй, тут уместно будет сказать несколько слов об авторе этой книги. В качестве штатного профессора крупного американского университета я живу в материальном достатке, более чем комфортабельной жизнью. Я состою в церковной общине и финансово поддерживаю ее, направляя средства на добрые дела, а порой отрабатываю смену в приюте для бездомных. Однако (и тут у меня нет сомнений) подобного рода умеренные формы финансового послушания абсолютно не дотягивают до видения Нового Завета. На большинство известных мне общин законы капиталистического хозяйства оказывают по меньшей мере столь же сильное влияние, что и учение Иисуса. Я принадлежу к числу богачей мира сего, а церкви, в жизни которых я принимал участие в последние двадцать лет, лишь изредка и не вполне искренне предпринимают попытки соответствовать императиву Нового Завета - делиться своим достоянием. «Последние двадцать лет», говорю я, поскольку до этого, с 1971 по 1976 год, мы с женой состояли членами «Братства Метанойя», маленькой общины в Массачусетсе, которая практиковала радикальную общность имущества, стремясь к тому, чтобы все делились со всеми. То, что этот эксперимент в области ученичества и общинной жизни в конечном счете потерпел поражение, никоим образом не подрывает ценности нашей мечты и не служит нам извинением в том, что мы с тех пор не искали других форм общинной жизни, сохраняющих новозаветный принцип делиться имуществом.
ПУТЬ К ЦЕЛИ: ИДЕАЛ НОВОЗАВЕТНОЙ ЭТИКИ
Это маленькое автобиографическое отступление я позволил себе только затем, чтобы подготовить почву для заключительных выводов о задачах новозаветной этики.
Во-первых, этический идеал новозаветных авторов не является недостижимой мечтой. если мы не в состоянии воплотить этот моральный идеал, виной тому недостаток воображения или мужества. В первую очередь я адресую этот упрек самому себе и не стану бросать камень в того, кто не живет в соответствии с нормами, обозначенными в других разделах этой книги. Однако, хотя жить по законам Нового Завета очень трудно, нас это не оправдывает: мой личный опыт борьбы и поражения в попытке последовать призыву Нового Завета и достичь общности имущества не дает мне права пренебречь этим и другими евангельскими призывами или притвориться, будто Новый Завет «не совсем это имеет в виду», или снижать планку требований к себе самому или к Церкви в целом.
Во-вторых, ни в данной области, ни применительно к большинству других проблем, обозначенных в этой книге, мы не располагаем стандартным набором правил, которому могла бы без размышлений следовать община веры. Новый Завет - не руководство пользователя, не кулинарная книга с рецептами по изготовлению одинаковых людей или одинаковых общин. Нет, новозаветный текст призывает нас использовать свободу и воображение, чтобы под руководством Святого Духа сформировать общины, которые воплотили бы истину Слова, метафорически явив среди нас власть благодати Божьей.
В-третьих, такого рода глубокие проявления послушания Слову не даются даром; они могут стоить нам дорого, стоить всего. Вот что значит взять крест и следовать за Иисусом.
В-четвертых, идеал новозаветной этики, который мы разбирали в этой книге, требует радикального преображения Церкви. Чтобы следовать новозаветной этике так, как мы говорили, недостаточно будет переформулировать те или иные академические понятия: понадобится восстановить самосознание Церкви как эсхатологического народа Божьего, прообраза полного исцеления мира властью Божьей[8]. Церковь должна быть общиной, живущей по примеру креста и потому являющей собой образ нового творения, обещанного Богом. В той мере, в какой Церковь искренне пытается воплотить этот идеал, ее прочтение новозаветных текстов становится все более точным. Например, если мы действительно хотим осознать категорические требования Нового Завета делиться собственностью, надо начать с послушания тому частичному свету, который уже нам открылся. Для меня и для моей общины это немедленно повлекло бы за собой практические и самоотверженные перемены в том, как мы распоряжаемся деньгами.
В-пятых, как бы утопически это ни звучало, нельзя забывать о том, что неотъемлемой частью новозаветной концепции нового творения является эсхатологическая отсрочка - «еще не». Признавая, что Царство еще не вполне реализовалось среди нас, мы отнюдь не подрываем этический идеал Нового Завета - скорее, мы выказываем еще большее уважение к нему. Нет оснований рассчитывать на то, что мы сумеем прожить всю жизнь, охваченные тем первым вдохновением Пятидесятницы, - наши этические решения и поступки принимаются спустя много веков после сошествия Святого Духа, среди творения, которое по-прежнему стенает в ожидании искупления. Осознав эту истину, мы в Церкви сумеем принять собственную слабость и греховность и терпеливо выносить диссонанс между эсхатологическим видением и нынешней реальностью нашей жизни. Не следует мне отчаиваться или даже удивляться, если я до сих пор не нашел и сам не основал общину, члены которой добровольно и щедро делились бы своим имуществом, так что среди нас не было бы больше нуждающихся. Но мы продолжаем надеяться, молиться и трудиться во имя чего-то лучшего, во имя общины, более соответствующей воле Божьей, откровенной в Писании. Павел точно обозначил эту равнодействующую:
Я хочу познать Христа, и силу воскресения Его, и участие (koinonia) в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели (Флп 3:10-14а).
Ни компромисса, ни отчаяния, ни напрасных сожалений: мы продвигаемся вперед, рвемся вперед, зная, что можем положиться на милость Божью, потому что Иисус Христос уже сделал нас своими. Зная это, мы предоставляем свои тела в жертву живую Господу, надеясь и уповая, что Он и впредь продолжит труд преображения общины и Церкви, чтобы наши моральные суждения совпали с истиной:
Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим 12:2).
В этом - назначение новозаветной этики.
Примечания
[1]
Пластичность текстуального «смысла» столь велика, что в постмодернистских кругах стало модным трюизмом повторять, будто «смысл» текстов определяют не их особенности, а нормы чтения. Стэнли Фиш довел эту идею до странного, но логического конца: «текстов» вообще не существует, - существуют только читатели (Fish 1980).
(обратно)[2]
Интересно, что это политическое требование было выдвинуто христианскими лидерами, проповедующими авторитет Писания! Неужели они сочли отрывок 1 Тим 2:1-2 неприменимым к данной ситуации? («Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте».)
(обратно)[3]
Видимо, авторы письма хотели сказать: «...церковные лидеры поддерживали других президентов, не во всех вопросах занимавших библейскую точку зрения».
(обратно)[4]
Патрик Махоуни и Билл Девлин. Цит. по Christian Century 110/2 (Jan. 20, 1993), 49
(обратно)[5]
Епископ Спонг даже вызвался ее спасать (Spong 1991).
(обратно)[6]
Об использовании Библии в поддержку противоположных точек зрения по спорным вопросам см. исследование Swartley 1983.
(обратно)[7]
Я слышал, как Оливер О'Донован прибегнул к этому сравнению в своей лекции на богословском факультете Йельского университета осенью 1987 года.
(обратно)[8]
Уэйн Микс возражал против термина «новозаветная этика» на том основании, что он смешивает исторические и нормативные категории (Meeks 1986с). Впоследствии он скорректировал свою позицию: христиане, желающие строить свои этические стандарты на основе Нового Завета, могут говорить о «новозаветной этике», но это будет нормативная категория, а не историческая или описательная. И даже здесь он предпочитает говорить о «библейской этике», акцентируя принадлежность Нового Завета к более обширному канону (1993, 3-4). Возникающим в этой связи методологическим вопросам посвящены несколько крупных исследований: помимо Swartley 1983, см. также Schnackenburg 1965; Childs 1970; Gustafson 1970; Hauerwas 1981, 53-71; Ogletree 1983; Wall 1983; Verhey 1984;Longenecker 1984; Schulz 1987; Countryman 1988; Goldsmith 1988; Birch and Rasmussen 1989; Lohse 1991; Fowl and Jones 1991; Sleeper 1992; Scroggs 1993; Marxen 1993; McDonald 1993; Spohn 1995.
(обратно)[9]
Подробное рассмотрение одного из таких случаев путаницы см. в Hays 1986.
(обратно)[10]
Как делает, например, Schrage 1988.
(обратно)[11]
Мф 5:32; 19:9; ср. Мк 10:11-12.
(обратно)[12]
Относительно анализа новозаветной этики, учитывающего данные анализа традиций, см. Schulz 1987.
(обратно)[13]
Meeks 1972
(обратно)[14]
См., например, Meeks 1986b; N. Petersen 1985. Термин «густая дескрипция» был заимствован Миксом у антрополога Клиффорда Гирца (Geertz 1973). Чем гуще дескрипция, тем сложнее последующая, синтетическая, фаза проекта.
(обратно)[15]
Проблема единства и многообразия давно является одной из центральных в новозаветном богословии. См. важные работы Dunn 1977; Boers 1979; Raisanen 1990.
(обратно)[16]
Meeks 1986c.
(обратно)[17]
См. важные современные попытки рассмотреть эту проблему в Collange 1980 и Lohse 1991. Колланж более аккуратен в методологии, но ограничивается анализом когерентности между Иисусом и Павлом. Напротив, Марксен считает, что даже по столь базовому вопросу, как представление о Боге, новозаветные тексты противоречат друг другу и «не поддаются гармонизации» (Магхеп 1993). По его мнению, без критического анализа не обойтись для отличия в Новом Завете подлинно христианских богословия и этики от номинально христианских богословия и этики.
(обратно)[18]
Эту проблему исследовал Аллен Верхей (Allen Verhey). Он считает, что «ключ» к пониманию Вести Писания - «воскресение распятого Иисуса из Назарета». Это не просто «одна доктрина из многих, нуждающаяся в систематическом согласовании с другими доктринами». Воскресение выступает как «основа и центр Нового Завета». Оно- «призма», сквозь которую необходимо рассматривать все источники нравственного наставле ния (Verhey 1984, 181-183). См. Oliver O'Donovan 1994.
(обратно)[19]
См. главу 10.
(обратно)[20]
Относительно подхода к новозаветной этике, который делает упор на культурную дистанцию между нею и современным миром, см. Countryman 1988.
(обратно)[21]
Подробнее см. в разделе 13.2.
(обратно)[22]
Фаул и Джоунс предлагают подход к этике, который подчеркивает прагматический аспект библейской этики (Fowl and Jones, 1991).
(обратно)[23]
Hauerwas 1993; cf. Cartwright 1988.
(обратно)[24]
Если бы тексты не обладали ограниченным диапазоном смысла, упорядоченный социальный дискурс был бы невозможным. Например, дорожный знак STOP не допускает бесконечного числа толкований.
(обратно)[25]
Дальнейшее обсуждение этой проблемы см. в главе 7 - «Экскурс: роль «исторического Иисуса» в новозаветной этике».
(обратно)[26]
Этот подход аналогичен тому, что был описан Вильямом Вреде в 1897 году в оригинальном эссе «Задачи и методы «новозаветного богословия»» (см. английский перевод в Morgan 1973, 68-116). Показательный факт: защищая свой проект, Вреде был вынужден признать, что термин «новозаветное богословие» «некорректен в обеих своих частях».
(обратно)[27]
См. образец этого подхода в Meeks 1986b, 1993.
(обратно)[28]
Подробнее об этом, в приложении к одному из новозаветных авторов, см. Hays 1989.
(обратно)[29]
Многие авторы (в том числе некоторые богословы, считающие себя христианами) рассматривают Библию как один из источников угнетения и нравственной слепоты (особенно в сексуальных вопросах). Они прежде всего озабочены тем, как создать противовес нравственному учению Нового Завета. (Обзор некоторых современных работ, написанных с этой точки зрения, см. в Barton 1994.) Такое откровенное отрицание «христианскими» мыслителями авторитета Библии - сравнительно недавний исторический феномен, и он вряд ли долгое время будет оставаться влиятельным.
(обратно)[1]
Есть ряд книг, каждая из которых посвящена анализу этики какого-то одного из новозаветных свидетелей. Например, Виа написал работу о Евангелии от Марка (Via 1 98 5), а Ферниш и Сэмпли написали о Павле (Furnish 1968; Sampley 1991). Кроме того, многие комментарии и монографии посвящены отдельным отрывкам новозаветных текстов (например, Нагорной проповеди).
(обратно)[2]
Отводить много места обсуждению, например, "этики Послания Иуды" было бы проявлением излишней педантичности.
(обратно)[3]
См., например, Schnackenburg 1965; J.T. Sanders 1975; Verhey 1984; Schrage 1988; Schulz 1987.
(обратно)[4]
См. Furnish 1964; Dungan 1971; Allison 1982; Furnish 1993; Wenham 1995.
(обратно)[5]
Легитимность такого экзегетического подхода энергично отстаивает Левенсон (Levenson 1993).
(обратно)[6]
См. аргументы в Streeter 1924; Kummel 1975 [1973] , 52-64, 84-85; Sanders and Davies 1989.
(обратно)[1]
Некоторые критики считают этическое учение Павла мешаниной из довольно непоследовательных идей, в основе которых нет четкого единого принципа. См., например, Houlden 1973; Raisanen 1983; Sampley 1991.
(обратно)[2]
Dibelius 1936 [1926], 143-144, 217-220. См. также Dibelius 1930; Dibelius and Greeven 1976 [1964], 1-5.
(обратно)[3]
«Христианские тексты стали передатчиками популярной античной этики» (Dibelius and Greeven 1976 [1964], 5).
(обратно)[4]
См., например, Furnish 1968. Подробнее об интерпретации Павловой этики экзегетами XIX - XX веков см. в главе 12.
(обратно)[5]
Betz 1979, 292. Критику Беца см. в Hays 1987; Barclay 1988.
(обратно)[6]
На это справедливо указывает Furnish 1968.
(обратно)[7]
См. полезную дискуссию: Jouette Bassler «Paul's Theology: Whence and Whither?» и Steven J. Kraftchick «Seeking a More Fluid Model: A Response to Jouette Bassler» in Hays 1993, 3-17, 18-34.
(обратно)[8]
Диалектика между «непредвиденными обстоятельствами» и «когерентностью» в Павловой мысли составляет одну из основных тем в исследованиях Beker 1980, 1991.
(обратно)[9]
Этим же методом пользуется группа по изучению богословия Павла в Обществе библейской литературы. См. Bassler 1991; Hay 1993.
(обратно)[10]
Ради методологической ясности я включил в рассмотрение только те семь посланий, принадлежность которых Павлу не оспаривается учеными, хотя сам признаю также аутентичность Второго послания к Фессалони-кийцам и Послания к Колоссянам.
(обратно)[11]
Furnish 1968, 212.
(обратно)[12]
Ферниш отмечает: «Эсхатология Павла - не просто один мотив в ряду многих. Она обеспечивает ракурс, в котором рассматривается все остальное» (Furnish 1 968, 2 1 4).
(обратно)[13]
См., например, 2 Езд 7:50, 112-115, 8:1; 2 Ен 66:6; 2 Вар 15:7-8; 44:8-15.
(обратно)[14]
Здесь Павлов апокалиптизм также затушевывается переводами, которые превращают множественное число ta tele ton aionon («концы веков») в единственное («конец веков»). Это делает, например, «Исправленная стандартная версия». Более того, глагол katenteken означает «встретились», а не «пришел». Глубокий анализ важности схемы двух эпох в Павловой мысли см. W. D. Davies 1980, 285-320; Martyn 1967.
(обратно)[15]
Отсюда название книги Пола Сэмпли, проясняющей эсхатологический контекст этики Павла: «Проходя между временами» (1991).
(обратно)[16]
Houlden 1 973, 28, 12.
(обратно)[17]
Экзегеты обычно полагают, что Павел здесь отвечает на вопрос читателей или рассматривает волновавшую их проблему. Однако не исключено, что он не отвечает на вопрос, а предвосхищает его.
(обратно)[18]
Этот момент важен для христианской этики. Длительна и трагична история ревностных, но ошибочных буквальных толкований образов битвы в Новом Завете. Подробнее об этом см. в главе 14.
(обратно)[19]
Самую подробную реконструкцию оппонентов Павла в Коринфе см. в Georgi 1986.
(обратно)[20]
Подробнее об этом тексте и моем переводе см. Hays 1989, 171, 225- 226, прим. 46-48.
(обратно)[21]
Относительно этого отрывка см. Wright 1987.
(обратно)[22]
Распространенный апокалиптический образ. Хорошая работа об этой метафоре в апокалиптической традиции - Gaventa 1990.
(обратно)[23]
У Эрнста Кеземана есть важная работа об этом отрывке: Е. Kasemann The Cry for Liberty in the Worship of the Church. 1971 [1969], p. 122-137. Он пытается доказать, что Павловы высказывания о Духе здесь носят полемический характер и направлены против восторженных христиан, которые полагают, что их экстатические речения - знак уже осуществившегося искупления. Павел же интерпретирует богослужение церкви, вдохновленное Духом, как стенание вместе с творением.
(обратно)[24]
Метафора вторжения восходит к Cullmann 1964 [1946 ], 84.
(обратно)[25]
См. Cousar 1990.
(обратно)[26]
См. подробное обоснование этой интерпретации Гал 6:2 в Hays 1987.
(обратно)[27]
В греческом тексте слово «общины» отсутствует. «Новая исправленная стандартная версия» понимает фразу в тексте в индивидуалистическом смысле - «к назиданию ближнего». Однако характерное для Павла употребление этого языка подсказывает, что он несомненно имел в виду назидание общины в целом. См. 1 Кор 14:3-5, 12, 26; 2 Кор 12:19; 13:10; Еф 4:12, 16; ср. 1 Кор 12:7.
(обратно)[28]
Судя по определенному артиклю здесь и в ст. 7, в отличие от характерной для Павла манеры, «Христос» употребляется как титул, а не как имя собственное. См. Dunn 1988 (vol. 2), 840.
(обратно)[29]
Обратим внимание на аллюзии на Пс 68:21 в синоптических рассказах о Страстях. Также Пс 68:9а цитируется в Ин 2:17 применительно к Иисусу в контексте, предвещающем Его смерть. Возможно, в ранней Церкви было распространено понимание этого псалма как мессианского псалма плача. Об этом вопросе см. Hays 1993.
(обратно)[30]
О роли этого гимна в аргументации послания см. Fowl 1990, 78-101 и приведенную там экзегетическую литературу.
(обратно)[31]
Очень трудная для перевода фраза. Глагол hyperechein («превосходить») часто относится к обладанию более высоким рангом или авторитетом, как, например, в Рим 13:1, где exousiai hyperechousai - «правящие власти». Увещевание Павла носит парадоксальный характер: каждый член общины должен подчиняться авторитету всех остальных. Я избрал перевод-парафраз.
(обратно)[32]
В своем переводе слова harpagmosM использую «Новую исправленную стандартную версию».
(обратно)[33]
«Новая исправленная стандартная версия» после «послушны» добавляет «мне», но в греческом тексте этого нет.
(обратно)[34]
Подробнее об использовании Павлом материала гимнов в увещеваниях см. в Fowl 1990. Относительно Послания к Филиппийцам см. особенно сс. 49-101.
(обратно)[35]
Об этом понятии см. Fowl 1990, 92 - 95.
(обратно)[36]
Kasemann 1950; Martin 1983.
(обратно)[37]
См. важную работу Kraftchick 1993.
(обратно)[38]
Этот отрывок - один из ключей в важном переосмыслении Павла, осуществленном Кристером Стендалом: К. Stendahl The Apostle Paul and the Introspective Conscience ofthe West (1976, p. 78-96).
(обратно)[39]
Греческое skybala («навоз», «дерьмо»).
(обратно)[40]
Греческое выражение symmimetai той можно понять по-разному: хочет ли Павел сказать «объединитесь в подражании мне» или «присоединитесь ко мне в подражании Христу»? Обе интерпретации возможны, но в конечном итоге они сводятся к одному и тому же.
(обратно)[41]
Многие комментаторы понимают pisteos в Рим 1:5 как эпексегезисный генитив: «послушание, которое есть вера». Однако это толкование, конечно, ошибочно, поскольку получается, что Павлове благовестие говорит о когнитивной стороне веры и не затрагивает послушания в поведении. Если принять такую интерпретацию, то многие другие места послания будут просто непонятны (например, 6:12-23; 8:1-11; 12:1-15:13). Куда более цельное видение вести Павла возможно, если понять Рим 1:5 как «послушание, которое проистекает из веры» или просто «верное послушание». Дискуссию и обзор литературы см. в G.N. Davies 1990, 25-30.
(обратно)[42]
См. Hays 1983; Hays 1991b. Относительно аргументов в пользу «объектного генитива» см. Dunn 1991а.
(обратно)[43]
Важно помнить, что pistis - это не столько «вера», сколько «верность» и «доверие».
(обратно)[44]
См. Hays 1987.
(обратно)[45]
Даже Послание к Филимону, затрагивающее сугубо частную, казалось бы, пасторскую проблему, адресовано не лично Филимону, но также Апфии и Архиппу и «домашней твоей церкви» (Флм 1:2). Павел настаивает на том, чтобы вынесение решений было делом общины. Относительно риторического эффекта обращения Павла с письмом ко всей церкви см. Petersen 1985. Пастырские послания (1 и 2 Тимофею, Титу) адресованы конкретным лицам, но принадлежность их Павлу под вопросом.
(обратно)[46]
См. Banks 1994.
(обратно)[47]
В понятие huioi («сыны») Павел включает и мужчин, и женщин, как видно из объяснения в Гал 3:28. Решение создателей «Новой исправленной стандартной версии» перевести в 3:26 и 4:5-7 это понятие как «дети» можно считать герменевтически оправданным, хотя в некоторых случаях оно снижает риторический эффект - например, 4:6: «...поскольку вы - сыны, Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва! Отче!»»
(обратно)[48]
Павел нигде не говорит обо всем человечестве как о «детях Божиих». Все люди сотворены Богом, но образ семьи применяется только к избранной общине.
(обратно)[49]
Hays 1987, 287- 290. О том, почему Кифа и другие стали сторониться трапез с обращенными из язычников, см. Е. P. Sanders 1990.
(обратно)[50]
Barclay 1988, 239. Баркли основывается на следующи х работах: Е.Р. Sanders 1977; Dunn 1983а; Dunn 1983b; Watson 1986.
(обратно)[51]
Boyarin 1994.
(обратно)[52]
Как продемонстрировал Баркли, эта этическая забота красной линией проходит через все Послание к Галатам, причем увещевательный материал в главах 5-6 представляет собой неотъемлемую часть послания (Barclay 1988). См. также Gaventa 1986.
(обратно)[53]
Проанализировав риторику 1 Послания к Коринфянам, Митчелл доказала, что это «цельное послание, которое стремится восстановить единство в разделенной коринфской церкви» (Mitchell 1992, 17).
(обратно)[54]
В похожем ключе рассуждали кумраниты: они считали, что их община замещает Иерусалимский храм, подвергшийся порче. См. Gartner 1965.
(обратно)[55]
Как известно, аналогичная критика высказывалась в адрес одного из самых страстных интерпретаторов Павла, Мартина Лютера, его противниками из числа католиков и анабаптистов, а впоследствии - Джоном Уэсли.
(обратно)[56]
См. Keck 1 9 76.
(обратно)[57]
Funk 1967, 263- 266.
(обратно)[58]
О чьем духе речь? Серьезного внимания заслуживает гипотеза Аделы Ярбро Коллинз: имеется в виду Дух, присутствующий в общине (A. Y. Collins 1980).
(обратно)[59]
О риторической стратегии этого послания см. N. Petersen 1985.
(обратно)[60]
Серьезную попытку продемонстрировать наличие в Павловых нравственных увещеваниях еврейских установлений предпринял Томсон (Tomson 1990).
(обратно)[61]
Когда я говорю, что в своей сексуальной этике Павел опирался на еврейскую традицию, я не выношу экзегетического вердикта относительно точного смысла трудного ст. 4, который можно понять и как «чтобы каждый из вас умел хранить свой сексуальный орган в святости и чести», и как «чтобы каждый из вас умел брать жену в святости и чести». См. обсуждение в Best 1979, 161-163; R. Е Collins 1984, 328-333; Yarbrough 1985, 7-29, 68-73.
(обратно)[62]
Theissen 1982, 125-129.
(обратно)[63]
Строго говоря, в 1 Кор 8 слово «сильные» не встречается. Однако Павел использует его при обсуждении аналогичной проблемы в Рим 14:1-15:6. Отметим также ремарку в 1 Кор 1:27, которая несет на себе большой риторический вес: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное».
(обратно)[64]
«Новая исправленная стандартная версия» прибегает в ст. 11-13 к разным ухищрениям, чтобы не использовать мужской род («брат»!). Однако Павел через употребление слова «брат» хочет подчеркнуть: «сильные» в Коринфе наносят вред членам семьи Божьей.
(обратно)[65]
О топосе «порабощенного лидера» см. D. Martin 1990, 86-116.
(обратно)[66]
Вопреки мнению Tomson 1990, 187-220.
(обратно)[67]
Словом «язычники» переведено греческое ethne, - слово, которое Павелрегулярно употребляет по отношению к неевреям.
(обратно)[68]
Мое описание «лютеранского» взгляда на оправдание - карикатура на позицию самого Лютера, тонкости которой у нас здесь нет возможности рассматривать. Подробнее о Лютеровой концепции оправдания см. в Althaus 1 966, 224-250; Althaus 1 972, 3-24. Об усвоении последующим лютеранским богословием доктрины Лютера об оправдании см. Gritsch and Jenson 1976, 36-68; Braaten 1983. Интерпретацию Лютером Павла красноречиво защищает Westerholm 1988.
(обратно)[69]
См. убедительные аргументы в Kummel 1929 и Stendahl 1976. Относительно современного анализа этих вопросов см. Dunn 1988 (vol. 1), 374-412.
(обратно)[70]
О переводе выражения peri hamartian см. Wright 1991, 220-225.
(обратно)[71]
Кафолическая традиция (в т.ч. Уэслианское движение) всегда подчеркивала этот аспект Павловой мысли к неудовольствию лютеранских и реформатских богословов.
(обратно)[72]
См. Hays 1992 и приведенную там литературу.
(обратно)[73]
О разводе и гомосексуализме мы подробнее поговорим далее, в части IV. Соответственно, в данном разделе эти вопросы не попадут в центр нашего внимания.
(обратно)[74]
Анализ композиции ст. 13-14 см. в Fee 1987, 253-257. Фи убедительно показывает, что фраза «Бог и то и другое упразднит» выражает точку зрения не Павла, а коринфян, «надеявшихся на «духовное» спасение, которое предполагает избавление от тела» (257).
(обратно)[75]
См. подробное экзегетическое обоснование этой интерпретации в Fee 1987, 266-286. См. также Furnish 1985, 29-38.
(обратно)[76]
О разных интерпретациях этого символа в раннем христианстве см. Meeks 1974.
(обратно)[77]
Ничто в послании не указывает на то, что коринфянам было известно это речение Иисуса или что взятое ими на себя сексуальное воздержание имело в своей основе ссылку на какие-то предания об Иисусе. Просто отрывок из Евангелия от Луки дает нам независимое свидетельство распространенной тогда убежденности в несовместимости секса и эсхатологического существования.
(обратно)[78]
Томсон отмечает параллель между Павловыми наставлениями и раввини-стическими традициями, подчеркивающими права жены в браке на основании Исх 21:10 (Tomson 1990, 107). Однако он также пишет, что «примечательная взаимность», которую мы находим у Павла, выходит за рамки «принятых среди раввинов представлений».
(обратно)[79]
См. Via 1990.
(обратно)[80]
Моя интерпретация расставляет здесь акценты несколько иначе, чем это делает Даниель Буарен в своем проницательном и продуманном исследовании (Boyarin 1994, 180-200). Он в большей мере подчеркивает бесполый и спиритуализированный идеал христианского существования, как тот сформулирован в Гал 3:28. Поэтому в 1 Кор 7 Буарен видит вынужденный компромисс: «Павлу пришлось довольствоваться меньшим, чем то, о чем он мечтал. Отсюда и продолжение домашнего рабства в браке для людей, не призванных к безбрачию» (193). Наши с Буареном расхождения относительно интерпретации этого текста - часть спора о том, в какой мере Павлова антропология похожа на систематический дуализм, более четко выраженный у Филона Александрийского. Однако повторюсь: расхождения касаются, в основном, того, как расставить акценты. Я полностью согласен с Буареном, когда он пишет: «В своем отношении к сексуальности Павел проводит такое разделение: безбрачие - более высокое состояние, а брак - более низкое, но ничуть не умаляющее чести верующего христианина» (192).
(обратно)[81]
«Пересмотренная стандартная версия» и «Новая пересмотренная стандартная версия» предлагают перевод «грядущий кризис» (7:26). Однако он никуда не годится. Причастие enestdsan несомненно означает «нынешний», как и в 1 Кор 3:22, где оно противопоставлено mellonta («будущее»).
(обратно)[82]
Во многих переводах, по примеру Нестле-Аланда, знаки препинания расставлены так, что предложение начинается в 14:33б: «Как и во всех церквах святых, женщины в церквах да молчат». Однако по нескольким причинам это понимание композиции текста необходимо признать ошибочным.
Первое. Оно создает плеоназм: «Как и во всех церквах...в церквах».
Второе. Некоторые древние рукописи выносят ст. 34-35 в завершение 14-й главы. Это может означать, что данный текст - поздняя вставка (см. ниже). В любом случае отсюда видно, что писцы, менявшие расположение отрывка, относили 14:33б не к 14:34, а к предыдущему предложению.
Третье. К церковным обычаям Павел обычно апеллирует в конце аргумента (как в 1 Кор 11:16), а не в его начале.
Если же ст. 33б относится к предыдущему предложению, то он должен быть связан со ст. 32, и в результате получается: «И духи пророческие послушны пророкам, - ибо Бог не есть Бог неустройства, но мира - как во всех церквах святых».
(обратно)[83]
Подробнее см. в Schussler Fiorenza 1983, 205-241; Furnish 1985, 83- 114; Witherington 1980.
(обратно)[84]
Обсуждение этого спорного отрывка см. в Schussler Fiorenza 1983, 226-230; Furnish 1985, 94-101; D. Martin 1995a.
(обратно)[85]
Meeks 1983, 220 прим. 107.
(обратно)[86]
Meeks 1983, 70-73.
(обратно)[87]
Schussler Fiorenza 1983, 230-233.
(обратно)[88]
Подробное обоснование этой гипотезы см. в Fee 1987, 699-708. Аутентичность отрывка защищает Wire 1990, 149-152.
(обратно)[89]
Однако в одной из своих недавних статей Филипп Пейн (Payne 1995) привлекает внимание к ранее не замеченному свидетельству Фульденского кодекса (VI в.): возможно, епископ Виктор из Капуи, под чьим руководством был написан манускрипт, считал ст. 34-35 интерполяцией. Я благодарен д-ру Пейну за возможность ознакомиться с его работой до ее публикации.
(обратно)[90]
Wire 1990, 135-158.
(обратно)[91]
Как отмечает Буарен, «люди поздней античности не нашли выхода из дилеммы, мучающей и нас, - в очень поздней античности» (Boyarin 1994, 200).
(обратно)[1]
Об авторстве: Kuminel 1975 [1973], 264-269, 340-346, 357-363, 370-374; L. Johnson 1986, 255-257, 266-267, 357-359, 367-372, 381-388.
(обратно)[2]
Особенно ясно это показывает Johnson 1986, 381-389.
(обратно)[3]
Обычно считается, что из дошедших до нас аутентичных посланий Павла последним было написано Послание к Римлянам. О датировке посланий см. Jewett 1979; Ludemann 1984; Soards 1987.
(обратно)[4]
См. обсуждение поздних новозаветных текстов с этой точки зрения в R. Е. Brown, 1984.
(обратно)[5]
Из контекста видно, что en hemin следует переводить именно как «среди нас» (т.е. «в совместной жизни церкви»), а не как «в нас».
(обратно)[6]
Yoder 1994, 162-192 [1972, 163-192].
(обратно)[7]
Подробнее см. в разделе 15.2.
(обратно)[8]
Schussler Fiorenza 1983, 218.
(обратно)[9]
Греческое tas methodeias.
(обратно)[10]
Удачный перевод греческого poiema («создание») в Иерусалимской Библии.
(обратно)[11]
Различие в тоне и содержании между Посланием к Ефесянам и Первым посланием к Тимофею особенно поразительно из-за этой географической связи.
(обратно)[12]
Трудно вообразить Павла, автора семи бесспорных посланий, описывающим Церковь как «столп и утверждение истины». Между тем эта формулировка близка экклезиологии Послания к Ефесянам (см. особенно Еф 2:20).
(обратно)[13]
Verner 1983.
(обратно)[14]
Греческое authentein. Это слово, в Новом Завете встречающееся только здесь, - не обычный глагол «властвовать». По-видимому, есть подтекст «властвовать своенравно или жестоко». См. Scholer 1986.
(обратно)[15]
Относительно современных исследований данного отрывка см. Donelson 1988; S. Porter 1993.
(обратно)[16]
См. Bassler 1984.
(обратно)[17]
По мнению Таунера, оппоненты, критикуемые в Пасторских посланиях, использовали эту терминологию для описания собственного учения, и автор просто ее перенимает у них (Towner 1989).
(обратно)[18]
Конечно, «страдание со Христом» - одна из основных тем Второго послания к Тимофею, что составляет одно из серьезных отличий его от Первого послания к Тимофею и от Послания к Титу. Я благодарен Люку Джонсону за то, что он привлек мое внимание к данному обстоятельству в своем докладе «Использование Нового Завета в христианской этике: ответ Ричарду Хейзу», прочитанном на симпозиуме «Новый Завет и этика: проблемы и перспективы» (Дьюкский университет, 1 апреля 1995 года).
(обратно)[19]
Например, Oden 1979, 130-147.
(обратно)[1]
Wilder 1971, 60. Идею Уайлдера цитирует и интересно развивает Via 1978, 1985. См. также Beardslee 1970.
(обратно)[2]
Ср. комментарий Хоулдена о «малом числе этических материалов» в этом Евангелии (Houlden 1973, 41-46). Хоулден полагает: «Даже тот этический материал, который Марк включает, обычно присутствует не в результате сугубо этического интереса».
(обратно)[3]
См. сильную критику метода анализа редакций в Black 1989.
(обратно)[4]
Вопреки различным современным вызовам подавляющее большинство новозаветников убеждены, что гипотеза о приоритете Марка представляет собой наиболее убедительное решение сложной проблемы литературной взаимосвязи между синоптическими Евангелиями. Я полностью разделяю этот консенсус и буду исходить из него при последующем обсуждении евангельских материалов. Однако, как увидит читатель, мой метод анализа нравственной позиции каждого Евангелия индивидуально отводит мало места любой из теорий происхождения и взаимосвязи Евангелий.
(обратно)[5]
Schrage 1988, 143.
(обратно)[6]
Важные примеры - Kelber 1974; Кее 1977; Myers 1988; Marcus 1992. Критику методологии этих исследований см. в D.N. Peterson 1995.
(обратно)[7]
В некоторых древних рукописях слова «Сын Божий» здесь отсутствуют. Однако они почти наверняка входили в первоначальный текст. Их пропуск можно объяснить факторами, действующими при передаче текстов. См. Metzger 1975, 73.
(обратно)[8]
По мнению многих исследователей, Марк использовал собрание рассказов о чудесах или даже два цикла рассказов о чудесах (отсюда два умножения хлебов!). Одну из наиболее тщательных попыток обрисовать композицию домарковской традиции предпринял Ахтмейер (Achtmeier 1970, 1972). См. также Fowler 1981. Однако важно иметь в виду, что мотив чудотворчества появляется не только в этих блоках традиции, но и в редакционных резюме 1:32-34; 3:7-12; 6:53-56; 7:37.
(обратно)[9]
Однако это не означает, что Марк или его источники имели стройную концепцию «божественного мужа». См. Holladay 1977.
(обратно)[10]
Weeden 1971; Kelber 1974; Kelber 1983.
(обратно)[11]
Tannehill 1977.
(обратно)[12]
C м. блестящую интерпретацию этого отрывка в Kermode 1979.
(обратно)[13]
В тексте местоимение «вы» (hymeis) стоит так, что видно, что на него падает ударение: «А вы - за кого вы Меня почитаете?»
(обратно)[14]
Здесь перед нами характерный марковский мотив «мессианской тайны». Относительно важных исследований см. Wrede 1971 [1901]; Tuckett 1983; Marcus 1986. Вреде справедливо выделил эту тему в качестве одного из центральных элементов марковского богословия, но ошибочно считал ее апологетическим оправданием превращения немессианского исторического Иисуса в мессианскую фигуру. Как мы покажем, мотив тайны помогает Марку сфокусировать интерпретацию личности Иисуса на кресте.
(обратно)[15]
Судя по имеющимся у нас данным, грядущего Мессию разные евреи представляли себе по-разному. Кроме того, возможно, что мессианские чаяния были более периферийны для еврейского благочестия, чем часто полагали последующие христианские интерпретаторы. Относительно всего данного вопроса см. de Jonge 1966; Neusner 1987; Е. P. Sanders 1992, 295-298; Wright 1992, 307-320; Horsley 1992.
(обратно)[16]
Псалмы Соломона 17:21-24, 26, 32. См. перевод R. В. Wright в Charlesworth 1983 (vol. 2), 667. Относительно ветхозаветных истоков этих представлений см., например, 2 Цар 7:12-13; Ис 9:7; 11:1-10; Иер 23:5-6; Мих 5:1-5а. Относительно других проявлений мессианской надежды в иудаизме I века см. также 2 Езд 7:28-29; 12:32-34; 1 Ен 52:4.
(обратно)[17]
Истоки понятия «Сын Человеческий» - вопрос слишком сложный, чтобы его здесь обсуждать. Мк 14:62 показывает, что этот титул взят из Книги Даниила. Однако в Евангелии от Марка он употребляется только Иисусом как самообозначение и характерным образом указывает на его будущее страдание и прославление: см. Мк 9:31; 10:33-34. Nicklesburg 1992 говорит о «двойном использовании» «Сына Человеческого»: для указания на Иисуса-человека и на его будущий прославленный статус. Иисус-человек уже обладает властью, которая принадлежит «будущему» Сыну Человеческому (напр., 2:1-12, 23-28); он также будет иметь власть (8:38), но все это связано с необходимостью страдания. Соответственно, данное понятие у Марка «намеренно двусмысленно» (144).
(обратно)[18]
О связи Мк 10:45 с пророчеством Исайи ученые-новозаветники много спорят. Морна Хукер энергично отрицает наличие какой-либо прямой связи (Hooker 1959). Моя же позиция отражает выводы Штульмахера и Маркуса (Stuhlmacher 1986 [1981], 16-29; Marcus 1992, 186-196).
(обратно)[19]
Kingsbury 1978.
(обратно)[20]
Об этом отрывке см. Wheeler 1995, 39-56
(обратно)[21]
Дэн Виа акцентирует этот момент: «Марк не мыслит ученичества без чуда Божьего. Только чудо дает человеку возможность прозреть (10:52). Следовать за Иисусом - не в силах человеческих, и без Божьей помощи здесь не обойтись (10:21-22, 26-27)» (Via 1985, 164-165). Мэри Энн Толберт отмечает в марковском повествовании ту же особенность, но находит ее спорной (Tolbert 1989, 310):
Для современного читателя трудность создает не пессимизм, с которым Марк оценивает положение человека, а предложенное им решение. С точки зрения евангелиста, спасти избранных от беспорядка, вносимого в мир родом сим, способно лишь прямое божественное вмешательство. Хотя кое-кто и поныне согласен с Марком, такое согласие, к несчастью, вот уже почти две тысячи лет помогает роду сему беспорядок увеличивать. Да, марковский анализ представляет определенную ценность. Но в наши дни христиане должны действовать не в одиночку, а в солидарности с другими людьми, чтобы воспользоваться благами изобильного и с любовью взлелеянного виноградника, который есть замышляемое Богом Царство.
Отдавая должное искренности Толберт, нельзя не спросить себя: вправе ли мы называть Евангелием Евангелие, уповающее в первую очередь не на вмешательство Бога, а на усилие человека. Об этом мы подробнее поговорим в части III.
(обратно)[22]
Отсюда также видно, что Марк не осуждает огульно весь еврейский народ. Евангелист признает и ободряет правильный индивидуальный отклик на Закон.
(обратно)[23]
Несмотря на необычность такой концовки, свидетельство рукописей однозначно: все манускрипты, которые продолжают повествование после 16:8, носят поздний и вторичный характер (Metzger 1975, 122-126; Lane 1974, 601-605). Таким образом, если только концовка Евангелия не была утеряна на очень ранней стадии, необходимо сделать вывод, что текст завершается таинственно. Как я попытаюсь показать далее, это органично вписывается в общую концепцию евангелиста.
(обратно)[24]
Мой перевод отражает порядок слов в греческом тексте, который делает акцент на перфектное причастие estauromenon, практически превращая его в титул («Распятый»). Даже после своего воскресения Иисус определяется как Тот, кто был и остается (отсюда перфект!) распятым.
(обратно)[25]
См., например. Farmer 1974; Lane 1974; N. Petersen 1980.
(обратно)[26]
Даже если эта формулировка восходит к ранней стадии традиции, для которой было характерно буквальное ожидание скорого возвращения Иисуса в Галилею (Ма r хе n 1969 [1956], 57-95), в мире марковского рассказа она обрела более глубокий символический смысл (Tolbert 1989, 298).
(обратно)[27]
Важно понять: Марк строит свое повествование таким образом, чтобы подчеркнуть апокалиптический конфликт. Такая эмфаза может создать у читателей не совсем верное представление об иудаизме I века. Как заметил автору этих строк Даниель Буарен, «в случае угрозы жизни раввини-стический иудаизм санкционирует и даже заповедует исцеление в субботу...Соблюдение субботы не противоречит состраданию, и марковский Иисус здесь не столько совершает акт сострадания ради самого сострадания, сколько осуществляет риторическую и эсхатологическую атаку на субботу» (18.01.1995).
(обратно)[28]
Myers 1988; Marcus 1992.
(обратно)[29]
Тот факт, что Евангелие от Марка представляет собой обоюдоострый меч, - утешающий страждущих и поражающий безмятежных, - предостерегает нас от попыток слишком узко очертить первоначальный замысел и социальную среду этого текста.
(обратно)[1]
Crossan 1 975, 59.
(обратно)[2]
Подробный обзор данных см. в Allison 1993,140-165. Ср. France 1989, 186-189.
(обратно)[3]
Часть поучений Матфей заимствовал у того же Марка. Однако всюду он существенно дополнил его немарковским материалом.
(обратно)[4]
В этом виде формула появляется в 7:28 и 19:1, с небольшими вариациями в 11:1 и 13:53 (в греческом тексте параллелизм хорошо заметен). Последний раз, когда употребляется эта формула (26:1), Матфей подчеркивает завершающий характер речи фразой: «Когда Иисус закончил все эти слова...». Кингсбери (Kingsbury 1975) считает композицию Матфея трехчастной, умаляя это ясное свидетельство авторской композиции. По его мнению, ключ к структуре Матфея - фраза «с этого времени Иисус начал...» (4:17; 16:21). Однако согласиться с Кингсбери трудно: отчасти потому, что он разделяет надвое перикопу с материалом про Кесарию Филиппову (16:13-28; ср. Мк 8:27-9:1)
(обратно)[5]
Эта фраза взята из Мк 1:22, где она относится к учению Иисуса в каперна-умской синагоге. Марк, однако, не излагает содержания этого учения. Для него власть Иисуса проявляется в большей мере в Его способности приказывать бесам (Мк 1:27), чем в заповедях, подобных заповедям Моисея.
(обратно)[6]
Одно из самых блестящих доказательств того, что Нагорную проповедь следует интерпретировать в контексте споров с раввинистическим иудаизмом, принадлежит У. Дэвису (W. D. Davies 1964). С отдельными местами его работы можно не согласиться, но центральный тезис по-прежнему убедителен, и практически все ученые с ним согласны.
(обратно)[7]
Точное число этих цитат разные исследователи называют по-разному -от 11 до 14. Тут все зависит от того, сколь строго мы определяем формулу. См. 1:22-23; 2:5-6; 2:15; 2:17-18; 2:23; 3:3; 4:14-16; 8:17; 12:17-21; 13:14-15 (о людях, которые не понимают); 13:35; 21:4-5; 26:56 (прямая цитата отсутствует); 27:9-10 (об Иуде). Об этих цитатах см. прежде всего работу Stendahl 1968 [1954].
(обратно)[8]
По мнению Стендала, подобного рода организованная деятельность могла протекать в рамках некой «школы» христианских книжников (Stendahl 1968 [1954]).
(обратно)[9]
Meeks 1986b, 140.
(обратно)[10]
Ogletree 1983, 111.
(обратно)[11]
См. Ernst von Dobschutz «Matthew as Rabbi and Catechist», in Stanton, 1983, 20; W. D. Davies 1964, 306-307.
(обратно)[12]
При разборе дальнейшего материала желательно пользоваться синопсисом Евангелий (см., например, Throckmorton 1992). Тем, кто знает греческий язык, желательно также обращаться к изданию Aland 1985.
(обратно)[13]
Meier 1980, 94-95.
(обратно)[14]
Удачное выражение «герменевтика милосердия» принадлежит Мейеру (Meier 1980, 130).
(обратно)[15]
Хотя слова «против тебя» появляются в большинстве поздних греческих рукописей, некоторые из наиболее древних и лучших рукописей их не содержат. Вполне вероятно, что в первоначальный текст они не входили. См., однако, доводы в пользу их принадлежности тексту в Davies and Allison 1991 (vol. 2) 782, прим. 3.
(обратно)[16]
Хотя здесь упомянут лишь «брат», разумеется, все сказанное относится не только к мужчинам, но и к женщинам.
(обратно)[17]
Повторимся: здесь имеются в виду как мужчины, так и женщины.
(обратно)[18]
1QS 5:25-6:1; CD 9:2-4.
(обратно)[19]
Если в 18:18 глаголы стоят во 2-м лице множественного числа, то в 16:19 - во 2-м лице единственного числа.
(обратно)[20]
Е. Schweitzer 1975, 377.
(обратно)[21]
В отличие от Марка и Луки, Матфей предпочитает говорить не «Царство Божье», а «Царство Небесное». Это не означает, что Царство для него -какое-то потустороннее. Скорее, он следует распространенному среди благочестивых евреев обычаю избегать употребления имени Божьего.
(обратно)[22]
Шекспир «Мера за меру», акт II, сцена 2. Пер. Т. Щепкиной-Куперник. -Прим. пер
(обратно)[23]
М. Авот 3.2.
(обратно)[24]
См. взвешенное и полезное обсуждение исторических фактов в Stanton 1992, 113-281.
(обратно)[25]
Так считает Луц (Luz 1989, 79-95). «Очевидно, что Матфей незнаком ни с Павлом, ни с его богословием. Однако по своим взглядам он скорее близок к противникам Павла» (87).
(обратно)[26]
Keck 1984, 42-43, вослед Theissen 1978.
(обратно)[27]
Подробнее об этом достижении Матфея можно прочитать в R.E. Brown 1984, 124-145.
(обратно)[28]
Keck 1984, 43.
(обратно)[29]
Keck 1984, 55.
(обратно)[30]
Keck 1984, 41-42.
(обратно)[1]
Как ни странно, в своем анализе Луки - Деяний Шраге вообще не рассматривает тему божественных обетовании Израилю (Schrage 1988, 152-161).
(обратно)[2]
Я по обычаю называю автора Лукой, хотя относительно его личности у нас нет полной уверенности. Подробнее см. Fitzmyer 1981, 35-53. По верному замечанию Фицмайера, «для интерпретации третьего Евангелия не имеет принципиального значения, действительно ли его автор - традиционный Лука, бывший спутник Павла и врач» (53).
(обратно)[3]
Schneider 1977. О «замысле Божьем» в Луке - Деяниях см. Squires 1993.
(обратно)[4]
«Феофил» означает «любимый Богом». Не исключено, что в данном случае это - символическое имя, обозначающее любого заинтересованного читателя.
(обратно)[5]
Dahl 1976, 88.
(обратно)[6]
Подробнее об этих аналогиях см. R.E. Brown 1979а, 233-499. Из последних работ см. Green 1995.
(обратно)[7]
О технике использования Ветхого Завета в Евангелии от Луки см. Holtz 1968; Rese 1969; Craddock 1985; Bock 1987; Barrett 1988; Evans and Sanders 1993; Kimball 1994.
(обратно)[8]
Искусственный характер этой композиции виден, в частности, из странной фразы в Лк 4:23: «...то, что, мы слышали, произошло в Капернауме». Это, конечно, редакторский промах Луки: согласно его повествованию, Иисус в Капернауме еще ничего не сделал!
(обратно)[9]
В этой цитате соединены Ис 61:1-2 и Ис 58:6. Нет оснований полагать, будто в галилейских синагогах действительно пользовались текстом Исайи, который соединял оба отрывка. Без сомнений, это литературный прием Луки: с его помощью евангелист выражает свою интерпретацию личности и призвания Иисуса.
(обратно)[10]
Сюзан Гаррет высказала интересное предположение, что рассказ об избавлении Иисусом народа Божьего от уз сатаны Лука строит согласно типологии Моисея и исхода (Garrett 1990). Здесь нет возможности подробно излагать ее концепцию, но, на мой взгляд, она многое объясняет. Если Гаррет права, то Иисус еще более «подобен Моисею», чем полагали многие комментаторы Луки - Деяний.
(обратно)[11]
Moessner 1989, 262-263. См. также С. F. Evans 1955; Evans and Sanders 1993, 121-139.
(обратно)[12]
Лука вносит существенное изменение во Втор 18:19. Об этом см. ниже главу 17.
(обратно)[13]
L.T.Johnson 1991, 19-20. См. также L. T.Johnson 1986, 208-210.
(обратно)[14]
Conzelmann 1961 [1953], 137-141. Более подробное обсуждение этого тезиса см. ниже в разделе 2В.
(обратно)[15]
См. Daryl Schmidt «Luke's 'Innocent'Jesus: A Scriptural Apologetic» in Cassidy and Scharper, 1983, 111-121.
(обратно)[16]
Есть одно объяснение Лк 23:47, которое пользуется гораздо меньшей популярностью, чем та, которую оно заслуживает. Лука, излагающий kathexes, попросту не считает сообщение Марка о словах центуриона исторически правдоподобным. Поэтому он, меняя huios theou на dikaios, избегает анахронизма и создает важные богословские аллюзии на Писание.
(обратно)[17]
Подробнее об истории этого мотива см. Hays 1988 и указанную там литературу.
(обратно)[18]
Лука прямо не называет Иисуса «мучеником». Собственно говоря, греческое слово martys означает просто «свидетель», как в Деян 3:15. Лишь позже оно превратилось в термин, обозначающий преимущественно тех, кто страдал и умер за веру. Когда я говорю, что у Луки Иисус - образец мученика, то использую это слово в его позднем значении для описания одной из тем Луки - Деяний.
(обратно)[19]
Minear 1976.
(обратно)[20]
Другие примеры такого рода параллелизма: Деян 3:1:10/Лк 5:17-26; Деян 5:15; 19:11-12/Лк 8:44; Деян 7:59-60/Лк 23:34, 46.
(обратно)[21]
L.T. Johnson 1986, 219.
(обратно)[22]
Многие экзегеты сбрасывают со счетов эти рассказы как идеализированную выдумку (напр., Conzelmann 1987, 24). Однако можно усомниться в правильности такого рода априорных суждений - суждений, направленных против эгалитарных и коммунистических идеалов, выводимых из этих текстов. Из современных исследователей историческую достоверность данных традиций защищает, например, Bartchy 1991.
(обратно)[23]
Аристотель, Никомахова этика 9.8.11686, бел.
(обратно)[24]
Некоторые толкователи рассматривают слова Закхея в 19:8 не как выражение покаяния, а как самооправдание, связывающее с его обычаем отдавать половину имущества нищим. В пользу такого понимания можно привести довольно веские аргументы (см. Fitzmyer 1985, 1220-1222). Однако оно упускает из виду подчеркнутое «ныне» (semeron) в ст. 9. Если в сердце Закхея уже не произошла перемена, то почему Иисус говорит: «Ныне пришло спасение в этот дом»? Поэтому, вопреки многим современным экзегетам, я продолжаю рассматривать эту историю как рассказ о покаянии, соответствующий характерной для Луки схеме: покаяние открывает путь к спасению.
(обратно)[25]
L.T.Johnson 1977; L.T.Johnson 1981.
(обратно)[26]
Conzelmann 1961 [1953].
(обратно)[27]
Cassidy 1978; Cassidy and Scharper 1983.
(обратно)[28]
Cassidy 1978, 80.
(обратно)[29]
Cassidy 1978, 79.
(обратно)[30]
Прав ли Лука в своей хронологии, для меня сейчас не принципиально. Я просто хочу сказать, что он помещает своих героев в контекст узнаваемых политических событий и исторических личностей.
(обратно)[31]
Batstone 1992; Wright 1992, 302-307.
(обратно)[32]
У Луки именно laois Israel. Это множественное число повторяет множественное число из Пс 2:1. Речь идет о том, что язычники и Израиль объединяются против Иисуса. Я благодарен Брюсу Фиску за то, что он обратил мое внимание на этот момент.
(обратно)[33]
См. Деян 19:24. По-видимому, здесь имеются в виду маленькие модели знаменитого святилища богини Артемиды, которое было одним из семи чудес света.
(обратно)[34]
Об этом хорошо пишет Чарльз Тэлберт: Charles Talbert «Martyrdom in Luke-Acts and the Lucan Social Ethic:» in Cassidy and Scharper, 1983, 99-110.
(обратно)[35]
Полезное резюме того моря исследований, которое посвящено эсхатологии Луки, см. в Carroll 1988,1-30.
(обратно)[36]
Следуя чтению ktesasthe (аористный императив), а не ktesesthe (индикатив будущего времени).
(обратно)[37]
Carroll 1988, 166.
(обратно)[38]
Fitzmyer 1981, 235.
(обратно)[39]
Разумеется, это не первоначальный смысл притчи, как она была рассказана Иисусом. Но в двухтомнике Луки она обрела и этот смысл.
(обратно)[40]
Аллен Верхей в своей книге «Великий переворот» интерпретирует новозаветную этику с позиций, очень напоминающих взгляды Луки. И не только потому, что ключом к пониманию новозаветной вести Верхей считает воскресение (Verhey 1984, 181-183), но и из-за темы, отраженной в заглавии.
(обратно)[41]
См. Hughes 1992, 14. Оно называется «Dream Deferred», а в некоторых более ранних антологиях - «Harlem». (Пер. с англ. В. Дегтяревой. - Прим. пер.)
(обратно)[42]
Например, Кеземан (Kasemann 1964 [1960], 63-94) считает, что в Деяниях «богословие славы (theologia gloriae) начинает заменять собой богословие креста (theologia cruris)» (92). См. также Kasemann 1969 [1965], 236-251.
(обратно)[43]
East Cooker. Eliot 1952 [1930], 129.
(обратно)[44]
L. T.Johnson 1991, 21-22; ср. Pervo 1987.
(обратно)[45]
Относительно «раннего католичества» см. статьи Кеземана, процитированные выше в прим. 41, а также Conzelmann 1987. Относительно интерпретации, более чуткой к повествованию, чем эти, см. Willimon 1988.
(обратно)[1]
Hays пишет: «Он ничего не сообщает, но призывает людей к себе... Поэтому в конце концов оказывается, что Иисус как носитель божественного откровения не открывает ничего, кроме того, что Он есть Открывающий» (Bultmann 1955 [vol. 2] 41, 66).
(обратно)[2]
Противоположную точку зрения отстаивает Verhey 1984, 142-143.
(обратно)[3]
Подробное обсуждение проблем авторства см. в Brown 1982, 14-35. Шраге правильно решает рассматривать эти тексты вместе при обсуждении их этического содержания и импликаций (Schrage 1988, 297). Я следую здесь той же процедуре.
(обратно)[4]
H.R. Niebuhr 1951, 46-49.
(обратно)[5]
Kasemann 1968, 59.
(обратно)[6]
Houlden 1973, 36.
(обратно)[7]
J.T. Sanders 1975, 100
(обратно)[8]
О важном вопросе об отношении Иоанна к «иудеям» см. главу 17.
(обратно)[9]
Kasemann 1968, 8-9.
(обратно)[10]
Kasemann 1968, 26.
(обратно)[11]
В этом наблюдении и в дальнейшем анализе ситуации, предполагаемой в Первом послании Иоанна, я во многом опираюсь на R.E. Brown 1979b
(обратно)[12]
Августин Исповедь 7.9.13. Цит. по переводу с латинского М. Сергеенко. -Прим. пер.
(обратно)[13]
«For the Time Being» in Mack, Dean, and Frost, 1961, 215.
(обратно)[14]
«Новая пересмотренная стандартная версия» почему-то считает ст. 18 началом следующего смыслового раздела. Я же согласен с изданием Не-стле-Аланда, что он относится к предыдущему материалу.
(обратно)[15]
Далее я основываюсь на следующих исследованиях: Martyn 1979; Meeks 1972; R.E. Brown 1979b; R.E. Brown 1982; Wengst 1983; Smith 1984; Rensberger 1988.
(обратно)[16]
R.E. Brown 1982, 101-102.
(обратно)[17]
В своем новаторском исследовании исторического контекста четвертого Евангелия Дж. Луис Мартин выдвинул гипотезу, что формальное отлучение иудеохристиан от синагоги произошло около 85 года н.э. в раввини-стической академии в Ямнии, когда появилось так называемое «благословение против еретиков» («Биркат ха-миним») (Martyn 1979). Однако не все ученые согласны с этим предположением (см., например, Kimelman 1981; Katz 1984).
(обратно)[18]
Rensberger 1988, 26-27.
(обратно)[19]
Rensberger 1988, 113.
(обратно)[20]
Rensberger 1988, 114.
(обратно)[21]
Rensberger 1988, 116-117.
(обратно)[22]
Minear 1984; R. Е. Brown 1984, 84-123.
(обратно)[23]
Bultmann 1955 (vol. 2), 38.
(обратно)[24]
Греческое en hymin я перевожу именно как «среди вас», а не как «в вас».
(обратно)[25]
Греческое peri mou в Ин 15:26 я перевожу именно как «обо мне», а не как «от моего лица».
(обратно)[26]
Smith 1984, 15-17, 30-31; Boring 1979; ср. Johnson 1970, 119-148.
(обратно)[27]
Bultmann 1955 (vol. 2), 39.
(обратно)[28]
R.E. Brown 1966, cxxi.
(обратно)[29]
R.E. Brown 1966, cxix.
(обратно)[30]
Martyn 1979.
(обратно)[31]
Эти факты были отмечены Кеземаном (Kasemann 1968, 29-31). Более подробные разработки в этом направлении см. в R.E. Brown 1979а, 183-198; R.E. Brown 1984, 94-95; Schneiders 1982; Schussler Fiorenza 1983, 323-334.
(обратно)[32]
Smith 1991, 82-88.
(обратно)[33]
O'Day 1986, 112.
(обратно)[34]
Об Иоанновой иронии см. Meeks 1972; Culpepper 1983; Duke 1985; и особенно O'Day 1986.
(обратно)[35]
См. карикатуру, нарисованную Дж. Сандерсом, о которой мы говорили в первом разделе данной главы.
(обратно)[1]
Schrage 1988. См. также Verhey 1984.
(обратно)[2]
Schweitzer 1968 [1906].
(обратно)[3]
Например, Люк Джонсон так оценивает монументальный труд Доминика Кроссана «Исторический Иисус: жизнь средиземноморского еврейского крестьянина» (Crossan 1991): «Возможно, этим авторам [Кроссану и Джону Мейеру] так и не удалось преодолеть тенденций, проницательно описанных Швейцером. Разве созданный Кроссаном образ крестьянского киника, проповедника равенства, не идеально соответствует идеализированному этосу ученого конца XX века?» (L.T. Johnson 1992, 26).
(обратно)[4]
Широкий обзор различных образов Иисуса как отражений общей культурной истории от 1 века до современности см. в Pelikan 1985.
(обратно)[5]
Kahler 1964 [1896].
(обратно)[6]
Funk 1985, 5-6.
(обратно)[7]
Ср. о Еврейской Библии Sternberg 1985, 48-56, 230-235.
(обратно)[8]
Bultmann 1951 (vol. 1), 3.
(обратно)[9]
Как утверждает, например, Mack 1988.
(обратно)[10]
Kasemann 1964 [1960], 15-47 (цитата со с. 34); ср. Kasemann 1969 [1965], 23-65. О взглядах Кеземана по этому вопросу см. ЕЫег 1986, 161-273.
(обратно)[11]
См. мою критику работы семинара в Hays 1994. См. также Witherington 1995, 42-57; L. Т. Johnson 1996.
(обратно)[12]
Как увидят читатели, знакомые с научной литературой по данному вопросу, на мой подход существенно повлияли работы Нильса Альструпа Даля и Эда Сандерса (Dahl 1976; 1991; Е. P. Sanders 1985; 1993).
(обратно)[13]
Dahl 1991, 81-111.
(обратно)[14]
Р. Хейз имеет в виду так называемый «критерий, основанный на несходстве», получивший прописку в трудах многих ученых. Он относится к числу критериев, с помощью которых исследователи пытаются определить, какие именно евангельские предания достоверны. Разные историки формулируют его несколько по-разному, и вокруг его целесообразности идет острая полемика.
(обратно)[15]
См. Riches 1982; Harvey 1982.
(обратно)[16]
Dahl 1991, 98-99; Е.Р. Sanders 1985, 22.
(обратно)[17]
Эд Сандерс отдает приоритет повествовательным материалам о событиях в жизни Иисуса (Е.Р. Sanders 1985). Это хорошо корректирует тенденции, господствовавшие в прежних научных работах. Однако я убежден, что значение событий невозможно понять без традиции речений.
(обратно)[18]
Tuckett 1988; Wright 1992, 440-443.
(обратно)[19]
См., например, Crossan 1988.
(обратно)[20]
R.E. Brown 1987; R.E. Brown 1994, 1317-1349.
(обратно)[21]
Я менее уверен, чем Бен Уизерингтон (Witherington 1990), что мы как историки способны выяснить, как Иисус понимал самого себя. См. L. Т. Johnson 1996, 81-104.
(обратно)[22]
Е. P. Sanders 1985, 61-76.
(обратно)[23]
Джон Мейер, подчеркивающий маргинальность Иисуса, пишет: «Иисус, бедный мирянин из галилейского села, ставший пророком и учителем, встретил свою смерть в Иерусалиме отчасти вследствие своего столкновения с богатым аристократическим городским священством. Это священство считало Иисуса с Его тревожными учениями и притязаниями явным маргиналом - и из-за Его опасного противостояния истеблишменту, и из-за отсутствия у Него политической поддержки в столице. Такого человека легко было смести на свалку смерти» (Meier 1991, 9).
(обратно)[24]
Е.Р. Sanders 1985.
(обратно)[25]
Crossan 1991.
(обратно)[26]
Здесь я снова согласен с Кроссаном (Crossan 1991, 303-353).
(обратно)[27]
Иосиф Флавий, Иудейские древности 18.118.
(обратно)[28]
Например, Bornkamm 1960 [1956], 180: «Воскресение Христово, Его жизнь и вечное владычество - то, чем историческая наука не занимается. История не может надежно удостоверить факты о них, как она может сделать это относительно других событий прошлого. Последний исторический факт, доступный историкам, - пасхальная вера первых учеников». Относительно других точек зрения, более открытых (в разной мере) возможности рассмотрения воскресения как исторического события, см. Pannenberg 1977 [1964], 80-106; L.T.Johnson 1986, 98-113; Е.Р. Sanders 1985, 320; Е.Р. Sanders 1993, 276-281.
(обратно)[29]
См. полезное обсуждение в L.T.Johnson 1986, 98-113.
(обратно)[30]
Воскресение имеет далеко идущие эпистемологические (а потому и этические) последствия. Однако у нас нет возможности рассматривать здесь эту огромную тему. Ее очень интересно разрабатывает, например, богослов Оливер О'Донован в книге «Воскресение и нравственный порядок» (O'Donovan 1994). См. также мое обсуждение Карла Барта в разделе 12.2.
(обратно)[1]
Nietzsche 1956 [1887], 185.
(обратно)[2]
J.T. Sanders 1975, 115
(обратно)[3]
Stendahl 1976, 39.
(обратно)[4]
Из текста не видно, что этот Иоанн был из числа первых учеников Иисуса.
(обратно)[5]
A.Y. Collins 1981; 1984, 97-99; Thompson 1990, 95-167
(обратно)[6]
См. аналогичное обсуждение, которое очерчивает более широкий спектр возможностей, в Schussler Fiorenza 1991.
(обратно)[7]
Lindsay 1970.
(обратно)[8]
Schlusser Fiorenza 1991, 8.
(обратно)[9]
J.J. Collins 1984, 68-92.
(обратно)[10]
Caird 1966, 6.
(обратно)[11]
A.Y. Collins 1977, 241.
(обратно)[12]
Само понятие «теопоэтический» я взял у Амоса Уайлдера (Wilder 1971). Я придерживаюсь подхода к Апокалипсису, который несколько по-разному развивали Caird 1966; Minear 1968; 1981; Stringfellow 1973; O'Donovan 1986; Meeks 1986b; Schlusser Fiorenza 1991.
(обратно)[13]
Schussler Fiorenza 1991, 31, 117-139.
(обратно)[14]
Minear 1981, 101.
(обратно)[15]
Я совершенно не согласен с Кульманом (Cullmann 1956, 71-85), который считает, что представления Апокалипсиса о государстве в целом совместимы с отрывками вроде Рим 13:1-7. По мнению Кульмана, оба текста позволяют христианам вставать в оппозицию государству только тогда, когда оно выступает с бесовскими идолопоклонническими утверждениями.
(обратно)[16]
A. Y. Collins 1977, 252. См. также Schussler Fiorenza 1991, 84.
(обратно)[17]
Barr 1984, 41.
(обратно)[18]
Лютер, около 1529 года. Курсив мой.
(обратно)[19]
O'Donovan 1986, 90.
(обратно)[20]
В некоторых рукописях - «если кому-либо надлежит быть убитым мечом». Оно подстраивает текст под Иер 15:2 и 43:11 и создает синтаксический параллелизм с Откр 13:10а. Его следует отвергнуть как позднюю редакцию. Для некоторых исследователей (в т.ч., видимо, издателей Нестле-Аланда) лучше засвидетельствованное чтение «если ты убьешь мечом» кажется подозрительным, поскольку оно создает аллюзию на Мф 26:52 («взявшие меч от меча и погибнут»). Но в этом-то все и дело! Иоанн создает аллюзию на пророчество Иеремии о суде, пропуская его через фильтр предания о речении Иисуса, так что речь идет уже не о трагической необходимости, а о божественном призвании.
(обратно)[21]
Caird 1966, 169-170.
(обратно)[22]
A.Y. Collins 1977.
(обратно)[23]
Единственное, с чем в толковании Кейрда я не вполне согласен, - индивидуализм его формулировки («когда один человек наносит вред другому»). Иоанново видение адресовано общине учеников Агнца.
(обратно)[24]
Тот факт, что 144000 «не осквернились с женщинами», не означает, что Апокалипсис требует от всех христиан безбрачия. Ничто в тексте не указывает на это. Как отмечают экзегеты, эта повествовательная деталь -отражение требований для воинов, которым предстоит участвовать в священных войнах Израиля (Caird 1966). 144000 пребывают в состоянии символической ритуальной чистоты, готовыми выступить на стороне Агнца против Зверя. Шюсслер Фьоренца отмечает (Schliisser Fiorenza 1991, 88), что здесь, как и в других местах Апокалипсиса, сексуальная символика - метафора. Она обозначает, что эти чистые не участвовали в идолопоклонстве императорского культа.
(обратно)[25]
Schrage 1988, 337.
(обратно)[26]
Schussler Fiorenza 1991, 128. См. также Schussler Fiorenza 1985.
(обратно)[27]
Schrage 1988, 331.
(обратно)[28]
Meeks 1986b, 145.
(обратно)[29]
O'Donovan 1986, 90. Курсив мой.
(обратно)[30]
Schussler Fiorenza 1991, 124.
(обратно)[31]
King Jr. 1963; Stringfellow 1973; Boesak 1987.
(обратно)[32]
Schussler Fiorenza 1991, 139.
(обратно)[33]
Статистика такая: этот глагол встречается 17 раз в Апокалипсисе, 6 раз в Первом послании Иоанна и только 5 раз в остальном Новом Завете (Лк -. 1, Ин - 1, Рим - 3).
(обратно)[1]
Любой, кто знаком с современной герменевтикой, понимает, сколь проблематична сама задача: ведь нас приучили считать, что всякая интерпретация служит нуждам интерпретатора. Однако если мы признаем авторитет Библии, то верим и в то, что тексты обладают собственным голосом, выражают смыслы, отличные от прихотей и предубеждений их авторов. Мы также верим: в ходе дискуссии мы можем приблизиться к консенсусу относительно этих смыслов. Отмечу, что без убеждения в наличии у текстов индивидуального голоса не обойтись в нашем повседневном мире - мире, где есть законы, дорожные знаки и прочие «тексты», призванные ограничить наше поведение.
(обратно)[2]
О теме накоплений в Луке - Деяниях см. L. T.Johnson 1977; Wheeler 1995, 57-72.
(обратно)[3]
Я благодарен Джорджу Линдбеку (Lindbeck 1995) за критические замечания в адрес одной из более ранних версий данной главы. Они стимулировали меня заострить внимание на теме «перфоманса» - категории, в осмыслении которой Линдбек опирается на Wolterstorff 1995.
(обратно)[4]
На симпозиуме «Новый Завет и этика» (Дьюкский университет, 1 апреля 1995 года) Люк Джонсон задал интересный вопрос: действительно ли необходимо осуществлять синтез, прежде чем использовать новозаветные тексты для этической рефлексии. Вместо этого мы можем использовать их эклектически, в каждой конкретной ситуации по-разному решая, на какой текст ориентироваться. Такая модель имеет свои плюсы. Однако с ней Церковь рискует попасть в одну из двух ситуаций. Либо у нее не будет когерентной нравственной концепции. Либо эту когерентность будут обеспечивать нормы и принципы, внеположенные Писанию. В последнем случае новозаветные тексты будут играть в христианской этике не столько конституирующий, сколько иллюстративный характер. В первом же случае сильно возрастает опасность произвола и нравственной анархии. Поэтому я считаю, что стоящая перед Церковью задача нравственного суждения, которая является неизбежной и необходимой, - в этом мы с Джонсоном согласны - должна реализовываться общиной через синтез канонических свидетельств.
(обратно)[5]
См., однако, мой анализ Павла в главе 1, где я показываю, что понимание Павлова богословия, предполагаемое подобной гармонизацией, также глубоко ошибочно.
(обратно)[6]
Однако см. Cullmann (1956, 86), который говорит о «глубоком единстве в оценке государства».
(обратно)[7]
Как я покажу в части IV, когда мы оказываемся между двумя противоречивыми новозаветными учениями, лучше отдать предпочтение какому-то одному из них, пользуясь четкими богословскими критериями, чем колебаться или искать искусственных компромиссов. См. особенно обсуждение антииудаизма в главе 17.
(обратно)[8]
Kasemann 1964 [1960], 103. См. также его острую лекцию под названием «Единство и многообразие в новозаветном учении о Церкви», прочитанную 16 июля 1963 года в Монреале на Четвертой Всемирной конференции по вере и порядку (Kasemann 1969 [1965], 252-259). Будем помнить, что упорный акцент Кеземана на использование Евангелия как критической нормы, помогающей разоблачить ложные формы христианства (даже апеллирующие к Новому Завету), был вдохновлен его личным опытом: он видел, как у него на родине церковь пленилась нацистским «немецким христианством».
(обратно)[1]
Не все согласятся с этим утверждением. В его пользу говорят аргументы, приведенные в Dodd 1936; Frei 1975; Hays 1983; Wright 1992, 371-417. Отметим, что первые символы веры формулируют содержание христианской веры именно в повествовательной форме. Относительно современных работ по проблеме повествовательного характера христианских убеждений см. Hauerwas and Jones 1989.
(обратно)[2]
Диатессарон - это гармония четырех канонических Евангелий, осуществленная в конце II века. Из четырех разных повествований Диатессарон делает одно. См. W. L. Petersen 1992.
Автором Диатессарона был Татиан. - Прим. пер.
(обратно)[3]
Kelsey 1975, 159.
(обратно)[4]
Kelsey 1975, 163.
(обратно)[5]
Kelsey 1975, 167, 197.
(обратно)[6]
Как я отмечал в более ранних работах, эта рефлексия второго порядка предполагает наличие благовестия, выстроенного в форме повествования. См. Hays 1983 и мою статью «Crucified with Christ» in Bossier 1991, 227-246.
(обратно)[7]
Такого рода образы имеют много общего с понятием dianoia у Нортропа Фрая, адаптированным из Аристотеля. Если mythos литературного произведения - его линейный сюжет, то dianoia - его тема, повествовательная модель, рассматриваемая как синоптическое единство. «Словесное повествование, или mythos, передает чувство движения, как его улавливает ухо; словесный смысл, или dianoia, передает (или, по крайней мере, сохраняет) чувство одновременности, которую улавливает око... Как только в нашем мозгу вырисовывается целостная картина, мы «видим» ее смысл» (Frye 1957, 77). Подробнее см. в Hays 1983, 20-28.
(обратно)[8]
Роуэн Грир отмечает: «Выстраивая структуру интерпретации Писания, Ириней всюду опирается на Писание» (Rowan A. Greer «А Framework for Interpreting a Christian Bible» in Kugel and Greer, 1986, 155-176, цитата со с. 174). Я признателен Кэтрин Грин-Маккрейт за то, что она обратила мое внимание на формальное сходство между моим предложением и герменевтической функцией Правила Веры. Дальнейшие размышления о взаимоотношении между прочтением в свете Правила Веры и «буквальным смыслом» Библии см. в Green-McCreight 1994.
(обратно)[9]
Два вышеизложенных варианта не носят сугубо гипотетического характера. Как известно, в христианстве действительно есть течения, читающие Новый Завет подобным образом.
(обратно)[10]
См. Lohfink 1984 [1982]; Hutter 1994.
(обратно)[11]
В частном письме Аллен Верхей высказал мысль, что Новый Завет не отрицает индивидуальную ответственность, но связывает ее с общинной дисциплиной; таким образом, в некоторых текстах ключевой вопрос - «что я должен делать как член общины?» Следовательно, христианское ученичество включает ресоциализацию человека в социальные модели новой общины. Верхей отчасти прав: Новый Завет действительно содержит нравственные увещания, обращенные к отдельным людям. Однако, на мой взгляд, первичный акцент новозаветные авторы делают все же на совместном послушании общины. И этот подход столь резко контрастирует с обычными индивидуалистическими предпосылками западной либеральной культуры, что требуется настоятельно подчеркивать ориентированность Нового Завета именно на общину.
(обратно)[12]
Ср. Betz 1967.
(обратно)[13]
Убедительно доказано в Yoder 1994.
(обратно)[14]
Относительно данного текста см. Hays 1987.
(обратно)[15]
Хотя эти пояснения относятся скорее к герменевтической и прагматической задачам, чем к синтезу, я поместил их именно сюда: мой опыт занятий со студентами показывает, что само упоминание о кресте - как красная тряпка для многих слушателей (особенно некоторых феминисток). Это отчасти неизбежное следствие skandalon креста. Однако, к сожалению, есть и другая причина: патриархальные культуры иногда превращали весть о кресте в риторическое орудие угнетения женщин и беззащитных. Новозаветная этика должна решительно отвергнуть такое издевательство над текстами и людьми. Относительно феминистских анализов богословия креста см. D. S. Williams 1993; Heyward 1984; Brock 1988.
(обратно)[16]
Элен Чарри убедительно показывает, что крест и подразумеваемые им качества (смирение, самопожертвование и т.д.) - самое сильное богословское оружие против мужского злоупотребления властью (Charry 1993). Я абсолютно с ней согласен. Добавлю лишь одно: новозаветный призыв к жертвенному служению не ограничивается мужчинами. Считать, что заповедь подражания Христу через самопожертвование не касается женщин, было бы, как ни парадоксально, примером покровительственного к ним отношения. (Получилось бы, что требование радикального ученичества обращено только к мужчинам!)
(обратно)[17]
Лишь один новозаветный текст - Евангелие от Иоанна - не так легко соответствует этому синтетическому описанию. Его акцент на реализованный элемент эсхатологии столь силен, что он грозит растворить диалектическое противоречие, которое присутствует повсюду в Новом Завете. Однако и Евангелие от Иоанна ожидает наступления в будущем воскресения «в последний день», - воскресения, не тождественного познанию Иисуса в нынешней жизни. Об Иоанновой эсхатологии см. главу 6. Также, если это Евангелие читать в каноническом контексте (вместе с Первым посланием Иоанна), будущий эсхатологический акцент станет заметнее (1 Ин 2:28; 3:2; 4:17 и т.д.).
(обратно)[18]
Из стихотворения Томаса Элиота «Паломничество волхвов». Цит. в пер. А. Сергеева. - Прим. Пер.
(обратно)[19]
См. обсуждение этого отрывка в разделе 1.2.а. В большинстве английских переводов теряется Павлова убежденность в том, что община живет в межвременье.
(обратно)[20]
В своем понимании этого образа я многим обязан работам Эрнста Кезе-мана, Дж. Кристиана Бекера и Дж. Луиса Мартина. См. также Finger 1989.
(обратно)[21]
Lindbeck 1995, 19.
(обратно)[22]
Если бы кто-то предложил считать ключевыми образами «Израиль, крест и воскресение», я бы не стал возражать, - если при этом включать в «Израиль» языкохристиан, привитых к тому, что Павел называет «[эсхатологическим] Израилем Божьим» (Гал 6:16), а под воскресением понимать не только воскресение Иисуса («уже»), но и всеобщее воскресение в последний день («еще не»).
(обратно)[23]
Этот вопрос передо мной поставил Бен Олленбургер в частном письме (24 февраля 1993 года).
(обратно)[24]
См. обсуждение отрывка в главе 3.
(обратно)[25]
Можно было бы попробовать аргументировать центральное место любви в Евангелии от Марка следующим способом. Сначала мы уделяем особое внимание отрывкам, где Иисус сострадает толпе (6:34; 8:2) или любит богача, спрашивающего, как стяжать вечную жизнь (10:21). Потом берем эти отрывки как отражение общего отношения Иисуса к народу. Потом делаем вывод: следовать за Иисусом, значит, подражать Его любви к людям... Однако не все так гладко. Во-первых, Марк, в отличие от Иоанна, не призывает читателей подражать Иисусу в любви. Во-вторых, если считать сострадательность Иисуса примером, то как быть с отрывками, где он выказывает нетерпимость (7:27), нетерпеливость (8:17-21; 9:19) и гнев (11:12-17; 1:41 [принимая orgistheis («разгневавшись») в качестве первоначального чтения; см. Lane 1974 , 84 п.141])? Марковский Иисус - не столько любящий, сколько властный, мрачный и таинственный. У Марка исцеления, экзорцизмы и другие чудеса - не столько знаки любви, сколько знаки силы начинающегося Царства Божьего.
(обратно)[26]
Hauerwas 1981b, 124.
(обратно)[27]
Опять уместно привести слова Хауэрваса: «Евангельская этика - не этика любви, а этика верности этому человеку [Иисусу], как Он связал нашу судьбу со своей судьбой, как Он делает историю нашей жизни своей историей. Как этика любви Евангелия были бы этикой в нашем распоряжении: мы бы заполняли контекст любви нашими желаниями» (Hauerwas 1981b, 115).
(обратно)[28]
Rensberger 1988; cf. Cassidy 1992.
(обратно)[29]
Ср. анализ освобождения как описательной категории при прочтении Исхода в Levenson 1993, 127-159.
(обратно)[30]
Аналогичным образом, справедливость постигается через образ общины. Иными словами, в новозаветной этике справедливость (dikaiosyne) — это своего рода имя повествования о Завете между Богом и Его народом. Подробнее см. в Hays 1992.
(обратно)[1]
Дэвид Келси дает образцовое описание различных способов, которыми богословы подкрепляют свои утверждения ссылками на Писание (Kelsey 1975). Я в значительной мере использую его идеи, но в данном исследовании меня интересует более конкретный вопрос: использование Нового Завета в христианской этике.
(обратно)[2]
Подробнее об использовании Писания более широким кругом специалистов по богословской этике см. в Siker (готовится к изданию). Мое решение включить в рассмотрение труды Барта, Йодера и Хауэрваса отчасти вызвано стремлением подробнее изучить конкретную группу ученых: в использовании Писания этими тремя мыслителями есть большое сходство. Поскольку все они, как и я, отводят Писанию конституирующую роль в христианской этике, я счел полезным прояснить свою позицию, заострив внимание на различиях между ними - различиях, на мой взгляд, немаловажных.
(обратно)[3]
Здесь я следую Джеймсу Густафсону (Gustafson 1970), хотя несколько модифицировал категории.
(обратно)[4]
См. работу Berger and Luckmann 1966, а также ее использование в исследовании христианской этики в Meeks 1986b; 1993.
(обратно)[5]
Однако см. Verhey 1984, 176-177, который исключает апелляции к Новому Завету на уровне «нравственных правил».
(обратно)[6]
Эти четыре источника богословского авторитета соответствуют «уэслиан-скому четырехугольнику», описанному Альбертом Аутлером (Albert Outler), ныне очень влиятельному в протестантской мысли. Представления Аутле-ра об этих категориях см. Albert С. Outler The Wesleyan Quadrilateral - In John Wesley: Langford 1991, 75-88. Исторический анализ атрибуции Аутлером этих категорий самому Уэсли см. Ted A Campbell The Wesleyan Quadrilateral': The Story of a Modern Methodist Myth: Langford 1991, 154-161. Англиканское богословие не выделяет «опыт» в отдельную категорию и постулирует три авторитета: Писание, предание (традиция) и разум. В сущности, такая классификация рассматривает современный религиозный опыт как часть данных, которые оценивает разум. Это работоспособная схема, но в эвристическом плане мне кажется более целесообразным считать опыт отдельной категорией, проводя грань между научными и философскими изысканиями, с одной стороны, и свидетельствами об интуитивном и духовном опыте - с другой.
(обратно)[7]
Hauerwas 1981а, 64.
(обратно)[8]
Например, как отмечает Макинтайр, «нормы рационального оправдания» воплощены в конкретных традициях и вырастают из них (Maclntyre 1988, 7). Просвещение обещало дать людям нормы разума, которые «не станет отрицать ни один разумный человек» и которые потому «независимы от социальной и культурной специфики», но этот проект провалился (с. 6); универсального разума нет, ибо разум привязан к традиции и истории.
(обратно)[9]
Katherine Hankey I Love to Tell the Story: The United Methodist Hymnal (Nashville: United Methodist Publishing House, 1989), 156. (Первоначально опубликовано в 1868 году.)
(обратно)[10]
См. обсуждение этих понятий во Введении.
(обратно)[1]
См., например. Fox 1985; R.M. Brown 1986; Harries 1986; Kellerman 1987; Neuhaus 1989; Rasmussen 1989; Stone 1992; C.C. Brown 1992; Clark 1994; Fackre 1994; Lovin 1995; McCann 1995. В своем дальнейшем обсуждении нибуровской герменевтики я отчасти опираюсь на идеи Пинь-Чень Ло (Ping-Cheung Lo), моего бывшего ассистента в Йельском университете, который обратил мое внимание на некоторые темы и тексты Нибура, относящиеся к предмету данного исследования.
(обратно)[2]
Niebuhr 1979 [1935], 22-38, 62-83.
(обратно)[3]
Поскольку задача данного анализа - рассмотреть выборочные случаи использования Нового Завета в этике, у нас нет необходимости описывать обращение Нибура к Новому Завету во всех его сочинениях. Конечно, более полный охват нибуровских текстов позволил бы вскрыть ряд акцентов и нюансов, которые мы не находим в его важных ранних работах. Однако для целей нашего исследования нам достаточно лишь кратко посмотреть, как Нибур апеллирует к Новому Завету именно в этих своих трудах. Мы ведь не обзор пишем нибуровского наследия, а пытаемся прояснить возможные герменевтические стратегии.
(обратно)[4]
См., например, Niebuhr 1932, 263.
(обратно)[5]
Niebuhr 1979 [1935], 22.
Цитаты из «Опыта интерпретации христианской этики» даны в переводе В.М. Ошерова, а цитаты из «Почему Церковь не стоит на позициях пацифизма?» - в переводе О.В. Боровой. - Прим. пер.
(обратно)[6]
Niebuhr 1979 [1935], 22.
(обратно)[7]
Niebuhr 1979 [1935]. 23-24, 25.
(обратно)[8]
Niebuhr 1979 [1935], 27.
(обратно)[9]
Niebuhr 1979 [1935], 32.
(обратно)[10]
Niebuhr 1940, 10.
(обратно)[11]
Niebuhr 1940, 29-30.
(обратно)[12]
Niebuhr 1940, 73
(обратно)[13]
Niebuhr 1940, 28.
(обратно)[14]
Niebuhr 1932, 263.
(обратно)[15]
Niebuhr 1979 [1935], 23-24.
(обратно)[16]
Niebuhr 1979 [1935], 91. По-видимому, здесь Нибур находится под влиянием той традиции в новозаветной библеистике, на которую повлиял Дибелиус. См. выше раздел 1.1.
(обратно)[17]
В других работах Нибур решительно ставит Иисуса над историческими и политическими обстоятельствами. Он пишет: «Сколь жалки и тщетны попытки некоторых христианских богословов (считающих нужным включиться в мир относительной политической этики...) оправдать свои действия ссылками на то, что Иисус тоже вступал в этот мир относительной этики; что Он выгнал менял из Храма с помощью бичей; или что Он «не мир пришел принести, но меч»; или что Он велел ученикам продать одежду и купить меч» (1940, 8-9). Почему такие попытки тщетны, Нибур не объясняет.
(обратно)[18]
Niebuhr 1940, 73. Подробнее о христологии см. в Niebuhr 1943 (vol. 2), 35-97. На мой взгляд, это более пространное изложение уязвимо для критики того же рода.
(обратно)[19]
См., например, Tillich 1957 (vol. 2), 19-180.
(обратно)[20]
Niebuhr 1979 [1935], 65. Ср. с. 80: «Религия, утверждающая закон любви как высший закон жизни, может утратить всякий вес, если не будет поддерживать принцип равенства прав в качестве политического и экономического выражения идеала любви».
(обратно)[21]
Niebuhr 1979 [1935], 91.
(обратно)[22]
Niebuhr 1979 [1935], 85.
(обратно)[23]
Niebuhr 1979 [1935], 73-74.
(обратно)[24]
Niebuhr 1932, 179480. Курсив мой.
(обратно)[25]
Niebuhr 1979 [1935], 116. Курсив мой.
(обратно)[26]
Niebuhr 1979 [1935]. См. также статью «Почему Церковь не стоит на позициях пацифизма?» в 1940, 1-32, особенно сс. 4-5, 30-32.
(обратно)[27]
Niebuhr 1979 [1935], 38.
(обратно)[28]
Niebuhr 1979 [1935], 62, цитируя Рим 7:18-19, 24.
(обратно)[29]
Niebuhr 1979 [1935], 71, цитируя Рим 7:23.
(обратно)[30]
Об этом говорит Джеффри Сайкер в главе о Нибуре своей готовящейся к изданию книги. (Рукописные отрывки из нее он любезно предоставил в мое распоряжение.)
(обратно)[31]
Niebuhr 1979 [1935], 29.
(обратно)[32]
Niebuhr 1979 [1935], 62.
(обратно)[33]
Обзор свидетельств см. в Siker (готовится к изданию).
(обратно)[34]
Niebuhr 1943 (vol. 2), 51.
(обратно)[35]
Niebuhr 1943 (vol. 2), 50.
(обратно)[36]
Niebuhr 1943 (vol. 2), 49.
(обратно)[37]
Нибур прямо называет ожидание Иисусом и ранней Церковью скорого Конца «ошибкой», которую нужно исправить через резюмированную здесь символическую интерпретацию. См., например, Niebuhr 1943 (vol. 2), 49-50.
(обратно)[38]
M.L. King, Jr., 1958, 100. Этот отрывок цитируется в Kellerman 1987, 20.
(обратно)[39]
Niebuhr 1979 [1935], 72. Курсив мой.
(обратно)[40]
Niebuhr 1940, 6.
(обратно)[41]
О карьере Барта см. Busch 1976. Обзор его взглядов см. в Mueller 1972; Jungel 1986; Torrance 1990 и, особенно, Hunsinger 1991.
(обратно)[42]
Church Dogmatics II/1, 1964 [1957a] (далее - CD). Этот монументальный труд состоит из томов, которые публиковались частями. Соответственно, общепринятая система обозначения включает как римские, так и арабские цифры: II/1 - это первая часть второго тома.
(обратно)[43]
CD II/2, 512.
(обратно)[44]
Барт считает этику следствием учения о богоизбранности, ибо акт заключения Богом Завета требует от нас вопроса: «Чего именно Бог хочет от человека?» (CD II/2, 510).
(обратно)[45]
CD II/2, 549.
(обратно)[46]
Об этих искушениях см. в CD II/2, 520-535.
(обратно)[47]
CD II/2, 533-534.
(обратно)[48]
CD II/2, 518-520.
(обратно)[49]
CD II/2, 518-536.
(обратно)[50]
CD II/2, 537.
(обратно)[51]
CD II/2, 535.
(обратно)[52]
CD II/2, 540.
(обратно)[53]
CD II/2, 558.
(обратно)[54]
См. главу 1.
(обратно)[55]
CD II/2, 562.
(обратно)[56]
CDII/2, 606. Курсив мой.
(обратно)[57]
CD II/2, 661-708.
(обратно)[58]
CD II/2, 663-664. Курсив мой.
(обратно)[59]
CD II/2, 664.
(обратно)[60]
CD II/2, 665. Курсив мой.
(обратно)[61]
CD II/2, 669.
(обратно)[62]
Один из современных примеров аналогичного подхода к Писанию (хотя и с позиции принципиально иной богословской концепции) см. в Sternberg 1985.
(обратно)[63]
CD II/2, 672.
(обратно)[64]
CD II/2, 672-700.
(обратно)[65]
CD II/2, 678. Даже внутри одного этого отрывка английский перевод ЦД передает немецкое Geschichte то как «story» («рассказ»), то как «history» («история»). Я несколько модифицировал перевод, сделав его последовательнее: так мысль Барта гораздо лучше понятна. Относительно бартовского понимания Писания как повествования см. Sternberg 1985.
(обратно)[66]
CD II/2, 680-681.
(обратно)[67]
Можно было бы покопаться в бартовской экзегезе конкретных текстов и тем самым оспорить его общий тезис. Однако, к сожалению, для такого рода анализа здесь просто нет места.
(обратно)[68]
CD II/2, 701. Курсив мой.
(обратно)[69]
CD II/2, 706.
(обратно)[70]
CD II/2, 705-706.
(обратно)[71]
CD II/2, 706. Курсив мой.
(обратно)[72]
СD II/2, 708.
(обратно)[73]
CD III/4, 397.
(обратно)[74]
CD III/4, 398.
(обратно)[75]
CD III/4, 398.
(обратно)[76]
CD III/4, 398.
(обратно)[77]
CD III/4, 398-400.
(обратно)[78]
CD III/4, 400.
(обратно)[79]
CD III/4, 408-409.
(обратно)[80]
CD III/4, 430. Курсив мой.
(обратно)[81]
Джон Говард Йодер в своем тонком анализе бартовской этики отмечает: «Возникает соблазн спросить: не присуще ли самому Барту «интуитивисткое» представление о заповеди Божьей. И даже странно, что Барт практически не позаботился предотвратить такое непонимание» (Yoder 1970, 48). Йодер не считает, что этика Барта опирается на мистическое узнавание воли Божьей. По его словам, «когда Барт говорит о Слове Божьем, обращенном к конкретной ситуации, он не имеет в виду какой-то сверхчеловеческий канал тайной информации, путем которого христианин получает новую истину, касающуюся именно его времени и его места... Высказывания о речи Бога в ситуации не следует понимать как отказ от трезвого прагматического суждения» (с. 49). Однако интересно, что в пользу такого понимания Йодер не приводит почти никаких текстов самого Барта. И в самом деле: если иногда заповедь Божья противоречит непосредственному учению Библии, то может ли Барт иметь в виду что-то иное, чем внутреннее духовное познание «тайной информации»? Подробнее об этой проблеме см. Nigel Biggar «Hearing God's Command and Thinking About What's Right: With and Beyond Barth,» in Biggar, 1988, 101-118; Biggar 1993.
(обратно)[82]
Важные работы, посвященные бартовским представлениям о войне: Yoder 1970; Rowan Williams «Barth, War, and the State» in Biggar, 1988, 170-190.
(обратно)[83]
CD III/4, 452.
(обратно)[84]
CD III/4, 453.
(обратно)[85]
CD III/4, 455.
(обратно)[86]
CD III/4, 456.
(обратно)[87]
Yoder 1970, 38.
(обратно)[88]
CD III/4, 461.
(обратно)[89]
CD III/4, 462.
(обратно)[90]
Развернутый анализ этой аномалии в бартовских построениях см. в Yoder 1970. Йодер в целом сочувствует Барту.
(обратно)[91]
CD III/4, 462.
(обратно)[92]
CD III/4, 462.
(обратно)[93]
CD III/4, 468.
(обратно)[94]
CD III/4, 463.
(обратно)[95]
CD III/4, 463.
(обратно)[96]
См. Cochrane 1976, 237-247.
(обратно)[97]
CD II/2, 606.
(обратно)[98]
Barth 1957с [1928], 28-50.
(обратно)[99]
Так была озаглавлена книга Барта, написанная в полемике с сочинением Эмиля Бруннера «Природа и Благодать».
(обратно)[100]
Конечно, это всего лишь догадки. Однако см. интересный анализ данного вопроса в Yoder 1970, 111-118.
(обратно)[101]
Yoder 1994. 2-е издание почти не меняет текст, но снабжает каждую главу оригинала (1972) эпилогом, в котором комментируются научные разработки, имевшие место за прошедшее время. В последующих цитатах номера страниц относятся ко 2-му изданию, а номера страниц издания 1972 года проставлены в скобках.
(обратно)[102]
Yoder 1984.
(обратно)[103]
Yoder 1994, 2 [1972, 12].
(обратно)[104]
Yoder 1994,8-9[1972,20].
(обратно)[105]
Yoder 1994,10[1972,22].
(обратно)[106]
Yoder 1994,11[1972,22-23].
(обратно)[107]
Yoder 1994,11[1972,23].Интерпретация Луки, которую Йодер здесь имеет в виду, - очень авторитетная работа Conzelmann 1961[1953].Концельман первым исследовал Евангелие от Луки с позиции анализа редакций.
(обратно)[108]
Yoder 1994, 22-23 [1972, 27-28].
(обратно)[109]
Yoder 1994, 26 [1972, 32].
(обратно)[110]
Лк 4:18-19. Цит. в Yoder 1994, 29 [1972, 35].
(обратно)[111]
Yoder 1994, 32 [1972, 39].
(обратно)[112]
Yoder 1994, 37-38 [1972, 45]. Здесь Йодер комментирует Лк 14:25-33.
(обратно)[113]
Yoder 1994, 38 п. 28 [1972, 46 п. 28].
(обратно)[114]
Yoder 1994, 46-48 [1972, 55-57].
(обратно)[115]
Yoder 1994, 51 [1972, 61].
(обратно)[116]
Yoder 1994, 53 [1972, 63].
(обратно)[117]
Yoder 1994, 95 [1972, 97].
(обратно)[118]
Yoder 1994, 96 [1972, 97]. Курсив мой.
(обратно)[119]
Yoder 1994, 96 [1972, 98].
(обратно)[120]
Yoder 1994, 97 [1972, 99].
(обратно)[121]
Yoder 1994, 99 [1972, 101]. Здесь ощущается влияние Барта на понимание Иодером Воплощения.
(обратно)[122]
Yoder 1994, 98 [1972, 100].
(обратно)[123]
Yoder 1994, 131 [1972, 134].
(обратно)[124]
Berkhof 1962; Caird 1956. Относительно других работ см. Yoder 1994, 140 п. 5 [1972, 142 п. 4].
(обратно)[125]
Yoder 1994, 142 [1972, 143], цитируя такие отрывки, как Рим 8:28; Еф 2:2; Кол 2:20; Гал 4:3.
(обратно)[126]
Yoder 1994, 146-147 [1972, 149-150].
(обратно)[127]
Yoder 1994, 145 [1972, 148].
(обратно)[128]
Yoder 1994, 150 [1972, 153].
(обратно)[129]
Yoder 1994, 154 [1972, 157].
(обратно)[130]
Yoder 1994, 155 [1972, 158].
(обратно)[131]
Yoder 1994, 13 [1972, 25].
(обратно)[132]
Yoder 1994, 198 [1972, 199].
(обратно)[133]
Yoder 1994, 202-203 [1972, 204-205].
(обратно)[134]
См., например, Yoder 1994, 12 п. 17 [1972, 24 п. 14].
(обратно)[135]
Во втором издании книги (1994, 72-75) Йодер отмечает и резюмирует некоторые современные исследования, которые говорят в пользу теории Трокме о Юбилее. Однако эти исследования не пользуются особым доверием ни среди специалистов по Евангелию от Луки, ни среди специалистов по историческому Иисусу.
(обратно)[136]
Йодер пишет:
Добровольное подчинение церкви понимается как свидетельство миру... Подчиненный человек становится свободным этическим деятелем, когда он добровольно идет на подчинение в силе Иисуса Христа вместо того, чтобы склониться перед ним с фатализмом или обидой... В Haustafeln отражена этика самого Иисуса, усвоенная церковью-служительницей... Именно такому отношению к структурам мира сего, именно такой свободе от необходимости их сокрушать (так как они и сами разрушатся!) и учил Иисус, конкретизировав его в своем страдании [1994, 185-187 (1972, 190-192)]. Очень странно, что во 2-м издании (1994, 190 п. 60) Йодер утверждает, что интерпретация Haustafeln в работах Шюсслер Фьоренцы похожа на его собственную. Посмотрим, что она на самом деле пишет о домашнем кодексе в Послании к Ефесянам:
Эта христологическая модификация патриархальной власти и обязанностей мужа не имеет богословской власти трансформировать патриархальную модель домашнего кодекса, даже если бы это и входило в намерения автора.
(обратно)[137]
Однако и Евангелие от Иоанна, и Деяния Апостолов превосходно вписываются в герменевтическую программу Йодера: оба они говорят о церкви как о свидетельствующей общине, резко отличной от своего культурного окружения.
(обратно)[138]
Yoder 1994, 242 [1972, 250].
(обратно)[139]
Cassidy 1978; Рокоту 1992. Во 2-м издании Йодер отмечает этот сдвиг в новозаветной науке (1994, 53-54).
(обратно)[140]
См. особенно важную работу Garrett 1989.
(обратно)[141]
Во 2-м издании Йодер, отмечая эти недавние разработки в критическом осмыслении политики Луки, не придает им большого значения. «Я не согласен, что мое первоначальное прочтение было ограничено концепцией Луки до такой степени, что оно не говорило о когерентном свидетельстве всех четырех Евангелий. Поскольку все Евангелия говорят достаточно, чтобы подтвердить мою точку зрения, у меня нет заинтересованности в предпочтении одной школы евангельской критики перед другой» (1994, 54). И действительно, Йодер не строит свои рассуждения только на основании единственного евангельского повествования или единственной критической теории о Tendenz Луки. Однако его утверждение, что у него «нет заинтересованности» в предпочтении каких-то определенных критических подходов к Евангелиям, сдает слишком важные позиции. Например, политически отстраненный кинический Иисус, постулируемый историческими критиками «семинара по Иисусу», глубоко противоречит Иисусу Йодера. На самом деле, хотя у Йодера можно найти отдельные высказывания, затушевывающие значение исторической реконструкции, на мой взгляд, его позиция зависит (возможно, зависит в большей степени, чем осознавал сам Йодер) от определенной концепции исторического Иисуса.
(обратно)[142]
Yoder 1994, 12 п. 17 [1972, 24 п. 14].
(обратно)[143]
Yoder 1984, 69.
(обратно)[144]
Yoder 1994, 210 [1972, 214].
(обратно)[145]
Yoder 1984, 9.
(обратно)[146]
Yoder 1984, 37.
(обратно)[147]
Yoder 1994, 202 п. 14 [1972, 204 п. 13].
(обратно)[148]
Yoder 1984, 31.
(обратно)[149]
Yoder 1994, 233 [1972, 239].
(обратно)[150]
Yoder 1994, 233-234 [1972, 240].
(обратно)[151]
Yoder 1984, 56. Курсив мой.
(обратно)[152]
Yoder 1984, 46-62. В названии статьи есть аллюзия на Евр 2:9.
(обратно)[153]
Yoder 1984, 15-45.
(обратно)[154]
Yoder 1984, 3. В частном письме (13 апреля 1995 года) Йодер отверг мою интерпретацию различия между ним и Нибуром по данному вопросу. Йодер пишет: «Тут я, в основном, согласен с Нибуром. Разве только что он гораздо более оптимистически (а значит, менее реалистически, менее «по-нибуровски») оценивает способность демократий и правительств на честное понимание и реализацию ограничений на справедливую войну в своих собственных ситуациях. С Нибуром я расхожусь не в антропологии, а в христологии». Однако, несмотря на возражение со стороны Йодера, я вижу серьезное различие между ним и Нибуром в богословских антропологиях.
(обратно)[155]
Yoder 1984, 38.
(обратно)[156]
Yoder 1994, 232 [1972, 238]
(обратно)[157]
Yoder 1994, 233 [1972, 239].
(обратно)[158]
Yoder 1994, 237 [1972, 244]. Курсив мой. Закавыченная фраза - парафраз Кол 1:24.
(обратно)[159]
Yoder 1984, 43.
(обратно)[160]
Yoder 1984, 69.
(обратно)[161]
Yoder 1984, 70.
(обратно)[162]
Yoder 1984, 57, 79.
(обратно)[163]
Yoder 1984, 62.
(обратно)[164]
Yoder 1984, 11.
(обратно)[165]
Yoder 1984, 35, цитируя Деян 15:28.
(обратно)[166]
Yoder 1984, 71.
(обратно)[167]
Yoder 1984, 72.
(обратно)[168]
Yoder 1984, 9.
(обратно)[169]
Один из перечней таких общин см. в Yoder 1984, 5.
(обратно)[170]
Yoder 1984, 92.
(обратно)[171]
Yoder 1984, 94.
(обратно)[172]
См. обсуждение Йодером этого аспекта призвания церкви в Yoder 1964.
(обратно)[173]
Из частного письма Йодера (13 апреля 1995 года).
(обратно)[174]
Yoder 1984, 4.
(обратно)[175]
Hauerwas and Willimon 1989. См. также Hauerwas and Willimon 1991.
(обратно)[176]
См. особенно Hauerwas 1985. Первое издание этой книги вышло в 1975 году.
(обратно)[177]
Hauerwas 1983, xxiv.
(обратно)[178]
См., например, «Stanley Fish, the Pope, and the Bible» in Hauerwas 1993, 19-28. В частном письме (15 августа 1994 года) Хауэрвас оспорил эту последнюю мысль: «Я использую идеи Стэнли [Фиша], но, по большому счету, он на меня не «влияет»».
(обратно)[179]
Рассказ самого Хауэрваса о развитии его мировоззрения см. в Hauerwas 1983, xv-xxvi и Hauerwas 1990. Версию, что Хауэрвас не сумел интегрировать все влияния на свою мысль, см. в Jones 1990, 15-19.
(обратно)[180]
Hauerwas 1981а, 36-52, 53-71.
(обратно)[181]
Hauerwas 1993, 15-44.
(обратно)[182]
Hauerwas 1981а, 36. Цитата взята из трактата Афанасия «Воплощение Слова Божьего». ее важности для Хауэрваса говорит тот факт, что он снова приводит ее полностью в 1993, 37-38.
(обратно)[183]
Hauerwas 1981а, 1. Курсив мой.
(обратно)[184]
Hauerwas 1993, 15.
(обратно)[185]
Hauerwas 1993, 15.
(обратно)[186]
Hauerwas 1983, 70.
(обратно)[187]
Hauerwas 1981а, 69. Насколько я понимаю, фраза «тех, кто дал нам Писание» относится не только к библейским авторам, но и к людям, передавшим нам эти тексты через века. См. также проповедь в Hauerwas 1993, 99-104.
(обратно)[188]
Hauerwas 1983, 26.
(обратно)[189]
Hauerwas 1993, 47-62.
(обратно)[190]
Hauerwas 1981а, 55.
(обратно)[191]
Как мы видим, такая формулировка существенно расходится с тем, как я сам сформулировал в этой книге взаимоотношения между Новым Заветом и этикой.
(обратно)[192]
Hauerwas 1981а, 48. Отметим, что Хауэрвас вводит мотив любви, отсутствующий в Мк 8:27-9:1.
(обратно)[193]
Hauerwas 1981а, 11. Это один из «10 тезисов к реформе христианской социальной этики», изложенных во вступительной главе книги.
(обратно)[194]
Hauerwas 1981а, 49.
(обратно)[195]
Hauerwas 1981а, 50.
(обратно)[196]
См. раздел «Учась быть грешником» в Hauerwas 1983, 30-34.
(обратно)[197]
Hauerwas 1981а, 51, 50.
(обратно)[198]
Hauerwas 1981а, 52.
(обратно)[199]
Hauerwas 1981а, 50-51.
(обратно)[200]
Hauerwas 1981а, 10. Это еще один из 10 тезисов Хауэрваса.
(обратно)[201]
Hauerwas 1983, 89.
(обратно)[202]
Hauerwas 1983, 72-95.
(обратно)[203]
Hauerwas 1983, 82.
(обратно)[204]
Hauerwas 1983, 85.
(обратно)[205]
Hauerwas 1981а. 13.
(обратно)[206]
Hauerwas 1983, 95.
(обратно)[207]
Относительно обсуждения этого методологического вопроса см. Stanley Hauerwas and David Burrell «From System to Story: An Alternative Pattern for Rationality in Ethics,» in Hauerwas and Burrell 1977, 15-39.
(обратно)[208]
Hauerwas 1981а, 12. Это последний из десяти тезисов Хауэрваса
(обратно)[209]
Hauerwas 1983, 94.
(обратно)[210]
Hauerwas 1983, xvii
(обратно)[211]
Это отмечает Сайкер в своей книге, которая сейчас готовится к изданию.
(обратно)[212]
См., например, Hauerwas 1981а, 46-49.
(обратно)[213]
Hauerwas 1993, 64, 72
(обратно)[214]
В защиту Хауэрваса можно было бы сказать, что проповедь не место для экзегетических дискуссий. Однако, на мой взгляд, это не совсем так. Хорошая проповедь опирается на тщательную экзегезу и приводит конгрегацию к более глубокому пониманию текста. Относительно же конкретно Хауэрваса можно было бы заметить следующее: экзегетический анализ - крайняя редкость в любом его сочинении, потому что он в принципе не видит в нем нужды.
(обратно)[215]
Hauerwas 1993, 7.
(обратно)[216]
Например, Hauerwas 1981, 70: «Конечно, прежде чем сделать вывод о неактуальности некоторых частей Писания (скажем, Haustafeln), следует с помощью предельно тщательной экзегезы удостовериться, что мы правильно их понимаем». Однако следующие предложения четко показывают основную герменевтическую линию Хауэрваса: «Будем помнить, что историко-критические навыки не гарантируют точности прочтения. Примем во внимание и вопросы, которые мы учимся задавать тексту как члены общины, признающей их формативную роль».
(обратно)[217]
Hauerwas 1993, 7
(обратно)[218]
Hauerwas 1983, 34.
(обратно)[219]
Возьмем лишь один пример. В предисловии к 1-му тому своего комментария на Евангелие от Матфея в Evangelisch-Katholischer Kommentar гит Neuen Testament Уаьрих Луц пишет: «Комментарий, который не только объясняет библейские тексты, но и помогает в их понимании, не может оставаться только в прошлом. Он должен проводить линии в настоящее... Я убежден, что история интерпретации какой-либо книги может внести весомый вклад в ее понимание... Лично я больше всего обязан отцам Церкви, а также протестантской и католической экзегезе XVI-XVIII веков. Замечательно, как в своих толкованиях они занимаются не только словами, но и содержанием текстов» (Luz 1989, 9).
(обратно)[220]
Hauerwas 1993, 9. К слову: сейчас, в 1990-х годах, студенты-богословы, к сожалению, больше не получают такой подготовки. На семинарских курсах, «сформированных протестантским либерализмом», почти никто не читает ни Фому Аквинского, ни Лютера, ни Кальвина, ни Барта, ни Йодера в объемах, достаточных для того, чтобы через них «учить Писание».
(обратно)[221]
Siker (готовится к изданию
(обратно)[222]
См., например, Hauerwas 1981а, 70-71.
(обратно)[223]
Hauerwas 1981а, 52.
(обратно)[224]
Hauerwas 1981а, 63, цитируя Blenkinsopp 1977, 94.
(обратно)[225]
Hauerwas 1981а, 66.
(обратно)[226]
Hauerwas 1981а, 66.
(обратно)[227]
Как показывает эта цитата, община не принадлежит к числу ключевых образов в прочтении Хауэрвасом Нового Завета, несмотря на ту важную герменевтическую роль, которую она играет в процессе интерпретации.
(обратно)[228]
Hauerwas 1983, 24-25.
(обратно)[229]
Hauerwas 1981а, 49.
(обратно)[230]
Hauerwas 1993, 16.
(обратно)[231]
Hauerwas 1983, 90, цитируя R. Williams 1982, 49.
(обратно)[232]
Hauerwas 1983, 29.
(обратно)[233]
Hauerwas 1981a, 50.
(обратно)[234]
Hauerwas 1983, 69.
(обратно)[235]
Hauerwas 1981a, 67.
(обратно)[236]
Hauerwas 1993, 23.
(обратно)[237]
Hauerwas 1993, 22.
(обратно)[238]
Hauerwas 1993, 36.
(обратно)[239]
Hauerwas 1993, 23.
(обратно)[240]
См. обсуждение этого вопроса в 12.4.
(обратно)[241]
Hauerwas 1983, 62. Этот раздел книги называется «О начале в середине».
(обратно)[242]
Hauerwas 1981а, 66. Курсив мой.
(обратно)[243]
Hauerwas 1981а, 71
(обратно)[244]
Hauerwas 1981а, 1.
(обратно)[245]
Hauerwas 1981а, 6.
(обратно)[246]
Относительно критического размышления об этой проблеме в Объединенной методистской церкви см. Long 1992.
(обратно)[247]
Hauerwas 1993, 23. В своем контексте эта фраза резюмирует католическое понимание взаимоотношений между церковью и библейской интерпретацией. Однако очевидно, что Хауэрвас описывает католическую концепцию с одобрением.
(обратно)[248]
Hauerwas 1993, 10.
(обратно)[249]
Hauerwas 1981а, 64.
(обратно)[250]
Hauerwas 1981а, 1.
(обратно)[251]
Schussler Fiorenza, 1983. Закавыченная фраза взята из подзаголовка книги.
(обратно)[252]
Schussler Fiorenza, 1984.
(обратно)[253]
Разработку феминистской герменевтики Шюсслер Фьоренца продолжила в Schussler Fiorenza 1992. Эта работа расширяет репертуар феминистских стратегий интерпретации, но не вносит изменений в фундаментальную методологическую программу автора. целях нашей работы мы вполне можем сфокусировать внимание на позиции Шюсслер Фьоренцы, как она сформулирована в исследованиях, опубликованных в 1980-е годы.
(обратно)[254]
К сожалению, до сих пор никто не попытался написать глобальное исследование новозаветной этики с феминистской точки зрения.
(обратно)[255]
Schussler Fiorenza 1988, 3-17. Цитата взята со стр. 15.
(обратно)[256]
Schussler Fiorenza 1988,15.
(обратно)[257]
Schussler Fiorenza 1983,xiii. Слова о том, что «даже ее имя до нас не дошло», звучат несколько странно: как отмечает в следующем же абзаце сама Шюсслер Фьоренца, четвертое Евангелие определяет женщину как Марию из Вифании. Видимо, Шюсслер Фьоренца хочет сказать, что уже марковская традиция замалчивает ее идентичность, - возможно, «с целью сделать рассказ поприятнее для патриархальной греко-римской аудитории» (Schussler Fiorenza 1983,xiii).
(обратно)[258]
Schussler Fiorenza 1983, 35.
(обратно)[259]
Schussler Fiorenza 1983, 31.
(обратно)[260]
Schussler Fiorenza 1983, 21.
(обратно)[261]
Schussler Fiorenza 1983, 30.
(обратно)[262]
Schussler Fiorenza 1983, 121.
(обратно)[263]
Schussler Fiorenza 1983, 143.
(обратно)[264]
Schussler Fiorenza 1983, 151. Не вполне понятно, почему это высказывание должно читаться как отражение взглядов раннего Иисусова движения. Оно присутствует только в Евангелии от Матфея и вполне может отражать точку зрения, которой придерживалась в конце I века Матфеева община. В пользу этого предположения говорит и тесный параллелизм в Мф 23:8: «А вы не называйтесь «рабби», ибо один у вас Учитель, все же вы - братья». Такая формулировка вызывает большое подозрение, что ее корни - в соперничестве, зародившемся между Матфеевой общиной и синагогой.
(обратно)[265]
Schussler Fiorenza 1983, 132.
(обратно)[266]
Schussler Fiorenza 1983, 132.
(обратно)[267]
Schussler Fiorenza 1983, 134.
(обратно)[268]
Schussler Fiorenza 1983, 167.
(обратно)[269]
Schussler Fiorenza 1983, 183.
(обратно)[270]
Schussler Fiorenza 1983, 198. В основе этого обзора лежат преимущественно Первое и Второе послания к Коринфянам. Любопытно: Шюсслер Фьоренца считает, что ее коринфские поклонники духовной мудрости были эгалитаристами, а не элитистами.
(обратно)[271]
Schussler Fiorenza 1983, 190.
(обратно)[272]
Schussler Fiorenza 1983, 236.
(обратно)[273]
Schussler Fiorenza 1983, 236.
(обратно)[274]
Schussler Fiorenza 1983, 278.
(обратно)[275]
В ряде важных отношений представления Шюсслер Фьоренцы о деградации ранней Церкви в патриархию напоминают концепцию раннехристианской истории, на которой строится бультмановское «Богословие Нового Завета». Последний раздел бультмановского труда посвящен развитию раннего кафоличества (Bultmann 1955 [vol.2], 93-236).
(обратно)[276]
Schussler Fiorenza 1983, 334.
(обратно)[277]
Schussler Fiorenza 1983, 334.
(обратно)[278]
Schussler Fiorenza 1983, 349. Об этой своей мечте она говорит в эпилоге (343-351), а также в следующей книге - Schussler Fiorenza 1984, 1-22.
(обратно)[279]
Schussler Fiorenza 1983, 347.
(обратно)[280]
Schussler Fiorenza 1983, 347.
(обратно)[281]
Schussler Fiorenza 1984, 7-8.
(обратно)[282]
Schussler Fiorenza 1983, 344.
(обратно)[283]
Schussler Fiorenza 1983, 345.
(обратно)[284]
Schussler Fiorenza 1983, 346.
(обратно)[285]
Schussler Fiorenza 1983, 346.
(обратно)[286]
Schussler Fiorenza 1983, 350-351.
(обратно)[287]
См., например, Schussler Fiorenza 1985 ? 1991.
(обратно)[288]
Schussler Fiorenza 1984, xiv. См. также 1983, 344.
(обратно)[289]
Коннотации новозаветного термина «экклесия» связаны преимущественно с его использованием в Септуагинте как перевода еврейского «кахаль» («собрание», «община» народа Израилева).
(обратно)[290]
Schussler Fiorenza 1983, 30.
(обратно)[291]
Schussler Fiorenza 1984, 41. Курсив мой.
(обратно)[292]
Schussler Fiorenza 1983, 319-323
(обратно)[293]
Schussler Fiorenza 1983, 30.
(обратно)[294]
Schussler Fiorenza 1983, 32.
(обратно)[295]
Schussler Fiorenza 1983, 32.
(обратно)[296]
Schussler Fiorenza 1984, 111.
(обратно)[297]
См. Schussler Fiorenza 1983, 149-150.
(обратно)[298]
Schussler Fiorenza 1984, 145.
(обратно)[299]
Schussler Fiorenza 1984, 86.
(обратно)[300]
Schussler Fiorenza 1984, 66.
(обратно)[301]
Schussler Fiorenza 1984, xv.
(обратно)[302]
Schussler Fiorenza 1983, 27. Более развернутую критику в адрес феминистской неоортодоксии см. на с. 14-21.
(обратно)[303]
Schussler Fiorenza 1983, 35.
(обратно)[304]
Schussler Fiorenza 1984, 61.
(обратно)[305]
Schussler Fiorenza 1983, 33.
(обратно)[306]
Schussler Fiorenza 1983, 33.
(обратно)[307]
Schussler Fiorenza 1983, 34.
(обратно)[308]
Schussler Fiorenza 1984, xvi-xvii
(обратно)[309]
См., например, глубоко антропоцентрическое описание феминистского богослужения в Schussler Fiorenza 1984, 21.
(обратно)[310]
Carol P. Christ «Why Women Need the Goddess: Phenomenological, Psychological, and Political Reflections" in Christ and Plaskow 1979, 277. Цит. в Schussler Fiorenza 1983, 18.
(обратно)[311]
Schussler Fiorenza 1983, 18-19. Курсив мой.
(обратно)[312]
Schussler Fiorenza 1984, xv-xvi.
(обратно)[313]
Schussler Fiorenza 1984, х.
(обратно)[314]
Schussler Fiorenza 1984, 3.
(обратно)[315]
См. особенно ее статью «Remembering the Past in Creating the Future: Historical-Critical Scholarship and Feminist-Critical Interpretation* in Schussler Fiorenza 1984, 93-115.
(обратно)[316]
Schussler Fiorenza 1984, 88.
(обратно)[317]
Schussler Fiorenza 1983, 32. Курсив мой.
(обратно)[318]
Schussler Fiorenza 1983, 34.
(обратно)[319]
Schussler Fiorenza 1984, 14.
(обратно)[320]
Schussler Fiorenza 1984, 14.
(обратно)[321]
Schussler Fiorenza 1984, 42.
(обратно)[322]
См. рассказ Шюсслер Фьоренцы о неприятной встрече с одной из таких последовательниц в Schussler Fiorenza 1984, 92-93.
(обратно)[323]
Schussler Fiorenza 1984, xv.
(обратно)[324]
Schussler Fiorenza 1983, 344.
(обратно)[1]
Там, где Церковь есть Церковь, существует общее слушание и принятие Слова Божьего. Жизнь Церкви - это жизнь ее членов. Там, где есть попытка освободиться от слушания и принятия общего и уйти в слушание частное (пусть даже и Слова Божьего в Священном Писании), там нет Церкви, нет слушания подлинного. Ибо Слово Божье обращено не к отдельным людям, но к Церкви Божьей, а к отдельным людям - только в Церкви. Слово Божье требует именно общинного слушания и принятия. Подлинное слушание и принятие его возможно лишь в общине. Если человек попытается из общины выйти, он утеряет способность к слышанию и принятию.
Или в ЦД II/2, 718 Барт пишет:
Чтобы ни означала для каждого отдельного человека заповедь Божья, о которой говорит апостольское увещание, она указывает на его участие в жертвенном акте (Рим 12:1). Этот жертвенный акт свершается единым родом братьев в служении Богу. Служение Богу же не есть частное дело отдельных людей, и нет места соперничеству во имя Божье. Оно может быть лишь совместным.
Рассуждения Барта о войне и насилии в ЦД III/4 следует рассматривать именно в свете этих его мыслей об общине. Я признателен Скотту Сайе за то, что он обратил мое внимание на эти отрывки.
(обратно)[2]
См. раздел 11.1.
(обратно)[3]
Однако Verhey 1984, 176-177 выступает против апелляции к Новому Завету на уровне «нравственных правил».
(обратно)[4]
Здесь я солидарен с Bartlett 1983, 5-6.
(обратно)[5]
Данную интерпретацию Павла я подробно отстаивал в Hays 1983 и в статье из Bassler 199 1, 227-246. В этой же книге я, в сущности, делаю еще одну попытку продемонстрировать повествовательную основу Павлова богословия: этика Павла была тесно связана с жизнью общины по кресту в контексте апокалиптического рассказа.
(обратно)[6]
См. раздел 11.2.
(обратно)[7]
Это предложение отчасти напоминает идеи в William Spohn 1995, 94-126. К несчастью, его работа попалась мне на глаза слишком поздно, чтобы я смог учесть ее в последующем анализе нравственного суждения как акта аналогического воображения
(обратно)[8]
Многие проводят слишком жесткое различие между аналогией и метафорой. На самом деле оба этих лингвистических феномена имеют отношение к отображению одного семантического поля в другое семантическое поле. Основную разницу между ними обычно усматривают в следующем; метафора предполагает большее искажение обыденного восприятия, приводящее к более радикальной реструктуризации смысла. Однако эта разница - разница в степени, а не в природе. И метафора, и аналогия проводят связь между несоизмеримыми сущностями или полями. В последующем обсуждении я не буду резко разграничивать эти понятия. Однако в целом я предпочитаю говорить о роли НЗ в формировании христианской этики как о процессе построения метафоры, ибо новозаветная Весть апокалиптична: она расшатывает и делает нам чужим обыденный мир. Соответственно, связь между новозаветными историями и нашим миром повлечет за собой радикальную переориентацию, связанную с метафорой. См. Wheelwright 1962; 1968; Ricoeur 1976, 45-69; 1977; M.Johnson 198 1, 3 4 7; McFague 1982; Gerhart & Russell 1984; Lash 1986, 95-1 19; Kittay 1987; Soskice 1985; Ollenburger 1990; Kraftchick 1993.
(обратно)[9]
Raisanen 1990, 3.
(обратно)[10]
Gabler 1980 [1787]. В частном письме (15 августа 1994 года) Стэнли Хауэрвас высказал интересную мысль, что идея отделения «чистого» библейского богословия от реальной исторической формы Библии была имплицитно антисемитской: Просвещение искало богословия, очищенного от неприятной ему исторической (еврейской) специфики.
(обратно)[11]
Lessing 1956 [1777], 55
(обратно)[12]
Lessing 1956 [1777], 53.
(обратно)[13]
Gerhart and Russell 1984, 112-114.
(обратно)[14]
Gerhart and Russell 1984, 114.
(обратно)[15]
Ricoeur 1975, 75-106.
(обратно)[16]
Подробнее о том, как Павлова цитата раннехристианского гимна (Флп 2:5-11) приводит к столь радикальному опыту, см. Kraftchick 1993. Я признателен Стиву Крафчику за несколько интересных разговоров о метафоре, а также за ряд важных библиографических ссылок.
(обратно)[17]
Kraftchick 1993, резюмируя идеи в Kittay 1987.
(обратно)[18]
Метафорический перенос может осуществляться в обе стороны. Община также переосмысляет текст в свете опыта Церкви (см. раздел 3).
(обратно)[19]
«Метафора не изоморфное отображение всех взаимоотношений внутри одного поля на другое поле, а акцентирование одних и подавление других. Поэтому верующий не обязан во всех деталях воспроизводить в своей жизни жизнь Христа... В данном случае [гимн из Флп] семантическое поле, создаваемое гимном, упорядочивает и дает структуру ключевой области христианского существования между прославлением и окончательным воскресением» (Kraftchick 1993, 23)
(обратно)[20]
Это напряжение встроено в «саму связку метафорического речения», которое требует от читателя увидеть как «есть», так и «не есть» поэтического утверждения (Ricoeur 1976, 68). Как отмечает Томас Грин, такие метафорические связи скрывают «глубины неразумности» (Greene 1982, 26). Примеры: «Я - истинная виноградная лоза, а Отец Мой - Виноградарь» (Ин 15:1); «Берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой» (Мк 8:15); «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф 3:11).
(обратно)[21]
Подробнее о метафорической стратегии этого текста см. в Hays 1989, 91-104.
(обратно)[22]
Подробнее об этом отрывке и его переводе см. Hays 1 989, 125-131.
(обратно)[23]
Это еще одна иллюстрация того, как метафорические утверждения не поддаются буквалистической изоморфной интерпретации.
(обратно)[24]
Подробнее об этом см. Hays 1989, 131-149.
(обратно)[25]
Катрин Гриб задала мне в письме (15 июня 1999 года) острый вопрос: «Бывают ли случаи, когда неэтично подчинять себя библейскому тексту?» Я бы сказал так: когда я говорю о подчинении «тексту», то имею в виду не отдельно взятые тексты-доказательства (напр., 1 Тим 2:11-15), а текст Писания в целом, осмысляемый в свете образов общины, креста и нового творения. Подчинять себя изолированным учениям иногда действительно «неэтично» и противоречит воле Божьей, как ее раскрывает более полное каноническое свидетельство.
(обратно)[26]
Steiner 1989, 7.
(обратно)[27]
Steiner 1989, 8.
(обратно)[28]
Lash 1986, 42. Ср. Steiner 1989, 8: «Подлинна я герменевтика драмы - ее постановка».
(обратно)[29]
См. Fowl and Jones 1991
(обратно)[30]
Lash 1986, 43.
(обратно)[31]
См. Lash 1986, 41 .
(обратно)[32]
См. Meeks 1986а; Hays 1989, 125- 131, 149-153, 191- 192.
(обратно)[33]
См. различные подходы к ветхозаветной этике в J. Barton 1982; Kaiser 1983; Wilson 1988; Birch 1991.
(обратно)[34]
Многие современные ученые предпочитают говорить не «Ветхий Завет», а «Еврейская Библия». Эта терминология отражает похвальное желание уважать самостоятельное значение израильской религии, а также избегать потенциально суперцессионистских коннотаций, связанных с различием между «Ветхим» и «Новым» Заветами. Более того, в контексте чисто исторического изучения текстов термин «Еврейская Библия» разумен и точен. Однако в контексте христианского богословия он не вполне удачен.
Во-первых, он создает впечатление, что эти тексты в каком-то смысле не входят в христианскую Библию. Однако Церковь с самого начала исповедовала их Писанием, словом откровения и обетования (т.е. «Заветом»), дарованным Единым Богом, который говорил с Авраамом, Моисеем и пророками и который также есть Бог и Отец Иисуса Христа. Поэтому при разработке нормативного использования этих текстов в церкви лучше не пользоваться нейтральным и научным понятием («Еврейская Библия»), а определить их как неотъемлемую часть церковного наследия («Ветхий Завет»).
Во-вторых, рецепция Ветхого Завета церковью чаще всего шла не на еврейском языке. В первые века христиане (в т.ч. новозаветные авторы) читали его в греческом переводе. Впоследствии распространились латинский и другие переводы. Конечно, еврейский текст остается авторитетом, по которому надлежит выверять остальные переводы, но факт остается фактом: функционально этот материал был авторитетом для Церкви не как Еврейская Библия.
В-третьих, в этом термине есть нечто странное. Подумаем: было бы удачной богословской находкой именовать Новый Завет «Греческой Библией»? Подобного рода названия имеют смысл только в контекстах, в которых мы акцентируем первоначальную языковую среду.
Поэтому я предпочитаю пользоваться традиционными терминами «Ветхий Завет» и «Новый Завет», с той очевидной оговоркой, что «Ветхий» не означает «плохой» или «устаревший». Вообще, само представление, будто в слове «Ветхий» есть нечто уничижительное, - отражение современной помешанности на новшествах. В античности, напротив, люди с подозрением относились ко всему новому, и только несомненно древние традиции они считали достойными и авторитетными. В качестве уступки современному идефиксу Джеймс А. Сандерс предложил христианам называть два библейских Завета «Первым Заветом» и «Вторым Заветом». У этой терминологии есть свой плюс: она имплицитно сохраняет богословский акцент на обетовании и преемственности в деяниях Единого Бога. Однако есть и минус: стоит ли ожидать Третьего Завета? Четвертого, Пятого Заветов? Термины «Ветхий Завет» и «Новый Завет» отражают христианское убеждение в том, что смерть и воскресение Иисуса Христа были поворотным пунктом в Божьем промысле о человеке.
Поэтому при обсуждении богословского авторитета всего библейского канона я предпочитаю говорить именно о «Ветхом Завете».
(обратно)[35]
См. Hays 1989 об этом явлении в посланиях Павла.
(обратно)[36]
См. программные предложения в Childs 1970, 123-138.
(обратно)[37]
Lohfink 1984 [1982], xi.
(обратно)[38]
Е. P. Sanders 1985, 98- 106.
(обратно)[39]
Из последних работ на эту тему см. Hvibner 1990; 1993; Childs 1992
(обратно)[1]
New Haven Register, Oct. 9, 1986.
(обратно)[2]
Sells 1994, 5.
(обратно)[3]
Sells 1994, 5.
(обратно)[4]
Zabelka, 1980, 14.
(обратно)[5]
Обычно считается, что первым христианским мыслителем, разработавшим концепцию справедливой войны, был Августин. Августин пытался осмыслить, когда и при каких условиях насилие возможно: для защиты общего блага и защиты невинных. Последующие авторы развили его теорию, сформулировав принципы правильного ведения войны. Современные военные теоретики обычно принимают следующие критерии:
1. наличие убедительного мотива (напр., защита невинной стороны);
2. наличие правильной интенции (напр., установление мира);
3. ведение войны законным авторитетом;
4. обращение к войне лишь в качестве крайней меры;
5. наличие шансов на успех;
6. пропорциональность средств ее задачам;
7. проведение грани между воюющими и мирными гражданами.
Относительно формулировки этих критериев установился общий консенсус. Однако каково конкретное содержание каждого критерия? Здесь теоретики расходятся (Hauerwas in DeCosse 1992, 83-105). Следовательно, современные мыслители акцентируют различные аспекты традиции. Пол Рамсей уделяет особое внимание защите мирных жителей (Ramsey 1968), а Джеймс Тернер Джонсон - четкому определению того, как разрешается использовать насилие (James Johnson 1981; 1984).
См. полезное собрание статей по справедливой войне и политологии в Elshtain 1992b. Отличный исторический и концептуальный обзор полемики между христианским пацифизмом и теорией справедливой войны см. в Cahill 1994. Об использовании критериев применительно к войне в Персидском заливе см. Hauerwas and Neuhaus 1991; Yoder 1991; Elshtain 1992a.
(обратно)[6]
Zabelka, 1980, 14.
(обратно)[7]
Об истории интерпретации см. Kissinger 1975. Более краткое резюме см. в Guelich 1987.
(обратно)[8]
Guelich 1982, 219-220.
(обратно)[9]
Horsley 1987, 272-273.
(обратно)[10]
См., например, Betz 1985, по мнению которого, Нагорная проповедь - доматфеевский компендиум, составленный в иудео-христианских кругах.
(обратно)[11]
Матфей заимствовал этот материал из Евангелия от Марка, но практически не внес в него изменений.
(обратно)[12]
Yoder 1994 [1972], 45-48.
(обратно)[13]
Mauser 1992, 80.
(обратно)[14]
См. раздел 4.2.а.
(обратно)[15]
См. главу 7 относительно роли исторического Иисуса в новозаветной этике.
(обратно)[16]
В более позднем раввинистическом иудаизме были найдены герменевтические способы смягчить строгость lex talionis, заменив телесное увечье обидчику денежной компенсацией с его стороны (В.Т. Бава Кама 83б-84а). Однако этот шаг к более гуманной юриспруденции далеко отстоит от учения в Мф 5.38-42.
(обратно)[17]
Guelich 1982, 220.
(обратно)[18]
Guelich 1982, 222, следуя за Daube 1956, 260-263.
(обратно)[19]
В параллельном месте у Луки (6:29) просто сказано: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую». Евангелист не оговаривает, что речь идет именно о правой щеке. Конечно, этот факт сам по себе не опровергает гипотезу Даубе относительно матфеевского высказывания, но он показывает: по мнению Луки, это речение относится к отказу от возмездия в ответ на насилие.
(обратно)[20]
Guelich 1982, 223. 21
(обратно)[21]
Более убедительное описание логики, лежащей в основе Мф 5:38-42, см. в Strecker 1988, 83. По мнению Штрекера, примеры «расположены в антикульминационном порядке. Перечень идет от больших зол к меньшим».
(обратно)[22]
Об этом хорошо написано в Walter Wink «Neither Passivity Nor Violence: Jesus' Third Way (Matt. 5:38-42 par.)» in Swanky 1992, 102-125. Менее убедительна, однако, попытка Уинка изобразить эти действия как жесты протеста и демонстративного неповиновения властям-угнетателям.
(обратно)[23]
Этим пониманием я обязан неопубликованному докладу («Seeking the Redemption of Our Enemies) моей студентки Энджи Райт, на которую в свою очередь повлиял Уинк (см. выше примечание 22).
(обратно)[24]
С помощью термина «фокусные примеры» (focal instances) Tannehill 1975 описывает функционирование языка Иисуса в этом отрывке.
(обратно)[25]
William Klassen «'Love Your Enemies': Some Reflections on the Current Status of Research» in Swartley 1992, 1-31. Цитата взята со с. 12.
(обратно)[26]
Horsley 1987, 255.
(обратно)[27]
Этот аргумент был первоначально изложен в «Ethics and Exegesis: 'Love Your Enemies' and the Doctrine of Nonviolence* in Journal of the American Academy of Religion, 54 (1986), 3-31. Теперь перепечатано в Swartley 1992, 72-101. Переработанное, но в целом аналогичное, изложение своей позиции Хорсли дает в Horsley 1987, 255-273.
(обратно)[28]
Heinz-Wolfgang Kuhn «Das Liebesgebot Jesu als Tora und als Evangelium: Zur Feindesliebe und zur christlichen und judischen Auslegung der Bergpredigt» in Frankemugh and Kertlege (eds.), 1989. См. английский перевод в Klassen, «Love Your Enemies* in Swartley 1992, 11.
(обратно)[29]
«На наше понимание этих высказываний оказали колоссальное влияние композиция и контекст Матфея... Кажущийся контраст между lex talionis и «не сопротивляйся», «подставь другую щеку», а также контраст между любовью к ближнему... и любовью к врагам - дело рук Матфея, не опирается на раннюю традицию и Иисусу не принадлежит. Понимать «врагов» как аутсайдеров нас обязывает только контекст Матфея; из самих высказываний этого не видно» (Horsley 1987, 262).
(обратно)[30]
«Новая пересмотренная стандартная версия» здесь переводит teleios как «completely loyal» («полностью верный»). Придаточное времени, вводящее цитату, я взял из Втор 18:9.
(обратно)[31]
У У. Дэвиса мы находим тонкие комментарии по поводу мотива «совершенства» у Матфея. Он проводит сравнение с учением кумранитов: в обоих случаях «община в целом призвана к совершенству, укорененному в конкретной интерпретации Закона; различие лее в совершенстве, требуемом Матфеем, и совершенством в понимании кумранитов состоит в интерпретации Иисусом Закона в категориях agape. Кумран требовал большего послушания, Матфей - более глубокого послушания» (Davies 1964, 212).
(обратно)[32]
Вопреки мнению Августина и Нибура.
(обратно)[33]
Я благодарен Брюсу Фиску за то, что он обратил мое внимание на тесную связь между Мф 5:9; 5:45 и 5:48.
(обратно)[34]
См. раздел 12.2.
(обратно)[35]
Об этой текстологической проблеме см. Fitzmyer 1985 (vol. 2), 1503-1504. В пользу аутентичности речения см. L. T.Johnson 1991, 376; Marshall 1978, 867-868.
(обратно)[36]
О характерном Павловой глаголе katallassein («примирять», напр., в 2 Кор 5:18-20) как термине, принадлежащем к семантическому полю политических и дипломатических дел, см. Breytenbach 1989.
(обратно)[37]
См. раздел 1.2.6.
(обратно)[38]
См. обзор фактов по Рим 12:14 в Dunn 1988 [vol. 2], 745. Данн заключает: «Очень велика вероятность того, что Павлов совет действительно отражает увещание Иисуса». Относительно же всего данного отрывка Данн пишет: «Павловы призывы к щедрости и доброте, не запятнанной злобой, дышат духом Нагорной проповеди» (750-751). См. также его заключительные ремарки о значении Иисусова учения и примера для Павла в этом тексте (755-756).
(обратно)[39]
Павел цитирует Притч 25:21-22. Образ выглядит суровым, но на самом деле горящие угли вполне могут быть одним из традиционных символов покаяния. См., например, Klassen 1963, 337-350.
(обратно)[40]
Эта инструкция включена в контекст поучений рабам (2:18-20). Однако, судя по 3:17-18, нормы для поведения рабов принципиально те же, что и для всех христиан.
(обратно)[41]
«Новая пересмотренная стандартная версия» здесь переводит polemoi и machai как «conflicts and disputes* («конфликты и споры»), тем самым осуществляя сразу два спорных решения. (1) Она считает это выражение не буквальным, а образным. (2) Она не позволяет метафоре говорить за себя, а делает парафраз.
(обратно)[42]
Marshall 1978, 823.
(обратно)[43]
Fitzmyer 1985, 1428 переводит: «Enough of that!» («Оставьте!»).
(обратно)[44]
Fitzmyer 1981, 1434.
(обратно)[45]
«Новая пересмотренная стандартная версия» в Ис 53:12 дает: «he was numbered among transgressors* («и к грешникам причтен»). Это различные английские переводы одного и того же слова. Нет никаких сомнений, что в Лк 22:37 Иисус цитирует Ис 53.
(обратно)[46]
Лука снова цитирует Ис 53 в Деян 8:28-35, где благовестник Филипп прямо говорит, что эта глава относится к Иисусу.
(обратно)[47]
Ср. Лк 24:13-35.
(обратно)[48]
Эту историю часто называют «очищением Храма». Однако этого термина нет в повествовании, и он сомнителен по ряду причин. См., например, Е. P. Sanders 1985, 61-69.
(обратно)[49]
Матфей и Лука опускают фразу «для всех народов»: видимо, они писали после гибели Храма и не желали, чтобы миссия к язычникам связывалась с представлением о восстановлении храмового богослужения.
(обратно)[50]
Что «на самом деле» имел в виду Иисус (именно Иисус, а не евангелисты), - сложная историческая проблема, подробное рассмотрение которой выходит за рамки нашего исследования.
(обратно)[51]
Этот удачный термин предложил Myers 1988, 294 в качестве описания входа Иисуса в Иерусалим (Мк 11:1-11). С моей точки зрения, в Мк 11:15-19 «уличный театр» продолжается.
(обратно)[52]
Матфей повторяет этот рассказ (Мф 27:54), но у него он лишен кульминационной значимости, ибо ранее ученики уже исповедали Иисуса Сыном Божьим (напр., 14:33; 16:16). В параллельном месте у Луки центурион просто говорит, что Иисус был dikaios («праведный», «невиновный»; Лк 23:47).
(обратно)[53]
Впоследствии ранняя Церковь стала считать службу в римской армии несовместимой с благовестием. Обзор современных исследований по отношению ранних христиан к войне и военной службе см. в Hunter 1992.
(обратно)[54]
См. статьи, развивающие это понимание: Lischer 1987; Hauerwas 1993, 63-72.
(обратно)[55]
Блаженства можно также отнести к категории «мир новозаветных символов»: они предлагают альтернативное видение реальности.
(обратно)[56]
См. обсуждение этого эпизода в части 2 данной главы.
(обратно)[57]
Единственное существенное исключение - Пол Рамсей. О его вкладе в обсуждение справедливой войны см. Long 1993.
(обратно)[58]
Где конкретные примеры общин, живущих в соответствии с таким видением? Каждый читатель может привести свои примеры. Мне приходят на ум Ферма «Койнония» Кларенса Джордана в Америке (штат Джорджия), Братство Реба Плейс в Эванстоне (штат Иллинойс), община Скитальцев в Вашингтоне (и вся связанная с ней сеть общин).
(обратно)[1]
Snodgrass 1989, 1 сообщает, что в 1988 году в США было 2 389 000 браков и 1 183 000 разводов.
(обратно)[2]
Серьезную попытку рассмотреть эту проблему с новозаветных позиций предпринял Keener 1991. Кинер пытается скорректировать тенденцию некоторых консервативных церквей осуждать и наказывать «невинную сторону» в разводах. Как станет ясно читателю, меня в данной главе волнует несколько иное: отсутствие у церквей четкой и основанной на Писании линии в вопросе о разводе.
(обратно)[3]
Spong 1984. Цитата взята со с. 1127. Курсив мой.
(обратно)[4]
Spong 1984, 1126.
(обратно)[5]
Поскольку на наши суждения во многом влияет история нашей жизни, читателям, возможно, пригодится краткая информация обо мне. (1) Мои родители развелись, когда мне было всего два года, и ни один из них не вступил в новый брак. Соответственно, я вырос только с одним из родителей. (2) Сам я женат уже 25 лет.
(обратно)[6]
См. главу 3.
(обратно)[7]
Schrage 1988, 94; R. F. Collins 1992, 74.
(обратно)[8]
У Матфея дело обстоит иначе из-за того, что вопрос поставлен в иной форме. Анализ см. ниже
(обратно)[9]
Читателям Евангелия от Марка также известно, что Иоанн Креститель досаждал Ироду, обличая его женитьбу на разведенной женщине (Мк 6:17-29). Однако в этом случае проблема не столько в разводе как таковом, сколько в браке Ирода с бывшей женой своего брата (ср. Лев 18:16; 20:21). Поэтому дискуссия между Иисусом и фарисеями протекает в политически напряженной атмосфере.
(обратно)[10]
В этом рассказе фарисеи опять прячутся за преданиями человеческими, а заповедь Божью отвергают. (Иисус впервые выдвинул это обвинение в Мк 7:1-13, имея в виду их обычай объявлять материальную собственность «корбаном», т.е. жертвой Богу, избегая ответственности за поддержку престарелых родителей.)
(обратно)[11]
Дамасский документ (CD) 4:21. См. перевод Vermes 1987, 86.
(обратно)[12]
Подробнее см. R.F. Collins 1992, 81 -85.
(обратно)[13]
Подробнее см. Countryman 1988, 147-167, особенно 157-159.
(обратно)[14]
Countryman 1988, 175.
(обратно)[15]
См., однако, Brooten 1982.
(обратно)[16]
М. Гитин 9:10. См. перевод в Danby 1933, 321.
(обратно)[17]
В финальных стихах отрывка (Мф 10:10-12) мы находим необычный диалог между Иисусом и учениками. Поскольку здесь нет места для подробного его рассмотрения, ограничусь лишь несколькими замечаниями. Ученики, шокированные запретом на развод (пусть даже с оговоркой), восклицают: «Если такова обязанность человека, то лучше не жениться». Как замечает Дэвид Хилл, «они фактически обусловливают привлекательность брака возможностью легкого развода!» (Hill 1972, 281). Это подчеркивает наше наблюдение, что в I веке призыв отринуть возможность развода воспринимался как часть нелегких требований к ученичеству. Ответ Иисуса ученикам, с неожиданным упоминанием о евнухах, послужил одним из традиционных обоснований церковного учения о целибате. Однако в контексте Матфея он представляет собой ответ на жалобу учеников на трудность учения о разводе. Основная мысль речения сформулирована в его первом и последнем предложениях: «Не все могут принять это слово, но кому дано... Кто может принять, да примет». Упоминание об «этом слове» - отсылка к учению о разводе (19:3-9). В данном контексте нельзя предположить, что речь идет о двух типах учеников: одни способны вместить учение о разводе, а другие - нет. Скорее, фраза «но кому дано» - аллюзия на 13:11: «Вам дано знать тайны Царства Небесного». Тайны Царства же дано знать Иисусовым ученикам, которым надлежит исполнять все Его учения без исключения (28:16-20). Те, кто не способен вместить учение о разводе, - аутсайдеры вроде фарисеев (которые остаются закрытыми и сопротивляются власти Иисуса). Сколь бы трудным ни казалось учение о разводе, - даже если ученикам придется «оскопить себя» отказом от брака, даже если христианские мужья лишаются обычной мужской прерогативы давать своим женам развод, - его надлежит исполнять, зная, что Бог дает и силу к послушанию. Таким образом, данное высказывание параллельно учениям Мф 19:23-26 об отречении от имущества: «Людям это невозможно, Богу же все возможно». Об этом параллелизме и вообще о Мф 19:10-12 см. R. F. Coffins 1992, 1 15-134.
(обратно)[18]
Вопреки мнению некоторых исследователей формулировка Мф 19:9 не запрещает мужу, который развелся с женой за porneia, вступить в новый брак. В прелюбодеянии виновен лишь тот, кто развелся по какой-либо иной причине. То есть Мф 19 действительно оговаривает исключение из Иисусова учения о разводе: еврейский Закон предполагал, что разведенный волен жениться вновь, и у Матфея мы не находим никаких опровержений этой предпосылке. (Как мы увидим, запреты на повторный брак основаны на других новозаветных текстах.)
(обратно)[19]
R. Е Collins 1992, 207-208 пытается доказать эту точку зрения на основании формулировки в Мф 5:32.
(обратно)[20]
Как отмечено в R. F. Collins 1992, 191.
(обратно)[21]
R.F. Collins 1992, 191.
(обратно)[22]
См., например, Dumais 1977.
(обратно)[23]
См., например, Bonsirven 1948; Baltensweiler 1959; 1967; Guelich 1982.
(обратно)[24]
Guelich 1 9 82, 205.
(обратно)[25]
Strecker 1 9 8 8, 75.
(обратно)[26]
R.F. Collins 1992, 212.
(обратно)[27]
«Новая пересмотренная стандартная версия» переводит эту фразу из Втор 24:1 как «something objectionable* («нечто предосудительное»), тем самым имплицитно поддерживая трактовку школы Гиллеля. (Я благодарен Кэтрин Гриб за это наблюдение.)
(обратно)[28]
Лука, однако, не говорит прямо, что он прелюбодействует «против нее».
(обратно)[29]
Об этом отрывке см. выше в разделе 1.4.а.
(обратно)[30]
По мнению некоторых экзегетов, Павел реагирует на конкретный случай, когда некая коринфянка желала бросить мужа (возможно, по аскетическим мотивам). Однако я не вижу в тексте оснований для такого толкования. Формулировка обращения в 7:10-11 носит общий характер: «А вступившим в брак я повелеваю... »
(обратно)[31]
Wire 1990, 72-97.
(обратно)[32]
«Новая пересмотренная стандартная версия» упускает из виду этот нюанс, переводя пассивную форму как активную.
(обратно)[33]
Об этом отрывке много спорят. Целый ряд экзегетов считает его поздней вставкой, не принадлежащей Павлу. См. анализ аргументов в Furnish 1984, 371-383.
(обратно)[34]
Здесь Павел использует тот же глагол (aphienai) при подлежащем «женщина», который он использовал применительно к мужчине в 7:11-12.
(обратно)[35]
Эту мысль подчеркивает Furnish 1985, 43.
(обратно)[36]
Плутарх, Совет невесте и жениху 140.19 (Moralia, vol. 2.; LCL).
(обратно)[37]
Чтение «нас» (вместо «вас») хорошо поддерживается рукописными свидетельствами. См. Fee 1987, 297 прим. 6.
(обратно)[38]
Относительно менее сложной типологии, опускающей буквальные браки в христианской общине, см. 2 Кор 11:2.
(обратно)[39]
Или неверным мужем (Мал 2).
(обратно)[40]
Эта формулировка снова показывает, что я высказываюсь с позиции «традиционного» протестантства.
(обратно)[41]
По мнению некоторых экзегетов, 7:15в должно читаться с 7:16. То есть этот стих дает основание не для развода с неверующим, а основание для стремления верующего мирно пребывать в таком браке. См., например, Fee 1987, 303-305. Для подробного обсуждения здесь нет места, но факты определенно говорят в пользу принятого мной чтения.
(обратно)[42]
Соблазнительно было бы обратиться к Песни Песней за радостным и чувственным описанием секса. Но вот беда: ни из чего не видно, что страстные любовники в этой поэме - муж и жена.
(обратно)[43]
См. Whitehead 1993.
(обратно)[44]
Spong 1984, 1127.
(обратно)[45]
Spong 1984, 1127.
(обратно)[46]
Один читатель моей рукописи комментирует: «Я согласен, что столь жалкая «пародия» на брачные обеты может быть лучше ухода из церкви. Но я бы не сказал, что она лучше расставания в ссоре. На мой взгляд, гнев при виде несправедливости и неверности - нечто такое, что современным христианам следует воспитывать в себе, а не подавлять. Вполне возможно, что расстаться лучше всего в гневе».
(обратно)[47]
Willimon 1990, 925.
(обратно)[48]
Это лишь один пример. Моя задача - не составлять исчерпывающий список, а лишь показать, какие герменевтические стратегии мы можем использовать, работая с текстами.
(обратно)[49]
Подробное обоснование этой позиции см. в Keener 1991.
(обратно)[50]
Carvey 1987, 169.
(обратно)[1]
Тогда я преподавал на богословском факультете Йельского университета. В Дьюкский университет я перешел позже, году в 1991.
(обратно)[2]
McNeill 1993; Scanzoni and Mollenkott 1978; Boswell 1980.
(обратно)[3]
Данный раздел книги представляет собой отредактированную и расширенную версию эссе «В ожидании искупления тела нашего: свидетельство Писания относительно гомосексуализма» (Hays 1991а). Отредактированный вариант этого эссе был опубликован в антологии Siker 1994а, 3-17. Раздел, посвященный экзегезе Рим 1, также опирается на работу Hays 1986.
(обратно)[4]
О проблеме собственности см. L.T.Johnson 1981; Wheeler 1995.
(обратно)[5]
Согласно Посланию Иуды: «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» (1:7). Выражение «ходившие за иной плотию» (apelthousai opiso sarkos heteras) предполагает вожделение к нечеловеческой (т.е. ангельской!) «плоти». Слова sarkos heteras означают «плоть иного вида», а потому на основании этого пассажа невозможно вывести приговор гомосексуальному влечению, влечению как раз к плоти того же самого вида.
(обратно)[6]
В недавно вышедшей статье Даниель Буарен (1995) убедительно доказывает, что эти запреты Книги Левит в позднейшей раввинистической традиции распространялись только на гомосексуальный акт анального секса между мужчинами. Другие формы однополой любви рассматривались в этом комментарии как варианты мастурбации, тоже не одобрявшейся, однако подлежавшей гораздо менее суровому наказанию. Поскольку текст Книги Левит воспрещает определенный акт и ничего не говорит об «ориентации», Бойярин приходит к выводу, что раввины не оперировали терминологией, близкой к современному понятию «гомосексуальность».
(обратно)[7]
Contryman 1998.
(обратно)[8]
Boswell 1980, 186-187, 338-353.
(обратно)[9]
Scroggs 1 983, 1 06-108.
(обратно)[10]
Эта формула повторяет суть предшествовавшей речи Иакова (Деян 15:19-20).
(обратно)[11]
«Новая пересмотренная стандартная версия» переводит atirnazesthai как «бесчестили». Такой перевод кажется мне слишком резким, и я сохраняю здесь и далее в ходе обсуждения вариант «сквернили», который ближе к буквальному смыслу.
(обратно)[12]
Schutz 1975, 40-53.
(обратно)[13]
Мильтон, Потерянный рай, I. 26. (Цит. по переводу А. Штейнберга. -Прим. пер.
(обратно)[14]
О значении «праведности Божьей» см. Hays 1992, 1129-1133.
(обратно)[15]
Kasemann 1980, 47.
(обратно)[16]
Scroggs 1983, 110.
(обратно)[17]
Kasemann 1980, 47.
(обратно)[18]
См. Furnish 1985, 75-76. Эллинистическому иудаизму эта мысль отнюдь не чужда. Подобное истолкование казней египетских мы находим в Книге Премудрости Соломона: «А за неразумные помышления их неправды, по которым они в заблуждении служили бессловесным пресмыкающимся и презренным чудовищам, Ты в наказание наслал на них множество бессловесных животных, чтобы они познали, что, чем кто согрешает, тем и наказывается... Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями» (11:16-17, 12:23).
(обратно)[19]
Calvin I960 (1556), 34.
(обратно)[20]
Scroggs 1983, 113-114
(обратно)[21]
Мой коллега Дейл Мартин выступил недавно с утверждением, что Рим 1:1832 передает не всеобщее состояние падшего человечества, а древний еврейский миф о происхождении идолопоклонства, сходный, например, с сообщением Книги Юбилеев 11 (D. В. Martin 1995b). Тем самым Мартин ставит под вопрос наличие ссылки или аллюзии в этом контексте на историю творения и грехопадения, как она изложена в Книге Бытия. То или иное решение данного экзегетического вопроса принципиально важно для истолкования всего пассажа. Здесь нет возможности достаточно подробно возразить доктору Мартину, однако нужно указать на следующие моменты: 1) Хотя Павел не цитирует Быт 1:3, в Рим 1:20 мы находим выражения «от создания мира» и «творение Его» - для любого еврейского читателя эти выражения были очевидной отсылкой к истории творения по Книге Бытия. 2) Более того, язык Рим 1:23 звучит эхом Быт 1:26-28: «И славу нетленного Бога изменили в образ (homoioma), подобный (eikon) тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». В Бытии человечество, сотворенное по образу и подобию Бога, получает господство над всей тварью, а в Рим 1 люди забыли о славе образа Божьего и поклоняются образам тварей, над которыми Бог дал им власть. Идолопоклонство - это трагическая инверсия истории творения. 3) Мартин отрицает возможность прочтения Рим 1:18-32 как описания всеобщего падшего состояния человечества, поскольку здесь якобы речь идет о духовном состоянии язычников, а не евреев. На первый, поверхностный взгляд такое истолкование может показаться верным, но только если не принимать во внимание более широкий контекст аргументации Павла. В Рим 1 он, опираясь на иудейскую традицию, обличает аморальность язычников, но по мере того как разворачивается обвинительная речь, читатель - который, вполне вероятно, с энтузиазмом присоединился к осуждению язычников, - вдруг слышит, как тот же приговор оборачивается против него: все, в том числе иудеи, «неизвинительны» (2:1), все, как иудеи, так и язычники, состоят «под грехом» (3:9). Традиционные с виду нападки на языческое идолопоклонство оказались на самом деле описанием всеобщего состояния человечества. Без понимания этого вся логика Послания будет нарушена.
(обратно)[22]
Эти и дальнейшие примеры см. в Furnish 1985, 58 - 67; Scroggs 1983, 59 - 60. Так, стоико-кинический наставник Дион Хризостом, объявив, что притонодержательство оскорбляет богиню Афродиту, «чье имя означает естественное (kata physin) слияние и союз мужчины с женщиной», высказывает далее мысль, что если общество будет поощрять подобные обыкновения, разнузданная похоть в скором времени породит еще более прискорбные обычаи - педерастию.
Существует ли хоть малейшая вероятность того, что этот похотливый род воздержится и не станет бесчестить и совращать мужчин, указав им те ясные и разумные границы, которые установлены природой (physis)? Неужто, всеми мыслимыми способами натешив свое вожделение к женщинам, не пресытятся они этим наслаждением и не будут искать иных, еще более дурных и беззаконных видов распутства?... Если желания человека ненасытны... разве не накинется он на мужчин, не поспешит осквернить юнцов, которые в скором времени должны стать магистратами, судьями и полководцами, ибо в них он надеется найти непростое и нелегко достижимое наслаждение (Беседа 7.135, 151 - 152).
(обратно)[23]
Иосиф Флавий Ар. 2.199. Разумеется, здесь присутствует аллюзия на Лев 20:13; ср. Лев 18:22, 29. В других частях той же книги Иосиф отвергает «соитие с мужчинами» как para physin и упрекает греков, которые изобрели мифы о гомосексуальном поведении богов как «оправдание для тех чудовищных и противоестественных (para physin) наслаждений, каким сами предаются.» (Ар. 2.273, 275). Современник Павла Филон Александрийский прибегает к сходным выражениям в длинном пассаже, клеймя педерастию как «неестественное наслаждение» (ten para physin hedonen) (De spec. kg. 3. 37-42). Отвращение Филона к гомосексуализму наиболее явно выражается в его версии гибели Содома (De Arb. 133-141): он утверждает, что жители Содома «сбросили с шеи закон природы (ton tes physeos nomon) и пристрастились к крепким напиткам, изысканной пище и запретным видам соития. И не только в своей безумной похоти к женщинам они нарушали брачные союзы своих ближних, но также мужчины овладевали мужчинами...» Живописно изобразив гомосексуальные обычаи жителей Содома, Филон завершает рассказ Божьим судом:
Но Бог, побуждаемый жалостью к людям, ибо Он их любит и спасает, до крайности усилил союзы, которые мужчины и женщины по природе (kata physin) заключают между собой для рождения детей, а от этих неестественных и запретных связей отвратился и ослабил их, и тех, кто разжигается такой похотью, отвергает и карает Своим судом.
(обратно)[24]
Справедливо отмечено Kasemann 1980, 47; Scroggs 1983, 110.
(обратно)[25]
Этот момент Портер (1994, р.221) просмотрел, когда выступил с поразительным заявлением, будто «на всем протяжении Послания к Римлянам Павел опровергает Рим 1:18-32».
(обратно)[26]
См. мой комментарий к этому месту в Hays 1989, 97.
(обратно)[27]
Я изменил последние слово этого перевода по сравнению с «Новой пересмотренной стандартной версией». «Ожидание в терпении» предполагает спокойствие и довольство, совершенно чуждые и смыслу греческого слова hypomone («стойкость»), и духу всего отрывка Рим 8:18-25, где сказано, что ожидающие «стенают внутренне», страдая вместе с неискупленной тварью.
(обратно)[28]
McNeill 1995, 132-139. Ср. рассуждение Ван Тилборга (1993): отношения Иисуса с Возлюбленным Учеником в четвертом Евангелии строятся по образцу однополых любовных отношений античности.
(обратно)[29]
L.T. Johnson 1983, 95-97; Siker 1994b.
(обратно)[30]
Boswell 1980. В 1994 году Босуэл опубликовал исследование с целью доказать, что христианские церкви в ранней Европе имели установленные литургические обряды благословения «однополых союзов». Эта книга вызвала кратковременную сенсацию; основной ее тезис воспроизводил даже Гэрри Трудо в комиксе «Дунесбери». Однако серьезная академическая критика не оставила от этой книги камня на камне. См., например, Young 1994; Shaw 1994. «Открытый» Босуэлом ритуал adelphopoiesis хорошо известен специалистам по литургии как обряд, скрепляющий дружеские отношения или побратимство. В его задачи отнюдь не входило церковное благословение «гомосексуального брака», как настаивает Босуэл.
(обратно)[31]
Дион Хризостом «Комментарий к Римлянам, Гомилия 4», в На Послание к Римлянам; цитируется у Босуэла (1980, 360-361).
(обратно)[32]
Greenberg 1989.
(обратно)[33]
Припомним здесь излагавшееся выше рассуждение о том, что поступки, греховные перед Богом, не обязательно являются «добровольными». Более подробный и весьма полезный анализ научных и социально-статистических данных и их связи с проблемой нормативности см. у Ван Льювена (в печати).
(обратно)[34]
Аргументы против такой аналогии см. Siker 1994.
(обратно)[35]
См. исследование Laumann et al., доказывающее, что гомосексуальная или бисексуальная ориентация присуща всего 1,4% женщин и 2,8% мужчин.
(обратно)[36]
Scroggs 1 983.
(обратно)[37]
Поневоле вспоминается песенка Арло Гатри «Ресторан Алисы»: сержант-вербовщик, узнав, что Арло подвергался аресту, потому что мусорил на улице, возмущается: «Парень, а ты исправился? Ты морально готов убивать людей?» Ср. провокационное эссе Стэнли Хауэрваса: «Почему геи (как группа) морально превосходят христиан (как группу)» в Hauerwas 1994, 153-156.
(обратно)[38]
Charles Wesley «О For a Thousand Tongues to Sing», in United Methodist Hymnal (Nashville: United Methodist Publishing House, 1989), 57.
(обратно)[39]
Гэри довольно удачно соединяет 1 Кор 4:10 с Мф 19:12.
(обратно)[1]
См., напр., Houlden 1973; Schrage 1988; Lohse 1991; Meeks 1993. Хоулден отводит раздел «Толерантность», и в нем посвящает одну страницу обсуждению позиции НЗ авторов по отношению к иудаизму (с. 95-9 6). Существенное исключение на общем фоне составляет Лоигенеккер (1984, 29— 47), который строит обсуждение на основании Гал 3:28 и потому понимает «несть эллина, несть иудея» как «культурный норматив» и кладет этот принцип в основу интерпретации НЗ этики.
(обратно)[2]
Эта формулировка проблемы многим обязана Meeks 1986b и 1993.
(обратно)[3]
По материалам «Нью-Йорк Тайме» (22 ноября 1992), с. 34.
(обратно)[4]
Цитируется в колонке Кларка Морфью, «Геральд-Сан», Дарем (11 июня 1994), с. В5.
(обратно)[5]
См., напр., Klein 1978 (1975); Beck 1994; Charlesworth 1990; А. Т. Davies 1979; Dunn 1991b; Evans and Hagner 1993; Cager 1983; Richardson and Cranskou 1986; Ruether 1974; Sandmel 1978; Segal 1986; Smiga 1992.
(обратно)[6]
Проблема послушания власти государства вызывает сходные методологические вопросы. Как вывести норму из канона, в котором Рим 13 сочетается с Еф 6:10-20?
(обратно)[7]
Общий обзор см. Cohen 1987.
(обратно)[8]
Fredriksen 1991, 562.
(обратно)[9]
См. Segal 1986.
(обратно)[10]
Здесь «Новая пересмотренная стандартная версия» не добавляет к слову «обрезание» эпитет «истинное», отсутствующий в греческом тексте.
(обратно)[11]
См. Dunn 1991b.
(обратно)[12]
Более подробный комментарий различных текстов на эту тему см., напр., Hare 1967; Richardson 1970; Sandmel 1978; Martyn 1979; Harrington 1980; Williamson 1982; Cager 1983; Siker 1991.
(обратно)[13]
M. Санхедрин 10.1 с цитатой Ис 60:21, по переводу Danby 1933, 397.
(обратно)[14]
Например, см. Gaston 1987.
(обратно)[15]
Послание к Римлянам - единственное из писем Павла, не адресованное конкретной общине или нескольким общинам. Здесь адрес более расплывчатый: «Всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим призванным святым». Некоторые комментаторы выдвигали предположение, что это обращение отражает определенную ситуацию: в Риме не существовало единой «церкви», а было несколько общин с домашними церквами, между которыми существовало некоторое напряжение (водораздел обозначен в Рим 14). Вполне вероятно, что эти общины разделялись также по принципу еврейского или языческого происхождения верующих.
(обратно)[16]
Светоний, Божественный Клавдий 25.3.
(обратно)[17]
См. Wolfgang Wiefel «The Jewish Community in Ancient Rome and the Origins of Roman Christianity* in Donfried, 1991, 85-101.
(обратно)[18]
Здесь «Новая пересмотренная стандартная версия» исправляет существенную ошибку «Пересмотренной стандартной версии», где сказано: «Не все суть дети Авраама, потому что они его потомки».
(обратно)[19]
Более подробное обсуждение этого пассажа см. Hays 1989b, 63-68.
(обратно)[20]
См. Hays 1989, 73-83. Следует отметить в решительный противовес Роберту Хамертону-Келли (1992, 120-139), что когда Павел обличает евреев в «отвержении» Евангелия (Рим 9-11), он ни в коем случае не имеет в виду распятие Иисуса! Павла тревожит другое: еврейский народ в массе своей не принимает проповедь распятого и воскресшего Христа.
(обратно)[21]
Мысль Райта (Wright, 1991, 249-250).
(обратно)[22]
Barth CD 11/2, 300.
(обратно)[23]
В Гал 6.Т6 «Израиль Божий» охватывает всех тех - и евреев, и бывших язычников (ср. Гал 3:28), - кто распинается со Христом и становится новой тварью.
(обратно)[24]
Wright 1991, 250.
(обратно)[25]
Предложенное здесь понимание позиции Павла по отношению к еврейскому народу радикально расходится с идеями поразительной монографии Роберта Хамертона-Келли (1992), где с использованием теоретических подходов Рене Жирара доказывается, будто Павел решительно отказался от религии предков и пришел к пониманию иудаизма как высшей формы почитания «Священного», выражающегося в примитивной, миметической жестокости. Это глубоко «теоретическое» прочтение Павла приводит к весьма существенным искажениям его мысли. Достаточно одного примера, чтобы охарактеризовать аргументацию в целом: Хамертон-Келли цитирует 2 Кор 5:21 («Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом») и комментирует этот текст следующим образом: «Грех», которым сделал Его Бог - это еврейство, в других контекстах именуемое «подобием греховной плоти» (с. 126). Замечательно утверждение Хамертона-Келли, что с точки зрения теории Жирара, которую он и сам разделяет в этой работе, «Павел совершенно справедливо оценивал веру своих предков» - т.е. она в самом деле сводится к примитивному насилию (с. 9). Наиболее очевидно влияние идеологических предпосылок на предвзятое прочтение Посланий Павла проявляется у Хамертона-Келли в том, что он вынужден считать защиту избранничества Израиля в Рим 9-11 герменевтически «несовместимой» с тем, что приписывает ему сам Хамертон-Келли. Защита особого статуса Израиля у Павла это лишь «ностальгия, помрачившая здравое суждение» (стр. 12). Будь Павел последователен, «он бы полностью отказался от категории избранничества и рассматривал Моисеев Закон как один из видов священного насилия, подобный другим религиям козла отпущения» (с. 12, ср. с. 138-139). Разумеется, для этого потребуется полностью отбросить всю аргументацию Павла в Рим 9-11!
(обратно)[26]
Здесь я следую греческому тексту и примечанию на полях «Новой пересмотренной стандартной версии».
(обратно)[27]
Jervell 1972; Tiede 1980; J. Т. Sanders 1987; Merkel 1994.
(обратно)[28]
Этот тезис Крэг Хилл убедительно отстаивает в «А Future for the Historical Israel: A Link between Pauline and Lukan Eschatology» (доклад, представленный на секции Посланий Павла на ежегодном собрании Общества Библейской Литературы в Вашингтоне, ноябрь 1993).
(обратно)[29]
Лично мне это наблюдение не кажется точным и что-либо проясняющим. Все четыре Евангелия - еврейские произведения, хотя и отражают различные аспекты иудаизма I века. Называть труд Матфея «наиболее еврейским» возможно постольку, поскольку он ближе всего по тону и содержанию фарисейско-раввинистическому иудаизму. Однако, как я уже отмечал, иудаизм I века нельзя полностью отождествлять с традициями, позднее вошедшими в Мишны.
(обратно)[30]
Здесь уместно провести экзегезу с целью доказать, что под «сими заповедями» подразумеваются отнюдь не Десять заповедей Моисея, а те, о которых Иисус говорит ниже: обратите внимание на конец Нагорной проповеди (7:21-27), где окончательную эсхатологическую проверку выдержит послушный «сим словам Моим».
(обратно)[31]
Hare 1967.
(обратно)[32]
Trilling 1964, 45, 95-97, 162, 213. Развернутую аргументацию против такого чтения см. Levine 1988, в особенности 206-211.
(обратно)[33]
См. сыгравшие важную роль исследования Martyn 1979 и R.E. Brown 1979b.
(обратно)[34]
В весьма полезной книге Smith 1990 подводятся итоги этой дискуссии.
(обратно)[35]
См. таюке Meers 1972.
(обратно)[36]
Отметьте формы глаголов: точнее всего понимать этот пассаж как пророческое откровение из уст воскресшего Господа, хотя это откровение и помещено в хронологические рамки последнего вечера накануне Его смерти.
(обратно)[37]
Здесь присутствует тот же глагол (menein, «оставаться, пребывать, продолжать»), что и в образе виноградной лозы и ветвей (15:4-7), когда Иисус говорит ученикам: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Очевидно, в 8:31 возникает проблема: хватит ли у обращенных из евреев сил «пребыть», смогут ли они укорениться и воспитаться в слове Иисусовом.
(обратно)[38]
Из этого положения, помимо прочего, следует такой существенный вывод: христиане никак не могут оправдать еврейские погромы, тыча указующим перстом и обвиняя евреев в том, что они начали первыми.
(обратно)[39]
Единственное исключение представляет собой Лука, если автор Евангелия от Луки и Деяний - тот самый спутник Павла, упомянутый в Кол 4:14, Флм 24 и 2 Тим 4:11. Подробное обсуждение вопроса о национальности Луки см. Fitzmyer 1981 (vol. 1), 35-53.
(обратно)[40]
В особенности Ruether 1974.
(обратно)[41]
Levine 1988.
(обратно)[42]
L.T. Johnson 1989.
(обратно)[43]
Включает ли слово «мир» «евреев»? Очевидно, в таком пассаже, как 15:18-16:4а, эти два термина перекрываются, и даже в Евангелии от Иоанна проблема необращенных евреев порождает неразрешенное напряжение. Являются ли они онтологически детьми дьявола или они - Божьи овцы, ради которых полагает свою жизнь Иисус, Пастырь Добрый?
(обратно)[44]
Более подробное изложение этой мысли см. Hays 1989, 61-62.
(обратно)[45]
Единственное, но важное исключение - пространный монолог Стефана (Деян 7:2-53), в котором евреи обличаются как «жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами», а теперь еще и «предатели и убийцы» Праведника, то есть Иисуса.
(обратно)[46]
См. Hays 1989, 156-160.
(обратно)[47]
Краткий обзор см. Carlo Maria Martini Christianity and Judaism: A Historical and Theological Overview* in Charlesworlh, 1990, 19-26.
(обратно)[48]
Поразительно, что и до сих пор мы наталкиваемся на выражения эмоций, подобных тем, которые Ричард Р. Дериддер выплеснул в 1989 году, отвечая на распространенное Комиссией Всемирного Совета Церквей по Церкви и Еврейскому Народу обращение: «Этот доклад возлагает на христианскую общину тяжкое бремя вины за прежние грехи Церкви по отношению к евреям. Для меня загадка: с какой стати Церковь сегодня винят в том, что совершено нашими предками?» (DeRidder 1989, 160).
(обратно)[49]
Luther «Оп the Jews and Their Lies» in Luther's Works (vol. 47), 1971 (1543), 139, 164.
(обратно)[50]
Luther 1971 (1543) (vol. 47), 214.
(обратно)[51]
Luther 1971 (1543) (vol. 47), 272, 288.
(обратно)[52]
Сбалансированную оценку учения Лютера и его влияния можно найти в книге Hans J. Hillerbrand «Martin Luther and the Jews» in Charlesworth, 1990, 128-150, с подробной библиографией. Обзор антиеврейских тенденций в законодательстве, искусстве и фольклоре см. Williamson 1982, 106-122.
(обратно)[53]
Жан Кальвин со свойственной ему тщательностью в экзегезе, единственный во всей этой традиции, вполне понимает и отстаивает свидетельство Павла об Израиле:
«Хотя Павел разоблачал их тщетное упование на свой род, но все же признавал, с другой стороны, что завет, заключенный Богом раз навсегда со всеми потомками Авраама, никоим образом не может быть лишен силы. Вот почему в одиннадцатой главе он доказывает, что потомство Авраама по плоти не будет лишено своего достоинства. На этом основании он учит, что евреи - первые и законные восприемники Евангелия, до такой даже степени, что хотя по неблагодарности своей они были оставлены как недостойные, но оставлены так, что вышнее благословение не вовсе отошло от народа... мы не должны презирать их, приняв во внимание, что ради этого обещания Господнее благословение по-прежнему пребывает с ними. И Алостол свидетельствует, что оно никогда не будет отнято полностью: «Ибо дары и призвание Божье непреложны» (Рим 11:29) (Calvin, Institutes IV. XVI. 14). Этой цитатой я обязан Скотту Сейе.
(обратно)[54]
См. М. Берахот 1:1-3:6.
(обратно)[1]
Hauerwas 1981а, 212-213.
(обратно)[2]
См., напр., Davis 1985, 129- 157.
(обратно)[3]
Согласно позднейшей раввинистическо й традиции плод считается «полностью сформированным» начиная с сорок первого дня от зачатия. Неизвестно, подразумевают ли эту конкретную традицию переводчики Септуагинты. Филон Александрийский (он ближе, чем Мишны, к переводчикам Септуагинты как по времени, так и по культурному фону) интерпретирует данный текст следующим образом:
Если мужчина станет бить беременную женщину и ударит ее по животу и она выкинет, тогда, если выкидыш будет бесформенным и неразвитым (aplaston kai adiatypotori), он подлежит пене за насилие и за то, что воспрепятствовал художнице Природе в ее творческом усилии создать прекраснейшее из живых существ, человека (anthropon). Но если ребенок уже полностью сформировался и все члены получили должные качества и место в организме, преступник подлежит смерти, ибо судя по описанию он уничтожил в лаборатории Природы человеческое существо (anthropos), каковое она еще не полагала уместным произвести на свет (De spec. leg. 3. 108 - 109).
(обратно)[4]
Об исторических и экзегетических проблемах этого текста см. Feldman 1975, 254 -262; Feldman 1986, 82-8 3; Isser 1990.
(обратно)[5]
Noonan 1970, 9; Davis 1985, 150.
(обратно)[6]
См., например, Minucius Felix Oclavius 30:2: «И есть женщины, которые глотают снадобья, чтобы удушить в своей утробе зачатки жизни - совершают детоубийство еще прежде, чем родить ребенка на свет».
(обратно)[7]
В такой форме эту фразу используют, например, в «Дерхемской декларации» - манифесте группы пасторов и богословов Объединенной методистской церкви (Stallworth 1 993, 1 1- 16).
(обратно)[8]
Исключения из этой нормы (Лк 23:28-29; Ис 54:1, цитата в Гал 4:27) воспринимаются с особой остротой именно как провокационные отклонения от привычного. Эти тексты не бросают вызов норме, они представляют собой поэтические или пророческие высказывания, напоминающие о приближении эсхатологического кризиса (Лк 23) или о том, что Бог изменит судьбу бесплодного, страдающего Сиона (Ис 54).
(обратно)[9]
Справедливо отмечено в Hauerwas 1981а, 198. Полезный анализ того, как принцип любви применяется в различных этических системах и приводит к разным выводам, применительно к нашей проблеме проводит Gene Outka в эссе «Yje Ethic of Love and Problem of Abortion* в книге God and the Moral Life: Explorations in the Protestant Tradition (находится в печати).
(обратно)[10]
О дискуссии, основанной на таком подходе, см. Hinlicky 1 993.
(обратно)[11]
CD III/4, 416.
(обратно)[12]
Как сформулировал Хинлики: «Дети рождаются от нашей любви, потому что Творец желает реально вовлечь нас в продолжение процесса творения» ( 1993, 192).
(обратно)[13]
Здесь я следую Барту, CD III/4, 416.
(обратно)[14]
Впервые я столкнулся с подобной аргументацией в дипломе моего ученика Миакла Паулсена (Иельский университет, 1984). К сходным доводам прибегает O'Donovan ( 1994, 239-240).
(обратно)[15]
См. мои соображения по этому поводу в Заключении.
(обратно)[16]
Hauerwas 1981а, 201 вслед за Francke 1978, 81.
(обратно)[17]
Обсуждение этого мотива Павловой этики см. в разделе 1.26.
(обратно)[18]
См., напр., Connery 1977; Corman 1982. Краткие итоги см. Gorman «Ahead to Our Past: Abortion and Christian Texts» (Stallsworth 1993, 25-43).
(обратно)[19]
Хауэрвас, разумеется, полагает, что такой подход ведет к катастрофе.
(обратно)[20]
Hauerwas 1981а, 225-226.
(обратно)[21]
Hoshiko 1993; Zimmerman 1977.
(обратно)[22]
Francke 1978; С. S. Williams 1991.
(обратно)[23]
Я не ставлю сейчас себе задачу обсудить все гипотетические исключения. Достаточно того, что на основании опыта можно привести убедительные доводы в пользу этих двух оговорок и что вполне вероятны другие подобные случаи.
(обратно)[24]
С этим мнением резко расходится Kaveny 1991, который отстаивает «законодательство жизни», ссылаясь на сформулированное Фомой Аквинским понимание закона как «учителя добродетели».
(обратно)[25]
Durland 1989.
(обратно)[26]
Билл Тилберт, неопубликованная проповедь в Пресвитерианской церкви завета, Колорадо Спрингз, 23 мая 1993.
(обратно)[27]
Stallsworth 1993, 14.
(обратно)[28]
Willimon 1985, 65.
(обратно)[29]
Этот пример иллюстрирует одну из наиболее интересных ситуаций, когда ключевые образы помогают нам «прочесть» нечто (будь то библейский текст или жизнь Церкви), и сфокусированное через эти линзы чтение в свою очередь помогает нам переосмыслить свою жизнь. Лично я склонен считать, что в норме Церковь должна крестить верующего, уже способного исповедать свою веру. То есть в принципе, в моих глазах обычай крестить младенцев представляет собой практику, унаследованную от Византийской эпохи, когда Церковь и государство были тесно связаны друг с другом. Хотя этот обычай нельзя назвать неправильным, в постхристианской культуре он не совсем уместен. Однако, прочитав рассказ Уиллимсона сквозь призму образа нового творения, я с большим сочувствием отнесся к обычаю крестить младенцев, поскольку с помощью этого знака прокламируется эсхатологическое обещание Евангелия. Это новое, мощное понимание таинства потрясло меня и заставило заново пересмотреть практику крещения младенцев как один из способов проникновения Евангелия в нашу жизнь.
(обратно)[1]
См. примечание к введению к части IV, где объясняется мое решение не проводить в этой книге подробное обсуждение четвертой проблемы.
(обратно)[2]
Полный разбор этой проблемы, с которым я в общем и целом согласен, см. Wheeler 1995.
(обратно)[3]
Эти эпизоды с незначительными вариациями приводят Матфей и Лука.
(обратно)[4]
Обсуждение этого стиха см. Hays 1989, 88-91.
(обратно)[5]
Приведенные здесь тексты - всего лишь наиболее существенные примеры. Я не пытался перечислить все релевантные тексты и не отмечал особо стихи, расходящиеся с основной концепцией (напр., Мк 14:7). Разумеется, для полномасштабного исследования понадобилось бы рассмотреть каждый из этих текстов.
(обратно)[6]
Кстати: если Иак 5:6 имеет в виду смерть Иисуса, - а мне кажется, что так оно и есть - в таком случае вина за распятие возлагается на богачей (а не на «евреев», к примеру). Тень Креста нависает над богачами, которые «роскошествовали и наслаждались на земле».
(обратно)[7]
L.T.Johnson 1981.
(обратно)[8]
Это не означает, что Церковь вовсе утратила представление о своей роли, но я призываю более осознанно возвратиться к новозаветному портрету народа Божьего
(обратно)


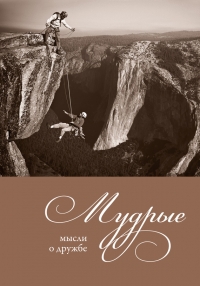




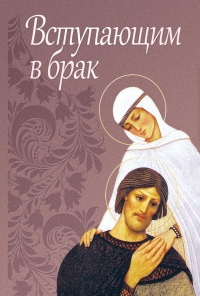
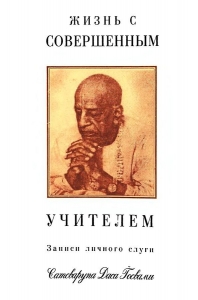

Комментарии к книге «Этика Нового Завета», Ричард Хейз
Всего 0 комментариев