Жил себе Андрей обычно и бессмысленно, как вдруг познакомился он с Созерцателем — и с той минуты судьба его круто изменилась. Шаг за шагом он стал учиться полагаться на волю Божию, что на практике даже с крепко верующими случается редко. «Ну, и что он с этого имеет?» — спросит обыватель. Непрестанное духовное напряжение, существование между небом и землёй, адом и раем — да кто же понесёт такое добровольно?
Но и это не всё!.. «Бог не даёт великого дарования без великого испытания», — сказал преподобный Исаак Сирин. И великие испытания не заставляют себя ждать. Убийцы и маньяки, соблазнительницы и предатели, фарисеи и изменники — все эти неприятности ежедневно сопутствуют созерцателю, в общем-то, одинокому и немощному человеку, у которого помощник — один Бог, невидимый и отвергаемый большинством.
Да возможно ли это в наше суетное время «всеобщей долларизации»? Автору посчастливилось познакомиться с такими людьми, пожить с ними бок о бок, провести не один год в совместной молитве и рассуждениях, поэтому он отвечает на расхожее недоумение — да, возможно! Только даётся это далеко не каждому, потому что требует от человека той детской чистой веры с горчичное зёрнышко, которая горы передвигает, ради которой не жалко и жизнь отдать.
Александр Петров СОЗЕРЦАТЕЛЬ роман
В груди, там, где пульсировало сердце, только гораздо глубже, настолько глубже, насколько выше человека небо и то, что превыше небес, — там, на немыслимой глубине души, я увидел свет.
ЧАСТЬ 1
Я жить-то не умею,
Не то что убивать.
«Солдат Киплинга», Ю. Кукин
Спящий лев
Это был странный человек, и всё, связанное с ним, так же казалось несколько странным. Он непривычно выглядел, одевался, говорил, двигался и видел окружающий мир. И появился в моей жизни так же необычно.
Тогда стояли первые погожие дни начала лета. В пятницу вечером у выхода из метро я встречал свою Ларису. Она не отличалась пунктуальностью, могла по пути домой зайти в магазин, встретить и вдоволь наговориться с подругой, поэтому ожидать её приходилось подолгу.
Чуть позже моё одиночество разделил Борис и тоже занял место в нервной шеренге встречающих. Раньше он играл на синтезаторе в знаменитой рок-группе и даже слегка преуспевал. Но за плохо законспирированный роман с женой солиста был сильно избит и изгнан из группы вон. Мстительный солист не успокоился на административных мерах и сообщил об измене красавице Ляле, жене Бориса, и та от него ушла, отсудив «Ситроен», дачу на Пахре и две комнаты трехкомнатной квартиры.
После этого Борис сочинял на дому музыку для показа моделей знаменитому модельеру. Часть гонорара ему выплачивали непристойными фильмами, которые вдохновляли его страстные фортиссимо и разбавляли адреналином вялую кровь. Жил он в «однушке» на семнадцатом этаже, с каждым годом всё больше спивался, сгибался, лысел и мрачнел. Борис занудно рассказывал о капризах модельера и наезде налоговой полиции, курил одну сигарету за другой, отхлебывал из гламурной плоской фляжки со стразами жидкость, пахнущую карболкой, и от каждого глотка судорожно дергался, глубоко дышал и морщился.
Я рассеянно слушал его бурчание и смотрел на лица выходящих из подземелья пассажиров. На них падали розовые лучи заката. Люди жмурились, хмурились, сонно потягивались, рассеянно шарили глазами по шеренге встречающих… Это меня удивило: вечер пятницы, теплый и румяный, как щеки влюблённой старшеклассницы, позади рабочая неделя, впереди выходные — а на лицах людей, прошедших передо мной за восемнадцать минут, ни одной улыбки! «Деньги кончились, долги растут, здоровье никакое, Лялька в Ницце с новым бой-френдом, сын в Штатах автостопом и полгода не звонит, закат кровавый, люди сволочи, поясницу ломит», — долдонил Борис у меня под боком, ожидая дежурную подружку.
И тут среди толпы мрачных усталых людей — сверкнула улыбка! Простая человеческая улыбка рядового горожанина — и на душе потеплело… Я взглянул на табло, висевшее над входом. Лампочки выстроились в следующую композицию: «20-32, 754mm, 21ºС». Словно молния проскочила в глубине мозга — это первый час вечера новой жизни.
— Кто это? — спросил я всезнающего Бориса.
— Так, местный дурачок Гоша. Шляется с утра до вечера, не работает и — гад такой — не пьёт. Совсем уже!..
Я пригляделся к незнакомцу, благо тот встал и любовался багровым небом в синих крыльях облаков. Длинные растрепанные волосы, небрежная бородка-эспаньолка, светло-серые прозрачные глаза, подвижные длинные руки, куртка цвета хаки, примерно как у Джона Леннона, бесформенные и бесцветные джинсы, брезентовая сумка для противогаза через плечо. …И улыбка!
Он сосредоточенно разглядывал западное небо, словно пытался запомнить, как разглядывают, должно быть, родной город или село, которое покидают навечно. На что же там смотреть так долго? Повернулся на запад и я. О, это выглядело на самом деле таинственно и величественно: острова фиолетовых облаков, плывущих, летящих, парящих в океане червонного золота. Перевел взгляд на Гошу — на его лице, в глазах, поверхности лба и скулах — едва заметно теплились мягкие переливы бордовых оттенков.
Видимо, он перехватил мой изучающий взгляд, подошел и протянул руку:
— Привет! Позвольте представиться: Игорь Беклемишев, созерцатель, — сказал он приятным голосом. Я не видел причин отказать ему в знакомстве, более того — обрадовался и энергично пожал протянутую руку.
— И какой ныне оклад жалования у созерцателей? — прогнусавил Борис где-то до неприятности рядом.
Игорь с рассеянной улыбкой взглянул на него, сквозь него, над ним, вокруг него, видимо, не понимая смысла вопроса.
— На какие средства прозябаешь, Гоша? — громко, по слогам, как иностранца, переспросил Борис.
— Ах, это! — воскликнул тот, озарившись счастливой улыбкой. — В смысле, откуда деньги? — Замолчал он, будто что-то вспоминая. — Точно сказать так сразу не могу. — Снова замолчал он, будто подыскивая слова. — Но полагаю, из разных источников. — Подумал немного, уверенно кивнул и произнес: — Да, несомненно, из разных.
Говорил он медленно, с паузами, и кто знает, сколько непроявленных эмоций и невысказанных слов оставалась там, под лобной костью черепной коробки.
— Тогда, может, дашь взаймы нищему музыканту? А, Гош?
— Пожалуйста, — с готовностью откликнулся Игорь и достал из кармана куртки несколько мятых десятирублёвок. — Сколько тебе нужно?
— Это что за фантики? — презренно вопросил агрессивный рокер, у которого самой мелкой купюрой считалась двадцатидолларовая, то есть около шестисот рублей по курсу того знакового дня.
— Борис, — вклинился я, — отстань от человека. Что ты в самом деле!..
Скоро должна была появиться моя Лариса, а мне почему-то ужас как не хотелось потерять этого странного человека.
— Ты… Вы… Простите… — замялся я.
— Ничего, можно и на «ты», — кивнул Гоша, невольно продолжая разглядывать через мое плечо закат.
— Ты, Игорь, дай, пожалуйста, телефон. Я позвоню тебе. Поговорим. А?
— Конечно. Вот здесь, кажется, написано, — протянул он мне визитную карточку. — Очень рад знакомству.
Не успел я как следует удивиться наличию визитной карточки у такого вроде бы непрактичного человека, как подошла моя Лариса. Увы, она тоже не улыбалась…
А вечером, после ужина, усталая подруга Лора задремала у телевизора. Я подошел к дивану, опустился на корточки, внимательно посмотрел на её расслабленное лицо, красивое и беззащитно-детское. Иногда она сопела, похрапывала, бормотала, вздрагивала. Когда она спала, я обычно ощущал в груди живое теплое чувство, похожее, должно быть, на отеческую любовь, полную всепрощения и жалости.
Помнится, раньше, когда мы только познакомились и она поселилась в моей холостяцкой квартире, одно присутствие этой женщины придавало моему существованию мощный жизненный импульс. Так, наверное, во все времена мужчины уходили из дому на охоту и вступали в единоборство с диким зверем, зная, что добычу дома ожидает женщина, дети… Мне, признаться, очень нравилось такое стимулирование, эдакое дикарское желание сдвинуть горы, скрутить медведя, завалить мамонта, пронзить гарпуном трехпудового осетра или, на худой конец, достать звезду с неба. В последние месяцы потребность двигать камни, валить, скручивать, пронзать кого-нибудь я в себе почти не ощущал. Мощный стимул ушел из моей жизни. Вот и на этот раз я прислушался к себе, и ничего, кроме пустоты, и ничего, кроме желания поскорее уйти, не почувствовал. Что-то происходит, пронеслось в голове.
Встал, на цыпочках прошел на кухню, положил перед собой визитную карточку («Игорь Беклемишев, телефон…, адрес…») и, бдительно оглянувшись, набрал номер телефона. Игорь поднял трубку и без признаков удивления бодро заговорил со мной. Для начала предложил подойти к окну и взглянуть на звезды. Я подошел, отодвинул тюлевую занавеску, вдохнул тленный запах пыли и посмотрел сквозь мутное оконное стекло на доступный обзору сектор вселенной. Там, среди звезд, на фиолетовом небе, светила яркая луна. Под нашими окнами на лавочке у миртового куста молодой парень бренчал на гитаре и пел девушкам нечто томно-гармональное про черные глаза. Давно забытое звучание акустической гитары всколыхнуло тёплые воспоминания из давно ушедшей юности. В гитаристе не без труда узнал соседского Алешу и удивился: совсем недавно мама возила его в коляске, потом первый раз водила в школу, потом он учился ездить на трехколесном велосипеде.
Мальчика этого с раннего детства причислили к вундеркиндам. Мама наняла ему учителя музыки, — и уже через пару месяцев Леша часами играл джазовые импровизации в стиле Каунта Бейси. Потом его учили живописи, — и вскоре он уже стоял на Измайловском вернисаже и продавал собственные сюрреалистические картины на манер Макса Эрнста. Парня учили резьбе по дереву, поэзии, бальным танцам, гимнастике и серфингу, и всегда он в скорейшее время овладевал искусством, доказывал маме, что он превзошел учителя и без объяснений бросал.
Последний раз мы с его мамой встретились в лифте, где она мне сообщила, что Лешка организовал свою рок-группу «АУТ». Играют ребята собственные композиции, в которых пытаются скрестить «Нирвану» с «Пинк Флойдом». Летом АУТисты ездили в первое турне и даже заработали некоторые деньги, закупили профессиональную аппаратуру, записали в студии и выпустили первый диск. На прощанье Алешина мама достала из сумки «случайно прихваченный» диск и вручила мне, а я дома прослушал, удивляясь обилию звуковых эффектов и мощной оркестровке. Еще мне там запали в душу слова: «…а ты, бредущий по краю, желаешь себе покоя; тебе его не дождаться, впереди у тебя пропасть…» — и в довесок хорошая порция электронного рёва с угрожающим завыванием вокалиста. Впечатляет. Да…
Эти метаморфозы с мальчиком происходили на моей памяти в течение всего-то нескольких лет, которые промелькнули для меня как миг. Как быстро вырастают чужие дети!.. И вот, гляньте на этого волосатого верзилу — «Вспоминаю, умираю — Чёрные глаза — Я только о тебе мечтаю — Чёрные глаза — Самые прекрасные — Чёрные глаза!» Глядя на хитрющую физиономию Лешки, я подозревал, что он, как сейчас говорят, «разводит лохов», вероятно с целью соблазнения девушек. Вряд ли этим тощеньким барби с голыми мосластыми животами, похожими как две капли мазута, могли понравиться его заумно-мистические композиции на тему смысла жизни под заунывно-взрывной электронный грохот. У меня в их возрасте было нечто похожее из фильма «Аршин-мал-алан»: «Дэньги есть? — Есть, есть! — Дэньги есть, вийду я! — Ах, ты козочка моя!» Мы тоже пели эту муру, чтобы «приколоться». Впрочем, у нас многое похоже, ведь и они и мы — все относимся к одному поколению «Une generation perdu[1]», да-да-да, именно «perdu»!.. Это всё промелькнуло в голове за несколько секунд, и я вернулся к голосу, звучавшему в телефонной трубке.
— Андрей, вы… Ты не хочешь выйти на прогулку? — спросил Гоша. Да, мне хотелось на воздух. Сидеть дома и пялиться в телевизор желания не было. Зато меня тянуло туда, где улыбаются и любуются закатом, облаками, звездами.
Мы встретились у станции метро и побрели по тихому, полусонному скверу. Игорь сходу заговорил о звездах, о небе, о поэзии и живописи — и я подумал, что говорю с сумасшедшим. Потом переключился на историю, биологию и даже психологию — и я подумал, что он всё же не совсем сумасшедший. Он не только сыпал информацией, но постоянно спрашивал моё мнение и вызывал на дискуссию.
Мне доводилось и раньше бродить по этому скверу. Например, под мелким затяжным дождем, когда я вдруг облачался в длинный светло-серый плащ с объемным внутренним карманом для небольшого автомата типа УЗИ, выходил из дому и шагал невесть куда по дорожке сквера, огибая лужи. Мимо спешили прохожие с зонтами. Пахло листвой, цветами, весной, мокрой цветочной пыльцой или прибитой водой пылью. Шуршал дождь, весело попискивали невидимые птицы. …Или даже ночью, когда я, одуревший от работы на компьютере, выходил подышать и так же прогуливался по скверу, обходя стороной тихие парочки и шумные компании любителей пива. Или просто по этой дорожке мимо лип, тополей и каштанов брёл в сторону торгового центра. Но!.. Никогда еще воздух этого сквера не казался мне в такой степени насыщенным идеями, мыслями, тайнами, наконец. И ни сквер, и уж точно ни я сам — являлись источниками этой насыщенности, а вот этот практически незнакомый мужчина, шагавший рядом.
Проголодавшись, заглянули в подвальчик кофейного клуба с ярко-красной неоновой вывеской «Спящий лев». Там среди лабиринта терракотовых кирпичных стен и перегородок витал густой запах кофе, жареного сыра, ванили и, кажется, кубинских сигар. Не подавая меню, не дожидаясь заказа, как постоянным клиентам, официант в красной бабочке принес нам по паре больших горячих бутербродов с ветчиной, салатом, помидором, тем самым пахучим прожаренным «Пармезаном» и по большой чашке пенистого черного кофе. Я со стыдом признался, что выскочил из дому без денег, у Игоря по моим прикидкам в карманах тоже ветер гулял. Сотрапезник легкомысленно пожал плечами и, продолжая рассеянно улыбаться, пробурчал что-то вроде: «Не волнуйся, вот увидишь, всё образуется».
Я прислушался к мягко звучавшим грегорианским песнопениям «Enigma», узнал «Sadeness» с платинового альбома «MCMXC a.D.»:
Procedamus in pace
In nomine Christi, Amen.
(И пойдем мы в мир
Во имя Христа, Аминь.)
Cum angelis et pueris,
Fideles inveniamur.
(Мы найдем верующих в
Сонме ангелов и младенцев.)
Attollite portas, principes, vestras
Et elevamini, portae aeternales
Et introibit rex gloriae
Qius est iste Rex glorie?
(Поднимите, врата, верхи ваши,
И поднимитесь, двери вечности,
И войдет Царь славы!
Кто сей Царь славы?)
Мне нравилась эта песня, она успокаивала. Я стал собираться с мыслями, чтобы продолжить беседу, в голове моей кружились обрывки множества вопросов, но спокойно поговорить не дали: к Игорю подходили знакомые и приветствовали.
Вот из затемненного угла вышел к нам бритоголовый накачанный парень в безразмерном рыжем твидовом пиджаке и уважительно пожал руку Игорю, на всякий случай кивнул мне; подозвал официанта и сказал: «Всё, что они возьмут, запиши на мой счет».
— Игорь, — наклонился к нему бритоголовый, — ты слышал, у нас в районе уже появился первый охотник?
— Какой охотник, Василий?
— Ну ты что, «Трудную мишень» с Ван Даммом не смотрел? Там солидолы развлекаются охотой на таких как ты, одиноких, беззащитных мужиков.
— Насчет «беззащитного», думаю ты преувеличиваешь. Надеюсь, если они выберут мою убогую персону, я стану для них именно тот самой «трудной мишенью».
— Ага, жди, — иронично кивнул Вася, затем нахмурился и как неразумному дитяте строго сказал: — Ты вот что, Игорь, если кого-нибудь подозрительного увидишь, заподозришь чего — сразу ко мне. Я тебя отмажу. Хакей?
— Ладненько. Спасибо за столь трогательную заботу. Это очень приятно.
— Кто это? — спросил я, когда Василий ушел.
— Официально — член ОПГ. По-простому — бандит.
— Да?..
— Ну а что такого, — пожал он плечами, — тоже ведь люди. Солдаты нынешней гражданской войны по переделу собственности. А Вася к тому же — мой сосед. Он много читает и даже что-то пишет.
— Гош, дай стольник на фанту, а? — рыкнул хриплым басом седобородый мужчина в мятом чесучовом пиджаке довоенного кроя, красной футболке и безразмерных бордовых вельветовых брюках.
— Прости, Федор Семенович, — откликнулся Игорь мягким голосом. — Сегодня никак.
— Жаль, у меня под это имеется увлекательная правдивейшая история. Тогда как-нибудь при случае.
— Непременно.
— Что это за странное увлечение фантой, — удивился я, — у столь харизматического престарелого светского льва?
— А, ты об этом, — улыбнулся Игорь. — Дело в том, что вообще-то в этом клубе спиртное под запретом. Но для постоянных клиентов делают исключение. Им под видом фанты подают хлебное вино, слегка подкрашенное апельсиновым концентратом.
Из дальнего затемненного угла заведения, как леший из ночного тумана, выступил и приблизился к нам солидный мужчина с золотыми часами, сигарой во рту и так же проявил уважение:
— Отдыхаем, господа? Не хотите ли за наш столик? У нас там «сыто-пьяно».
— Спасибо, мы сегодня на скорую руку, слегка подкрепиться. Нам с другом поговорить нужно.
— Ну, что ж, значит, в следующий раз, — покладисто улыбнулся господин. — Но имей в виду, Игорь, у меня к тебе дело на сто пудов. — Он склонился к самому уху Игоря и громко прошептал: — Надо отвезти на Урал одну вещицу и получить деньги.
Потом подозвал официанта и сказал:
— Саня, счет Игоря принесешь мне. Я оплачу.
Парень в белой рубашке с красной бабочкой послушно кивнул, и затем наклонился к Игорю и сказал:
— В следующий раз можете ужинать за счет заведения. Шеф передает тебе свой респект. Благодаря твоему членству, Игорь, в клуб солидные люди стали заходить, так что у нас все в порядке! — Потом, хлопнул себя по лбу: — Да, Игорь, мне один клиент обещал достать лицензионный диск «Энигмы» — какой-то вроде бы «Королевский». Скоро принесёт!
— Спасибо, Саша, — улыбнулся Игорь, — с удовольствием послушаю.
— А это кто был? — спросил я, кивнув в сторону вернувшегося в тень господина.
— Антиквар. Начинающий. Денег много, есть интерес, а отличить новодел от древности пока не научился. Вот я ему и помогаю.
Потом Игорь меня провожал до дому, затем я его. Пили чай у него дома, смотрели старинные фотографии, слушали песни, смотрели в телескоп. Всё это время мне казалось, что рядом родная душа, человек, которому я не безразличен. С ним было удивительно комфортно и спокойно.
Потом брели по безлюдному ночному скверу. А здесь!.. Над дремлющей землей, от недавно скошенной травы, поднимались душистые туманы. Они обволакивали темные стволы деревьев, пронизывали силуэты ветвей, сизые кудри листвы, бесследно растворялись в темном бархате неба. Там, в непостижимой высоте среди пепельных облаков сияли несметными сокровищами бриллианты звезд.
Мы, не сговариваясь, остановились и замерли в зачарованном оцепенении. Игорь стоял рядом, чуть сзади и говорил:
— Брат мой, Андрей, послушай — это важно! Бог в откровении святым поведал, что Он создал это необозримое, непостижимое великолепие вселенной для человека, любимого дитя Своего, и всё Творцом сосчитано, всё до единой пылинки, до атома.
Послушай, брат мой, ведь миллиарды звезд, галактик, созвездий, планет, спутников, комет — всё это великое многообразие создано для нас: тебя, меня и таких же как мы человеков. Ты понимаешь это?
Я удивленно молчал, не зная что ответить, и только согласно кивал.
— Ты понимаешь то, что не может вместить в себя наш изуродованный грехом разум? Давай попробуем лишь слегка прикоснуться к этой очевидной тайне. Бог создал все звезды для человеков и сказал им: плодитесь и размножайтесь и населяйте этот сотворённый для вас мир. Адам и Ева имели такие тела, которые не могли повредить стихии — ни огонь, ни камень, ни вода. После грехопадения Бог одел их в кожаные ризы для продолжения жизни в смертном теле на прокаженной грехом земле. Бог на протяжении земной жизни приводит человека сквозь огонь поиска истины, покаяния, скорби, боли; омывает нас слезами раскаяния и очищает от кожаных риз смерти. После перехода в вечность человек вернется в прежнее тело, которое будет совершеннее адамова.
Новый человек вернет себе первичное предназначение — быть сыном Божиим и станет владеть вселенной на правах царского сына и наследника. Человек будет плодиться и размножаться, ему тесно станет на Земле, он станет переселяться на другие планеты, станет обживать другие звездные системы, галактики… Да, да, нашим новым телам будут покоряться огромные расстояния, любые температуры, самые жесткие излучения — ничто не сможет воспрепятствовать освоению человеком пространства вселенной.
После всеобщего суда грех будет уничтожен очистительным огнем, и будет новая Земля и новое небо, и новая вселенная. И мы, новые люди, станем владеть ею и жить в ней гораздо лучше, чем Адам в раю, потому что человек, наученный горьким опытом, будет по-особому ценить всё, что создал для него и вручил ему в дар бесконечно любящий его Бог, Творец, Отец. Ты понимаешь меня?
— Понимаю. …Не знаю, — сказал я смущенно. — Очень хочу понять.
Домой пришел я после полуночи, но никто этого не заметил. Лора по-прежнему спала, по её красивому лицу скакали яркие блики телерекламы. Я выключил телевизор, присел на кухне, открыл дневник и кое-что для памяти записал. Так я стал невольным летописцем этого человека.
«…Однажды, в результате стечения ряда обстоятельств…» — начал я и задумался. Именно такой фразой можно было бы начать описание жизни Игоря Беклемишева, причем, с любого места. Поначалу-то мне казалось, что он неудачник из тех, у кого всё падает из рук. Ну, знаете таких недотёп: чего не коснутся, всё у них ломается. Но нет, познакомившись с ним поближе, я нащупал в его судьбе весьма стройную систему. Наиболее привлекательным показалось мне то, что его на самом деле не волновали те ценности, за которые большинство людей готовы друг друга растоптать, в крайнем случае, растолкать локтями. Такого человека не от мира сего еще называют бабочкой, одуванчиком, юродивым, или как Борис — городским дурачком. Сам он пропускал мимо ушей и мимо внимания эти малоприятные характеристики и величал себя так, как представился при знакомстве — созерцателем.
Чуть позже стало ясно что именно так привлекало меня в этом человеке. Но сначала пару слов о себе. Мне приходилось каждый день добывать хлеб насущный, с маслом и зернистой икрой — и это с некоторых пор стало моим несчастьем. Мало того, что ни придирки начальства, ни занудная работа мне не нравились, никаких перспектив на продвижение по службе и увеличение зарплаты не предвиделось. Признаться, меня это угнетало. Почти каждый день я повторял патетические слова Сатина из пьесы Горького «На дне»: «Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна — я, может быть, буду работать… да! Может быть! Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!»
И вдруг я встречаю человека, которому удалось вырваться из этого унылого рабства! Слова Пастернака «Надёжному куску объявлена вражда» стали для него чем-то вполне реальным. Игоря абсолютно не волновало отсутствие денег или их недостаток. Он не впадал по этому поводу в панику и не рвал на себе волосы — его «эта тема» вообще не волновала. «Да что же это! — возмущался мой зомбированный рассудок. — Как можно! В то время, как весь постсоветский народ, сплотившись вокруг партий и правительств, из последних сил строит светлое капиталистическое будущее, есть еще некоторые несознательные элементы, которые…» И мне, признаться, что-то так хотелось стать этим самым «несознательным элементом»… Но не мог! А он — Игорь — смог. «Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. И я не смог загнать её в гроб. А он, — гневный жест в сторону поникшего Иночкина, — смог!»
Без сомнения, этот парень сумасшедший… Нет, неверно. Скорей всего — ненормальный. Ведь если разобраться, что такое ненормальный? Это тот, кто выходит из привычной нормы, то есть, — это или гений, или идиот. Стрелка на моей шкале отношения к Игорю металась от одного экстремума к другому, пока не остановилась посередине, на точке с нулём, круглым как открытый в недоумении рот. Так кто же вы, господин Беклемишев?
Следующим утром выспавшаяся, а потому агрессивно-бодрая гражданская жена Лариса устроила мне, вялому и малодушному от недосыпа, легкий разминочный скандал. Из произнесенного в пафосном раздражении выговора я уловил следующее: 1) она является мечтой любого психически нормального мужчины, 2) содержание такой женщины, как она, стоит немалых денег, потому что одеваться ей положено в фирменных европейских бутиках, 3) тех денег, которые я зарабатываю, ей хватает только на самые дешевые тряпки производства Турции, 4) если я не стану зарабатывать хотя бы в три раза больше, она меня бросит и уйдет к одному из более состоятельных мужчин, от которых у неё, ну просто нет отбоя.
Смотрел я на её физиономию в красных пятнах и тупо раздумывал, что же привлекает меня в этой женщине? В те минуты затеянного ею скандала ничего нас не соединяло, кроме требований с её стороны и недоумения с моей. Голос её, который в иные моменты бывал очень приятным, сейчас напоминал скрежет пилорамы. Лицо, которым я часто любовался, искажала гримаса ненависти. Жесты гибких красивых рук выражали готовность растерзать, ударить или оттолкнуть, чтобы я побольней треснулся затылком об стену. Я чувствовал себя ребенком, на которого наехал тяжелый грузовик. Тряхнув головой и пообещав найти деньги, я малодушно отступил, чтобы выиграть время и подумать обо всём этом чуть позже, в тишине и покое.
В полдень мы встретились с Игорем. Видимо, на моей физиономии продолжали догорать всполохи пожара, устроенного Лорой. Игорь выслушал мой невнятный ропот, грустно улыбнулся, ободряюще кивнул, пообещал помочь в этой расхожей беде и потащил меня, терзаемого сомнениями, к антиквару. По дороге объяснил, что ему нужен помощник в одном деликатном деле.
Пентхауз этого дельца, как бараний бок чесноком, был нашпигован аляповатыми вещами. Даже мне стало понятно, что хозяин покупал всё, что ему казалось ценным, и по-сорочьи тащил домой без разбору. Но вот на зеленом сукне ломберного стола с резными гнутыми ножками появился предмет, один вид которого вызвал уважение. Хозяин посерьезнел, подтащил стул с мягким сиденьем и усадил на него Игоря. Наступила тишина, которую нарушало только едва слышное тиканье каминных часов.
Я впервые присутствовал при оценке старинной вещи и даже разволновался. Игорь сидел, закрыв глаза, и пальцами ощупывал пасхальное золотое яйцо в сверкающих каменьях по синей эмали на изящной подставке. Подушечки пальцев прошлись по каждому камешку, повторили каждый едва заметный изгиб. Потом он открыл глаза и откинулся на спинку мягкого стула. Так он просидел еще минут пять. Мы с антикваром молчали и напряженно наблюдали за Игорем. О, в тот миг совсем не «городской дурачок» сидел на стуле, глядя в потолок, — маэстро!
— Да, это подлинник, — произнес Игорь отчетливо, — у меня нет никаких сомнений. Хозяев у артефакта было трое. Крови на нём, как ни странно, нет. Но, Валерий Васильевич, как вам удалось разыскать это?
— Прости, Игорь, секрет не мой, я не имею права разглашать информацию.
— Понимаю, — кивнул оценщик. — Так мне что же, этого Фаберже предстоит отвезти на Урал?
— Именно так, и сегодня же. А обратно привезти деньги. Мне! — Антиквар встал и навис над Игорем. — Скажи, что тебе для этого нужно? Самолет? Вертолет? Машину сопровождения? Машину отсечки? Взвод автоматчиков?
— Нет. Только билеты нам с моим другом на поезд туда и обратно. Ну, и на дорогу небольшую сумму, чтобы поесть-попить. Всё.
— А ты уверен, что этого достаточно?
— Абсолютно.
— Ну что ж, я тебе доверяю. По рекомендациям коллег, ты профессионал.
По дороге на вокзал Игорь протянул мне тысячу долларов аванса и вкратце объяснил свой план. В вагон поезда мы вошли вместе. Пока в купе никого не было, Игорь переоделся в выцветший спортивный костюм, а свою обычную одежду протянул мне. Я аккуратно сложил её в свою сумку через плечо и вышел будто бы подышать, смешался с толпой и отправился домой. Игорь уехал один.
Тысяча долларов, врученная мне Игорем, на какое-то время успокоила мою дорогую — во всех отношениях — подругу, и я получил временную передышку. Хотя что-то подсказывало, что после успеха эксперимента, попытки таким скандальным способом вытряхивать из меня деньги она не прекратит. И уж точно — любви у неё ко мне не наблюдалось даже в мизерных дозах. И это меня угнетало.
Дня три ходил я сам не свой. Без Игоря жизнь казалась пустой и бессмысленной. Я очень быстро привыкаю к чему-то хорошему, а когда теряю, всегда жутко переживаю. Мне кое-что открылось в Игоре, что еще больше притягивало. Во взгляде его лучистых глаз проживала такая светлая чистота, которая немо и кротко обличала человеческую нечистоту. Одних это призывало к покаянию, других бесило и сотрясало злобным страхом.
Вечером четвёртого дня меня безотчетно потянуло прочь из дому. Сначала я прошелся по скверу, внимательно прислушиваясь к себе. Нет, внутри стояло гулкое молчание, которое, в последний раз я испытывал на армейском плацу — это когда лупишь сапогами по асфальту, отбивая такт, смотришь в бритый затылок впередиидущего бойца, а в голове — ни-че-го! И тут на меня пахнуло ароматом кофе: я оказался рядом с кофейным клубом. На всякий случай проверил карманы, наскрёб несколько сотенных бумажек, прошел под горящей неоновой ярко-красной вывеской «Спящий лев» и спустился в запашистый подвал.
Там, как всегда, гудели возбужденные кофеином клубные завсегдатаи. Я замер в нерешительности, оглянулся и поискал свободный столик. Про себя отметил, что ни антиквара Валерия Васильевича, ни «солдата гражданской войны по переделу собственности» Василия сегодня тут не было. Ко мне подлетел официант Саша в неизменной красной бабочке на белой рубашке и, гостеприимно улыбаясь, предложил присесть на свободное место за столом, наполовину занятым воркующей парочкой. Не успел опомниться, как передо мной выросла тарелка с горячим фирменным бутербродом и огромная чашка с крепчайшим пенистым эспрессо. Я почувствовал приступ голода и медленно, со смаком откусил большой кусок сочного, многослойного бутерброда, сделал глоток кофе и… чуть не поперхнулся от удара по плечу.
Надо мной склонился знакомый Игоря по имени Федор Семенович. На этот раз старик оделся в белый свитер грубой вязки и широченные светлые льняные брюки. Всё-таки в чувстве стиля, хоть и весьма своеобразного, ему не откажешь.
— Ты давеча с Гошей был, — заурчал он хриплым басом, присаживаясь на соседний стул, — поэтому я и подошел. Понимаешь, у нас с ним давняя традиция. Он мне выдаёт стольник, а я ему — правдивую историю из жизни народных масс. Тебя как зовут?
— Андрей, — буркнул я, доставая из внутреннего кармана пиджака сторублевую купюру. А про себя подумал, что светский лев, скорей всего мягко говоря преувеличивает: вряд ли Игорь так уж часто носил в кармане сторублевые бумажки.
Старик ловко выхватил из моих пальцев бежевую бумажку с восемнадцатью ногами и одной головой и поднял высоко над своей львиной гривой. Её тут же перехватил Саша и через несколько секунд принес бутылочку фанты с фисташками на блюдечке. Как у них тут всё, однако, отлажено.
— Слушай, Андрюха, и не говори, что не слышал, — зарокотал мой собеседник. — Но сначала, как новичку, — предыстория. Как вышел на пенсию, потянуло меня, знаешь ли, в народ. На старости лет до меня дошло, что, сидя в начальственном кресле главка, народа, как такового, я не знал. То есть он мне казался безликой серой массой, которая вечно мешала мне жить. А как оборотил лицо своё к людям, открылась мне безбрежное море человеческой скорби.
Федор Семенович, огладил седую львиную шевелюру, прошелся растопыренной рукой, как расческой, по густой бороде, зорко взглянул на меня, оценивая степень внимания, на примолкшую парочку молодых людей напротив и продолжил:
— Так вот однажды пригласил меня старинный друг во Владивосток. Прислал авиабилет и дорожные. Прилетел я туда, встретился с другом, посидели, поговорили. А наутро он пошел по делам, а я отправился гулять по городу, о котором много чего слышал, но бывать там не пришлось. Великолепный город, скажу тебе, Андрюха! Бухта, крепость, пирсы, база военного флота! Там буквально всё пронизано военно-морской славой. Правда, торгашеский дух тоже стал проникать, в основном из Китая и Японии. Но, ты знаешь, меня это не очень задевало. Все-таки люди там особые — крепкие, суровые, морским ветром просолённые. Забрел я в парк, а там под бюстом дважды героя на гранитной плите с цветами сидит пожилой мужик и… плачет. Я к нему. В чем, дескать, земляк, твое горе. А он спрашивает: хочешь выпить со мной? Ну кто я такой, скажи на милость, чтобы от такого предложения отказываться! К тому же, вижу, человек-то в расстройстве. Давай, говорю, друг горемычный, поддержу тебя в сей роковой момент жизни.
Федор Семенович замолк, отпил большой глоток из смешной ярко-рыжей бутылочки, еще раз обозрел внимательным взором слушателей — меня и парочку — и, протяжно вздохнув, сказал:
— Не дали, Андрюха, посидеть нам по-человечески. Не дали!.. Только мы познакомились, только мы с Семеном завели душевную беседу, как откуда ни возьмись, вырос перед нами блюститель закона и взял под козырёк: почему нарушаем общественный порядок, с какой стати распиваем в неположенном месте? Достал мой печальный друг паспорт и протянул пареньку: читай, говорит, вслух! Тот «берет — как бомбу, берет — как ежа, как бритву обоюдоострую, берет, как гремучую в двадцать жал змею двухметроворостую — краснокожую паспортину», — он оглянулся, оценивая степень восторга публики цитатой из Маяковского, — милиционер раскрывает и читает имя, отчество и фамилию. Поднимает суровые глаза и спрашивает: ну и что? Как что, говорит, Семен, да ты на памятник-то взгляни и прочти, кому он тут поставлен. Мы с мальчиком в фуражке подняли глаза, прочли надпись золотыми буквами на граните — и остолбенели. Оказывается, мой боевой друг сидит на постаменте собственного бюста дважды героя!
Федор Семенович замолчал и снова обвел взглядом окружающее сообщество. Что сказать, слушали его с открытыми ртами, очень и очень внимательно. Старик сумел удивить!
— Сидит мой друг и, как простой смертный, нарушает общественный порядок путём распития в неположенном месте. Семен протянул милиционеру руку и говорит: подними-ка меня, сынок, что-то я сегодня затяжелел, ноги не держат. Парнишка молча поднял его и уважительно так спрашивает: может, проводить вас до дома? Нет, говорит дважды герой, ты лучше нас с другом довези до своего отделения и культурный стол накрой. Тот по рации вызвал машину и отвез нас в ближайшее отделение милиции. Объяснил начальству, кого он привез, а майор — тоже хорошим парнишкой оказался — послал сержанта в магазин, а нас с другом в свободную камеру предварительного заключения препроводил. Туда же принесли стулья, стол застелили газетками. Ну, мы с ребятами там всю ночь и просидели.
На этот раз он замолчал дольше обычного. Я обратил внимание, что уже не только я с молодой парочкой, но и сидящие за соседними столиками одноклубники обернулись к нам и внимательно слушают историю.
— Мы, конечно, спрашиваем героя, как, мол, ты две звезды-то свои получил? За какие такие заслуги? Семен сказал, что первую звезду героя Советского Союза он получил на таджикской границе. Приехал он туда к другу в гости на время отпуска. Друг попросил его обучить солдатиков меткой стрельбе, приёмам рукопашного боя и опыту выживания в условиях боевой обстановки. Посадил его на машину, выдал ему снайперский карабин СВД и отправил в такой-то квадрат. Какой не скажу и не пытайте: военная тайна! Семен приехал туда, смотрит — никого. Пусто, безлюдно. И вдруг слышит, внизу под горой голоса раздаются. Он подполз к краю обрыва и увидел, как человек десять афганцев два гроба с красными звездами на себе тащат. Семен прекрасно знал, как духи над телами наших солдатиков издеваются, поэтому к этой похоронной процессии отнесся с подозрением. Ежу понятно, что на самой оживленной трассе наркотрафика в гробах могут быть не тела героев, а самый обыкновенный героин.
Вдруг видит мой Семен в бинокль, что навстречу этому каравану смерти издали мчится советский генерал в английском джипе. Прикинул расстояние и понял, что у него не больше трех минут, чтобы сорвать преступную операцию. В общем, взял он свой СВД и всех, кроме двоих седых аксакалов, методично перестрелял. Достал из своей машины запасную канистру, спустился, облил бензином и поджег героин в гробах. Схватил аксакалов за бороды и вытащил на гору, связал и посадил в машину. А тут как раз генерал подъехал. Афганцы показали на него пальцами закричали: это он, мы ему героин везли на продажу — нас не убивай, его убивай. Наш Семен взял генерала под прицел СВД и, не обращая внимания на начальственные вопли, достал из английского джипа и переложил в свой УАЗик чемодан с долларами. Потом связал генерала и вместе со свидетелями и деньгами доставил в штаб гарнизона.
Кончилось всё, как ни странно, хорошо. Семен сказал, что ему Бог помог. Могли бы его убить, деньги разделить, инцидент с генеральским проколом замять… Но вышло всё по-другому. Нашему Семену присвоили высокое звание Героя Советского Союза.
— А вторую звезду где он получил? — спросил хор слушателей. Уже трое мужчин подняли руки с бежевыми банкнотами с символом балета — множеством ног и единственной головой. Саша в красной бабочке в момент «состриг купоны» — и вот целая батарея бутылочек ядовито-оранжевого напитка выстроилась перед рассказчиком.
— Вторую звезду — Героя Соцтруда — он получил на Олимпиаде. Сначала взял Семен золотую медаль по стрельбе. А потом ему начальство сборной говорит: выйди на ринг, положи противника и получишь звезду героя. Вышел. Победил нокаутом. Получил вторую звезду — Героя Социалистического Труда. А за это, сами понимаете, положена установка бронзового бюста на родине дважды героя.
— А почему он на своем памятнике плакал? — спросили совсем уж молодые и наивные, поднимая руки с купюрами вверх.
— Эх, молодежь! — вздохнул пенсионер, печально глядя на них. — Потому что на старости лет, — прорычал Федор Семенович, — наш дважды герой стал нищим и бездомным.
Завершающие звуки последней фразы заглушило отборное сквернословие мужчин, которых вовсе не стесняли в выражении эмоций присутствующие здесь дамы…
Много чего наговорил с расстройства старик, но, правда, без выражений, да.
Интересно, думал я, сидя дома за столом и записывая в дневник впечатления прошедшего дня. Интересно, услышал бы я эту историю, если бы не был знаком с Игорем? Скорей всего, нет. По всему выходит, что моя встреча с таким человеком, как господин Беклемишев, была предопределена в высших сферах. И это, по всей видимости, не что иное, как знак начинать книгу.
К вопросу о поиске сокровищ
Спустя несколько дней сидел я в кабинете заместителя управляющего банка «Антик-золото» Валерия Васильевича и ждал звонка Игоря. Антиквар нервно бегал по кабинету и был готов растерзать Игоря, меня и всё живое, что попадётся под руку.
— Я говорил ему, возьми спутниковый телефон, возьми группу сопровождения! Предлагал этому недоумку бронированные джипы, автоматчиков. А этот недотёпа один!.. Нет, ты представляешь, один повез полтора миллиона долларов в грязном железнодорожном скотовозе!
Минуты тянулись до ужаса медленно. Казалось, вся атмосфера этого огромного кабинета наполнилась не только резким запахом пота и брызгами слюны, но и тёмными вихрями жадности и страха, которые душили хозяина, кололи сотнями ледяных иголок меня и беспрепятственно растекались по всему зданию, выползая на улицу. Вдруг в моем сознании мелькнула картинка: Игорь сидел у окна своего купе и, благодушно рассеянно улыбаясь, смотрел за окно на проплывающие пейзажи Москвы. Это несколько успокоило. Меня, но не хозяина. В который раз пробормотал я «не волнуйтесь, все будет хорошо, вот увидите», Валерий Васильевич скользнул по мне негодующим взором и в который раз угрожающе кивнул огромной лысоватой головой. Мне стало жаль этого человека: деньги доставались ему слишком дорогой ценой. Я бы, например, не очень-то удивился, если бы он схватился за сердце и рухнул на дорогой персидский ковер, или, скажем, посинел и с пеной на губах забился в эпилептических судорогах в своем роскошном кожаном кресле.
Наконец, зазвонил телефон. Хозяин кабинета метнулся к нему, как ягуар на кролика, и включил громкую связь.
— Валерий Васильевич, я уже сошел с поезда, — раздался спокойный голос Игоря, — минут через десять встречайте меня у входа в банк.
Мы выскочили из кабинета, спустились по лестнице и встали на ступенях парадного подъезда. Следом за нами на улицу вышли двое крепких парней в черных костюмах и рубашках и замерли по обе стороны от шефа, перемалывая мощными челюстями жвачку. Их правые руки по-наполеоновски лежали за отворотами пиджаков на оружии в наплечной кобуре, выражая тем самым готовность пристрелить любого, кто покажется им подозрительным. Банкир по-прежнему ругался, как заезженная граммофонная пластинка, повторяя что-то про автоматчиков, группу сопровождения и машину отсечки, нервно ходил туда-сюда по тротуару, сипло вздыхая… «Люди в черном», оставаясь на верхней ступени, рыскали глазами по окружающему пространству, высматривая потенциальную цель для открытия огня на поражение.
Я же в это время наблюдал странное зрелище: из подземного перехода вышел потрёпанный мужичок маргинальной внешности в линялом спортивном костюме. Его неопрятные длинные волосы торчали во все стороны, по обросшей щетиной физиономии блуждала улыбка тихопомешанного, поэтому вряд ли опасного, человечка. В руках его болтались, задевая прохожих, две сетки-авоськи, набитые мятыми пожелтевшими газетами. Он смотрел на небо, разглядывал голубей на крышах домов, слегка жмурился от солнца и совсем никуда не спешил.
Наконец, мужичок поравнялся с нами, остановился, положил авоськи у ног банкира и голосом Игоря Беклемишева сказал: «Валерий Васильевич, ваше поручение выполнено». Пожалуй, я не стану цитировать то, что сказал антиквар, когда увидел, завернутые в мятые газеты полтора миллиона долларов, валяющиеся на заплеванном жвачкой асфальте…
Дальше была скучная процедура пересчета денег в кассе под судорожное бульканье виски в глотку банкира, который не уставал поучать нас: «Деньги, ребятки, в нашем мире дают человеку свободу! Если хочешь быть свободным, необходимо зарабатывать много-много денег!».
И, наконец, мы с Игорем вышли из мрачного здания банка на улицу. Спустились по лестнице на тротуар и уже порядочно отошли от банка, направляясь в метро, а нам вслед сипло кричал и кричал возбужденный банкир-антиквар: «Ну ты, Гошка, и лох! Ну ты и гений! Да чтобы я еще раз!.. Да чтобы я с тобой хоть раз! Псих сумасшедший!» Но мы его не слушали, нам было не до него. Нас окружали ярко-бордовые всполохи роскошного заката, а в наших карманах лежало по пятнадцать тысяч долларов — так распорядился Игорь, а я лишь подчинился его решению. Еще Игорь посоветовал не показывать и не отдавать Ларисе деньги. На вопрос почему, ответил туманно, мол, сам скоро поймешь.
Разумеется, в тот вечер мы долго разговаривали. Во-первых, Игорь мне пояснил свою систему перевоза ценностей. Главное не привлекать внимание криминальных элементов. А кто может быть менее привлекательным, чем нищий пассажир без серьезного багажа с хламом в авоськах. Во-вторых, объявил, что всё это ерунда, прах и суета. Главное, чем он занимался в дороге, — это созерцание. И если первую часть своего рассказа он озвучивал монотонно, безжизненным голосом, то вторую — взволнованно, как важное открытие, а глаза его сияли. Меня эта тема очень интересовала, поэтому я попросил его как можно больше рассказать об этом загадочном явлении.
Игорь обрушил на мою бедную голову ливень цитат. Я слушал, почти не вникая в суть, просто открыл этому сердце и впустил внутрь поток слов, которые казались мне корпускулами божественного света. Потом он порылся в книжных рядах, достал несколько фолиантов, потрепанную общую тетрадь и протянул мне для изучения теории. Потом он рассказал о поиске Точки покоя. Прежде чем начинать её поиск, мне надлежало очистить душу от грехов в таинстве исповеди. Потом отречься от мира страстей и полностью положиться на волю Божию. Конечно приучить себя к ежедневной молитве и ежевоскресному посещению церкви с регулярным причастием. Ну а уж потом, не спеша, непрестанно и упорно искать эту самую таинственную Точку покоя.
— А это не разрушит мою жизнь? — малодушно поинтересовался я.
— Нет, что ты! Такой образ жизни не разрушает, а созидает. Ведь что нам с тобой сказал Господь? «…Не заботьтесь и не говорите: что нам сеть? или что пить? или во что одеться?… потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф 6,31-33). То есть, наше дело, человеческое, служить Богу, в первую очередь молитвой, а остальное Он сам так устроит, что и беспокоиться не придется.
— А помнишь, чему нас учил антиквар? Что-то вроде: деньги дают свободу. Разве не так?
— Давай попробуем и с этим разобраться, — сказал Игорь. — Вот смотри. Антиквар имеет много денег, а разве можно сказать, что он свободен от болезней, голода и холода? А возьми самый ужасный страх богатых людей — потерять состояние. Ты же видел, как он ожидал деньги, которые я доставил ему?
— Да, он был на грани истерики или даже припадка, — кивнул я.
— А ведь теряют деньги очень многие. У меня есть знакомый по имени Гарик. Он еще в девяностом заработал свой первый миллион. Я тогда сводил его с людьми, которые занимались валютой. В те времена, хоть валюта уже ходила по рукам, но статью за незаконные валютные операции никто не отменял, и грозила та статейка серьезной карой «вплоть до расстрела». Да, Гарик купил у них миллион долларов! И что? Звонит недавно и просит полсотни рублей опохмелиться. Во-первых, он никогда не пил: у него с детства язва и больное сердце. А во-вторых, что за мелочная просьба для миллионера? Оказывается, отобрали у него всё до нитки, до копейки, даже квартиру и загородный дом отняли. Ну и запил наш эксмиллионер вчёрную. Вот так. У нас в стране можно заработать состояние за месяц, а потерять за один день. Ну и о какой свободе богатых людей можно говорить? Иллюзия!
— Похоже на то, — кивнул я.
— А знаешь, давай попробуем мысленно пожить в богатстве, — предложил Игорь, загораясь идеей. — Это должно быть очень интересным.
— Что ж, давай, — согласился я. Мысли моего собеседника представлялись мне непредсказуемыми, но потому и занятными.
— Итак, начнём, — сказал он и откинулся на кресло, прикрыв глаза. — Ты оказался в нужном месте и в нужное время… Да, это очень важно в подобном деле. Заработал первичный капитал на какой-нибудь шальной сделке, допустим, на посредничестве по продаже ста тысяч тонн цемента. Затем один очень умный человек предложил тебе вложить деньги в акции «Газпрома». Со временем цена твоих акций выросла в сотни раз. Часть вырученной прибыли ты, опять же по совету того же умного дядечки, вложил в жилищное строительство. Получил прибыль и на перепродаже домов. Твой капитал за три года вырос до ста миллионов долларов. Теперь у тебя есть налаженный прибыльный бизнес, офисы и квартиры в центре Москвы, Парижа и Лондона.
— При таких деньгах я серьёзно занялся своей внешностью, — подхватил я течение мысли. — Накачал мышцы, сделал пластическую операцию лица и стал писаным красавцем. Ко мне потянулись длинноногие красотки из лучших модельных агентств. Я с ними путешествую на собственной яхте и личном самолете по самым красивым уголкам земли.
— Да, ты уже посетил страны Европы, объездил всю Северную и Южную Америку, пляжи Карибов, чудные острова Океании, пострелял носорогов и леопардов на Африканском сафари, познакомился с аборигенами Австралии и вежливо отказался от поедания живых червей и кузнечиков… Ты продегустировал лучшие вина всех стран, самые выдержанные коньяки, ром и виски. Перепробовал мясо и рыбу, овощи и фрукты — в самых изысканных блюдах.
— Я поездил на самых дорогих и мощных автомобилях, — продолжил я. — Поднимал паруса роскошных яхт и летал по океанской волне на самых быстроходных суднах. В моих объятиях побывали лучшие красотки всех цветов кожи. Перезнакомился со знаменитыми актерами, политиками, учеными…
— И в один хмурый ненастный день проснулся поздним утром… — кивнул Игорь.
— Разбитым, похмельным, истасканным… — добавил я.
— И смертельно усталым… — дополнил он.
— Тело болит всюду, — мрачно изрёк я, — а в душе такой чернющий мрак, что единственный выход — пустить пулю в лоб… или глотнуть цианид с приятным вкусом абрикосовых косточек… ну, в крайнем случае, лечь в теплую ванну и острейшей золингеновской бритвой полоснуть по запястьям обеих рук.
— Но перед тем, как решиться на последний поступок в жизни…, — медленно произнес Игорь и повёл рукой: продолжай.
— …Я вспоминаю свой жизненный путь и прихожу к печальному выводу: с тех пор как я заработал миллионы, меня будто большую белую акулу окружали одни прилипалы. Они не могли любить, дружить, говорить по душам о смысле жизни. Цинизм, пошлость и вымогательство — вот всё, на что они способны. А мне с ними всегда было тоскливо и одиноко. И от этой пустоты я трусливо сбегал в омут алкоголя, кокаина, экстремальных приключений… Но каждый день такой бессмысленной жизни всё глубже загонял меня в трясину отчаяния. Много раз подумывал я о перемене образа жизни…
— …А тот, кто позволил тебе попользоваться временными игрушками, душу твою вечную цепко держал в черных когтистых лапах и считал её своей собственностью. Ведь он крестил тебя кровью твоих конкурентов, а в обмен на временные игрушки, востребовал у тебя вечную душу! И ты стал его рабом. Так где тут свобода?
— А есть ли она вообще?
— Есть, — кивнул Игорь. — Господь, создавая человека, ограничил Своё всемогущество, в пользу свободы любимого Своего создания. Вот смотри: любой человек в любой момент может сказать прямо в лицо Бога: я отвергаю Тебя! И Господь позволяет этому быть. Мог бы Господь чисто теоретически пресечь любую попытку такого бунта? Конечно! Но Он этого не делает. Потому что только свободный человек способен любить. Раб может из-под палки подчиняться, тихо ненавидя хозяина. А сын Божий имеет возможность по собственной воле прийти к Отцу или… отвергнуть Его. Именно поэтому только Господь, даровавший свободу, как величайшую святыню оберегает свободу человеческую. А враг человеческий всегда старается отнять у него эту святыню, повязать человека цепями долгов, обязательств, страстей разной масти, короче — сделать человека своим рабом. Итак, свобода только у Бога и с Богом! Только так и не иначе.
— Здорово, — сказал я. — Мне это нравится.
— Итак еще и еще раз! — возвысил он голос, — Это очень важно — иметь безукоризненную веру в то, что сказал нам Господь: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам»!
— Всё-всё?
— Да! Вот ты скажи мне, Андрей, — он внимательно смотрел мне в глаза, — чего ты хочешь в жизни?
— Ну, не знаю, — протянул я, застигнутый врасплох. — Наверное как все, хорошую верную жену. Ну, чтобы, конечно любовь у нас была. Детей хочу. И чтобы в деньгах не нуждаться. Но при этом, неплохо бы иметь свободное время, чтобы заниматься творчеством. Я, видишь ли, вижу себя в будущем писателем.
— Хорошо, — кивнул ободряюще Игорь, — а где бы ты хотел жить? Можешь описать то место, где тебе было бы хорошо и приятно?
— Мне почему-то кажется, что лучше всего мне подошел бы юг. Ну, может, какая-нибудь тропическая страна или наше черноморское побережье, Крым… Наверное, это так, пустые мечты?
— Не скажи, брат. А ты не задумывался, какой он — рай? Тебе не кажется, что в нашем земном представлении южные красоты — море, горы, деревья, цветы — всё это как-то подсознательно ассоциируется у нас с раем.
— Знаешь, Игорь, кажется. Или даже так: я в этом уверен.
— А теперь послушай, что мне видится в твоем будущем. Всё это у тебя будет! Не могу сказать когда и в каком виде, но обязательно ты получишь всё, что желаешь. Ведь твои пожелания не так уж несбыточны. Мне они представляются вполне естественными. И знаешь, ты их заслужил. Всё будет. По нашим с тобой молитвам. И созерцание будет.
— А почему созерцание?..
— А потому что молитва без созерцания Бога мертва, холодна и бесплодна. Это как шепот в темноту, никому и никуда. А когда человек созерцает Бога, его молитва превращается в живое общение твари с Творцом, сына с Отцом. Понимаешь? Это придет потом, обязательно придет к тебе с живым опытом. Поверь, брат мой, это созерцательное общение с Богом Любви ненасытно и удивительно прекрасно! Ты веришь мне?
— Да, Игорь, верю. И очень хочу этому научиться. Ты не представляешь, как мне надоела моя нынешняя жизнь! Она бессмысленна, как у скота, которого откармливают, чтобы отправить на бойню.
— А это означает только одно, — сказал он полушепотом, — ты, брат, уже избран, внесен в список гостей и приглашен на пир. Тебе надо лишь помыться, одеться во все чистое, прийти и сесть за праздничный стол. И созерцать!..
На следующий день Игорь приготовил меня к первой исповеди. Я перебрал жизнь от самого детства до последнего часа по дням и написал на листочке бумаги огромное количество грехов. Довольно часто переспрашивал: неужели и это грех, неужели и это нельзя? Какая чистота требуется от нас, сейчас и навсегда! Пока я этим занимался, то страх, то отчаяние, то брезгливость к самому себе накатывали на меня мутной тягучей волной. Чем дальше, тем больше я ощущал себя грязным, смердящим дикарём, не знающим ни мыла, ни горячей воды. Меня сильно тянуло в церковь, к священнику, чтобы всю эту грязь из души выскрести и отмыть до полной чистоты. Наконец, мы с Игорем вышли из дому и дошли до церкви, я встал в очередь исповедников и погрузился в предчувствие близости чего-то очень хорошего и светлого.
Передо мной стояла молодая семейная парочка. Они склонили головы и напоминали нашкодивших детей, пришедших к суровому отцу для получения подзатыльников. Когда подошел мой черед, я со стыдом и страхом, на негнущихся ногах, подошел к аналою. Несколько секунд, показавшиеся мне часами, я молчал, проглатывая спазм в горле и преодолевая острое желание развернуться и сбежать, потом, наконец, набрался смелости, чужим голосом прочел список своих преступлений и сжался от приступа страха. Священник успокоил меня, полушепотом задал несколько вопросов и… назначил мне епитимию: поклоны и чтение покаянного канона в течение ближайшей недели. «Приготовься к причастию, в следующую субботу вечером еще раз исповедуешься, а в воскресенье я тебя причащу», — сказал он.
Вышел я из храма в таком состоянии, как застарелый грязнуля впервые из бани. Только еще лучше. Меня словно облил яркий весенний свет. На улице смеркалось, нас с Игорем окружала толпа прохожих. Я смотрел на мужчин, женщин, детей, стариков, птиц и собак — мне они казались родными и близкими. Ни тоски, ни печали, ни страха, ни раздражения! Только любовь, только желание всех обнимать и прощать, а еще непременно каждому рассказать, как мне хорошо и легко! Любовь — незнакомая до сих пор, светлая и мощная, как луч света из прожектора, тихая и трепетная, как огонек свечи, как улыбка ребёнка или бабушки, восторженная, как птичье щебетанье — затопила меня с головы до пят…
Да, были потом ежедневные чтения канона, земные поклоны до боли в спине, голодный пост, увлекательное чтение жития святых. И, наконец, я причастился. В тот воскресный день кровь Христа пролилась на мой язык и заструилась по моим кровеносным сосудам, в то мгновение плоть Спасителя сладким комочком без остатка растворилась у меня во рту и стала прорастать во мне невидимым божественным огнём…
В тот счастливый воскресный день я стал другим. Во мне будто ожили, проснулись и запульсировали свежими струями алой крови токи обновления всего моего существа. Это происходило невидимо, но ощутимо: то одна позорная страсть, то другая, то дурная привычка, то дежурный грешок вдруг отмирали и спадали с тела души, будто засохшая висячая бородавка или бесследно исчезали, как затянувшийся уродливый шрам. Я оглядывался назад, на пройденный путь, возвращался в нынешнее состояние и понимал, что в моей жизни произошло невиданное и неожиданное открытие: я стою в безбрежном океане богатств, непомерной роскоши, сверкающих драгоценностей — и могу всем этим пользоваться без ограничений. Бери, сколько сможешь унести.
А однажды ночью, прекрасной теплой ароматной лунно-звездной ночью, я впервые молился настоящей живой молитвой. Она рождалась сама в глубине души, разливалась по всему телу и выплескивалась из гортани наружу в виде шепота. Потом я накинул шерстяной свитер и вышел на балкон. В груди, там, где пульсировало сердце, только гораздо глубже, настолько глубже, насколько выше человека небо и то, что превыше небес — там, на немыслимой глубине души, я увидел свет.
…Как-то в детстве меня возили в деревню. Во дворе дома стоял колодец глубины поразительной. Я ложился грудью на сруб и со страхом заглядывал вниз, в гулкую, сырую глубину. Вода голубым озерцом плескалась далеко-далеко, глубоко-глубоко, среди черных бревен, в черной глубокой дали. Оттуда, от поверхности колодезной воды, сквозь страшный-престрашный мрак, сиял голубоватый свет неба. Так и сейчас из глубины моей души сиял золотисто-голубоватый свет, отражающий сверкание невидимого солнца, круглого диска луны и россыпи звезд на небе. Я сидел неподвижно, опасаясь нарушить это дивное состояние светлого покоя.
Нет, мне еще далеко было до того, что описывал Игорь. Он созерцал невидимого и непостижимого Бога, а я лишь отсветы Его божественной любви, рассыпанные по бесконечным далям созданной Им вселенной. …И как часть этого Божиего мира, наблюдал таинственный отсвет в самом себе. «Бог, когда смотрит с отеческой любовью на человека, не замечает его ущербности, но видит Своё отражение в глубине человеческой души», — вспомнились вдруг слова из того бурного потока, излитого на меня Игорем. Наконец, прохлада ночи проникла внутрь, я ощутил холод, легкий озноб, встал и покинул балкон.
В комнате, в полной темноте, я нечаянно наткнулся на что-то теплое и упругое. Вспыхнул торшер, и я увидел сидящую в кресле Ларису, закутанную в шерстяной плед. Мне очень хотелось с ней поделиться радостью открытия, рассказать о таинственном свете. …Но она опередила меня и зашипела, как змея. И снова на мою голову посыпались упреки, обвинения, оскорбления. «Всё, — мелькнуло в голове, — оплаченный тысячью долларов покой закончился». Я слушал злобные черные слова и нимало не огорчался — свет из глубины души успокаивал привычные возмущения души. Поэтому когда Лариса в приступе ярости пригрозила завтра же уйти от меня, я ответил: «Конечно, Лариса, уходи. Ты права. Мы с тобой не пара». И прилег на диване в гостиной, и погрузился в покойный сон, со счастливой улыбкой на лице. Таинственный свет продолжал во мне жить и радовать тихой, безмятежной радостью.
Утром женщина снова пыталась меня образумить новыми оскорблениями. Прощения она у меня не попросила. Обычно такие приступы кончались тем, что я отдавал всё «заработанное тяжким непосильным трудом». На этот раз, я не чувствовал потребности сносить унижения, тратить деньги на тряпки, не цеплялся за её красоту, тем более, что маска злобного тролля снова искажала чистые линии лица, делая его отталкивающим. Ночью мне посчастливилось увидеть красоту ни с чем не сравнимую. И испытал радость намного выше тех кратких мгновений телесных удовольствий, которыми она меня изредка привлекала, а чаще шантажировала.
Молча достал из кладовки её чемоданы, взял с тумбочки у входной двери её комплект ключей, отцепил два своих ключа и невозмутимо сказал: «Ты права, тебе нужен другой мужчина. Из тех, кто не даёт тебе проходу. Я не такой. Прости!» Еще с полчаса, пока она собирала вещи, мне пришлось выслушивать оскорбления. Сколько же злобы, оказывается, живет в этой женщине, с виду такой приятной! Внутри же себя наблюдал я полный покой. В ту минуту вспомнил совет Игоря не давать ей денег, мол, всё сам попозже узнаешь. Вот и узнал… Напоследок она обозвала меня самыми грязными словами, которые имелись в её лексиконе, и изо всех сил грохнула входной дверью. Я облегченно вздохнул и почувствовал свежую, как утренний ветерок, радость освобождения!
Стоило мне вернуть себе холостяцкий статус, как уже через неделю об этом узнали мои друзья. Кто-то напрашивался в гости, чтобы погрузиться в ядовито-сладкие объятия тов. Бахуса; кому-то нужна была квартира «на пару часов»; случались такие, кто просились пожить на неопределенное время. Как мог, я отказывался, ссылаясь на кучу работы. На самом деле я нуждался в уединении, чтобы разобраться с самим собой.
Зашел ко мне Игорь. Внимательно посмотрел на мою унылую личину и тактично опустил глаза. Посидели за чаем, помолчали.
— Знаешь что, — сказал друг, — давай-ка, брат, собирайся. Возьми с собой только самое необходимое. Мы с тобой поедем к нашему старику на дачу. Он утром позвонил мне и пригласил в гости.
— Но я…, как это…, у меня работа, дела, — промямлил я в бессознательном смятении.
— Не думай ни о чем, Андрей, поехали. Всю ответственность беру на себя. Помнишь, я обещал тебе, что плохо не будет? Вот заодно и проверишь на практике правоту моей веры.
На всякий случай я все-таки взял с собой рабочий ноутбук с интернет-коннектом. В метро добрались мы до Белорусского вокзала, купили билеты до Звенигорода. До отправления ближайшей электрички оставалось минут сорок. Вышли мы на площадь перед вокзалом, оглянулись, увидели ряд палаток, купили в дорогу пирожки, баночный кофе и прошли на платформу. Вагон заполнился лишь наполовину. Мы удобно расположились у окна напротив друг друга, чтобы можно было снять кроссовки и протянуть ноги на сиденье рядом с другом. На соседние места устроилась пожилая пара в походной одежде цвета хаки с клетчатыми китайскими сумками и зачехленными лопатами — видимо, дачники.
Достали мы книги, пирожки, откупорили банки с кофе. Оказывается, это очень уютно и даже комфортно ехать с другом, перекусывать, читать, разглядывая бегущие за окном зеленые поля, перелески, селения, реки. Прихватил я в дорогу книгу Игоря с вложенной тетрадкой. Открыл и принялся старательно вчитываться в плотный текст без абзацев, но с большим количеством ссылок, которые занимали порой больше половины объема страницы. Минут через сорок я понял, что смысл прочитанного ускользает от моего сознания. Вроде бы каждое отдельное слово понятно, даже предложение удавалось понять, но, одолев полстраницы, я со стыдом признавался, что время и силы потрачены зря. Я склонился к Игорю и прочел ему вслух:
«Непостижимой и неопределимой в своих истоках, в своей вечной основе духовной жизни, простой и единой в своем существе — мы не знаем имени. Быть может кто-нибудь назвал бы эту область сверхсознанием, но слово это и непонятное и ничего не определяющее, кроме соотношения между рефлективным сознанием и тем миром, который выходит за пределы его. Из этой неопределимой области, переходя в сферу, подлежащую уже нашему внутреннему наблюдению и даже известному контролю, духовная жизнь выявляется двояко, а именно: как духовное состояние или переживание, и как догматическое сознание. Эти два аспекта, различные и как-то даже раздельные в своем «воплощении», т. е. в своем оформленном выявлении в нашей эмпирической жизни, по существу своему есть единая нераздельная жизнь. В силу этого — всякое аскетическое действие, всякое духовное состояние неразрывно связано с соответствующим ему догматическим сознанием.»
Оторвался от книги и спросил:
— Ты полагаешь, Игорь, мне это действительно необходимо?
— Помнишь знаменитые слова украинского философа Георгия Сковороды: «Спасибо Господи, что Ты создал все нужное нетрудным, а все трудное — ненужным»? — спросил Игорь, и длинный указательный палец его коснулся вложенной в книгу тетрадки. — Попробуй это почитать.
Я открыл тетрадь и глаза легко побежали по аккуратным рукописным строчкам:
«Епископ Илларион (Алфеев) «Таинство веры»:
…в Библии содержится два ряда текстов, как бы противоречащих друг другу: один отрицает возможность боговидения, другой, напротив, утверждает, что в этом видении и заключается высшее предназначение человека. К первому ряду, в частности, относятся слова Бога Моисею: «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». Ко второму ряду относятся ветхозаветные и новозаветные повествования о встречах Бога с людьми, в частности слова Иакова «я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя», рассказ о Моисее, который видел Бога «лицом к лицу» и беседовал с Ним, «как друг с другом», а слова Иова, который твердо верит в возможность боговидения: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого — увидят Его», и его слова в конце книги: «Я слышал о Тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят Тебя». Сюда относятся также слова Христа «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Апостолы Иоанн и Павел пишут о конечных плодах усыновления Богу, когда мы «увидим Его, как Он есть» и не через тусклое стекло, а «лицом к лицу».
В творениях Святых Отцов тоже присутствуют оба мотива: утверждается невидимость и неприступность Бога и вместе с тем ясно говорится о возможности видеть Его. Преподобный Симеон Новый Богослов, например, горячо полемизирует с теми, кто усматривает в словах апостола Иоанна «Бога не видел никто никогда» указание на невозможность боговидения. Он пишет, что его идейные противники, услышав от него о видении Бога, «тотчас изменяют выражение лица и отворачиваются, как будто услышав нестерпимое богохульство. Потом, приняв кроткий вид… отвечают: «И кто же посмеет сказать, что он когда-либо видел или всецело созерцал Бога?.. Ведь сказано: Бога не видел никто никогда». О помрачение! Кто это сказал, ответь мне? — «Единородный Сын, — говорит, — Сущий в недре Отчем, Он явил». Правду говоришь, и свидетельство твое истинно, но только оно против твоей души. Ибо если я покажу тебе, что Тот же самый Сын и Бог говорит, что это возможно — что тогда скажешь? А Он говорит: Видевший Меня видел Отца. И это сказал Он не о видении Его тела, но об откровении Его Божества».
Утверждение о невозможности видения Бога преподобный Симеон называл самой худшей ересью, совмещающей в себе все существующие ереси.»
Здорово! Наконец, я читал то, что мне представлялось нужным, и это «нужное» воспринималось легко и просто. Так вот оно что! Тема созерцания на протяжении веков занимала умы людей, идущих к Богу. К Богу не абстрактному, будто это некая схоластическая идея, а к Богу живому, ощутимому и… зримому. Я живо представлял себе этих лукавых фарисейчиков, которые «тотчас изменяют выражение лица и отворачиваются», а потом «приняв кроткий вид» вопрошают: «кто же посмеет сказать, что он когда-либо видел или всецело созерцал Бога?..» Мне это было знакомо из личного опыта. Помнится, и меня вопрошали томные дамочки подобным образом: «Если Бог — Дух, который живет не в рукотворных храмах, что же вы, православные, ходите в церковь?»
«…Он утверждал, исходя из собственного опыта, что Бог открывается человеку и становится видимым, причем не в будущей жизни, но уже здесь, на земле: «Откуда я знал, что Ты являешь Себя приходящим к Тебе, еще пребывающим в мире?.. Откуда я знал, Владыко, что Ты, будучи невидимым и невместимым, бываешь видимым и вмещаешься внутри нас?.. Ибо слыша, как Твои проповедники говорили об этом, я полагал, что это бывает в будущем веке и только по воскресении, и не знал, что это и теперь… совершается».
Каким образом невидимый Бог может быть видим, и как с Неприступным можно общаться? Не устраняя изначальной антиномичности проблемы боговидения, святитель Григорий Палама разрешает ее при помощи различения между «сущностью» (ousia) и «энергией» (energeia — действие) Бога: «Божественная сущность приобщима не в самой себе, а в своих энергиях». Он пишет: «Сущность Божия непричастна и некоторым образом причастна. Мы приобщаемся Божественного естества и вместе с тем нисколько его не приобщаемся. Итак, нам нужно держаться того и другого утверждения». Сущность Божия остается цельной и неизменной, и божественная благодать не является излиянием сущности Бога, но проявлением Его энергии. И человек, созерцая Бога, не сливается с сущностью Созерцаемого, а становится причастным Его энергии.
В этом контексте понимается повествование о Моисее, который не мог увидеть лицо Бога, но мог увидеть «Бога сзади»: «[Моисей] сказал: «покажи мне славу Твою». И сказал [Господь]: «…Я проведу пред тобою всю славу Мою… лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых… когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо»«. «Лицо Бога» — это Его сущность, которая невидима и неприступна, а «увидеть сзади» означает приобщиться к Его энергии. Впрочем, боговидение в Ветхом Завете было частичным и неполным, в Новом Завете оно полнее и ярче: люди видят лицо Христа, воплощенного Бога. Об этом апостол Иоанн говорит: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил», то есть Сын Божий открыл Бога людям, сделал Его видимым.»
Опыт боговидения для человека является столь личным и сокровенным, что редко кто из святых говорил о нем подробно. Апостол Павел ограничился несколькими фразами о неизреченных глаголах, которые «человеку нельзя пересказать». В этом смысле исключительным и единственным во всей святоотеческой литературе представляется преподобный Симеон Новый Богослов (XI в.), который в своих произведениях с невиданной дотоле откровенностью рассказал о встречах с Богом, о тайнах созерцания, о многочисленных видениях и откровениях, которые он имел. Преподобный Симеон часто во время молитвы созерцал Бога как свет:
Что за новое чудо совершается ныне?
Бог и ныне желает быть для грешников зримым…
Среди ночи глубокой, среди тьмы беспросветной
С изумленьем и страхом я Христа созерцаю.
Небеса отверзая, Он нисходит оттуда,
Со Отцом мне являясь и Божественным Духом.
Он один, но в трех Лицах:
Три в единстве всецелом,
Трисвятое сиянье в трех Божественных солнцах.
Озаряет Он душу ярче солнца земного,
Просвещает Он светом помраченный мой разум…
В «Гимнах» преподобный Симеон говорит о том опыте боговидения, о котором апостол Павел не смог или не захотел сказать:
Опять мне ясно светит свет, опять его я вижу,
Он отверзает небеса и ночь уничтожает…
Ко мне нисходит свет с небес и выше всех возносит:
Я, находясь среди всего, вдруг вне всего поставлен.
Не знаю — в теле, или нет — но там я пребываю,
Где светит свет один простой, который созерцая
Я тоже становлюсь простым, незлобивым и кротким.
В учении преподобного Симеона нет ничего, что не было бы известно Святым Отцам прежних веков; он не создал «нового богословия» в смысле догматических новшеств: новизна его богословия в том, что он огласил, сделал явным и изъяснил сокровенный опыт боговидения, о котором никто до него не дерзнул говорить столь прямо. Божественный свет, который он созерцал, не имеет ничего общего с обычным земным светом: это нетварный свет, являющийся, как о том учил спустя три столетия после Симеона святитель Григорий Палама, энергией Божества. Этот свет осиял апостолов на Фаворе, этот же свет был явлен Моисею на Синае и назван мраком. Если Синайский мрак и Фаворский свет по природе одно и то же, будучи и тот и другой энергией Бога, то различие между ними должно заключаться в степени «интенсивности» Божественного присутствия: ветхозаветный праведник был покрыт десницей Божьей и не мог видеть лицо Бога, а только видел Его «сзади», апостолы же созерцают сияющее лицо Христа. Преподобный Симеон почти никогда не пишет о мраке, а всегда о свете: он созерцал Бога лицом к лицу и общался с Ним без всяких преград.»
Я уже любил замечательного Симеона, мистичного Григория Паламу, верного многострадального Иова и благодарил епископа Иллариона за открытие мне этих светоносных монахов и учения их, вселявшего надежду. А стихи Симеона хотелось запомнить наизусть, чтобы повторять их снова и снова.
Пусть мне сейчас недоступно это высокое созерцание, но умом я коснулся великой тайны. Мои «чувственные плотские» глаза рассеянно наблюдали, как несутся за пыльным окном зеленые перелески, садовые домики с почерневшими заборами… Вместе с тем, какое-то внутреннее зрение созерцало, как изливается из бездны черного мрака, разверзая небеса, сияние великой славы Бога Троицы. И уже моё сердце озарялось светом, сильнее этого земного солнца и мой помраченный разум просвещался, а сам я становился беззлобным и кротким. …Пусть даже на несколько секунд. Как это понять? Как вместить своей тупой головой такое двойственное зрение, существующее на двух планах — земном и небесном, телесном и душевном? Я понимал только одно: приоткрылась желанная тайна, к которой меня сильно тянуло. Мне очень нужно было её разгадать, чтобы этим жить.
В Звенигороде мы сошли с платформы, и к нам подлетел услужливый паренек:
— Не желают ли господа поехать на машине?
— Не знаю, как господа, — улыбнулся Игорь, — а мы с братом имеем такую потребность. Нам в Городок, пожалуйста.
По дороге, поднимавшейся в горку, мы въехали в небольшой поселок, отстоявший от города несколько в стороне. Остановились перед открытыми воротами. Игорь велел въехать во двор. Мы выгружали сумки из багажника, а в это время распахнулась дверь и с крыльца сошел странный человек в предельно обветшалом свитере, латаных галифе времен штурма Берлина и — о, ужас! — в резиновых калошах. С трудом узнал я в этом доходяге нашего светского льва Федора Семеновича. Мы обнялись, вдоволь нахлопали друг друга по спинам и вошли в дом. Это была древняя изба с русской печью. В горнице нас ожидал накрытый стол: традиционная картошка, томлённая в молоке в закопченном глиняном горшке, миска с огурцами и тарелка с ветчиной.
— Вот наш дорогой гость Андрюха и узнал истинную суть непутёвого старика, — рокотал певучим басом хозяин. — Как видишь, в обыденной жизни сбрасываю льстивые ометы, аки лягушка из сказки зеленую пупырчатую кожицу. Здесь я, брат, настоящий.
Он подвел меня к резной рамке на стене, внутри которой сиял белизной бумаги и чистотой мудрости текст, выписанный витиеватой церковно-славянской вязью. Не без труда мне удалось перевести на современный русский язык: «Но более всего возлюбил он нищету» (из жития преподобного Саввы Сторожевского).
За столом, уминая необыкновенно вкусную томленую картошку, я поделился дорожным открытием о моём созерцании на двух параллельных планах. Игорь лишь удовлетворённо кивнул, зато Федор Семенович затих, поворчал себе под нос что-то непонятное. Потом поднял на меня усталые глаза в красных прожилках и сказал:
— Андрюша, ничего я тебе не скажу. Только это: парень ты прямой и честный, поэтому прошу твоих непрестанных молитв.
— Ладно, хорошо, — промямлил я в смущении. Тоже, нашел молитвенника…
После обеда мы вышли во двор. Хозяин повел нас в дальний угол, где за высокими малиновыми кустами скрывалась калитка. За его забором, буквально в паре метров, начинался крутой обрыв. По узкой тропинке вдоль забора вышли мы к лавке на пятачке земли, с трёх сторон окруженном почти отвесным обрывом. Присели и залюбовались открывшимся отсюда просторным видом на город, укрытый розово-голубыми туманами заката.
— Вот тут я и упражняюсь в плетении лаптей, — сказал старик, перебирая черные шерстяные четки.
— Так монахи школы преподобного Серафима Саровского молитву Иисусову называют, — пояснил мне Игорь и тоже замолк, перебирая пальцами узелки невесть откуда взявшихся четок.
Читал Иисусову молитву и я. Глаза впитывали красоты заката, в уме слова молитвы совершали непрестанное звездное кружение. Где-то глубоко в сердце возникали сначала страшные картины адского пламени, в котором я видел себя. Это подогревало покаянные «…помилуй мя, грешного». Потом молитвенная пульсация ангельскими огненными крылами поднимала меня из адской бездны и ставила на земную твердь. Оттуда я наблюдал, как в разрыве клубящихся сизых туч ярким сиянием проникал нестерпимый свет и озарял тех, кто молился в этот час, и тех, кто был рядом с нами.
Вернувшись во двор, мы увидели на крыльце мужчину в красной феске, окруженного тремя котами. Рыжий великан сидел на коленях, а двое серых, размером поскромней, жались к его ногам, обутым в расшитые золотом башмаки с загнутыми вверх носками.
— А этот человек даже от неприятелей наших сподобился получить благодарность, — сказал Федор Семенович. — Феска и ковроступы — дар турецких реставраторов, с которыми сей муж поднимал из руин православный храм. Игорь давно его знает, а ты, Андрей, познакомься, это Сергей — сосед мой и друг, мы с ним этот дом пополам купили.
Обнялись, перекинулись дежурными фразами о житье-бытье. Коты упрямо не отходили от хозяина, а рыжий исподлобья ревниво метал на нас гневные зеленые молнии.
— Когда мы покупали с Серегой дом, тут была тишь и благодать. А потом у людей появились большие деньги, и они стали скупать землю и дома. Назвали этот уголок Подмосковной Швейцарией и цены задрали до швейцарских. — Он обвел рукой квадрат примерно десять на десять метров. — Сейчас этот клочок земли стоит сорок тысяч долларов.
Старик замолчал, потом покряхтел и сказал:
— Сергей, а ты не позволишь нам подняться к тебе в мастерскую? Я понимаю, это не очень удобно, но… А?
— Ну что ж, — улыбнулся Сергей, ссаживая недовольного кота на траву, — давайте поднимемся.
На втором этаже, под самой крышей, находилась небольшая комната, в которой едва умещались большой стол у широкого окна и узкая кушетка в темном углу. Почти всю поверхность стен занимали стеллажи с книгами, красками, кистями, баночками.
— Вот она, самая большая наша драгоценность, — сказал Сергей. — Образ Иоанна Предтечи кисти самого Андрея Рублева. Видите, четыре слоя более поздней прописи, — показал он рукой, — а вот уголок, написанный великим иконописцем, — здесь я уже расчистил. Краска из размолотого малахита, яркая и сочная. Моя задача — удалить поздние слои и восстановить образ в первозданном виде.
— Слушай, Серега, — взволнованно прохрипел Игорь, — а где ОМОН? Они что, так умело спрятались? Да ведь эта икона, по мировым ценам, небось, не меньше полумиллиарда долларов стоит!
— …Если не больше, — кивнул Сергей. — А охраняют эту великую драгоценность ангелы Божьи. Думаю, это поэффективней ОМОНа будет.
За ужином Сергей показывал видеофильм о своих путешествиях. Вот он с группой реставраторов работает в самом древнем христианском храме в Египте, вот он в Турции в Мирах Ликийских, в Ростове Великом, Саратове, на Кипре, на Афоне…
— Слушай, Сергей, — спросил Игорь, — и как тебе это удаётся: работа любимая, богоугодное восстановление храмов, икон — еще платят, наверное, неплохо? Да ты счастливый человек!
— Верно, счастливый, — кивнул реставратор, — только ты же знаешь, брат, не будет нам на земле абсолютного счастья. Я не очень-то люблю об этом говорить… Но вам скажу. У меня за это счастье вся семья болеет: отец после инсульта лежит четвертый год, матери от диабета ступню отрезали, у жены язва желудка, у сына жена мегера, отказывается внуков рожать — фигуру портить. А сам я зрение теряю по две единицы в год и позвоночник так болит, что иной раз на стену от боли готов залезть. Так что за любое счастье нужно платить, брат.
Ранним утром, когда солнце первыми робкими лучами обласкало сырую росистую землю, мы выкопали дубовый саженец. С корнями и налипшей землей аккуратно переложили в ведро. Взяли каждый по лопате и пешком пошли в монастырь. По дороге старик объяснил, что его благословили вместо рухнувшего пятисотлетнего бука, посаженного преподобным Саввой, посадить дубок. На древние буковые деревья напала болезнь, выкосила почти всех великанов. Справа от нас шумела дорога, по которой неслись дорогие автомобили, обдавая нас грязью и выхлопами. Наконец, от дороги прямо по траве поднялись мы на горку и слева обошли белые стены красавца-монастыря.
— Вот тут и снимал Андрей Тарковский свой «Солярис». …Те сцены, где Крис в исполнении Баниониса прощается с Землей. Вон там стоял дом отца. К нему потом с год ездили паломники, поэтому власти дом разобрали. Ну а озеро и река на месте, как видите. Тут недалеко мать Тарковского снимала дачу, так что ностальгия по детским воспоминаниям привели режиссера именно сюда.
Посадили мы дубок, водой из святого источника полили. Отошли и со стороны посмотрели на хрупкий росток, выглядывающий из земли. И не подумаешь, что через несколько лет он превратится в мощное дерево, под развесистой кроной которого, быть может, будут отдыхать от солнечного зноя наши внуки. Спустились к речушке. Знаменитые вьющиеся водоросли еще не выросли. Берег реки и песчаное дно были замусорены. Но зеленоватая вода по-прежнему текла и текла, не обращая внимания на человеческую нечистоплотность.
Игорь со стариком заговорили о «Солярисе», вспоминая самые замечательные кадры. Оказалось, более всего отпечаталась в памяти не космическая тема, а именно земная. Причем, и первые кадры фильма, где Крис прощается с Землей перед отлетом на космическую станцию; и те, которые Крис показывает фотонной Харри; и, разумеется, последние, смоделированные недрами «философствующего океана»… Мои глаза снова смотрели на живой реальный пейзаж, а память поднимала из глубины и словно на киноэкране показывала мне чарующие кадры под музыку Артемьева и хоральную прелюдию Баха.
Вьющиеся водоросли в струях воды, осока по берегу реки, огромные лопухи в росе, плывущие над лугом туманы, корявые столетние вязы, вибрация влажного воздуха от птичьего пересвиста и лягушачьего кваканья, бегущий по траве красивый жеребенок, ряска на умирающем озере и сухие деревья на берегу, седеющий Крис в синей кожаной куртке с металлической коробкой для кипячения шприцов, девочка в белых джинсиках приседает в книксене в ответ на «здравствуй» мальчика, сменяющие друг друга зима, осень, лето; женщины в длинных платьях с огромными печальными глазами, выщербленная монастырская стена — всё это плавно, без суеты и спешки под струящуюся органную музыку… И в завершение, очищающий светлый дождь — и Крис на коленях перед отцом, как персонаж Рембранта на полотне «Возвращение блудного сына».
Обогнули крепостную стену, у знакомого старику вратарника оставили лопаты с ведром и вошли под сень монастыря. Тут по асфальтовым дорожкам между храмами и братскими корпусами толпами бродили паломницы в платочках и длинных юбках, наши и европейские люди в шортах и мини-юбках. Монахи, склонив головы, шагали по своим делам. За их спинами черные мантии развевались подобно крыльям больших птиц. Мы, задрав головы, любовались золотом куполов, белизной стен. Опускали ослепшие на миг глаза и смотрели на цветы и зеленую траву газонов. Зашли в храм, поставили свечи перед образами. Поклонились мощам преподобного Саввы. Помолились в царском приделе.
Вышли из храма и сразу увидели нашего старика в ветхом рубище и нечесаной растительностью вокруг сияющего лица.
— Пошли! Я доложил игумену о посадке дубка, а он благословил поднять вас на колокольню.
По крутой каменной лестнице мы поднялись на самую верхотуру. Унимая дрожь в ногах, оглядели с высоты голубоватые дали с темными деревеньками, аккуратными домами в три-четыре этажа, зеленые перелески, вьющуюся ленту реки. Затем подошли к огромному колоколу и погладили его прохладные округлые бока.
— А что если раскачать этот десятипудовый язык и ударить в набат? — спросил я, теребя в руках толстую веревку, привязанную к нижнему концу языка.
— Во-первых оглохнем, а во-вторых, прогонят с позором и больше не пустят. В обители без благословения ничего делать нельзя. Кстати, если сейчас пойдете в скит, можете успеть на исповедь к старцу. Я туда пока не вхож, — вздохнул он тяжко, — он мне по причине злоупотребления отказал. А вы идите с Богом.
Тайными тропами, через бурелом, горы мусора и кучи сваленных деревьев пробрались мы к высокому каменному забору, за которым виднелся шатер храма. Скит напоминал крохотный монастырёк. Вошли внутрь, объяснили пожилому монаху-вратарнику, что идем к старцу. Он махнул ручкой — туда, в церковь. В полутемном храме после уличного солнца с трудом разобрали где аналой и кто к нему последний. Перед нами стояли четверо монахов и трое мирян. Видимо служба тут читалась неспешно, по монастырскому уставу, поэтому мы застали еще литургию оглашенных, хор умилительно распевал блаженства:
«…Блажени плачущие, яко тии утешатся.
Блажени кротции, яко тии наследят землю.
Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся. …»
Почему-то именно блаженства меня больше всего успокаивали и обнадеживали. Мне очень хотелось верить или даже знать, что наши земные скорби обязательно получат вознаграждение в будущем веке. Наконец, я приблизился к месту судилища. Теперь между мной и согбенным старцем стоял один только мужчина в костюме. Вдруг я почувствовал, как страх холодными волнами перекатывается по спине и затылку. Когда мужчина отошел, я понял, что не могу и шагу ступить — ноги не слушались. Игорь тогда слегка подтолкнул меня, и я на одеревеневших ногах поковылял к аналою.
— Что, страшно каяться? — участливо спросил старый монах. — Ничего, зато на Страшном суде полегче будет.
Наконец, я собрался с мыслями и стал называть свои грехи. Потом старец спрашивал, а я отвечал, потом я задавал вопросы. И вот исповедь закончена. Епитрахиль легла на мою голову, прозвучала долгожданная разрешительная молитва. Я поднял голову и наткнулся на лучистый взгляд старого монаха.
— Знаешь, Андрей, ты ступил на верный путь. У тебя хороший проводник, — кивнул он в сторону Игоря. — Но тебе, как воину Христову, необходим щит. Молитвенный щит. — И он назначил мне ежедневное молитвенное правило.
— Батюшка, — воскликнул я, — да я же и половину не потяну! У меня работа, куча дел…
— Ничего, — успокоил он меня, — ты только начни. Вот увидишь, Господь так устроит твои дела, что появится время на молитву. Только прошу тебя, сынок, старайся выполнять это правило. А то лишишься щита и можешь получить ранения. Держи щит и не опускай. Благослови тебя Господь.
На следующее утро я впервые прочитал все вмененные мне молитвы и с непривычки почувствовал легкую усталость. И тут мне позвонил мой начальник и сообщил, что на работу выходить не нужно: «Дела наши плохи. Придется отдать половину помещений в аренду. Так что работай на дому. Переходим на обмен данными по интернету. Зарплату будешь получать на кредитную карточку. Так что, Андрей, можешь теперь хоть в Сочи, хоть на Кипре жить и по интернету с нами связываться. Свой процент от аренды, как акционер, тоже будешь получать на карточку. Так что еще и дополнительный заработок будет. Всё понял?»
Ну надо же — я акционер! …Как-то увольнялся мой приятель Стас. Что-то скучно ему стало, вот и ушел на вольные хлеба. В последний рабочий день захотелось ему «проставиться» так, чтобы запомниться коллегам хорошим благодарным парнем. Отвел он меня в закуток и протянул пухлую пачку акций:
— Бери за пять флаконов.
— Откуда у тебя столько?
— В шахматы выиграл.
На работе азартные игры были строго запрещены, поэтому любители игры на деньги использовали в своих корыстных целях легальные шахматы.
— Да на кой они мне?
— Придет время, попомнишь меня добрым словом.
Нехотя взял я эту пачку, небрежно сунул в карман пиджака и выдал другу требуемую сумму. Потом предъявил их начальству, и оказалось, что у меня на руках 12% акций нашей фирмы. Прав оказался Стас: даже эти с виду несерьезные бумажки могут приносить доход.
Сбылась мечта раба — я получил свободу. Не надо приходить в контору и протирать там штаны, не нужно выслушивать сплетни, объедаться тортами с женщинами и пить вино с мужиками. Не нужно покупать хорошую престижную одежду, чтобы выглядеть не хуже других. Рассказал новость Игорю, а он будто этого ждал:
— Я же говорил, что будет только лучше! Да и старец тебе обещал вымолить время на молитву. Так что получай желанное.
— Это что, вот так всё и делается?.. — только и сказал я.
— То ли еще будет! А знаешь, мы пожалуй осуществим твою мечту о тропической стране.
— Эй, эй! — воскликнул я в замешательстве. — Успокойся.
— Я спокоен, как гора Казбек, — сказал он с улыбкой. — Сейчас возвращаемся в Москву, быстренько собираемся и выезжаем в наши родные тропики. В путь!
«Рай» на земле
Дальше события понеслись с вихревой скоростью. Часто психика и воля давали сбой, погружая меня в беспамятство. Сначала мы ехали на электричке домой, потом на такси — в аэропорт. Потом летели в Ту-154 в Симферополь, оттуда — на троллейбусе доехали до Гурзуфа. Старая знакомая Игоря выдала нам ключи от комнат на втором этаже дома. Все эти стремительные перемещения для меня проходили будто во сне. Я читал, молился, спал, ел, садился и вставал…
…И вот мы с Игорем сидим на пляже и, мокрые после купания, с аппетитом доедаем копченую курицу с розовыми помидорами. Перед нами шуршит волной ласковое море, над головами сияет яркое солнце, слева — гора Аю-Даг, похожая на медведя, пьющего воду прямо из моря. На западном склоне горы, у самого моря, белеют корпуса некогда знаменитого пионерского лагеря «Артек».
Рядом с нами сидели две тучные мамы шоколадного цвета с сыновьями-подростками, разговаривали они на украинском языке. Я спросил сидящего рядом со мной мальчика, откуда они? Он меня не понял и посмотрел на мать. Она ему перевела мои слова на украинский, и тот недружелюбно посмотрел на меня и сказал:
— Ни «откуда», а «видкиля»! Зрозумив, дядько? Мы з Львова.
— Ах, «западэнцы», — «зрозумив» я, и лишь пожал плечами: по старой памяти считал Крым исконно русской землей, незаконно подаренной Украине бесноватым гонителем Церкви — Хрущевым. Пару раз выходил я на набережную, посещал места общего пользования, ужасно вонючие; покупал виноград, свежевыжатый сок, мороженое. За спиной дважды услышал «москаль поганый», оглядывался и напарывался на взгляд молодого парубка, наглый и злой. И всюду: давай баксы, гривны…
По пути с пляжа нам попалась странная тройка длинноволосых мужчин: двое ослабших тащили на плечах третьего, обессилевшего. Свернув за угол, мы с Игорем поняли, откуда они такие — на маленькой площади рядом с автостанцией стояли две металлические бочки с вином, вокруг толпились люди, некоторые с мольбертами. «Здесь дом творчества художников» — объяснил Игорь.
Чуть позже я их видел повсюду — они по-домашнему заселили волнорезы, набережную, старинные улочки; они стояли перед раскрытыми этюдниками на длинных ножках и водили по картонам и холстам кистями. Вечером художники со товарищи собирались на набережной у кафе, стилизованного под исполинскую бочку. Внутри этого сооружения стояла дородная женщина с цепкими глазками и разливала крымское вино, сзади неё на полках выстроились десятки образцов знаменитых марочных и столовых вин. Кто мог купить, тот покупал себе и обязательно еще кому-то, например тем, у кого деньги кончились.
Странные волосатые и лысые люди сидели на камнях набережной, на гальке пляжа, на деревянных топчанах, тихо говорили, бренчали на гитарах, читали стихи, спорили о течениях, стилях, озарениях. А над ними, и над нами, в черном небе мерцали россыпи звезд, ритмично скрежетали цикады, вскрикивали птицы, тихо шуршала морская волна, в которой купался растущий месяц. Мы расположились на теплом каменном парапете, дегустировали вино «Черный доктор» из пластмассовых стаканчиков и слушали, как рядом, за бамбуковой перегородкой беседки кто-то нараспев гнусавил:
— Мы сюда не на разборки приехали, братан. Отдыхай. Вернемся в столицу и тогда состыкнёмся на стрелке. А сейчас отдыхай! — Из-за бамбука пахнуло страхом и сладковато-горьким дымом конопли.
Вечером я понял, что сильно обгорел, меня бил озноб, кусали москиты, мухи и слепни. В своей комнате я обнаружил двух скорпионов и рой москитов в углу у форточки. Ночью почти не спал. Меня тошнило, кожа чесалась, москиты звенели у самого уха и больно кусались. Завернулся во влажную простыню с головой, меня бросало то в жар, то в холод. Наутро меня пронесло. Хозяйка в качестве лекарства предлагала самогон из инжира, от одного запаха которого меня тошнило. Слава Богу, с утра прошелестел дождь, и мы вместо пляжа пошли в храм. Хозяйка сказала, что его недавно построили и объяснила, как туда пройти.
Храм святителя Николая выглядел великолепно, сиял белыми стенами и золотом иконостаса. Видимо, я так усердно молился, что мне полегчало и, когда мы оттуда вышли, я чувствовал себя намного лучше. Потом гуляли по городу, обедали в кафе борщом с пампушками и варениками.
А потом дошли до пирса, у которого величаво раскачивались белоснежные яхты. Огромный загорелый дочерна мужчина окликнул Игоря, и мы взошли по трапу на борт судна. Михаил оказался москвичом, изредка заглядывал в клуб «Спящий лев». Он объявил, что завтра выходит в море, и пригласил нас в круиз. Мы согласились.
Дома я сказал Игорю, что чувствую на душе камень: мне с работы прислали тексты двух повестей страниц на триста, а я всё никак не могу приступить к редактуре.
— Не проблема! — сказал Игорь, и мы встали на молитву. Через полчаса он сказал:
— А вот теперь работай.
И я сел за ноутбук. Вообще-то, скажу без ложной скромности: редактирую я быстро. Триста страниц для меня — неделя работы. Но в тот вечер мне удалось справиться с недельным объемом за… три часа. Я листал текст с немыслимой скоростью, останавливаясь именно в тех местах, где имелись ошибки. Будто невидимый гениальный помощник сам указывал мне, куда необходимо обратить внимание.
Завершив редактуру, я еще раз стремительно пролистал текст и на этот раз увидел его цельным, как огромный кристалл, без чужеродных включений. Поделился наблюдением с Игорем, на что он ответил:
— Слава Богу. А теперь давай поблагодарим. — И мы встали на благодарственную молитву. Отправив тексты по интернету в редакцию, я прочел вечернее правило и заснул с приятным чувством выполненного долга. А ночью тот, кто помогал мне в работе, водил мою душевную составляющую по небесным красотам, а я просто подчинился ему и отдался на волю безграничной светлой радости.
На рассвете вышли в море. Над серовато-зеленой тихой водой слоился утренний туман, который медленно поднимался к небу. Я бросил последний взгляд на Гурзуф и понял, что никогда больше по своей воле сюда не приеду.
Как ни странно, шли мы не под парусом, а на мощном двигателе, с ветерком. Михаил все время возбужденно шутил, перекрикивая рёв двигателя, шум рассекаемой волны и свист ветра в ушах. Через два завтрака и один легкий сон в каюте, мы оказались в Цемесской бухте Новороссийска. Сошли на берег и гуляли по набережной. После качающейся под ногами палубы твердая земля производила странное впечатление: словно чего-то не хватало. Затем наблюдали швартовку океанического лайнера и заливку нефтью огромного нефтяного танкера. Прошлись по каштановому бульвару, пили кофе в открытом кафе и наблюдали странное зрелище — девушек в морской курсантской форме. Видимо, принцип «женщина на корабле — к беде» отменен и сдан в архив. На многолюдном рынке, занимавшем целый район города, купили продуктов — свежей рыбы, огромных помидоров, вишни, молодой картошки. Загрузили покупки в такси, привезли в порт. Закат солнца застал нас на борту яхты. Рассекая золотисто-сизые волны, наше судно летело белой морской птицей по линии горизонта вдоль берега.
Рано утром я проснулся и выглянул в большое округлое окно. Мы стояли у причала Сочинского морвокзала. На палубе Михаил командовал заправкой горючего, а Игорь — спокойный, как гора Казбек, — улыбался утреннему солнцу. Он вежливо-занудно напомнил мне о выполнении молитвенного правила, и я на час вернулся в душную каюту. Прогулка по Сочи запомнилась стадами машин, чадящих голубоватым смогом, множеством бритых затылков и дамочек весьма легкого поведения. Отдыхающие трудящиеся, казалось, попрятались по переполненным пляжам, квартирам «под ключ» и гостиничным номерам. Я еще помнил Сочи моего детства — по большей части одноэтажные домишки в зарослях кипучей зелени и редкие острова домов отдыха, больше напоминающие дворцы с толстыми белыми колоннами и фонтанами, неторопливо гуляющие семьи, мужчин в пижамах, дамочек в домашних пестрых халатах под китайскими зонтами. По полупустому Черноморскому шоссе тогда проезжали открытые автобусы, везущие весело поющих трудящихся на озеро Рица, к Агурским водопадам, на гору Ахун, в Ново-Афонские пещеры. На широких дорожках и лестницах ботанического парка «Дендрарий» голосистые экскурсоводы рассказывали, из какой тропической страны завезены сюда это длиннохвойная сосна, пробковое дерево или толстенная лиана, а передовики производства аккуратно записывали это в блокноты.
В тот жаркий день нас окружал совсем иной город, больше напоминающий нелепую карикатуру на французскую Ниццу или, скажем, американский Майами. И всё здесь было — шикарные коттеджи, отели с зеркальными фасадами, роскошные рестораны и поющие фонтаны, отравленный автомобильными газами воздух, пробки на дорогах, энергичные брюнеты, кующие капиталы на приезжих, наркоторговцы и сутенеры — словом всё, кроме того, что так притягивало сюда в прежние времена: ароматной южной неги в тени буйной тропической зелени. Домашний уют заменила вездесущая криминальная тревога. Этот город перестал быть оздоровительным курортом, его превратили в огромный насос по откачке денег у приезжих.
Завернули мы в Кудепсту, где навестили давнего приятеля Михаила. Этот печальный грек по имени Апостолос устроил ужин на веранде и рассказал, как по просьбе приезжего полковника ФСБ повёз его на озеро Рицу. Полковник захотел съездить в шашлычную, что метрах в пятистах от озера, выше в горах. Там действительно подавали прекрасный шашлык на косточке из свежайшей баранины и домашнюю изабеллу, густую и пахучую, как мёд. И все бы хорошо, только на обратном пути их машину остановили вооруженные автоматами дикие абреки. Они отняли у гостей все ценное, вплоть до запасной канистры бензина, зажигалки и носового платка. Громко смеялись над словами полковника ФСБ о личном знакомстве с президентом Абхазии и офицерами Девятого управления. Отобрали у него красное удостоверение с золотым гербом и — слава Богу — отпустили живыми. На прощанье гостеприимные горцы приглашали приезжать почаще, только денег с собой просили брать в следующий раз побольше.
Этих дикарей, конечно, можно понять: они живут в нищете, питаются кукурузной кашей, работы нет — а тут белые люди с «кучей» денег, на сверкающей лаком иностранной машине! Ну как таких богатеньких да не попросить поделиться с нищими горцами сокровищами? К тому же наблюдательный полковник сказал чуть позже, когда они вернулись в Россию и успокоились, что глаза у грабителей были безумными, с расширенными зрачками. Видимо, ребятки, накурились крепкой абхазской конопли. Когда грек узнал, что Михаил направляется в Абхазию, он замахал большими крестьянскими руками:
— Ой, ребята, не надо туда ехать! Ограбят…
Мы, не сговариваясь, пожали плечами: ну, ограбят, значит, судьба такая.
А чтобы успокоить старого грека, Михаил рассказал историю о вине. Как-то пригласил его очень нужный человек в гости на юбилей. Миша заглянул в магазин французских вин и с помощью тамошнего сомелье выбрал в подарок «Шато Петрюс» урожая 1964 года по цене десять тысяч долларов за бутылку. Эта драгоценность возлежала в сафьяновой коробке на соломке в специальной салфетке, тщательно укрывающей зеленоватую пыль, осевшую на стеклотаре в тиши подвала за долгие годы выдержки. Прилагался так же сертификат на пяти языках, удостоверяющий подлинность вина. Понимаете, человек ну очень нужный и к тому же знаток и любитель коллекционных вин, пояснил рассказчик. Старик Апостолос долго еще чмокал сухими губами и возмущенно закатывал глаза к фиолетовому звездному небу. Юбиляр оценил подарок, горячо поблагодарил Михаила, но раскупоривать бутылку благоразумно воздержался и аккуратно поставил её на почетное место в роскошный резной бар с подсветкой и музыкой. Как говорится, прошли годы… И вот однажды компаньон уже на его, Михаила, юбилей подарил ему бутылку «Шато Петрюс» урожая 1964 года. И Миша сразу узнал то самое вино, которое он давным-давно самолично вручил юбиляру. Можно представить, сколько праздников и юбилеев обошла эта бутылка в зеленоватой плесени, прежде чем вернуться к первому хозяину! Тогда Михаил решился прервать цепь круговращения и к всеобщей радости открыл её и разлил гостям.
— Ну и как вино? — спросили мы хором, вытянув шеи.
— Да, честно сказать, — вздохнул рассказчик, — обычная терпкая кислятина с привкусом пробки и серы. На мой вкус, домашняя изабелла нашего добрейшего Апостолоса ничуть не хуже! — И он обнял хозяина за плечи, чуть не доведя его до стариковских слез.
С наступлением ночи мы спустились к морю. По дороге напевали старую добрую песенку, звучавшую некогда в исполнении Эдуарда Хиля: «Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая Земля, ля-ля-ля-ля!». На пустом берегу сидела компания из трёх человек, зачарованно смотревших на лунную дорожку. Она жидким серебром разлилась по черной морской воде, которая далеко-далеко сливалась с таким же черным небом. Мы сбросили одежды и прямо по лунному серебру вошли в жутковатую прохладную черноту. Когда привыкнешь, вода кажется теплей воздуха. Звезды теперь окружали нас: плескались вокруг и высоко в небе.
Заплыли мы далеко, казалось, до той невидимой линии, где небо падало в морскую пучину, а море восходило ввысь. Мы остановились перевести дыхание. Движения рук у поверхности и ног под водой почти не возмущали черной тишины. Сначала Игорь, потом Михаил, а следом и я — погрузились на глубину. Я открыл глаза и увидел удивительную картину: мы увлекли за собой тысячи пузырьков воздуха, они весело кружились в жемчужном вихре. Яркий лунный свет играл в каждой жемчужине, окружая наши тела светящимся облаком. Мы всплывали и глотали воздух, потом погружались на глубину, кружились и кувыркались в упругих струях воды, как птицы в тугих потоках воздуха. И смеялись, как дети. Вернулись на веранду молча, но едва присев к столу, разбудили дремавшего старика, заговорив о великих стихиях: вода, воздух, свет. Каждый из нас ощущал их по-своему. И эта тема казалась неисчерпаемой и великой, как сами эти неохватные взаимно проникающие вселенные, и над всем парил Дух и вдохновлял нас.
И все же поутру, не смотря на протесты Апостолоса, мы отбыли в Абхазию. С палубы наблюдали, как густонаселенные отдыхающими пляжи Адлера сменились пустыми абхазскими берегами, сверкающие частные гостиницы и огромные дворцы Российского побережья — полуразрушенными строениями древней послевоенной Иверии. Пристали мы к пирсу в обширной бухте Нового Афона.
Игорь повел нас к давнему знакомому — армянину по имени Гамлет, тихому, седому, но вполне еще крепкому мужчине. У него на самом берегу стоял пустой двухэтажный дом с пятью комнатами: жена умерла, дети разъехались кто куда. Мне Игорь посоветовал комнату с видом на море, которое плескалось всего в десяти метрах. Михаил занял соседнюю, но предупредил, что он задержится только на денёк — порыбачить, а потом продолжит круиз. Не теряя времени, они с Гамлетом взяли снасти и на катере укатили на рыбные места. Этот Михаил — какой-то человек-оркестр, дизель-генератор! Ни минуты покоя!
В моей комнате кроме железной кровати и дубового шифоньера имелись кресло и книжные полки. Среди прочих я обнаружил романы Жоржи Амаду и Пауло Коэльо, португальский словарь и туристический путеводитель по Бразилии, которые меня заинтересовали. Возникла догадка, что сын моего хозяина собирался переселиться в Рио-де-Жанейро. Из имевшихся источников создалось впечатление, что единственное безопасное место в Бразилии — это центральный район Рио и пляж Копакабана — да и то в дневные часы. Казалось, люди вовсе не обращают внимания на распростертые объятья Иисуса Христа, огромная статуя Которого возвышается над городом на высокой горе. В отдаленных от центра районах зверствовала мафия, сокращая продолжительность жизни местного населения до 35 лет. Лесные дебри сельвы буквально кишели ягуарами, ядовитыми змеями, пауками и скорпионами, реки — крокодилами, пираньями, огромными питонами, которые целиком заглатывают людей.
Видимо, сын Гамлета провел немало времени, мечтая о Бразилии, казалось, комната пропиталась знойным духом вожделенных тропиков. Может быть поэтому, ночью мне приснилась Бразилия. Там свистели бандитские пули, сверкали ножи, торговали девушками и детьми, наркотиками, оружием. В животном мире стоял хруст костей, которые перемалывали челюсти; раздавался треск раздираемой кожи, влажный воздух раздирали предсмертные вопли жертв и повсюду — громкое непрестанное чавканье. Ноздри обжигал острый на жаре тошнотворный смрад гниющей плоти.
Среди ночи я несколько раз в ужасе просыпался от оглушительных раскатов грома. Над бухтой между черными тучами и серебристо-черной водой змеились огромные ослепительные молнии.
Хмурым утром хозяин чинил пострадавший от ночной бури навес. Михаил спешно собрался и стал прощаться: ему предстоял путь на Кипр. Мы обнялись, попрощались, и он энергично устремился в сторону пирса, где белела быстроходная яхта. Капитанской походкой вразвалку дошел до поворота, махнул рукой и скрылся за скалистой стеной. Игорь тоже поднялся и ушел навестить друзей.
Мне представилась возможность посетить главную местную святыню — Ново-Афонский монастырь. По каменистой дороге, среди стрельчатых кипарисов и садовых деревьев, виноградных лоз и огромных розовых кустов поднялся я на гору. Здесь, бежево-красный, величественно-царственный, стоял красавец-монастырь византийской архитектуры. Когда я вошел внутрь храма, меня удивили его размеры — расписной купол парил очень высоко. Снаружи он казался гораздо меньше. Там, на самой высоте, Отрок Иисус с большими глазами восседал на коленях Бога Отца. Чуть ниже в небесном пространстве парил образ Пресвятой Богородицы, обеими руками благословляющей прихожан. Когда прикладывался к иконам Богородицы «Избавительница» и великомученика Пантелеимона, за спиной услышал шепот: «Несколько дней назад во время воскресной литургии иконы мироточили». Обошел все иконы, долго разглядывал фрески, напоминающие по стилю роспись Киевского Владимирского собора. Постоял в стасидии, о которых только читал. В этих сооружениях с подлокотниками для опоры локтями и спиной монахи проводят долгие часы неспешных монастырских служб. Увы, ничего такого необычного я почему-то не ощутил, поэтому вышел из храма несколько разочарованным. Видимо, что-то я сделал не так. Ну что ж, нужно спускаться вниз, к морю.
Дома встретил меня хмурый Гамлет и сказал, что после бури до завтрашнего полудня будет сильно парить. Посоветовал растопить печь и просушить постель и белье, а заодно погреться самому: при стопроцентной влажности и холодном ветре простыть ничего не стоит. Приподняв несколько верхних поленьев, я увидел свернувшуюся в клубок змею и отшатнулся. Пришлось переждать, пока аспид уползёт подальше. Развешивая бельё в натопленной комнате, в стопке белья обнаружил большого черного скорпиона. Где-то невдалеке завывал шакал. Что-то мне подсказывало, что тропики и вообще юг — не для меня.
Я сидел на береговых камнях и смотрел на пузырящиеся мутно-желтые волны. На сером небосводе не было видно ни единого просвета. Ко мне подошел старый пёс в кудлатой волчьей шерсти и с достоинством присел в трех метрах от моих кроссовок. Он смотрел на меня не в упор, а как-то сбоку. Вспомнилось, что взгляд в упор в животном мире расценивается, как угроза. Сбегал я домой и принёс колбасы, сыра и остатки вчерашней рыбьей требухи. Положил в метре от собачьей морды. Он едва заметно втянул ноздрями воздух, вежливо вильнул хвостом и осторожно подошел ко мне. Я протянул руку и потрепал его горячую пыльную шерстяную холку. Тогда он придвинулся вплотную и впервые взглянул мне в лицо. Казалось, пёс благодарно улыбнулся. Он положил морду на передние лапы и прикрыл глаза. Я погладил его большую голову, шею, спину. Пёс глубоко вздохнул и едва слышно заскулил. И только после этого проявления уважения ко мне, он поднялся, потянулся и лениво, как бы нехотя, подошел к еде. Ел он весьма аккуратно, хоть наверное, непросто ему было сдерживать себя, чтобы не наброситься на еду и не проглотить одним махом. Аристократ, подумал я.
Наконец, пёс доел всё до последней крупицы, облизнулся и опять, смотря куда-то вбок, подошел и улёгся у моих ног. Благодарно взглянул в мою сторону и учтиво отвел глаза. Теперь он зорко оглядывал окрестности, охраняя меня от возможных врагов. Я сходил в комнату за молитвословом, вернулся и стал прочитывать молитвенное правило. Пёс продолжал свой дозор, но уши теперь повернул ко мне. Он ловил каждое слово и, казалось, понимал всё, о чем я читал вслух. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне… (Рим. 8, 19-22)
…И в сон желанье смерти вселено
Итак, совершив познавательный «тропический круиз», мы вернулись домой. Снова звонили мне друзья-товарищи и буквально требовали, чтобы я поделился, наконец, своей жилплощадью. Снова стоял я крепко, оберегая возможность в тишине разобраться с теми событиями, которые вошли в мою жизнь. Но не всегда это удавалось. Первой прорвала блокаду соседская девочка по имени Диана. Но перед этим я получил нечто вроде предупреждения…
Включил как-то в приступе задумчивости телевизор, а там — кино.
Вернисаж под открытым небом в Питере. Таинственный Покупатель в черных очках и с волосяным хвостом выбрал картину. Ему Художник предлагает еще одну, с тучной женщиной у ручья:
— Смотрите: красиво, эротично.
— Красота и эротизм, молодой человек, — понятия разнополярные, — говорит назидательно Покупатель профессорским тоном. — Эротизм — это проявление агрессии и страха, а красота — это покой, умиротворение.
— То есть, вы против эротики? — удивляется Художник.
— Эротика — это хаос и разрушение, постыдный страх бренности бытия. И высшее проявление этого — женщина.
— А вы случайно не из «Комнаты потерянных игрушек»? — сдавленно спрашивает Художник.
Очень скоро не в меру любопытного Художника находят мертвым от передозировки героина — весьма распространенный с некоторых пор способ убийства…
Я выключил телевизор. Не люблю мрачные детективы, особенно приправленные модной черной мистикой. Но слова таинственного Покупателя врезались в память и оставили там щемящее чувство безотчетного интереса. Может именно поэтому, примерно через полчаса, я снова механически кликнул кнопкой пульта — там по черному фону ползли титры и звучала песня: «Поднимаюсь, спотыкаясь — По ступеням не спеша. — Я от мира отрекаюсь — Надрывается душа!» Снова — щелк по кнопке пульта — и наступила тишина. Да, умеют киношные ребята интерес возбудить…
Диана позвонила в дверь и, не обращая внимания на мои дежурные возражения, просочилась внутрь квартиры. Не спросив разрешения, плюхнулась на диван и эффектно скрестила длинные ноги в лосинах. Тряхнула головой, рассыпав пушистые волосы по плечам, повернула ко мне лицо, демонстрируя махровую тушь на густых ресницах и жирную лиловую помаду на пухлых капризных губах.
— Что, Андей, — назвала она меня как в детстве, — судьба, кажется, подарила мне шанс?
— Ты это о чём? — спросил я настороженно.
Спросил о том, что и так знал, в основном для того, чтобы выиграть время и прийти в себя. С родителями девочки мы по-соседски дружили, заходили друг к другу безо всякого повода, так, чайку попить, луковицу занять, червонец до зарплаты стрельнуть. Маленькую Диану я носил на плечах, дарил ей игрушки, сажал на колени, кормил с рук зефиром, расчесывал густые длинные волосы.
До того, как наступило отрочество, Диана не отличалась от других симпатичных малышек. Правда, родители говорили о ней, будто девочка вполне самодостаточная. Она часами играла одна, подолгу слушала пластинки со сказками, сидя в полутемной комнате, смотрела на видеомагнитофоне мультики. Для родителей и гостей это было очень удобно, потому что ребенок не отрывал их детскими вопросами от недетских тем, и называлось это явление научным словом «нейтрализация». Однако, девочка подросла и стала требовать к себе внимания, преимущественно мужского. Поначалу это выглядело немного потешно и вполне невинно. Только по мере взросления Дианы стал замечать, что её неумелая женская агрессия стала лично меня как-то неприятно задевать.
В свои шестнадцать лет она успела перепробовать на мне целый арсенал приёмов соблазнения. Она заваливалась ко мне домой и в крохотной мини-юбке, и в кожаных шортах в обтяжку, и в махровом банном халате с влажными волосами. Бывала она при этом несколько пьяной, разок даже заявилась обкуренной травкой — такие шалости в её семье не считались чем-то криминальным. Более того, этому давалось так же вполне научное определение: «опыт расширения сознания», что по мнению «продвинутых» родителей сообщало добровольному сумасшествию вполне легальный статус. Натыкаясь на таран девичьей наглости, я принимал незваную гостью сухо, вежливо и, с трудом справляясь с раздражением, как можно скорей выставлял за дверь. Протянула как-то она мне DVD-диск с эротическими фильмами, а назавтра, иронично улыбаясь, спросила:
— Ну и как?
— Обычная пошлая дешёвка для озабоченных прыщавых подростков, — пожимал я плечами. — Мне кажется, что девочка твоего интеллигентного воспитания могла бы интересоваться чем-то более глубоким.
— Куда уж глубже? — прыскала она и замолкала, напарываясь на мой отчужденный холодный взгляд. Заканчивались её потуги обычно тем, что она надувала губки, фыркала и возмущенно покидала мою жилплощадь.
И вот Диана стоит передо мной и берёт мою окаменевшую руку в свою теплую и мягкую ладошку. Глаза у неё мутные то ли от анаши, то ли от гармональной истомы. Зрачки расширены, от чего глаза напоминают черную болотную трясину, которую мне доводилось однажды обходить в лесу под Хлюпино, где собирал грибы. Мне это нравилось всё меньше и меньше, но я тупо молчал, находясь в состоянии, подобном параличу. Наконец, её вторая рука по-кошачьи мягко легла на моё плечо, а лицо с полузакрытыми глазами стало приближаться к моему. В голове пронеслось: «как тающий на солнце шоколад». И тут из памяти всплыли слова инспектора из романа Богомила Райнова «Инспектор и ночь», и я вслух процитировал:
— С чего ты взяла, что эта ужасная помада тебе к лицу?
— Дурак, — изящно отпарировала она и резко отпрянула, скорчив обиженную мордашку, все еще по-детски пухлую.
— А теперь послушай меня, дитя непутёвое, — сухо сказал я, очнувшись. — Поищи-ка для своих романтических экспериментов кого-нибудь помоложе.
— …Да ты сам-то их видел, Андей, тех, кто помоложе? — воскликнула девушка. — Дебилы и недоноски.
— Как раз твой уровень. Так что вперед. Дверь у тебя за спиной.
— Другой бы на твоём месте!.. — начала было она.
— Я на своём месте, Ди, а других тут нет. — «Ди» мы называли её с отцом в честь английской принцессы Дианы. — Повторяю: дверь сзади. Иди учить алгебру. Я слышал от папы, у тебя по ней одни двойки. Родителям — горячий привет!
— О, shit! — выругалась она по-импортному и, запрокинув голову, двинула на выход. Жаль, что девочка усвоила из английской речи только ругательства, а ведь я в детстве учил её таким словам, как любовь, верность, чистота, мягкость, терпение…
Грохнула входная дверь, и я, наконец, остался один. Вышел на балкон, сел в кресло и задумался. А ведь, на самом деле, может случиться и такое, что я не смогу устоять под натиском такой вот энергичной бесстыдной фурии. А что если она меня застанет в момент малодушия? А если на меня самого нападет блудная истома, и я сам превращусь в тающий под солнцем шоколад? …А тут она — без комплексов, длинноногая, гибкая и готовая к разнообразным экспериментам по расширению бессознательного. Как потом смотреть в глаза родителям? Каково будет ощущать себя потасканным Гумбертом, помешанным на нимфетках, при встрече не с киношной, а реальной Лолитой, живущей в соседней квартире? Надо будет поговорить на эту тему с отцом девочки. Впрочем, сдаётся мне, разговор будет бесполезным: как-то во время праздничного застолья соседушка сказал: «Знаешь, старик, девушке этого не миновать, поэтому уж лучше кто-то опытный и хороший знакомый, чем обкуренный отморозок в грязной заплеванной подворотне». И при этом недвусмысленно в упор посмотрел на меня, как бы оценивая и одновременно утверждая. O tempora! O mores! Нет! Это можно обсуждать только с Игорем. Наверняка у него есть практический опыт отражения такого рода агрессии.
Что лучше всего отвлекает от мутных проблем? Правильно — уборка помещения и приготовление обеда! Я надел на голову беспроводные наушники «Wi-Fi», поставил на музыкальном центре диск «Абба» и включил погромче. С первыми гитарными аккордами, бухнувшими непосредственно по барабанным перепонкам, я встрепенулся, надавил ногой на корпусе пылесоса кнопку «Вкл» и размашисто заелозил всасывающей кареткой на роликах по лысоватому старенькому паласу. Потом прошелся влажной мешковиной с надписью «сахар» на длинной швабре по линолеуму. Потом забросал в стиральную машинку белье, добавил порошка в одну ячейку, кондиционер в другую и включил второй режим. Заглянул в холодильник, порыскал по полкам и составил список того, что нужно купить в магазине. Снял наушники, выключил музыкальный центр. Удивился наступившей тишине. Надо же, как тихо вокруг, подумал я. Впрочем, с каждой секундой шум за окнами нарастал, и я расслышал стрекот газонокосилок, рёв мотоцикла, детский крик и монотонный шум автомобильного стада на проспекте под окнами. Не обращая внимания на угрожающее ворчание стиральной машины и возможность получить удар током, ополоснулся горячей, а затем холодной водой. Переоделся и выбежал в магазин, чтобы, как сейчас говорят, «сделать шопинг».
Когда список покупок был почти отработан, а сумка достаточно растолстела, я услышал душераздирающую мелодию «Stop» Сэм Браун. Закачала мне её на сотовый Лора, полагая, что коль уж они с английской певицей похожи, этот блюз будет постоянно напоминать мне о возлюбленной. Пожалуй, это был тот самый редкий случай, когда наши с Лорой мнения совпали. Когда я впервые увидел по MTV клип этого хита Сэм Браун, в первую очередь удивился внешнему сходству певицы с Лорой, ну а во вторую — мощным вокалом и совершенной музыкальностью песни. Так шептать в микрофон, будто это отчаянный вопль души, от которого по спине пробегают мурашки — это, конечно, надо уметь. Не успела прозвучать первая фраза: «All that I have is all that you've given to me…», как я надавил ногтем на зеленую кнопку и услышал хриплый голос Федора Семеновича:
— Андрей, ты где?
— Где я? В shop’е! — заорал я в трубку, пытаясь перекричать рекламу французского сыра по магазинному радио. На меня с ироничным удивлением оглянулось несколько человек. Пришлось исправлять ситуацию: — По-вашему, по-простому, — в магазине.
— А-а-а, — уныло протянул старик. — Как насчет, встретиться и поговорить?
— Я не против, — сказал я. — Только не раньше, чем через полчаса. — Улыбнулся я. Получилось нечто-то вроде «ча-ча-ча».
— Ладно. Приходи в сквер, на третью скамейку от метро. Жду.
Дома я разложил покупки, поставил на плиту скороварку с мясом. Между делом вспомнил, как однажды попробовал удивительно вкусный суп в доме одного старого холостяка из отставных военных. В том супе ничего особенного-то не было: кусочки мяса, картошка и морковь. Я спросил «настоящего полковника», в чем секрет? Тот улыбнулся и сказал: всё просто: мясо варить надо не меньше десяти часов, а вода должна быть родниковой. С тех пор и я варил бульон как можно дольше. Воду для супа специально покупал в отделе детского питания в пятилитровых канистрах с Вини Пухом на этикетке. Правда, добиться того «полковничьего» вкуса, так и не удалось.
Порылся в гардеробе, подумал и надел белую футболку, бежевый летний костюм из мятого льна, причесался, опрыскался туалетной водой «Аква ди Джио» — всё это непрестанно напоминало о Лоре ноющей тоской. Неужели это зависимость?.. Минут через сорок встал у третьей скамейки. Старик сегодня облачился в небесно-голубой диоровский пуловер, того же цвета джинсы «Левайс» и теннисные туфли «Адидас». Да, ему не откажешь в умении метнуть бисер. Он поднял на меня сонные глаза сенбернара. Улыбнулся, втянул большими ноздрями воздух и рявкнул: «Арма-а-ани! Ну, ни в чём себе не отказываешь…» — и пообещал скоренько закончить шахматную партию матом в три хода.
И вот мы бредём по каштановой аллее, а старый светский лев рассказывает одну из своих правдивейших историй:
— Вот ты думаешь, почему я с тобой сейчас иду? Что, мне делать нечего? Нет, дорогой Андрюха, иду я с тобой потому, что мне тебя Игорь порекомендовал, а я лично убедился, что ты человек надежный и наш! Что такое «наш» понимаешь?
— Очень примерно, — кивнул я, теряясь в догадках.
— Наш — значит православный, — пояснил он. — А значит, с тобой можно говорить на темы, которые для других людей, мягко говоря, малоинтересны и непонятны. А ты поймешь. Вот посмотри на этого старого хрыча, который ковыляет рядом с тобой, молодым и безумно красивым юношей.
— Вообще-то мне сорок три, — уточнил я, — и юношей меня можно назвать с очень большой натяжкой.
— Ха! Мальчишка! Мне-то уже шестьдесят семь по паспорту и сто сорок из расчета год войны за три мирных. Да, не скрою, когда-то и я тоже был молодым и безумно красивым юношей. Но, увы, эта война отняла у меня силы и здоровье.
— Какая война? — спросил я, сделав подсчет в уме. — Когда Великая Отечественная закончилась, вы были еще ребенком.
— Кака-а-ая, — проворчал он. — Та самая, что начинается, когда входишь под церковные своды. Духовная!.. Она, Андрюха, не затихает ни на секунду. Боевые действия ведутся непрестанно. Шаг вперед — два назад. Всё, как на плотском плане, только более изощренно: пули, осколки, ядовитый газ, грязь, гной, кровь — и много, много раненных и убитых! Вот ты недавно встал на этот путь и пока стоишь на запасном пути в составе только что укомплектованного полка. Еще пара-тройка лет, первая призывная благодать уйдет, и ты по гроб жизни будешь воевать за каждый миг того счастья, в котором сейчас купаешься, как в океане. Чуть на копейку сделаешь чего-нибудь доброго, как приходит счет на миллион, и ты оплачиваешь его по полной программе. Думаешь, чего ради старый индюк на фанту подсел?
Раньше-то я к этим удовольствиям был вполне индифферентным. В главке столько зарабатывал, что перепробовал всё что можно в лучших ресторанах Москвы, Праги и Софии. Пресытился! Мне бы давно успокоиться и перейти на стариковский кефир с овсянкой, а тут прилипла ко мне эдакая страсть позорная. Страм! — вздохнул старик. — А всё почему? А потому что, сидя еще в начальственном кресле, успел в собственность матери-Церкви вернуть несколько храмов. Чего мне это стоило — отдельный разговор. Так вот после этого, так называемого, успеха, видимо, чтобы не превознесся и не пал от духа гордости, Господь попустил мне нести крест позора и всеобщих насмешек. Ведь у нас пьют все, и все как один любят поиздеваться над пьющим человеком. Так ты старику фанты купишь?
— У меня другое предложение, Федор Семенович, — сказал я. — Пригласили меня в один рассадник девичьей красоты. Так я предлагаю туда, для разнообразия, визит нанести. Чтобы сразу одним махом два вопроса решить: и ваш, и девичий. Вы как?
— А это еще лучше! — воскликнул светский лев. — Я молодежь люблю, особенно женского пола. Идём.
Мы заглянули в универсам, где долго выбирали французское вино и йогуртовый фруктовый торт, из тех, что не портят дамам фигуры. Потом подумали и на всякий случай прихватили хлебного вина — для старика, по его сугубой просьбе.
По дороге в торговый центр я позвонил по сотовому и предупредил дам, что мы идем в гости. Из трубочки прозвучало «милости просим, всегда рады». Пока шли, рассказал старику, как я с ними подружился.
Как-то вызывает меня начальник и говорит:
— Зарплата у тебя неплохая, а одеваешься, как бомж. Я тебе премию выписал, так ты уж приоденься, чтобы за тебя стыдно не было.
Иду я с этой премией в наш торговый центр, обхожу магазины и выбираю для себя «Балтийский стиль». Во-первых, там обнаружилась по-настоящему добротная и стильная одежда, которая шьется не в Китае или Турции, а в странах Балтии. Во-вторых, меня там приняли как родного, вежливо, гостеприимно. Моему приходу там искренне обрадовались. Девушки продемонстрировали столько разных вещей! Другие бы психанули и нагрубили, а эти — сама вежливость, само терпение. Казалось, что они были заинтересованы в том, чтобы подобрать именно то, что не дорого, мне идет, чтобы я остался довольным.
Но и это не всё. Девушки там были настолько красивы, будто их набирали в модельном агентстве. В первый раз я покупал себе куртку. Перемерял штук двадцать. Выбрал одну из космической ткани, не горючей, не гниющей, не рвущейся и при этом тонкой и бархатистой. Но стоила она пятнадцать тысяч! Тут спускается директор, вежливый такой господин, спрашивает:
— За сколько вы бы хотели ее купить?
— Ну, — говорю, — за полцены.
Он кивает головой и велит девушкам:
— Отпустите за полцены. Пусть это послужит началом большой дружбы.
Девушки — нет чтобы огорчиться по поводу потери своих комиссионных, — обрадовались! Наконец-то им удалось угодить покупателю! На прощанье, директор закрыл магазин и велел накрыть на стол, чтобы отметить обновку и знакомство. Мне это всё понравилось, и стал я туда заходить почаще.
Дальше — больше. Девушки звонили мне и сообщали о прибытии из Бенилюкса новой коллекции. Примеряли мне что-нибудь и советовали купить:
— Вам это идет, вы в этом такой элегантный господин!
Я смотрел на ценник и охал:
— Дорого!
Тогда они звонили мне через две-три недели и приглашали в гости. Я выбирал торт полегче и приходил к закрытию магазина. Девушки запирали дверь, ставили чайник, выставляли чашки-ложки — и мы разговаривали. Оказывается, несмотря на красоту, а может именно благодаря ей, у них обнаружилась куча-мала проблем. Тут и конкурс на поездки заграницу, и домогательства мужской части начальства, и ревность мужей и болезни деток. Ну, поплачутся девушки в мою кожаную жилетку, попьют чайку, а потом вскакивают и радостно объявляют:
— А теперь померьте еще раз тот льняной норвежский костюмчик, который вам в прошлый раз понравился.
Надеваю, восхищаюсь и осторожно одним глазком читаю ценник. А там вместо двадцати тысяч — всего-то две.
— Ну как, — спрашивают, — эта цена вас устроит?
— Еще бы!
Одной из продавщиц, была моя Лора. Только удержаться там ей долго не удалось, наверное, возник конфликт с начальством. Она перешла в другой магазин той же сети, какой-то стоковый. Заработки на новом месте были гораздо ниже, а привычка одеваться хорошо осталась. Может быть поэтому, бедная женщина так азартно вымогала у меня деньги. Бедная, бедная Лариса. Нужно будет позвонить ей как-нибудь.
В магазине «Балтийский стиль» нас приняли как всегда с той естественной радостью, которую невозможно сыграть. В тот день работали шатенка Лена и блондинка Юля. Взглянув на девушек, Федор Семенович закрыл лицо, будто ослеплённый. Потом церемонно приложился усами к ручкам и, закатив глаза, осыпал дам витиеватыми комплиментами. Пока девушки закрывали дверь, накрывали на стол, старик прошелся по магазину и пальцами указывал на иконки и крестики-«голгофки», развешанные по четырем сторонам света. Девушки заметили это и сказали хором:
— А вы как думаете! Мы тут работаем в мусульманском окружении. Нам без святых никак.
— В таком случае это очень многое объясняет, — сказал мне старик, видимо, имея в виду мой рассказ по пути в магазин.
За пару часов девушки подобрали нам одежду из последней коллекции, поделились своими бедами, съели торт и выпили вино. В дверь несколько раз стучали соседки по торговому центру, такие же продавщицы, только менее эффектные. Старик рассказал о том, как он добился аудиенции и чуть не побил лицо одному героическому маршалу. «Нет, а чего он всюду кричит, что он выиграл войну! С кем? С собственным народом? Знаете, как его называли в армии? Мясник!» Потом поведал историю о своём блиц-романе с Шэрон Стоун, попойке с Микки Рурком и ссорой с Николасом Кейджем. На открытии «столовки» «Планеты Голливуд» познакомился с Патриком Суэйзи, поблагодарил его за фильм «Привидение» и напророчил, что тот умрет от рака, как человек светлый и добрый. Затем он встал и торжественно прочитал собственный стих: «…И синеву потряс пасхальный звон — Ты жив и ты непобедим, мой Третий Рим! — Стою сейчас на грани двух миров: — Один истлеет — а другой воспрянет, — Один меня убьет — в ином восстану — И в вечность перейду в объятия отцов».
— О, старая гвардия живёт и побеждает! — воскликнул я. — Как сказал бронзовый Король из мультика «Зачарованный мальчик» деревянному Боцману: «Ты еще крепкий старик, Розенбом!»
Старик иронично улыбнулся и победно обозрел диспозицию. Девушки порозовели, глаза их сияли, они улыбались, сверкая ровными зубками, по-деревенски подперев подбородки кулачками. И только резкий стук в дверь прервал наш праздник — вошел супруг Лены, бдительно осмотрел помещение и предложил развезти дам по домам. Старик встал, церемонно поклонился ему, представился и величаво пробасил:
— Какое сокровище досталось вам, молодой человек. Эти юные создания даже меня сумели развеселить! В их милом обществе я словно помолодел. Берегите их! Это наше национальное достояние!
Из магазина мы вышли в душные сумерки. На серо-голубом небе розовели перистые облака. Заливисто свистели скворцы, стайкой рассевшиеся по траве лысоватого газона. От ближайшего ресторана веяло ароматом жареного на углях мяса и душистых специй. Мне же не давала покоя одна строчка в его стихотворении, и я решился задать автору вопрос:
— Федор Семенович, а почему в стихотворении сказано «один меня убьет…»?
— Заметил, — пробурчал снова постаревший светский лев.
— Мне известно, что поэтам часто во время вдохновения приходят на ум пророческие слова.
— Не знаю, как насчет пророчеств, — сказал он медленно, — но сдаётся, нет у меня другого пути спасения души. Немало натворил я в этой жизни всякого-разного. — Он вскинул печальные глаза и сказал: — Спасибо тебе, Андрей, за этот вечер. Пожалуй, тебе я могу признаться. Уже много лет молю я Господа послать мне мученическую кончину. Понимаешь, я не боюсь мучений, увечий, пыток, не боюсь сдохнуть ночью под забором, истекая кровью. Одного боюсь — услышать от Спасителя на Суде самые страшные слова: «Отойди от Меня, делатель беззакония, во тьму кромешную!» …Потому что вижу себя по жизни именно таким вот «делателем». А у меня чисто эстетическое отторжение геенны. Знаешь, какой там смрад, какой мрак и ужас! Ты послушай! — Он извлек из кармана изящную записную книжку в синей коже и спросил: — Узнаёшь?
— Да, — кивнул я, — примерно такую же я видел у Игоря.
— Правильно. Много-то не надо. То, что здесь написано, вполне достаточно для спасения. Если, конечно, не только читать, но исполнять. Сейчас, только очки водружу на носоглотку… Ага, вот. Слушай. Верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Это Послание апостола Павла к Евреям, глава одиннадцатая. Ты понимаешь меня, брат?..
— Да, — сказал я чуть слышно, — во всяком случае, очень пытаюсь понять. Только думаю, что вы несколько преувеличиваете. Мне с вами хорошо, как со старым другом. Значит, человек вы добрый.
— Много ты зна-а-аешь, — прохрипел он устало, хлопнул меня по плечу: — Прощай! В случае чего, прошу считать меня антикоммунистом! — Издал серию высокочастотных звуков, изображая смех, и свернул к своему дому.
Последнее «прощай» как-то сильно резануло по сердцу. Я смотрел вслед Федору Семеновичу и видел одинокого смертельно усталого человека, сгорбленного от неимоверной тяжести, которая давила и давила на него.
Задумчивым вернулся я в свою холостяцкую берлогу. Медленно переоделся и, только войдя на кухню, обнаружил, что забытая мною скороварка все еще шипит. Я снял её с плиты и сунул под струю холодной воды. Когда из-под крышки вышел пар и она осела, я снял её и увидел, что в густом бульоне бесформенными островами высятся куски мяса. Еще полчаса и у меня всё бы тут сгорело. Я добавил кипятку из чайника и отложил приготовление супа до завтра.
Сам же вышел на балкон и погрузился в кресло. Мне почему-то было до боли в груди жалко старика. Представились его слезные молитвы о даровании ему мученической смерти, вспомнились спокойные слова об увечьях и пытках. …Истекая кровью ночью под забором… Какое искреннее покаяние горит в его изношенном сердце! По сравнению с ним я теплохладный заморыш!..
В ту душную звездную ночь где-то недалеко истошно заливался соловей, я смотрел на глубокое звездное небо в розовой пене облаков, а видел умирающего под забором старика. Неожиданно, словно сама собой, появилась в груди молитва, вырвалась из горла горячим шепотом. И слова той молитвы были непривычны, но так стройны и красивы, что не было у меня сомнения Кто их автор и Кто «положил глаголы сии на сердце мое». Молитва была о Феодоре, Игоре, Ларисе, девушках из магазина, начальстве, соседях. Потом вдруг помянул будущую жену и детей — они на миг будто вышли из тумана моего неведения и тут же исчезли. Потом поминал своих покойников… Напоследок прозвучали слова благодарности Спасителю, Пресвятой Богородице, всем святым, ангелу-хранителю… Когда слова иссякли, я устало склонил голову к груди.
Вдруг пространство, ограниченное моим сгорбленным телом, каким-то неведомым способом раскрылось, распахнулось — и я оказался на огромном бескрайнем поле с перелесками. Невдалеке отражала синеву небес вода широкой реки. Я оглянулся и увидел за своей спиной пригорок с тремя плакучими березами. Под ними сидели и мирно беседовали два человека. Мне очень захотелось принять участие в разговоре, я приблизился к ним со спины, медленно обошел и встал, как вкопанный. Да, я узнал их — это были Игорь и Федор Семенович. Конечно, выглядели они непривычно, на них переливалась разными оттенками белого цвета струящаяся одежда вроде хитонов. Лица их сияли, а в глаза и смотреть было больно от льющегося из них света.
— Ну вот ты и пришел, брат, — сказали они хором, не открывая рта.
— Где это, что это? Я умер? — спросил я не своим голосом.
— Ты не пугайся, это еще не смерть. Ты здесь для отдыха и успокоения. Подышишь здешним воздухом, посмотришь на эту реку, поле, небо — да и вернешься домой.
— А вы тут часто бываете?
— Иногда, — улыбнулись они. — Когда терпение на исходе. Или от любви к людям изнемогаешь. Ты походи тут и получше запомни это место. Когда сильно устанешь, приходи. Мы всегда рады будем тебя видеть.
Я побежал по склону холма к реке. Трава слегка пружинила и словно подбрасывала меня вперед. Воздух наполнял легкие целебной свежестью. Глаза жадно впитывали окружающую красоту. Легкие ароматы текли в струях воздуха, то теплых, то слегка прохладных. Прозрачная, чуть голубоватая вода реки отражала небесный свет и одновременно увеличивала камешки на песчаном дне и причудливые кустики водорослей. В траве под ногами ползали жучки в переливающихся панцирях, прыгали кузнечики, открывая на лету розовые крылья; а вот синеватой стрелой метнулась к воде серебристая змейка. Над раскидистым кустом с крупными ярко-бордовыми цветами в лучах света кружили насекомые, показавшиеся мне знакомыми. Да, это были комары. Так вот почему они на земле кровь пьют, — они ею питаются взамен красного сока этих цветов!
За пригорком на излучине реки я увидел нечто уже знакомое. Мне доводилось видеть это раньше на старинной гравюре: бок о бок мирно лежат белый ягненок и огромный рыжий лев, который ласково, по-матерински, лижет кудрявую спинку малыша, а тот с явным удовольствием урчит и закатывает глазки. А вот из реки выполз ярко-зеленый крокодил и устроился рядом с парочкой и приоткрыл пасть, словно улыбаясь. Те приветственно кивнули ему. Низко над нами спланировал белокрылый орел и так же сел на траву и стал её аккуратно клевать.
Я вернулся к холму, на котором по-прежнему сидели и разговаривали мои друзья. Они будто услышали мой невысказанный вопрос и сказали:
— Господь отсюда не виден. Здесь пребывает лишь отсвет Его славы в виде рассеянного повсюду света. А увидим мы Господа только после смерти тела.
— А вы видели Его? — спросил я.
— Только издали, за спинами и головами множества людей более достойных, чем мы сами, — ответили они.
— А я увижу?
— Обязательно, потому что здесь уже нет времени. И суд Божий тут происходит вечно, как излияние любви на человеков.
Очнулся я от прохлады и оглянулся. Я сидел в старом кресле на своём балконе. На востоке розовел восход солнца. Соловей по-прежнему сотрясал прохладный воздух замысловатыми трелями. Над недавно скошенной травой поднимался прозрачный туман. И только где-то далеко спросонья тявкнула собака и одинокий прохожий спешил к станции метро. Удивительный покой невидимо и величаво летел над землей. А я чувствовал себя совершенно счастливым человеком. В теле продолжала пульсировать молодая свежесть, в голове — ясность, в сердце — тихое ликование.
Спать не хотелось. Я принял душ, почистил зубы, оделся и встал на утреннюю молитву. Прочел ее на одном дыхании, легко и весело. Решил доделать то, что не успел вчера — сварить суп. Перед кончиной мама будто наверстывала что-то упущенное в моем воспитании. Она учила меня снимать показания электрического счетчика, оплачивать коммунальные счета, правильно выбирать продукты питания, жарить котлеты, резать салат, варить суп… Она просила, требовала, наконец, чтобы я обязательно каждый день съедал тарелку супа. Дело в том, что болезни желудка в нашей семье — нечто вроде родового проклятия, поэтому горячие бульоны и хорошо проваренные овощи так жизненно необходимы.
Лора не признавала супов, в обыденной жизни ей вполне достаточно было салатов и жареного мяса. Еще она постоянно покупала сыры с белой и синей плесенью, какие-то «Камамбер», «Бри», «Рокфор» и даже, простите, «Данаблу» и «Блё де Кос». Мне они напоминали прессованные дрожжи, политые одеколоном. На праздники всегда заказывала пиццу с доставкой на дом или покупала в соседнем японском ресторанчике сильно перченую рисовую лапшу, суши и роллы. Для меня же супы — щи, борщ, куриная или грибная суп-лапша, харчо, уха, летом окрошка — были основой питания. Поэтому эти блюда, как сказала Лариса, «закрепились за мной».
Только я вымыл и почистил овощи и приступил к резке лука, только пролил первую традиционную слезу, как в дверь позвонили. Глянул на часы: семь утра! На пороге стоял Игорь и смущенно извинялся:
— Прости, Андрей, мне показалось, что я мог бы к тебе зайти. Не помешал?
— Да нет, — обрадовано сообщил я, — самое время! У меня была сказочная ночь.
— Вот поэтому я и пришел, — сказал Игорь, тщательно отмывая руки под шипучей струёй воды над мойкой.
— Ты знал? — удивился я, шинкуя злющий лук.
— И знал, и видел, и слышал, — кивнул он. Снял со стены разделочную доску, выбрал нож поострей и принялся крошить морковь.
— Так это был не сон? — Опустил я руки в удивлении.
— Как тебе сказать, — потер он тыльной стороной ладони переносицу. — Это всегда останется тайной для нас. Я тебе расскажу, что этому предшествовало. Позвонил мне Федор Семенович и сказал, что в ответ на твою дружескую услугу он тебя… вроде бы испугал.
— Да не то, чтобы испугал, скорей опечалил.
— Неважно, — махнул Игорь. — Просто тебе всё это пока внове. Надо бы тебя к этому приготовить. Понимаешь, желание мученичества — это даже давно воцерковлённые люди далеко не все могут понять. Смерть вообще часто вызывает у людей панику, резкое отторжение. Это, наконец, страшно. …А тут не просто смерть, а мученическая, добровольная! Как у первых христиан, которые постоянно жили в состоянии опасности. Они ведь каждый день проживали как последний, а на мучения шли с радостью. В общем, подумали мы с Федором Семеновичем и решили устроить тебе встречу в Преддверии рая. Как? Ну, конечно, молитвенно, с помощью Божией. Вот так ты туда и попал.
Потом вдруг Игорь поднял глаза и сказал:
— Ты мясной суп готовишь?
— Да. Уже и мясо отварил.
— А ты знаешь, что через три дня пост начинается? Лучше свари постный, а мясо за эти три дня съешь вприкуску.
— Спасибо, что подсказал. А как мне к ночному приключению относиться?
— В основном спокойно. Как к незаслуженной премии, выданной в качестве аванса.
— Понимаю.
— Одно скажу точно — тебе легче будет даваться созерцание. Все-таки ты кое-что уже видел воочию. Тебе легче будет понять, ради чего человек уединяется и предстаёт Вседержителю один на один, лицом к лицу.
Игорь ушел, а я сел, потому что, как сказал Удав из мультика «38 попугаев»: «У меня появилась мысль, и я её думаю». Итак вопрос: зачем ездил я в наши черноморские тропики? Зачем, спрашивается, читал о Бразилии и даже видел её во сне? Почему так неспокойно и плохо себя там чувствовал? Вот каким-то образом мне показали рай. Отныне я могу сравнивать земной тропический «рай» и небесный. И что-то мне подсказывает, что сравнение не в пользу земного: дорого, ехать далеко, жадные люди, опасность… А рай небесный — теперь всегда со мной, во мне… Я могу его вспоминать. А, может быть, даже и снова посетить его блаженные светлые дали!
Охотник и жертва
Странный человек Игорь проживал, что характерно, в странном доме. Его комната одновременно находилась на первом и на втором этажах. Одни окна выходили на наружную галерею второго этажа, противоположные — во двор, на цокольную галерею. Это оттого, что дом стоял на горке. Входную дверь комнаты он почти никогда не закрывал, поэтому входили к нему запросто, все кому не лень. Вообще-то раньше ему принадлежала вся четырехкомнатная квартира — она досталась ему по наследству от покойных родителей. Но однажды у него поселилась девушка по имени Матильда, знакомая знакомых. Ну как, скажите на милость, девушке с таким именем жить в поселке Кучино, известном разве только керамическим заводом! Поэтому она и приехала «завоёвывать» Москву. Вполне логично и даже извинительно, по мнению Игоря.
Пожила девушка, огляделась, даже привыкла к новому имени Мотя — именно так её называл Игорь в память о покойной бабушке. Игорь делился с гостьей практически всем: жилплощадью, деньгами, едой и даже одеждой — у девушки фигура была точь-в-точь, как у Игоря, только туловище чуть короче и плечи поуже. А потом как-то проснулся в миловидной девушке Моте хищный зверёк. И куда только, спрашивается, подевались милая провинциальная непосредственность и девичья хрупкая пугливость, чувство благодарности, наконец?
Напоила Матильда нашего Гошу, подсыпав какой-то порошковой дури в бокал с красным вином, и вероломно склонила к низменному сожительству. Потом объявила о беременности… Потом, заламывая руки, взывая к его совести, размахивая медицинской справкой, заставила пойти в ЗАГС. Потом, сделав аборт, развелась, привезла сына от первого брака, продала кое-что из фамильных драгоценностей Беклемишевых, наняла ушлого адвоката и отсудила три комнаты. После развода и размена она предложила ему снова сойтись, вероятно, чтобы со временем не потерять и четвертую комнату, а, может быть, для того, чтобы в лице бывшего мужа иметь няньку, сожителя, а может, охранника — кто ж её поймет… Игоря, чтобы не мешал, отделила стеной. Из его комнаты имелся выход наружу через балконную дверь. Так он стал жить на четвертушке собственной квартиры, нимало этим не смущаясь. Хищный зверёк внутри Матильды вцепился в горло доброй девочки и одержал над хорошей частью её души сокрушительную победу.
После моего знакомства с Матильдой, когда я успел поговорить с ней, а так же услышать две версии случившегося, Игорь имел неосторожность спросить, что я думаю о ней.
— Помнишь мультфильм «Волшебное кольцо»? — начал я издалека. — Там есть такой момент: кошка с собачкой идут за свадебной процессией и говорят: «Кака гангрена нашему Ванечке досталась, хуже карасина». Ну вот так, примерно…
— Тебе еще многому предстоит научиться в общении с женщинами, — глубоко вздохнул он. — Например, бесчисленному прощению их слабостей.
— Ничего себе слабость! — возмутился я. — Напоить, отравить, изнасиловать, обворовать человека, который тебе предоставил кров, помощь… По-моему, это не женская слабость, вроде обморока от дурного слова, — это самая что ни на есть силища злобы.
— Уверен, ты не прав, — тихо сказал Игорь. — Она хорошая, только как бы заколдованная, зачарованная, что ли. Увидишь, Мотя еще опомнится, и всё у неё будет хорошо.
И не только я, но вообще никто так и не сумел Игоря заставить сказать о бывшей жене хоть одно дурное слово. Нет, только «моя подруга», «моя Мотя» — и не иначе. Он видел, как мимо окна на «половину» бывшей супруги захаживали мужчины и оставались на ночь. Сын «благоверной» иногда среди ночи стучался к соседу и просился переночевать, потому что гости часто пели и танцевали под громкую музыку до утра. Игорь жалел одинокого мальчугана, всегда с радостью оставлял у себя и подолгу читал ему сказки, оберегая сон.
Как он и сказал при знакомстве, источников доходов у Игоря было несколько и все какие-то малонадежные, если не сказать призрачные. Например, его иногда звали в оценщики антикварной мебели, картин, букинистических изданий. В кругах антикваров обеих столиц его мнение высоко ценилось. Он профессионально реставрировал старинные вещи, иконы и даже часы. Иногда выезжал с экспедициями от музеев, а бывало — в командировку от Центра реставрации имени И.Э.Грабаря. Он не мог отказать знакомым, когда те обращались к нему с просьбой, но быстро «перегорал» и с трудом дотягивал до конца работы. Корпеть месяцами над каким-нибудь предметом старины — это не для него. Созерцатель!..
Однажды во время одной из командировок в Ново-Афонский монастырь с ним случилось нечто очень важное. Игорь встретил женщину и впервые в жизни полюбил. После обманов, истерик и махинаций жены, а также после общения с тысячами эмансипированных женщин, он встречает её. Необычную женщину, странную, как он сам. В длинной юбке, с воротником блузки под горло, тихую, с двумя детьми и светлой печалью в огромных карих глазах. Во время грузино-абхазской войны она потеряла мужа и родителей. Жила на копеечную зарплату и тем, что выращивала и продавала на рынке со своего участка земли.
Там, на Ново-Афонском рынке, они и встретились. Игорь заглянул сюда выпить кофе, по которому соскучился. А так же коллеги-реставраторы попросили купить вяленой рыбы к пиву, по которому соскучились они. Он медленно расхаживал вдоль торговых рядов, чувствуя неуклонное расширение сосудов и приятное кофейное послевкусие, высматривая рыбу, которой почему-то не было. Порой Игорь останавливался, чтобы полюбоваться видом на монастырь, стоявший чуть ниже и похожий отсюда на пасхальный кулич, облитый розовой глазурью, окруженный свечами темно-зеленых кипарисов. Смотрел на ярко-синее море. Поднимал глаза к горячему небу и разглядывал прозрачные белесые облака, быстрых ласточек, медленных орлов, седые вершины гор, и по-кошачьи жмурился от солнца. От торговых рядов к нему тянулись десятки дочерна загорелых женских рук. Его зазывали гортанными голосами энергичные горянки — и вдруг…
…Она стояла тихо, как тонкая березка среди высотных пальм и хищных лиан, и кротко смотрела на покупателя большими глазами. Игорь остановился, как громом пораженный, и долго смотрел то в эти застенчивые глаза, то на лиловый инжир, оранжевую хурму, две пластиковые бутылки с красным домашним вином, то на её опущенные тонкие руки с золотистым загаром. Он долго не мог совладать с голосом, чувствуя как подгибаются колени, а пальцы рук мелко дрожат. Пропали внешние звуки, движения, запахи. Вся огромная вселенная, которую вместил в себя Игорь Беклемишев, в тот миг сосредоточилась в глазах этой тихой молодой женщины, хрупкой, как девочка-подросток.
— Сколько?.. Сколько всё это стоит? — наконец, хрипло спросил он, обведя рукой товар.
— Триста… Нет, двести рублей, — едва ли не шепотом ответила она.
Он достал из кармана куртки пятисотенную купюру и протянул ей:
— Без сдачи. Как у вас говорят: под расчёт.
Она смутилась, обрадовалась, аккуратно уложила бутылки с вином и нежные фрукты в два пакета. Он взял их, и вдруг — будто вихрь пронесся в голове. Он осмелел, тряхнул головой и сказал:
— Простите, ради Бога. Можно я вас провожу?
— Можно, — тихо сказала она, опустив глаза.
На веранде её дома играли сыновья, с удивительными, не по-детски грустными глазами. Мальчики говорили с ним на чистом русском языке совершенно без акцента, а между собой, то ли по-грузински, то ли по-абхазски. Они чинно отужинали вчетвером кукурузной мамалыгой с перчёной солёной фасолью. Мальчики вежливо попрощались и без капризов ушли в спальню. И только вдоволь налюбовавшись сверкающим морем, мужчина и женщина заговорили между собой, и он услышал, наконец, её имя: Лидия. Тихая женщина работала учительницей русского языка и литературы. Они в двух словах рассказали друг другу о своей жизни, потом читали стихи, но больше молчали. И в этом молчании двух подобных людей таилось столько таинственного смысла, столько нерастраченной любви и нежности!..
Всю дорогу домой Игорь повторял это сладкое и душистое, как вино; напевное, как песня из детства; родное до боли в сердце, самое красивое имя на земле — Лидия. Теплой ночью он сидел в своей комнатке в продавленном старом кресле, слышал похрапывание хозяина-армянина за стеной, смотрел на алмазную звездную россыпь по черному небу, спускался к морской воде, садился на теплый камень, погружал ноги в шипящую пену и снова повторял это сладкое имя — Лидия.
На следующий день она спросила, как же случилось, что такой красивый, умный и добрый мужчина до сих пор не встретил свою половинку. Игорь тогда рассказал свою историю. Как-то давным-давно родители привезли его в Гагры. Ему быстро надоела курортная жизнь. Раздражала шумная, вечно жующая и пьющая компания. Утомлял переполненный пляж, многолюдье, наглые усатые мужчины, кокетливые томные женщины, влажная липкая жара… Он часто сбегал на море, уединялся в потаенном месте, в расщелине отвесной скалы, на крохотном пляже, что подальше от галдящей потной толпы. Там в уютной тишине под мерный плеск морской волны читал, купался, часами любовался морем и небом.
И вот однажды пришел он встречать закат солнца и на своем любимом потаенном месте увидел девочку. Сначала он разозлился и хотел прогнать ее, но, приглядевшись, отложил свое намерение. Девчушка вела себя примерно так же, как он сам: сидела почти неподвижно, устремив восторженный взгляд на линию горизонта, где в это время пылающее солнце опускалось в багровое море. Ее хрупкая фигурка в необычно длинном платье почти растворилась в сиянии заката и девочка казалась невесомой, как летящая птица, как тихая песня, как струя теплого ветра.
Юноша тихонько подсел рядом. Теперь они оба зачарованно смотрели на это красивейшее действо — закат солнца. После того, как солнце скрылось за линией горизонта, еще не меньше часа его золотистые отблески освещали небо. Игорь осмелел, насколько смог успокоил грохочущее сердце и заговорил с девочкой. Она не разозлилась, не прогнала его, не стала кокетничать или дичиться, наоборот — заговорила с ним легко и непринужденно, как со старым знакомым. За какие-то полчаса Гоша понял, что влюбился насмерть, что эта необычная девочка и есть его вторая половина — ведь они так подходили друг другу. Гоша набрался смелости и сказал об этом. Девочка помолчала немного, низко опустила голову, закрыв личико занавеской каштановых волос и смущенно согласилась — она чувствовала то же самое. Еще три вечера провели они вместе на берегу моря — и родители увезли её домой. Внезапно. Просто однажды вечером он пришел на своё потаённое место, а её там не было. Осталось только имя — Лидия. Остались только самые светлые воспоминания и ноющая боль в груди.
Лидия слушала рассказ с широко распахнутыми глазами. После того, как погас последний звук последнего слова, наступила тишина, которую нарушал только ритмичный плеск пенистой морской волны, едва различимый шелест ветра в листве старого ореха и далекое стрекотание цикады.
— Так это был ты, — прошептала она. — Игорёк, дорогой ты мой, дня не было в моей жизни, чтобы я не вспоминала о тебе. Только тебе по ночам я рассказывала о своих бедах и радостях. Только ты меня всегда понимал и любил, хоть и не был рядом со мной.
— И я тоже… Теперь ты понимаешь, почему… Впрочем, ты всегда всё понимала.
А потом он вернулся домой, и были письма. Много писем! Они летали между Игорем и Лидией, как белые почтовые голуби. И ежегодные встречи во время командировок Игоря или отпусков. Они так же сидели на веранде её старого скрипучего дома, смотрели на ласковое море и большую часть времени молчали.
В ту пору, когда мы с Игорем познакомились, сыновья Лидии выросли, переехали в Адлер и устроились на работу в строительную бригаду. Игорь понимал, что им нужны деньги: мальчикам на жилье, Лидии на ремонт дома. И в это самое время, когда Игорь пытался найти деньги, или хотя бы занять, бывшая жена Игоря решила его… продать. И это не в переносном, а самом прямом смысле этого слова. Один из её ухажеров, выслушав историю отношения супругов, попросил устроить ему встречу с Игорем. Встреча состоялась.
В комнату Игоря вошел вальяжный господин в дорогом костюме, седой, но подтянутый, и представился: Макс. Он рассказал, что некий закрытый клуб весьма солидных мужей ищет одиноких мужчин для одной увлекательной игры. Правила её просты: есть охотник, и есть жертва. Охотник выслеживает жертву и убивает. С жертвой заключают договор, выплачивают сто тысяч долларов и пока всё. Потом, когда-нибудь, потенциальную жертву переводят в разряд активных, на неё выводят охотника — и начинается настоящая охота с обязательным летальным исходом жертвы. Но у каждого охотника есть только две попытки. Если вторая попытка будет неудачной, жертва отпускается на свободу. Значит, не судьба!
Разговор с Максом быстро утомил Игоря, поэтому он обрадовался, когда перед ним появился толстый договор и авторучка. Без лишних слов Игорь подписал договор и получил на руки десять пачек долларов. Солидный гость сфотографировал Игоря, вежливо откланялся и ушел. «Что они о себе возомнили? — проворчал Игорь, захлопнув дверь за незваным гостем. — Только Господь Бог волен решать, сколько кому жить и у кого пора отнять жизнь, а кому ее продлить. О, несмысленные галаты!..» Через пять минут появилась бывшая жена Матильда, устроила истерику и забрала себе половину денег: имею право!
Остальные пять пачек долларов Игорь обменял на рубли и отправил через отделение Сбербанка Лидии. Через несколько месяцев, в одном из писем она сообщила, что купила половину дома в Адлере сыновьям и подремонтировала свой домик у моря. Сделала всё это и… заскучала. Теперь у Лидии остался только он, Игорь, его ежегодные приезды и его письма.
Как известно, в России всё хорошее — светлое, доброе, вечное — произрастает из тысячелетних корней отеческих православных традиций, а всё дурное приносится с расхристанного Запада и раздраконенного Востока. Со времен опальных шестидесятников, в период так называемой оттепели в недрах нашего народа появились люди, которые готовы по-обезьяньи всё без разбору копировать у Запада. Одним из каналов такого заимствования «из всех искусств для нас важнейшим является кино».
Василий был прав, когда указал источник новомодной «игры» — американский фильм «Hard Target» — «Трудная мишень», вышедший на экраны в 1993-м году. Там героический герой Жан-Клодт Ван Дамма — Ченс (по-русски, «шанс») в напомаженных кудряшках, тугих джинсах, плаще с разрезом — помогает найти убийц отца Наташи Биндер в исполнении очаровательной Янси Байтлер. Им противостоит преступная группировка под началом мистера Фушона, гениально сыгранного Лэнсом Харрисоном. За полмиллиона долларов этот маньяк с ужимками аристократа устраивает богатым скучающим клиентам охоту на живых людей. «Это как наркотик — убить себе подобного. Игра стоит свеч!»
У мистера Фушона (fаuchon — коса), который косит людей как старуха-смерть, есть на подхвате доктор с фамилией Мортон (mort — смерть) — он подписывает липовые свидетельства о смерти. Имеется, конечно, трудовой коллектив головорезов, следящих за соблюдением правил игры, под управлением Пика Ван Клиффа, сыгранного Арнольдом Вослоу одними губами и глазами («Я не злюсь. Я же профессионал!»). Режиссер фильма Джон Ву виртуозно использует приёмы кино для смакования жестокости: съемки драк и погони рапидом, стильную одежду и фигуры главных героев, автомобили, мотоциклы, вертолеты, лошадей, голубей, оружие всех видов, море огня, пейзажи Нового Орлеана и много-много клюквенного сока, изображающего кровь. Разумеется, великолепен и сценарий, где каждая фраза так и просится для надгробной эпитафии: Фушон клиенту: «Мистер Зенан, это Новый Орлеан, не Бейрут», а потом ворчливо: «Лучше бы он на рыбалку поехал», Ченс замогильным голосом — свежеубиенному бандиту: «Прости, что продырявил рубашку!» или, скажем, его же ностальгический вердикт над телами поверженных бандитов: «А раньше этот район славился гостеприимством».
Американский китаец Джон Ву расстарался вовсю. Голливуду, по уши залитому кровью с осколками раздробленных костей, пришлось даже на треть сократить сцены насилия. Перестарались, маэстро, это вам не Гонконг, джентльменам к лицу перед убийством вежливо знакомиться с потенциальной жертвой. Да и не слишком ли — четыре каскадера со сломанными шеями для единственного трехсекундного удара Ченса по голове несущегося мотоциклиста! Какие деньги ушли на медицинскую страховку! Китаец, скрипнул зубами, но стерпел — остальные-то две трети экранного времени остались, и даже в подрезанном виде фильм сумел угодить всем любителям остренького. Ву сочетал в своем кино пресыщенный разврат Запада с утонченной кровожадностью Востока. Юный зритель наслаждался замедленными ударами Ван Дама, волнующей красотой Янси Байтлер, рёвом мощных двигателей мотоциклов и джипов, стрельбой по живым мишеням из арбалета, ужасом в выпученных глазах убегающей жертвы — все это под убойную электрическую музыку Грэма Рэвела и жизнерадостные песни «Криденс»…
Но кое-кто из тех зрителей, что постарше, разрабатывал совсем иные пласты фильма. Этот некто отмечал, конечно, про себя профессионализм трюков, но более пристально наблюдал еще и за исполнением на салонном рояле мистером Фушоном «Аппассионаты» Бетховена. Его не могли не заинтересовать слова: «Новый Орлеан, Рио-де-Жанейро, Югославия, почему бы и не в России? Восточная Европа — там мы сможем работать годами».
Верно! Этим внимательным зрителем оказался тот самый вальяжный господин, который называл себя Максом. Он владел закрытым элитным клубом для очень богатых господ, девизом которого был слоган: «Для нашего клиента мы сделаем невозможное!» Макса увлекла услуга, описанная в «Трудной мишени». Он даже постелил в своем кабинете огромный бежевый ковер, в центре ковра разместил старинный рояль и разучил опус №57 Бетховена, который раньше ассоциировался у него с Лениным: «Люблю «Аппассионату»! Изумительная, батенька, нечеловеческая музыка!»
Когда Макс объявил членам клуба о новой экстремальной услуге, господа пришли в восторг. Ведь они уже по несколько раз просмотрели фильм и были от него без ума. Словом, недостатка в клиентах не было.
Бывали, правда, и недоумения. Однажды, например, ворвался к нему нервный, но очень важный клиент.
— Макс, ну вы что, совсем за любителя меня держите? — возмущался Эдуард, рассматривая фотографию и несколько строк характеристики Игоря Беклемишева на обороте. — Мне бы, как в «Hard Target», опаленного войной спецназовца или хотя бы ветерана Чечни или Афгана.
— Думаю, Эдуард, вы еще в полной мере не оценили кандидатуру, — медленно, чуть не по слогам, произнес Макс, небрежно играя на рояле «Аппассионату». — Наш психолог считает его самой, что ни на есть, трудной мишенью. Словом, узнаете всё сами. — Саркастически улыбнулся и полушепотом добавил: — Впрочем, если это парень окажется вам не по зубам, мы подберем вам кого-нибудь полегче. Но это будет уже другой контракт с другой предоплатой.
— Нет уж! — произнес охотник. — Я теперь его из принципа в три дня сделаю.
— Удачи! И прошу не забывать, согласно контракту, у вас только две попытки в течение месяца. В случае провала второй попытки мишень выбывает из списка жертв. Мы же гуманисты: значит, не судьба!
— Я в деле! — рявкнул Эдуард и выскочил из кабинета.
— Лучше бы ты, дружок, на рыбалку поехал, — устало проворчал ему в спину владелец клуба.
Итак, Макс передал Эдуарду фотографию Игоря, его приблизительные данные — и началась игра. Охотник Игорю достался такой, что шансов выжить у него просто не было: умный, агрессивный, удачливый бизнесмен, в хорошей спортивной форме, меткий стрелок. К тому же, он через друзей имел личный вход в секретную базу данных, где без труда нашел Игоря и приступил к выслеживанию.
Согласно статистике, каждый миллион тонн угля, добытый из недр земли, стоит двух человеческих жизней. Спрашивается: сколько необходимо уничтожить людей для присвоения миллиона долларов? Такой статистики нет, во всяком случае, официальной. Можно, конечно, разделить сумму миллионных состояний на количество убитых людей за искомый период и получить что-то вроде один человек на шестьдесят миллионов. Но разве можно учесть в этой арифметике тех, кого уволили за честность, нежелание покрывать воровство, убивать себе подобного? Такие «реликты» тихо-мирно прозябают на сто долларов в месяц, незаметно спиваясь от тоски и безысходности. Или взять их семьи, которые доживают в нищете и умирают не в положенные Богом 70-80 лет, а средне-статистические 52 года? Если на чашу весов положить все причины умирания, то скорей всего, статистика с добычей каменного угля повторится.
Эдуард Борисович Бурунов, как известно, уважал расчет, поэтому с самого начала своей капиталистической карьеры записывал количество уничтоженных им человек. Еще до отмены шестой статьи Конституции СССР, закреплявшей главенство КПСС, Эдик учился в подпольной школе каратэ. С появлением первых кооперативов он в восемнадцать лет открыл свой первый клуб каратэ. Среди учеников преобладали будущие и настоящие бандиты. Там он сколотил свою первую группу и стал отнимать бизнес: узнавал, кто процветает, приходил и отбирал. То есть, все продолжали работать, но уже не на себя, а на него, Эдуарда. Но очень быстро ему стало скучно — поговорить же не с кем.
Тогда открыл он собственное стрельбище и выбрал из трех десятков стрелков трех снайперов, с которыми было о чем поговорить. Это были ребята начитанные, со своей волчьей эстетической философией. Отныне он приезжал на «стрелку», вонзал холодный взгляд в переносицу бригадира, объявлял, что его противники под прицелом снайпера и спокойно выставлял требования: миллион долларов «за беспокойство» и никогда ему на глаза не попадаться. Следовал щелчок пули в сантиметре от ноги старшего бандита, что делало противную сторону предельно покладистой. Только однажды не в меру горячий горец возмутился — и тут же рухнул с простреленным виском. «Кто еще против?» — спросил Эдуард, с любопытством разглядывая присмиревших бандитов. Коллеги убиенного оценили серьезность Эдуарда и через неделю в указанное место безропотно принесли чемодан с деньгами, принеся самые искренние извинения.
Дважды на Эдуарда устраивали охоту, и дважды он оставался невредимым. В ту же ночь его люди уничтожали не только заговорщиков, но всех подельников и родичей «заговорщиков» — эта расчетливая, безжалостная жестокость отрезвляла всех противников. Его стали бояться, ему отдавали всё, только бы не спровоцировать побоище. Так довольно скоро он встал во главе собственной финансовой империи. Подводя годовой итог, Эдуард подсчитал, что за каждый миллион он в среднем платил 0,34 человеческой жизни. «Не так уж и много», — сухо констатировал он.
А началось всё это, пожалуй, с собаки. Даже не собаки, а так — собачонки, размером чуть больше крысы, на тоненьких трясущихся ножках. В то время Эдику было чуть больше десяти лет. Как-то в соседнем дворе сзади, где-то у самых его сандалий, резко и громко гавкнула псина. Мальчик испугался и побежал, собачка — за ним. Эдик бежал на глазах детей и взрослых и кричал изо всех сил. Заскочил в свой подъезд, захлопнул дверь и только тогда решился посмотреть сквозь грязное стекло наружу. Крохотная собачка кругами бегала под дверью и тявкала, а люди — ему показалось, что их было очень много — смотрели ему вслед и… смеялись. Эдик почувствовал себя трусом и слюнтяем.
Всю следующую ночь мальчик не спал. В его голове чередовались сценарии мести, один другого страшней. Той ночью мальчик выжег в своей душе всё доброе и светлое. Той ночью Эдик несколько раз произнес страшные слова: «Я душу свою продам за то, чтобы стать сильным». В ту ночь мальчик решительно вошел в широко распахнутые врата ненависти.
А утром он чистил зубы и взглянул на отражение в зеркале. Вроде бы ничего там не изменилось… Разве только глаза. В черноте зрачков, поселилась холодная расчетливая злоба.
Он занялся поиском человека, который научил бы его драться. И вот первая удача — на соседней улице он обнаружил табличку военно-спортивного клуба, где учили стрелять и драться. Тренер обучался боевым искусствам в тибетском монастыре, тренера подкупил новый ученик необычайной собранностью, абсолютным послушанием и спокойствием юного мудреца.
В то лето он сменил школу, как бы отрезав свое прошлое, а через полтора года Эдик встретил девочку из старой школы. Девочка нравилась всем мальчикам, нравилась и Эдику. Он даже однажды набрался смелости и пригласил её в кино, и она согласилась, и он был тогда на седьмом небе от счастья. Девочка вспыхнула, увидев его, но поговорила с ним с минуту и сникла. Девочка не узнала прежнего Эдика, её будто парализовал его холодный взгляд. В глубине его зрачков таился холод. Девочка убежала, не оборачиваясь, а если бы оглянулась, её бы опалил взгляд кобры перед убийственным броском.
Эдика стали бояться все, даже учителя и родители, что ему очень нравилось. У него не стало друзей, и это его не смущало. Он шел к своей цели, он чувствовал сопутствующую удачу, предвидел свое успешное будущее — и это заставляло его холодное сердце возбужденно биться.
Однажды мальчишки из соседнего двора натравили на него добермана. Эту породу на западе называют не иначе как «собака-убийца». Злобно рыча, пёс подлетел к Эдику. Мальчик даже не шевельнулся и лишь в последнюю секунду выставил ребристую подошву ботинка, в которую со всего размаху влепилась морда черного пса. Эдик наступил на собачье горло, чуть склонился и внимательно наблюдал, как стихало дыхание, угасали глаза, дважды по гладкой шерсти прокатилась судорога… Мальчишки, натравившие пса, кричали из-за угла: «Не убивай его, пожалуйста!» Эдик отнял ногу. К животному вернулось дыхание, в полуоткрытых глазах появился блеск. Пёс приподнялся на крепких лапах, нерешительно оглянулся, заскулил, сел и уставился на человека, который медленно тянул руку к его загривку, неотрывно гипнотизируя жестоким взглядом. Пёс наклонил голову к земле, не спуская глаз с человека. Эдик схватил собаку за холку, встряхнул и тихо сказал: «На кого ты прыгнул, щенок! В следующий раз раздавлю как червя».
С того дня черный пёс сидел за углом дома, напряженно ожидая, когда откроется дверь третьего подъезда. И как только появлялся Эдик, пёс подбегал к нему на полусогнутых и сопровождал, заглядывая в глаза. Но лишь мальчик доходил до арки в соседнем доме, за которой начинался многолюдный бульвар, собака слышала короткое «домой» и послушно убегала прочь.
В тот вечер Игорь принимал гостя. К нему зашел на огонёк старый знакомый, бывший чиновник, которого еще на заре перестройки выгнали с работы за пьянство и прогулы. В стране уже несколько раз сменилась власть, социальный строй и общественно-экономическая фармация, а Славик по-прежнему пьянствовал и прогуливал, последние пару лет в должности дворника. Их встреча проходила по наезженному плану: Игорь читал стихи, показывал выдержки интересных фильмов, рассказывал что-либо занимательное, а Славик слушал, пил, закусывал и снова пил. Расстались они как всегда за полночь.
Утром Славик работал на крыше дома номер три и страдал от мук похмелья. Когда он со стонами, вытьём и рычаньем заканчивал долбежку пудовым ломом огромной глыбы льда на коньке крыши, в его несвежей голове пронеслась мысль об ограждении. Дело в том, что прежде чем сбивать лёд и снег с крыши, по технике безопасности полагается оградить место падения стойками с натянутыми канатами и предупредительными табличками. Славик знал об этом и обычно соблюдал правило. Только не сегодня, когда в голове пульсировала острая боль.
В это самое время к дому номер три подходил Эдуард с бельгийской снайперской винтовкой в чемоданчике. Предыдущим вечером он выбрал для засады пустующий чердак этого купеческого особняка: из слухового окна отсюда хорошо просматривался дом напротив, в котором жил Игорь. К тому же здесь имелся пожарный выход во двор, откуда легко выйти незамеченным. Охотник хорошо подготовил операцию, он действовал, как настоящий профессионал. Так, он легким шагом подошел к парадной двери, протянул руку, чтобы открыть её — и на него сверху свалилась глыба льда. Охотник потерял сознание и рухнул, как подкошенный.
Врач скорой помощи обнаружил рядом с неподвижным телом чемоданчик, приоткрыл его, увидел разобранную винтовку и вызвал милицию. Приехал следователь ОБОПа, который вел дело о странных серийных убийствах и получил уникальный шанс к раскрытию заведомого «висяка». В тот же вечер следователь перебрал всех молодых одиноких мужчин в округе, вышел на Игоря, в его отсутствие проник в комнату и без труда нашел экземпляр договора охотника с жертвой. О, этот лейтенант Воронов оказался парень-не-промах! Он ради карьеры умел пойти в обход закона и догадывался, что ни одна жертва, подписавшая договор и получившая деньги, и рта не откроет, поэтому и не стал допрашивать Игоря. Следователь принялся раскручивать клубок, потянув за ниточку связей бизнесмена, находившегося в больнице.
Когда следователь максимально сузил круг подозреваемых и нащупал подход к организатору и основателю закрытого клуба охотников, его вызвал начальник. Он бросил на стол перед собой пять пачек долларов и спросил:
— Что выбираешь: эти деньги сейчас или пулю в лоб завтра?
Следователь подумал и вслух произнес:
— Как учат старшие товарищи, милиционер на работе повышает или раскрываемость, или материальное благополучие. Если не удается первое, я вынужден прибегнуть ко второму. — И сгрёб пачки денег в свой видавший виды портфель.
Через день в комнату Игоря вошел Василий и, казалось, заполнил своей громадной массой чуть не всё помещение.
— Слушай меня, Игорь, — устало прохрипел гость. — Мне стало известно, что вчера мента, который вёл дело о покушении на тебя, отстранили. Дело закрыли.
— Какое покушение? — вскинул брови созерцатель. — Никто в меня не стрелял.
— Ты подписывал договор с охотником?
— Да, какие-то бумажки подписывал. И деньги получил, и отдал тем, кому они нужны. Но ты за меня не беспокойся, Василий. Ничего у них не выйдет.
— Это ты так думаешь. Перед покушением киллеру на голову свалилась глыба льда, поэтому он не довёл дела до конца. А сегодня утром охотник в больнице пришел в себя. Он не отступится. Первая неудача только раззадорит его. Я о нем кое-что узнал. Это очень серьезный человек. Он не успокоится, пока не доведет дело до конца. Он все равно тебя застрелит.
— Да брось ты, Вася, — махнул рукой Игорь. — Ничего со мной не случится. Я уверен.
— Ты подумай получше, — строго сказал Василий, — если что, мои ребята могут его устранить. Только скажи.
— Нет, Василий, не скажу. Никогда. Меня убить — это пожалуйста, а я никого убивать никогда не стану.
В это самое время охотник который раз обходил огневую позицию. Чтобы не привлекать к себе внимания, он надел старый отцовский плащ, китайский, хлопчато-бумажный, из закрытого номенклатурного спец-распределителя. Плащ этот и отцу, и ему много раз приносил удачу. Эдуард шел прогулочным шагом, зорко наблюдая за окнами жертвы.
Как и обещал Макс, мишень оказалась не из легких. И вовсе не потому, что этот странный человек тщательно скрывался, или как-то профессионально уходил от преследования. Не было у него ни спецтехники, ни бронежилета, ни даже бронированного стекла на окнах. Дело тут было в том, чего так недолюбливал и даже боялся Эдуард — в его четкую работу проникала какая-то жуткая мистика. Как только охотник занимал огневую позицию и замирал с пальцем на спусковом крючке, к окнам подъезжал огромный грузовик. А когда, наконец, машина отъезжала, окна в комнате Игоря оказывались темными. Жертва снова ускользнула. И так много раз. Что-то постоянно мешало охотнику, разрушая его планы. Он вспоминал слова Макса о характеристике психолога, а так же и то, что они гуманисты, поэтому в случае второго прокола жертву отпускают. Мол, это судьба.
Эдуард второй раз за прогулку приметил сгорбленную старушку в мешковатой красной куртке. Тоже, видимо, совершала моцион. О, этих пенсионерок нужно остерегаться в первую очередь. Делать им нечего, а старая выучка сексотов, которые сигнализируют милиции о любом подозрительном случае и больше всего боятся статьи «за недоносительство», — это у них в крови. Такая старушка может пропустить любимый сериал, но в милицию донесёт… Например о том, что ходит тут чужой дядька и чего-то всё высматривает. Конечно, он выпутается и всегда сможет откупиться от местных блюстителей порядка. Но драгоценное время-то будет упущено!
Эдуард остановился у парадного входа в офисное здание и сделал вид, что читает таблички с названиями фирм. Пока старушка с невнятным ворчанием прошаркала у него за спиной, взгляд охотника остановился на табличке «Потомственный экстрасенс Роза. С гарантией. Приём круглосуточно. 3 этаж, офис 5». Боковым зрением он заметил, что старушка остановилась и буровила его колючими глазками. Делать нечего, надо входить. Он вошел и поднялся на третий этаж. Заодно попробую выяснить, что за мистика мне постоянно мешает, подумал он.
— Как вас зовут? — спросила сухопарая женщина лет пятидесяти, закутанная в черную шаль.
— Виктор, — легкомысленно соврал он и огляделся. Комната имела обыкновенный вид: старинный стол с зеленым сукном, два кожаных кресла с мягким диваном. Вот только угол с множеством икон и горящей лампадой отличал помещение от обычного офиса. Да пожалуй и сама хозяйка с неприятным проницательным взглядом.
— С чем вы пришли ко мне?
— Что вы можете сказать об этом человеке? — Он протянул фотографию Игоря.
Женщина долго смотрела то на фотографию, то на ироническую ухмылку Эдуарда. Потом вздохнула и проскрипела:
— Этот человек тебе, Эдуард, не по зубам. Я вижу такую защиту вокруг него, какую тебе за все твои миллионы не пробить. Оставь это занятие.
— Сколько я вам должен? — спросил обескураженный охотник, желая лишь одного, поскорее уйти отсюда. Начиналась та самая ненавистная мистика, которой он боялся, которая никак не подчинялась четким расчетам его аналитического рассудка.
— Давай договоримся так, — сказала женщина, — ты оставляешь охоту на этого человека, а я попробую защитить тебя от неминуемого возмездия. Но! В данном случае гарантий я дать не могу. Могу только попробовать уберечь тебя от смерти. Если откажешься — жить тебе не больше недели. Если согласишься — будет у тебя шанс. А так, я за твою жизнь медного пятака в базарный день не дам. Десять тысяч долларов!
Эдуард достал чековую книжку и трясущимися руками выписал чек. Встал и выбежал вон. На улице он оглянулся. Старушки в красной куртке видно не было. Прошелся еще с полчаса и сел в машину. «Не дождетесь! — рявкнул он, ударив кулаком по рулю. — Охота продолжается!»
— Ну и дурачок! — усмехнулась женщина, когда за посетителем закрылась дверь. Она встала, подошла к иконам и печально прошептала: «Ну почему эти нувориши такие безрассудные, Господи! Ведь погибнет, навечно погибнет!»
Та, кто называла себя Розой, на самом деле по паспорту значилась Ириной Михайловной Белобородько, 1967 года рождения, место рождения — Кировоград. Она действительно обладала пророческим даром, но экстрасенсом себя называла в дань моде и для привлечения клиентов. Назовись она той, кем была на самом деле, ей бы ни копейки не заработать. Да и кабинет её закрыли бы очень быстро. Ирина была одной из тех, кто побывал на том свете и вернулся на землю.
Однажды она попала в автомобильную аварию. Поехала на автобусе в соседний город к матери, а в них на высокой скорости врезался тяжелый грузовик, съехавший со встречной полосы. Удар был настолько сильным, что больше половина пассажиров погибла, остальные почти все остались инвалидами. Её бездыханное тело положили в морг. А на третий день она ожила, встала и… до смерти напугала медсестру. Представьте себе: обнаженная покойница с грубо зашитым разрезом на животе идёт своими ногами из морга по длинному мрачному коридору. Чем не сюжет из фильма ужасов!
Спустя три месяца в церкви небольшого городка появилась странная женщина в черном платке. Она дождалась окончания службы, вышла на амвон, потеснив молодого священника отца Бориса и стала громко говорить.
Она рассказала, как умерла, вышла из тела и стала подниматься вверх. Понеслась по длинному коридору и вынесло её на незнакомое пространство, напоминающее пустыню. Она увидела мужчину в черном длинном одеянии, стоявшего к ней спиной, обрадовалась и обратилась: «Куда это я попала? Это у вас рай, что ли?» Мужчина обернулся, взмахнув полами черного плаща, как ворон крыльями, и обжег её суровыми жесткими глазами. Ирина терпеть не могла слабых мужчин. Ей всегда нравились такие, как этот, — суровые, жесткие мужчины, знающие, чего они хотят от жизни. Она даже попыталась с ним пофлиртовать…
Но тут появился именно такой мужчина, даже скорей юноша, тип которого она не уважала: добрый, светлый с тонкими изящными чертами лица и длинными золотистыми кудрями. Мужчина в черном по-звериному осклабился, зарычал и обжег Ирину злющими глазами. Она в испуге побежала прочь. Пока испуганная женщина неслась по каменистой пустыне, она поняла, что черный был бесом, а светлый юноша — ангелом.
«Так ты хотела увидеть рай? — спросил её ангел, когда она остановилась и убедилась в том, что черный исчез из виду. — Пойдем, я покажу тебе рай для неверующих».
Они дошли до края пустыни и спустились в мрачную пещеру с каменными сводами. Там рядами стояли бараки, какие Ирина видела в старых фильмах о войне, где показывали немецкий концлагерь. Всюду работали измученные люди в серых робах. Они таскали на спинах тяжелые камни и укладывали их в стену. Над ними носились черные страшилища с пиками в когтистых лапах и тыкали ими в людей, каркая что-то оскорбительное.
Потом Ирине показали её собственных детей, которые в рваном рубище сидели на берегу черной реки и плакали. «Это те дети, которых убили во время аборта», — пояснил ангел. Потом они спустились в место, напоминавшее мартеновский цех, где варят сталь. Всюду горел огонь. В огненных реках плавали обожженные люди и кричали что есть сил. «Здесь истязуются смертные грехи», — сказал ангел. Потом они оказались на краю огромного рва, в котором люди разных национальностей и цветов кожи возились в собственных испражнениях. Их тела были облеплены большими пиявками, а некоторых пожирали огромные змеи, размером с питона. Вонь там стояла невыносимая. «Здесь мучаются развратники разных видов» — сказал ангел. «Я больше не могу это видеть!» — закричала Ирина и упала перед ангелом на колени. «Ладно, — сказал ангел. — Возвращайся на землю и расскажи людям, что их здесь ожидает за неверие. А сама иди в ближайший православный храм и спасайся!»
Через полгода, как Ирина появилась в храме, отца Бориса вызвал к себе владыка и спросил:
— Что за горластая дамочка у тебя там появилась? Мне уже о ней все уши прожужжали.
Отец Борис шел туда со страхом, ожидая больших неприятностей. Но когда увидел седенького старичка в старом потертом подряснике, его добрую улыбку, успокоился. Он рассказал, что Ирина Михайловна по её словам побывала в аду, после возвращения на землю всем рассказывает об адских мучениях.
— А есть ли у неё хоть малое смирение? — спросил старый монах, бесшумно расхаживая по паркету в серых шерстяных носках с четками в руке.
— Честно сказать, владыка, мне оно не заметно, — вздохнул отец Борис. — Лично я её остерегаюсь. Иногда мне кажется, что она превращается в бульдозер и готова всех просто задавить своим напором.
— Понятно, — грустно улыбнулся владыка. — Не долго ей проповедовать в таком случае. Сначала Господь вразумит её малыми скорбями, потом пойдут беды покрупней, ну а потом объявит она нас с тобой еретиками, из Церкви уйдёт и станет сама себе и церковью, и священником. Обычное дело. Ты вот что, батюшка, скажи своим дамочкам, которые ей сочувствуют, что её-то Господь так или иначе спасет, через скорби и потери, а вот они, если за ней следом из Церкви уйдут, могут погибнуть. Обязательно скажи. Толку будет, конечно, мало. Женщина без смирения и послушания — любимая игрушка врага человеческого. Но… все равно скажи. Протяни им руку, как Спаситель апостолу Петру во время бури на Галилейском море, а уж ухватятся они за твою десницу или нет — дело их совести. Ступай, батюшка, и будь осторожен с ними.
Примерно так всё и произошло. Ушла Ирина из храма и стала проповедовать по городам и весям. Муж от неё ушел, дети не пускали на порог дома. Все друзья отвернулись. Переболела она тремя смертельными заболеваниями, вырезали ей раковую опухоль. Но она выходила из больницы и продолжала свою «миссию». Её много раз избивали, насиловали, постоянно грабили. Дважды она попадала в психиатрическую клинику. Но упорно продолжала кричать на улицах: «Все будете гореть в аду! Покайтесь, грешники!»
Наконец, она встретила колдунью, которая увидела у неё мистические способности и предложила ей зарабатывать деньги колдовством. Ирина подумала и открыла свой кабинет. Так она и стала «православным экстрасенсом». Видимо, не всё Господь отнял у неё. Во всяком случае, пророческий дар остался и приносил ей немалый доход.
…Ирина стояла у икон, молилась и видела, как на киноэкране, Эдуарда. Как она и предполагала, он и не думал оставить свою охоту. Наоборот, её слова только подстегнули в нем азарт. «Ну что ж, Эдик, смотри сам, — прошептала она изображению на внутреннем экране. — В таком случае жить тебе осталось сорок два часа. Бедный мальчик!»
Как-то раз мы с Игорем после воскресной литургии остались на трапезу. Пока женщины накрывали на стол, дьякон отвел нас на склад, который он называл «рухольной», показал на гору одежды и сказал:
— Недавно отпевали одного состоятельного человека. Вдова принесла на раздачу его вещи, вполне приличные и неношеные. Можете что-нибудь себе подобрать.
Мы с Игорем выбрали себе брюки, рубашки и свитера. Зашла молодая повариха, глянула на бирки и саркастически улыбнулась:
— А губа у вас не дура, братья мои, — тут вещей тысяч на пять долларов. Это всё из последних коллекций Кензо, Кельвина Кляйна и Диора.
— Какая разница, — пожали мы плечами. — Прочно, практично, срам прикрыт и слава Богу.
Но походить Игорю в новых джинсах и свитере долго не удалось. Стоило Моте увидеть вещи, бросить цепкий взгляд на ярлыки, как она выпросила поносить и сразу в них переоделась. Матильда стояла ко мне спиной и разглядывала себя в большом зеркале. Я мельком взглянул на неё и удивился — сзади она выглядела точно как Игорь. Те же длинные тонкие ноги, небрежно всклокоченные волосы до плеч, гибкие худые руки, лишь туловище едва заметно короче, но в просторном свитере и эта разница становилась почти незаметной. Мне вспомнились слова одного писателя о том, что от долгого проживания рядом супруги становятся похожими. Я отметил для себя этот факт, да и забыл до времени.
Мы вышли на прогулку и стали обсуждать свежую тему. Игорь сказал, что к нему обратился один человек и предложил объединиться с ним целью ненависти к одному знаменитому человеку. Игорь оседлал тему, как аристократ породистую лошадь, и стал развивать её в своём обычном стиле размышления вслух:
— За границей это не так. Толпу там ты проходишь по-чужому, не касаясь ни телом ни душой. Там люди чужды прежде всего потому, что между своей «прайвеси» и тобой они воздвигают стену отчуждения. Они чужаку постоянно внушают: ты, конечно, занимательный человек, но лучше держись от меня подальше, не нарушая границ моего эго.
А когда проходишь сквозь людской поток дома, ты чувствуешь подсознательно, как в каждом прохожем по жилам текут капли твоей крови. Ведь мы постоянно теряем кусочки своей плоти: чешуйки кожи, влагу дыхания, эпителий кишечника, волосы. Всё это непрестанно перемешивается с био-материалом других людей, из совокупности этой биомассы мы получаем еду, воду, воздух. Поэтому на родине все люди так или иначе находятся в родстве, живут одной плотью, переживают одной душой и стремятся духом к одной Божественной цели.
Если человек говорит и думает на одном со мной языке…
Если мой ближний причащается со мной из одной чаши и мы с ним «одним миром мазаны»…
Если мы читаем одни книги и смотрим одни фильмы…
Если мы хороним тела наших покойников в одну землю и отправляем их души в одно синее Небо…
Если мы страдаем одними страстями и болеем одной болью…
…Значит у нас одно сердце, брат! А что такое сердце? Сердце человека — это центр его личности, а всё остальное — периферия.
Иногда мне говорят, что этот человек — чужак, и его просто необходимо ненавидеть. Я вспоминаю, что мы с ним стояли вместе в храме в очереди на исповедь, и меня пронзает чувство родства с этим человеком. Он — плоть от плоти моей. Он — душа от души моей. Он часть меня самого, и если, допустим, моя рука болит, разве это повод её отрезать? Если брат ошибся или заболел (телом или душой), разве это повод вырвать из души любовь живую и на это место приделать мертвый холодный нож ненависти?
Если брат твой согрешит против тебя, сколько нужно прощать его, не до семи ли раз?.. Нет, не до семи, но до семижды семидясяти, то есть до четырехсот девяноста раз. Шведы в 1964-м году сняли скандальный фильм «491», то есть на один раз больше 490. Знаешь, мне не хочется думать что будет, если наступит этот самый 491-й грех брата моего. Потому, наверное, что нет границ прощения. И к чему эта бухгалтерия… Это, примерно, такая же чушь, как лукаво по-фарисейски вопрошать: «Кто будет рожать детей, если все станут монахами?» Не станут! В лучшем случае, один на миллион. Это высшая стадия человеческого развития, это высшее Божественное призвание. Это от «моно» — один. То есть один на один с Богом. …Но и с врагом человеческим… Кто такое выдержит! Это же подвиг, нечеловеческие скорби, максимальное смирение, жизнь на грани бездны.
Я сейчас выскажу две фразы. Они на мой взгляд равноценны и верны. Первая: человек в земной жизни абсолютно одинок. Вторая: человек никогда не бывает один. Первое — от уникальности и неповторимости личности каждого человека, второе — исходит от непременного окружения человека людьми, ангелами, нечистыми духами. К тому же мы существуем в постоянном перекрестии взглядов тысяч, если не миллионов, людей, живущих на земле, в аду и на Небесах. Так «моно» — это как?.. — «де факто» или «де юре»?
Поэтому я люблю бродить в потоке моих соотечественников и молчать. Ведь молчание — это нечто общее, а слова — частность, примерно, как зрение и взгляд. Не зря же святые говорят, что молчание — язык будущей вечности. Не так ли?..
Охотник занял огневую позицию, положил палец на спусковой крючок и замер. Быстро темнело. В оптический прицел он увидел, как в окне зажегся свет. Там, за полупрозрачными занавесками появился объект. Он был одет в те самые черные джинсы от Кельвина Кляйна и серый свитер грубой вязки от Кензо, в котором Эдуард видел Игоря несколько часов назад.
— На этот раз ты от меня не уйдешь, — шепнул охотник и выстрелил.
Пуля пробила оконное стекло и вошла в область сердца объекта.
— Ну вот и всё, — удовлетворенно произнес охотник, — а вы говорили «трудная мишень», а вы говорили судьба! — проворчал он, встал и собрался уходить.
В это время молодой следователь Воронов, парень-не-промах, поглаживая чемоданчик с очередной порцией «материального благополучия», ехал в новеньком «Ягуаре» от районной прокуратуры в сторону Садового кольца. Машину он выбирал себе тщательно, как невесту. С виду дизайн авто выглядел скромным, даже аскетичным, но в линиях корпуса вполне явно просматривался силуэт ягуара в прыжке. А если вспомнить, что под капотом урчит мощный движок с двенадцатью цилиндрами, то выбор становится понятным.
На душе молодого человека сверкало солнце и пели птицы. Где-то совсем близко брезжила блестящая перспектива отпуска на одном из островов Канарского архипелага в компании длинноногой подружки. Перед ним — одна за другой — сверкали картинки роскошной жизни: мулатки в бикини, высоченные пальмы, тропические цветы, комфортные бунгало под тростниковыми крышами, бассейны с голубой подсвеченной водой, скольжение серфингистов по огромным лазурным волнам, коктейли с зонтиками, знойная музыка и огненные танцы до утра. Жизнь удалась!
Оставалось метров пятьдесят до перекрестка, как вдруг вспыхнул желтый свет. «Ничего, прорвусь!» — рассмеялся Воронов и вдавил педаль акселератора в пол. Мощный мотор приятно взвыл и красный зверь послушно рванул вперед.
Эдуард дошел до машины, сел, завел мотор и, чувствуя приятное возбуждение, на высокой скорости выехал на перекресток. В серебристо-серый бок его «Паджеро» влетел мощный красный зверь. Как написали в утренних газетах: «Шансов у обоих водителей не было!»
В тот вечер мы с Игорем долго бродили по нашему скверу, обсуждая вопросы техники безопасности во время созерцания. Мой наставник предложил мне в качестве образного примера качели. Огромные такие, которые стоят в числе прочих аттракционов в Парке культуры. Однажды Матильда прочла в «МК» рекламную статью под названьем «Невинный экстаз». Там как раз о них и рассказывалось. Они с Матильдой сходили в парк и сели на качели. Когда их подняло на самый верх, под ними разверзлась пропасть глубиной в тридцать метров, куда они с истошными воплями рухнули. В самом низу перегрузки такие, что тебя вжимает в сиденье, страх при этом испытываешь неподдельный, животный, предсмертный. Потом тебя поднимает на высоту, и ты испытываешь блаженство невесомости.
— Так вот, — продолжил он мысль, — чтобы подняться в небеса, перед этим необходимо обязательно рухнуть в пучину ада. Перед блаженством необходимо принять страдания, и лучше, если они вольные. На практике это происходит, когда человек обращает внутренний взор на свои грехи, вспоминает их, видит их смертельную опасность. Это враги человека, за каждым из них стоит вполне конкретная мрачная сущность, которая желает лишь одного — совратить, заставить совершить преступление, а потом предъявить это как свершившийся факт, на посмертном суде обличить во грехе и утащить в ад. И только осознав степень своего падения, только осудив самого себя в ад, человек приходит к пониманию своего ничтожества и взывает к Спасителю: я сам ничто, я не способен справиться ни с одним грехом, спаси меня по Своей милости!
Вот когда человек из адской бездны грехов с Божией помощью возносится в Царство небесное. И только в такой последовательности.
А если человек возомнит о себе, будто он сам своими подвигами, добрыми делами способен спастись от мучений в аду, то это путь гибели. Вера, спасение души — это дар Божий. Дар, потому что дается даром, ни за что. Только за искреннее покаяние, только за молитву, но никак не за дела и тем более не за высокую самооценку, обязательно следующую за любым успехом. Самый первый грешник — архангел Денница — возомнил, будто за сотворение вселенной он стал выше Бога. Возгордился, решил он воздвигнуть себе престол выше Божиего, увлек за собой треть ангелов, и за это был низвергнут архангелом Михаилом в ад. Самый первый человек, вошедший в рай, был раскаявшийся разбойник, моливший Спасителя помянуть его в Царствии Божием.
Нашему поколению христиан не дано подвигов, как уверяет в своих знаменитых письмах игумен Никон Воробьев. «Нам оставлено покаяние» — в этом наш подвиг.
А вот практический пример из реальной жизни монахов из «Отечника» свт.Игнатия Брянчанинова. Игорь достал свою знаменитую записную книжку и прочел вслух:
Был в некотором монастыре черноризец, по имени Ефросин, неграмотный, но смиренный и Богобоязливый. Он предал себя со всею покорностию в послушание игумену и братии. Они поручили ему служение в поварне, и в течении многих лет оставили его в этом служении. Занимаясь постоянно исполнением требований послушания своего, редко приходил он и в церковь, но, постоянно смотря на огонь, приводил в сокрушение свою душу, говоря со слезами так: увы, грешная душа! ты не сделала ничего угодного Богу! ты не знаешь закона Божия! ты не научилась читать книги, по которым славословят Бога непрестанно! по этой причине ты недостойна предстоять в церкви с братиею, но осуждена предстоять здесь, пред огнем. По смерти же будешь горько мучиться в будущем неугасимом огне. Таким образом добрый исповедник ежедневно очищал свою душу и тело.
Игумен того монастыря Власий, саном иерей, украшен был всеми добродетелями. Этому игумену пришло непреодолимое желание узнать, в какое место вселяются души монахов, подвизавшихся во время земной жизни. Возложив на себя пост и бдение, он начал молить Бога, чтоб Бог открыл ему это Однажды ночью стоял он на обычной молитве, и внезапно ощутил себя в состоянии исступления. Ему представилось, что он ходит по какому-то великому полю; на поле был рай Божий. Блаженный Власий, вошедши в рай, увидел древа благовоннейшие, осыпанные различными плодами, и насыщался одним благоуханием, которое издавали из себя эти плоды.
В раю он увидел монаха Ефросина, сидящего под одною из яблонь на золотом престоле. Увидев его и достоверно узнав, что это — он, игумен подошел к нему и спросил его: сын мой, Ефросин! что ты здесь делаешь? Ефросин отвечал: владыко! я за твои молитвы, в этом месте святого рая поставлен в стража Богом. Игумен, показав на одну из яблонь, сказал: дай мне с этой яблони три яблока. Ефросин тщательно снял три яблока и отдал их игумену.
По окончании Богослужения игумен приказал братиям, чтоб никто из них не выходил из церкви; призвав из поварни Ефросина, спросил его: сын мой! где был ты этою ночью? Ефросин отвечал: там, где ты просил у меня, чтоб я тебе дал, в святом раю. Старец: что просил я у тебя? Ефросин: то, что я дал тебе: три святые яблока, которые ты и принял. Тогда игумен повергся к ногам его, вынув яблоки из мантии своей, возложил их на святой дискос и сказал братии: эти яблоки, которые вы видите, — из святого рая. Умоляю вас: не уничижайте и не бесчестите неграмотных. Они, с верою служа братии, оказываются у Бога выше всех.
Когда игумен говорил это братии, Ефросин вышел из церкви и тайно ушел из монастыря в дальнюю сторону, избегая славы человеческой. Игумен разделил яблоки на благословение братиям; больные, бывшие в братстве, вкусив райских яблоков, выздоровели».
Признаться, этот разговор очень впечатлил меня. По сути дела, мне в обычной беседе простыми словами на вполне понятных примерах Игорь открыл тайну спасения души человеческой. Я молча снова и снова перебирал в памяти наш разговор и мысленно опускался в огненные низины покаяния простого монаха и восходил вместе с ним в небесные обители к «благовоннейшим древам райского сада».
Как всегда нагуляв аппетит, заглянули в кофейный клуб, пообщались с антикваром. Еще прогулялись. Игорь пригласил меня в гости. Свернув за угол его дома, мы увидели темный силуэт уходящего мужчины с чемоданчиком в руке.
— Страшный человек, — сказал я, оглядываясь на него. — Как ты думаешь, кто он?
— Убийца, — сказал Игорь буднично. — Мой убийца.
— Если твой, почему убегает?
— Думаю, сейчас мы кое-что узнаем.
Мимо нас прошла сгорбленная старуха в красной куртке. Она беспрерывно что-то бурчала под нос, не обращая ни на кого внимания. Мне удалось расслышать только три её фразы:
«Вот православные идут.
А этот придурошный охотничек уже вышел навстречу смертыньки.
Девка шалая поспит и проснется, и ничё ей не будет, только одна приятность».
Затем раздался резкий хлопок, будто от порыва ветра поблизости хлопнула створка распахнутого окна. Где-то далеко завыла автомобильная сирена.
— А это возмездие, — сказал Игорь и удивленно добавил: — Так быстро!
Зашли в комнату Игоря. Здесь на полу навзничь лежала Матильда, одетая в те же обновки. Из-под спины медленно вытекал ручеек темно-бордовой крови.
Я вызвал по телефону скорую помощь. Игорь стоял на коленях над бездыханным телом, прижимал к ране на груди руку с носовым платком и, глядя на иконы, тихо и сосредоточенно шептал молитву. Наконец, подъехал белый микроавтобус с красным крестом, тело Матильды на носилках занесли в машину, и я остался один. Врач сказала, что пуля попала в область сердца, поэтому положение больной очень тяжелое. Игорь уверенно сказал, что Мотя будет жить и проживет еще долгую жизнь. Я закрыл комнату и побрел в сторону церкви, чтобы попросить молитв священника.
Только полторы недели пролежала Матильда в больнице. Лишь затянулась рана, как только больная стала крепнуть, её выписали домой. Она лежала в комнате Игоря — так ему удобней было за ней ухаживать. Сына Моти дома не было — мать отправила его к бабушке еще в начале июня. Несколько дней больная молчала, что на неё не было похоже. Она часто плакала, умоляюще глядела на Игоря и упорно молчала. В тот день я заглянул в магазин, купил продукты и зашел к Игорю.
Спросил у Моти, как она себя чувствует. Женщина молча кивнула и вдруг произнесла первые после ранения слова:
— Это хорошо, что вы сейчас оба здесь. Мне будет легче вам рассказать, что со мной случилось. Когда я потеряла сознание после выстрела и упала, я вышла из тела и всё-всё видела и слышала, что вы тут говорили и делали. А потом, — она глубоко вздохнула, — я попала в страшное место. Там горел огонь, кругом кричали обгоревшие люди. Я сама стала гореть изнутри. Где-то в кино такое видела… А потом услышала молитву Игоря о моем спасении. А чуть позже к нему присоединилась молитва священника и Андрея. Тут появился ангел, вытащил меня за руку из огня и вернул в тело, которое лежало в больнице. Знаешь, Игорь, я больше не смогу жить, как раньше. Я поняла, что была каким-то чудовищем. Я отобрала у тебя квартиру, насильно женила на себе, обокрала тебя… За твое гостеприимство и доброту я сделала тебе много зла. Ты прости меня, пожалуйста. Как только я выздоровею, я обещаю, что вернусь домой, в Кучино. Вы знаете, а там хорошо на самом деле. Мне там будет лучше, чем здесь. А ты, Игорь, занимай свою законную квартиру и живи. Как раньше. Простите меня!.. — и заплакала.
Игорь с отеческой улыбкой на лице гладил её по голове, как маленькую, и говорил обычные слова, смысл которых состоял в том, что он конечно же её прощает и рад такой благотворной перемене. А я сидел в кресле и чувствовал, как рядом со мной происходит великое чудо. Женщина умерла и воскресла. Её душа на наших глазах оживала.
Через неделю Матильда совсем окрепла и заспешила в Кучино. Она позвонила сестре и попросила её приехать на машине и забрать домой.
ЧАСТЬ 2
Не может человек увидеть красоты,
сокровенной внутри его,
прежде нежели уничижит всякую красоту
извне себя.
Исаак Сирский, слово 17
«Отечник» свт.Игнатия Брянчанинова
Мы выбираем, нас выбирают
На следующий день я пришел к Игорю помочь погрузить вещи Матильды в машину. Только приблизился к странному дому друга и увидел серебристый «опель» напротив подъезда, как мою грудь сильно сдавило, потом сердце грохнуло набатом, и вдруг часто-часто забилось. К чему бы это?.. По привычке позвонил в дверь Игоря, но мне никто не открыл. Потом сообразил, что вещи придется выносить из соседней квартиры, и позвонил туда. Дверь распахнулась, краем глаза я увидел в глубине гостиной Мотю с Игорем, стягивающих ремнем сумку… И вдруг обратил внимание на того, кто открыл дверь. Передо мной стояла миловидная молодая женщина, очень похожая на Матильду, только сходство было чисто внешним. Эта женщина казалась полной противоположностью той Матильды, которую я знал. Она увидела моё смущение и поспешила представиться:
— Я сестра Матильды. Меня зовут Даша.
— Андрей, друг семьи, — прохрипел я не своим голосом.
— Заходите, пожалуйста. Мы уже заканчиваем сборы.
На полу в просторной комнате лежали четыре большие сумки. На столе парил свежим кипятком чайник в окружении чашек и вазочки с печеньем. Игорь с Матильдой молчали, но как-то очень по-дружески и, я бы сказал, насыщенно. Между ними продолжался диалог, начатый на одре болезни, концу которого не предвиделось. Даша усадила меня за стол и налила чаю. Вообще-то это можно сделать в тысяче разнообразных вариациях. Мне вместе с чашкой предлагалась столь пронзительная нежность и с таким тёплым взглядом, что никакие слова в тот миг не смогли бы выразить чувства лучше. Я пребывал в состоянии крайнего волнения, которое давно забыл, которое, кажется, называлось в пору мятежной юности влюбленностью. Игорь с Мотей вышли в магазин, купить чего-нибудь съедобного в дорожку.
Мы с Дашей смущенно в полном молчании пили чай. Наконец, я не без труда задал первый вопрос, потом второй. Даша отвечала просто, легко, мелодичным голосом. Ни за что не вспомнить сейчас, о чем мы тогда говорили. Помню только давно забытое блаженство, которое испытываешь от чувства абсолютного взаимного понимания. Каждое слово, каждый жест, каждая линия тела и лица Даши мне казались совершенными. Рядом со мной за одним столом, в одной комнате, в маленькой точке огромной многомиллиардной вселенной — находилась родная душа, вернее, недостающая половина моей души, которая требовала, просила, умоляла соединиться с моей половиной в единое целое.
Потом, как во сне, не обращая внимания на всё остальное, мы сидели рядом в машине — Даша за рулем, я на соседнем сиденье. И говорили — ненасытно, жадно, как в последний раз, как перед смертью… Потом в маленьком поселке мы разгружали вещи, знакомились со старушкой-мамой. Сынок Матильды, загорелый дочерна, несказанно обрадовался переезду матери и взахлеб рассказывал, как ему здесь нравится, сколько у него тут друзей. Да, в Москве, этот мальчик ничего, кроме одиночества и тоски, пожалуй, не знал.
После разгрузки вещей Даша вызвалась показать мне поселок. Мы дошли до Дворца культуры с колоннами — и тут я будто проснулся от сладкого сна и вернулся в реальность. Да я же тут жил! Мы с мамой снимали комнату в этом поселке два года, когда ожидали нашу кооперативную квартиру. Я потащил Дашу за руку по знакомой улице и, завернув за угол трехэтажного дома послевоенной постройки, мы оказались во дворе. Вот дом, в котором я жил. Вот окна нашей комнаты. Тут я ездил на велосипеде, там развешивал белье сушиться. А за тем домом — стадион, по дорожке которого я каждое утро пробегал три круга. А вон там был пивной зал, вокруг которого постоянно крутились жаждущие мужички. Там — баня, а за ней улица, по которой мы ходили в лес. Это всё моё!
Я водил Дашу за руку и возбужденно рассказывал, как хорошо мы тут жили. Наш дом населяли или молодежь в ожидании квартиры, или старики, которые уже ничего не ожидали. Мы знали всё обо всех: кто что ел на ужин, кто ругался и на какую тему, кто пришел пьяным и как на это реагировала семья, кто купил телевизор и за сколько. Нам без сомнений оставляли детей, пока молодежь ездила в Москву в театр, на стадион или на выставку. Мы отмечали праздники, собираясь то у тех, то у других, огромными компаниями с детьми и со стариками. В этом дворе у нас было столько друзей!
А когда мы, наконец, дождались ордера на свою кооперативную квартиру и переехали в новый дом, мы смотрели на огромный семнадцатиэтажный человеческий муравейник о шести подъездах и думали: если в маленьком доме у нас было столько друзей, то сколько же будет здесь!
— И сколько? — спросила Даша.
— Практически ни одного, — ответил я, глубоко вздохнув. — Представляешь, однажды мама ушла в гости с ночевкой, а я забыл ключи дома. Я звонил во все двери, и никто не открывал. С нашего, шестнадцатого этажа, я спустился аж до пятого, пока мне не открыл пьяненький старичок в трусах. Он услышал о моей беде, взял топор и прямо в трусах поехал со мной на лифте. Отжал мою дверь от косяка и впустил домой. Я ему предлагал в качестве благодарности деньги, выпить — он отказался и даже обиделся. Потом этот добрый человек несколько лет работал у нас вахтером, и мы с ним раскланивались при встрече, а потом заболел и пропал. Говорят, его взяла к себе дочь.
Но как Даша всё это слушала! Она переживала каждое слово, она впитывала каждый мой звук. Её глаза смотрели с такой нежной теплотой, что мне хотелось кричать от счастья. Господи, ведь мне скоро пятьдесят лет, а я только сегодня встретил свою первую любовь!
Потом пришла очередь Даше рассказать о себе. Она долго откладывала, но потом, наконец, решилась:
«А теперь начну обещанный рассказ. Начну с детства. Откуда же ещё?
Если проанализировать свою жизнь, все свои беды и несчастья, то приходишь к выводу, что всё это закономерность и иначе быть не могло. Мои родители жили ужасно! Отец постоянно избивал маму, доставалось и нам. Нам — это детям. Нас в семье трое, то есть, у меня есть старший брат и младшая сестра. Мы с братом были неуклюжие, низкорослые головастики с тонкими ручками-ножками и, наверное, своим видом вызывали неприязнь у окружающих. Поэтому, боясь попасть под горячую руку, обычно прятались под кровати-углы, где нас тяжелее было заметить и избить. А бил отец здорово, всем, что попадалось под руку, бил с остервенением, не давая себе отчета. А сестра родилась маленькой куколкой — складненькая, волосы завиты кудряшками. В неё влюблялись все и сразу. Стоило ей подойти и сказать: «Папа, не бей маму» — и он утихал.
Да, не сказала самое главное: родители нас рожали, а воспитывала бабушка. Вот о ком можно писать книгу! Её ангельское терпение, её доброта до сих пор согревают наши сердца. Никто из нас не скажет о ней плохого слова, не придумает.
Вот так всё сложилось, что у нас был свой союз. Брат любил и защищал меня. Стоило кому-то пошутить «заберём твою сестричку», как он кричал: «Где мой топор? Зарубаю!» А сестра слушалась только меня. Я для неё была всем — и мамой, и папой. Уже подросли, а мама часто говорила: «Ну скажи Моте, она только тебя слушается!» Так и было. Мы и сейчас остались дружны. Но… Есть одно «но». Собираясь вместе, втроем, вспоминая детство, я вижу по разговорам, что они не простили родителей. Я простила… И сразу стала любить их. Потому, что поняла. Я все поняла. Все наши беды от наших грехов.
Можешь представить меня в то время? Эдакий волчонок. Судила всех строго. Росла дикой и неуправляемой. Больше всех доставалось маме, ведь она была виновата во всех наших несчастьях. Я всегда ей твердила «брось отца» и не понимала, что же её держало рядом с ним, таким деспотом?! Она пыталась оправдаться, а как же. Да разве я слушала? Я была уверена, что, когда вырасту, то и дня не буду жить с мужем, коль тот повысит на меня голос или поднимет руку. Вот здесь и получила то, что просила: влюбилась в Алика. Он меня и оскорблял, и руку на меня поднимал… Едва от него отбилась.
Когда я поняла, что отношения у меня с будущим мужем такие же, как у мамы с отцом, вспомнила все обиды, что нанесла ей (а ведь обиды от детей они самые горькие). Вот даже сейчас слёзы на глаза просятся… Мне так стало жаль свою маму. Я каялась в этом грехе искренне и просила у неё прощения. И после этого всё изменилось. Ну, и где причины наших неудач? В нас самих, в нашей строптивости, в нашем высокомерии, в нашей гордыне.
А теперь один из самих нелицеприятных случаев о себе, нелюбимой. Поверь, я вела себя ужасно. Эта история самая страшная из всех, потому и привожу её тебе. Из дома я бежала, как из ада, оно и понятно. Верила в светлое будущее, не поняв и не простив всех в прошлом. Когда поступила в педагогический, уехала в город и больше домой возвращаться не хотела. Приезжала только в гости. Некоторые в поселке удивлялись, что у мамы есть ещё одна дочь, обо мне тогда уже стали забывать. История…
Приехав в один из выходных, вернее, это была сессия, я готовилась к экзамену, сидя на лавочке около дома (таким образом я ожидала почтальона, чтобы купить конверты). В это время подъезжает на тракторе сосед и оставляет трактор работающим прямо возле меня. Я его отругала, дескать, оставляй его возле своего дома, а то у меня от него голова болит и мешает готовиться к экзаменам. Вот она моя строптивость! Это я сейчас понимаю, что советский трактор завести не так просто и многие оставляют его в рабочем состоянии на время перерыва. Но тогда! Что ты! Короче, я взяла камушек и бросила в трактор. Метко! Стекло сразу же рассыпалось на мельчайшие кусочки. Вот тут я и вспомнила о своём отце. Как ты думаешь, что я сделала? Поднялась и ушла. Даже не заходя домой. Побежала по шпалам, мимо посадок прямо до Салтыковской (на своей станции ждать электричку я побоялась, так как меня бы там быстро обнаружили). Там купила себе расческу и билет. Так и приехала в общежитие с книжкой в руках и халатике. Хорошо, что рубль был в кармане (на конверты). Приехала и успокоилась. Видите ли, избежала наказания.
А теперь представь: шесть утра, стук в дверь, открываю — на пороге мама. Как она плакала! Они всю ночь искали меня по посадкам. Мама так и сказала, что если бы меня не было в общежитии, то домой она бы не вернулась.
Я сейчас снова заплачу… Какая я была глупая и черствая! Андрюш, я очень-очень плохая. Ты даже не представляешь…»
Даша рассказывала о том, какой плохой она была, а я слышал исповедь кающейся грешницы, и с каждым словом она становилась ближе и родней.
Однако мы вернулись в дом Матильды. Мать и Даша долго благодарили Игоря за столь явное преображение бывшей хулиганки. А Мотя лишь смущенно улыбалась и промокала глаза. Наш созерцатель, конечно, пожелал остаться на пару дней. Потом… Я набрался смелости и сказал те слова, которые если бы не сказал, то, наверное, умер бы:
— Даша, я теперь уже не смогу без тебя. Ради Бога, поехали ко мне. Я предлагаю тебе руку и сердце.
На что она, подумав не дольше пяти ударов пульса, ответила просто и ясно:
— Я согласна. Поехали.
Старушка-мать благословила нас старинным Казанским образом Пресвятой Богородицы. Мы сели в машину и поехали. Домой.
В детстве я последовательно мечтал стать: водителем троллейбуса, таксистом, продавцом мороженого, милиционером, барменом, спасателем на пляже. Этот трудоряд мог бы стать меткой характеристикой тому шалопаю, которым я был когда-то и, увы, по большей части остался и по сей день. Тут, как в открытой книге, можно прочесть все мои пристрастия.
Водитель троллейбуса сидит в отдельной кабинке, отгороженной от сплющенной толпы пассажиров, лениво крутит руль, пальчиком щелкает тумблеры открывания дверей, смотрит в окно — и за такую лафу еще и деньги получает. Еще лучше таксисту: у него больше возможности смотреть в окно, потому что он ездит не по одному маршруту, а по разным интересным местам, и его все уважают, называя по-буржуазному «шеф». Машина у него еще лучше, а заработки с чаевыми гораздо больше. Милиционера все боятся, от него бежит всяк супостат, всяк лихоимец, а он только ходит по вверенному участку, руки за спину, сверкает звездами на погонах и сурово говорит: «Нарушаем, гражданин!» И всё, его уже все боятся и опускают глаза, потому что нет человека, который бы не «нарушал», и каждого можно за что-нибудь «привлечь», было бы желание блюстителя или указание сверху: «взять!». То же спасатель на пляже, только в плавках, весь день на воде под солнцем, а вокруг столько девушек в купальниках, которые его уважают, а он их иногда спасает. У продавца мороженого мне нравился ассортимент товара и аромат, исходящий от него; а у бармена — белый смокинг, музыка на рабочем месте и философские разговоры с постоянными клиентами: «Как дела? Устал?» — «Да, надо бы расслабиться» — «Тогда как обычно?» — «Да, старик, конечно».
Почему-то не хотелось быть врачом: не любил крови, боли и уколов. Никогда не мечтал стать космонавтом, потому что они все маленькие и мало кто из них летает, больше готовятся и обиженно остаются на земле, перейдя в разряд отверженных. Не тянуло меня и в моряки, потому что в раннем детстве узнал, что такое качка и как тебя при этом выворачивает наизнанку. Опять же скучно, когда изо дня в день море и море, и только изредка суша, где ты чувствуешь себя чужим и нужно быть бдительным среди вражеского окружения, где каждый второй, как утверждали представители власти, или шпион, или бандит. Циркачом мечтал быть ровно час — старшие товарищи быстро пояснили, как много приходиться потеть и рисковать жизнью, чтобы выступить всего-то пять-десять минут и сорвать секундные аплодисменты скучающей публики с мороженым и пирожками. А вот, скажем, иллюзионисты до сих пор вызывают у меня трепетное уважение, хотя… Да нет, чего там, вызывают. Как-то опять же полчаса хотел стать библиотекарем, пока не рассмотрел толщину очков и не услышал меховую астматическую одышку одного из бойцов книгохранилищного фронта. Военным не желал стать по причине ненависти к любому виду агрессивной тупости и особенно подчинения ей. «Если ты такой умный, то почему не ходишь строем!» И так далее.
Так кем, наконец, стал этот непутевый мечтатель? Редактором! Скажи мне об этом кто-нибудь в детстве, бросился бы на того «пророка» с кулаками. Однако, стал… Нет, далеко не сразу. Поначалу-то пришлось поработать в журналистике. Только там идеологическая цензура настолько сильно пропитала творчество, что лично у меня газетное дело вызывало отвращение. Посылают тебя, к примеру, разузнать степень продажности начальства, и ты с риском для жизни, используя все свои связи, возможности, таланты, раскапываешь горы компромата, несёшь в редакцию, а там вместо публикации «бомбы» тебе жмут руку: «молодец» — и кладут бесценный материал в огромный сейф, навсегда. Освободился от такого «творчества» я не скоро, мучительно и не без материальных потерь. Но друзья помогли.
Перешел в издательство, овеянное славой, работал поначалу с удовольствием. Как всегда, мне пришлось пройти тест на интеллигентность: «Что ты снискал? Кем слывёшь? Что тебе присуще? Чем преисполнен?» Ничего, справился. Конечно, кромсать чужие тексты, дело неблагодарное и канительное. Зато после редактуры сотой рукописи, понимаешь, насколько много пишут ерунды и насколько всё это, ладно бы бесполезно, но — увы! — вредно и даже ядовито.
Помните, расхожую притчу о писателе в аду? Напоминаю. Разбойник с писателем горят в геенне. Через пятьдесят земных лет — и два миллиона лет вечности — разбойника ангел высвобождает от адских оков и поднимает в рай. Писатель спрашивает:
— А как же я? Ведь я никого не грабил, не убивал?
— Разбойника перед смертью все пострадавшие простили, — ответил ангел. — А твои книги всё еще издают, их читают тысячи людей и благодаря им соблазняются, развращаются и губят свои души. Сиди, несчастный, и гори дальше.
Так что, господа гениальные бумагомаратели, щелкоперы, борзописцы, ответственность несём за каждое слово, тем более, если оно — и они — гуляют по множеству глаз, умов, сердец. Аргументы насчет самовыражения, славы, премий и гонораров только усугубляют вину. Кто и о чем, спрашивается, сейчас пишут? Всё и обо всём. Что даёт максимальный рейтинг? Эротика, колдовство, насилие. Так, куда после разрешения от бремени тела пойдут несчастные авторы соблазнов? Кажется, ежу понятно. Да, профану, дурачку, невежде, тупице, ежу с ежихой и ежатами — всем, кроме самих производителей ядовитой словесности понятно. Знают они о своём будущем в геенне огненной? Обязательно! Каждому человеку ангел (совесть, друг, сосед, родственник, наконец) — сообщает об этом. Только соблазн славы и денег земной жизни ослепляет и ведет слепца, как палач жертву, — в вечную пропасть.
Как редактор, я чувствовал себя соучастником преступления, хоть и не имел права голоса при отборе ассортимента издательства. Несколько раз горячо исповедовался на эту тему. Мне отпускали грехи, и я обратно с тяжелым сердцем возвращался в пучину соучастия… И вот, наконец, мои молитвы были услышаны. Но сначала небольшая предыстория.
В редакции особо ценили моё умение редактировать сложные тексты. Большую часть рабочего времени я занимался книгами классиков и современных социологов и философов. Но вот однажды на собрании, посвященном подведению итогов года, главный редактор сказал:
— Классику и социологию «перестали брать». Любовные романы и детективы требуют солидной раскрутки с огромным капиталовложением, а свободных денег в издательстве практически нет.
Впрочем, дают нам в банке солидный кредит, — поднял он палец, — под новую серию. Так что приступаем к проекту, который называется «Черная серия» — это приключения, эротика, детектив и восточная мистика в одном томе. У нас есть уже коллектив авторов, которые будут писать под одним именем — Эдуард Светозаров. Не скрою, именно тот человек, который скрывается под этим звучным псевдонимом, и пробил в банке кредит на свою серию. Сам автор только генерирует идеи, проверяет готовые тексты и ставит авторскую подпись. Скоро вы все узнаете и увидите этого парня — красавец, умница, гений!
Предупреждаю девушек и некоторых юношей: никаких заигрываний и кокетства. Он женат — и очень серьезно женат — на весьма влиятельной даме из первой сотни самых-самых по русской версии журнала «Форбс». Так что никаких шансов у соискателей не предвидится, а вот уволиться в случае малейшего прокола можно в один момент. И последнее! Уже составлен предварительный список творческого коллектива, который будет заниматься «Черной серией».
Редактор в полной тишине огласил список. Там была и моя фамилия. Чуть позже я узнал, что только оклад мне положили в пятнадцать тысяч долларов, но со временем обещали бонусы по результатам продаж, а это еще столько же… Не скрою, с неделю я не ходил по редакции, а летал на крыльях успеха! Меня оценили! Меня избрали! Впереди — достойные заработки, белый «лексус», квартира в престижном районе, поездки по всему белу свету, одежда из престижных бутиков, массажные и спа-салоны…
Но вот на мой стол в новом кабинете легла компьютерная распечатка рукописи из новой серии. Читал я её запоем! Вне всякого сомнения, ребята, которые писали это — гении! В книге было всё, что нужно современному читателю: круто замешанный сюжет, страстная любовь, рассуждения в стиле потока сознания в соответствии с дзен-буддизмом об иллюзорности бытия, великолепно прописанные диалоги, пейзажи; психологическая глубина, изящная игра словами, когда раскрывается невиданный смысл зачитанных терминов и они вспыхивают новым светом. С работы не хотелось уходить. Рукопись манила, рукопись сильно притягивала к себе, требовала новых и новых прочтений. Я уже знал, где и как нужно подправить текст, чтобы он стал совершенным!
…А ночью герои романа ожили в моём долгом и подробном сне, который я запомнил до мельчайших деталей. Там, во сне, действующие лица «Черной серии» предстали предо мной натуральными монстрами, которые гениально ослепляли читателя и вели вслед за собой в адскую пропасть. Там, во сне, дурман очарования слетел с красивых и умных персонажей, и я увидел их сущность в обнаженном виде: одержимые эгоизмом и лютой ненавистью демонические существа, готовые всё живое вокруг себя сжечь адским огнём. Там, во сне, они преследовали меня, уговаривали сделать какую-нибудь гадость, тянули ко мне свои изящные липкие щупальца. Уходил — они меня догоняли, убегал — они настигали. Я отказывался — они льстиво уговаривали и снова тянули ко мне свои ужасно красивые и липкие щупальца, готовые оплести меня с ног до головы клейкой упругой паутиной.
На следующий день я снова сидел в кабинете и читал рукопись. И опять обольщение гениального текста подхватило меня «потоком сознания» и унесло в космические высоты «сияния чистого разума». Только к моим вчерашним ощущениям прибавилась тонкая смертная тоска, сидевшая в глубине сердца острой занозой. А это уже не «лёгкая поступь безумия», это шаги Командора! Наконец, я оторвался от книги, встал и подошел к огромному окну. Передо мной открылась обширная панорама центра Москвы с оживленными проспектами, пиками высоток, блестящим изгибом реки. Откуда-то издалека донеслось эхо монотонной молитвы. В сердце вспыхнул огонь, и в тот миг я понял чётко и определённо: участвовать в черной серии, в создании гениальных, но воистину чёрных книг я не буду!
В следующую минуту я написал заявление об уходе из издательства, отнёс его секретарю и вышел из солидного здания на шумный проспект. Мои ноги сами принесли меня в храм, где я поговорил со священником. Батюшка одобрил мой выбор и обещал за меня молиться.
На следующий день позвонил мне главный редактор и попытался вразумить. Я ему рассказал о том, что думаю о серии, авторах и издательстве. Он напомнил, как учил меня делу, как помогал по-дружески, как выращивал из меня профессионала. «Берём чахлое тельце текста и методом шлифонеза и передописа делаем из бяки шедевр!» Я оставался непреклонным. Тогда в ход пошли угрозы. И наконец, он объявил, что издательство перешло в собственность другого хозяина, поэтому все прежние акции аннулированы. А это значит, что и дивидендов мне так же больше не видать как собственных ушей.
Странно, когда работаешь среди людей и чувствуешь свою необходимость, этого нет. Но стоит несколько дней посидеть дома без работы, походить вокруг спящего телефона, как на тебя наваливается нечто настолько тяжелое, что и слово подобрать этому непросто! Я безнадежен — вот что навязчиво лезет в голову в такие минуты.
Судьба трижды дарила мне шанс выбраться из трясины и, каждый раз я их — один за другим — пропускал мимо. Это как девушка из мечты. Вот она идет к тебе и приветливо улыбается… А ты вдруг вспоминаешь, что на тебе несвежая рубашка, на галстуке пятно от соуса, а в животе громко урчит от перехваченного наспех беляша. И ты малодушно опускаешь глаза, только что любовавшиеся прекрасным цветком — девушкой красивой, стройной, со вкусом одетой, благоуханной, к тому же, очаровательно улыбавшейся тебе одному в огромной толпе; дивному цветку, падавшего в твои ладони с неба. А она обескуражено проходит мимо, а ты еще трижды боковым зрением ловишь на себе её растерянный взгляд и чувствуешь себя полным подонком.
Именно в таком состоянии сидел я напротив Игоря в кофейном клубе. Я, как водится, жаловался на жизнь, он меня успокаивал. Видимо, как-то мои слова о безработице дошли до других членов клуба, потому что из тени вышел антиквар и сказал, что завтра он заедет за мной, чтобы устроить занимательную экскурсию.
Утром, на самом деле, он подкатил на черном «мерседесе» и повез меня в подмосковные туманы. Мы посетили несколько загородных коттеджей, автомобильный салон, конюшню и птицеферму. Валерий Васильевич объяснял, каким образом эти хозяйства дают ему прибыль. Позвонил и вызвал на встречу каких-то «ребят», с которыми обедали в ресторане, стилизованном под трактир. «Ребята» при беглом знакомстве оказались банальными бандитами: золотые цепи на бычьих шеях, татуировки на пальцах, специфическая речь. Мне ничего не оставалось, как смотреть и слушать, не принимая участия в этом спектакле. Наконец, режиссер поднял руку, сверкнув увесистым бриллиантом, и повернулся ко мне всем корпусом:
— Андрей, я собираюсь переключиться на международную деятельность. Мне нужен здесь, в России, управляющий с годовым окладом в сто тысяч долларов. Я предлагаю эту работу тебе. Собственно, твоё дело — это собирать деньги и отправлять мне. Вот эти орлы будут тебя охранять и решать все проблемы с должниками.
Представил себе сотню тысяч долларов, сложенных вместе. Следом за этой пачкой всплыли в трепетном сиянии иномарка, дом на реке с яхтой, роскошные магазины и неведомое чувство внутреннего ощущения платежеспособности, сладкого, должно быть, опьяняющего чувства. И вот у меня уже другой статус, круг знакомых, в облике — уверенная вальяжность. …И даже, может быть, такие же перстень и часы, притягивающие взгляд собеседника золотым мерцанием.
Но вот это уплыло, а на смену пришли совсем другие мысли. Вспомнилась истерика антиквара в банке во время приезда Игоря. Там всё прошло идеально, даже без опозданий, но я видел, как человек во время обычного ожидания взвинчивал себя до предынфарктного состояния. Чего же способен он натворить, если на самом деле случится нечто неординарное: недостача искомой суммы, наличие фальшивых купюр или — о, ужас! — предательство одного из низовых сборщиков подати с исчезновением вместе с крупной суммой! Мне сразу представилось, как глаза этих «ребяток» наполнятся аспидной злобой, мускулы — разрывной силой, и всё это устремится на меня… О, нет! Лучше нищета, чем постоянный страх и непрестанное ожидание казни. Нет! — это я сказал себе и про себя. Когда-нибудь потом я обязательно скажу это антиквару, но хотя бы в отсутствие этих горилл.
Деликатесная композиция на моей тарелке осталась нетронутой. Моё настроение стало таким… подавленным, что ли… Антиквар еще не знал моего ответа, но подозревая неладное, ни в коем случае не желал услышать моё «нет» сейчас. Он смягчился и поспешил отправить меня домой «подумать». И мы к обоюдной радости расстались.
Безработным я ходил всего три дня. Во второй половине четвертого дня получил предложение работать в православном издательстве. Оклад предложили так же весьма символичный — пятнадцать тысяч, только не долларов, а рублей. Ну, здравствуй, привычная, до боли в сердце, родная нищета! Вручили мне труды одного знаменитого преподобного и сказали: «Сделай из этого фолианта в тысячу страниц компиляцию страниц на семьдесят». Сделал, сдал и получил первую похвалу.
Потом все это повторялось много раз. Вроде бы все нормально, только душа моя была не на месте. Книги выпускали, их продавали, но никакой отдачи я не видел. То ли дело беллетристика: то скандалы, то суды, то премии с грандами — всё какая-то бурная жизнь. А тут — кто читает, зачем и есть ли польза — не понятно. Я отдавал себе отчет, что православный читатель далек от страстного восприятия книг, его оценки тихи и спокойны, но не настолько же, чтобы вообще никакой реакции. Узнал у коллег, которые занимались изданием художественных книг. О, там наблюдалось нечто совсем другое: и жизнь, и слёзы, и любовь! Вот тут я и ощутил, как мощно потянуло меня написать книгу самому.
Немалым толчком к тому послужила просьба Игоря. Как-то он принес рукопись и сказал:
— Игумен из нашего храма попросил передать тебе эту книгу. Попробуй определить, есть ли талант у этого автора. Как решишь, так и будет. Автор или получит благословение или нет.
— Слушай, Игорь, не слишком ли большую ответственность вы на меня возлагаете? Некоторые авторы после отказа опускаются в такой омут отчаяния, где и до суицида недалеко.
— Ну видишь, Андрей, ты сам всё понимаешь. Так что будешь осмотрительным и осторожным в оценках.
Остались мы с рукописью наедине. Занимался домашними делами, гулял, ходил в магазин, и постоянно чувствовал, как рукопись зовёт к себе. Наконец, время, отведенное правилами приличия на отлёжку рукописи, истекло. Я взял распечатанные на принтере листы, скрепленные скоросшивателем, изучил титул, оглавление, веером пролистал и опустил на колени. Мне стало понятно, что это — сборник философских очерков, стихов и несколько рассказов.
Сначала взялся за стихи. Между третьим и четвертым почувствовал, как нечто похожее на злорадство проникло в мою грудь: стихи оказались грубосколоченными. Чуть не в каждой строфе имелись нарушения ритма. Рифмы были или затасканными, или оказывались грубоватыми созвучиями. Если бы у автора при этой неаккуратности имелся хотя бы смысл, который бы извинял недочеты, перекрывал их, но и смысла там что-то не наблюдалось. В нескольких местах упоминался Господь, Ангел, рай — но это только усугубляло вину за небрежность автора.
Дальше изучал философию. С этой частью рукописи разобрался довольно быстро. Полная чушь! За труднопереносимыми терминами и напускной заумностью — пустота, зияющая черной тоской.
Наконец, принялся за то, что отложил на десерт — рассказы. Если не обращать внимания на вездесущий негативизм, то читались они даже интересно. Во всяком случае, два рассказа меня сумели увлечь. Я ухватился за них, как утопающий за спасательный круг, и стал подтягиваться на их упругости и выбираться из мрачного омута к солнцу.
В последней странице пластмассовой обложки я обнаружил карманчик, и там — серебристый диск. Вставил его в дисковод компьютера и открыл файлы. Нашел один из рассказов и скопировал его в папку «Гости». Присвоил ему прежнее название с цифрой «2» и стал препарировать текст. Менял слова, разбивал длинноты на отдельные предложения и абзацы, вставлял недостающие знаки препинания, исправлял грамматические ошибки. После правки текст выглядел уже более менее прилично, и читать его стало приятней. Потом иронично улыбнулся и заменил некоторые слова, несущие мрачный смысл, на противоположные, светлые и оптимистичные. Перечитал. Рассказ будто засиял. Осталась авторская идея, авторская информация, изменилась лишь оценка событий с негативной на позитивную. Например: «солнце прожигало иссохшую землю горячими лучами» заменил на «солнышко ласкало землю животворным светом» или «утро началось с ядовито-красного восхода» — на «утренний восход прогнал ночную тьму и засиял миллионом крохотных радуг в росистой траве». Улыбнулся находке и сделал следующую замену: «я тебе этого никогда не прощу» на — «конечно, я прощу тебе это преступление, но чувство вины тебя не оставит».
Ну и напоследок написал отзыв.
«Дорогой автор!
Работать тебе еще и работать. Стихи твои мне показались сырыми. Часто нарушаешь законы стихосложения: ритм, размер, рифму. Много безграмотных выражений, косноязычия. О правописании молчу, оно просто отсутствует. Выделение запятыми причастных и деепричастных оборотов, обращений и вводных слов — такой же закон, как правила вождения на дорогах. Я так и не понял твоего отношения к Богу. Тем более не почувствовал, что ты Его любишь.
Поэтические словечки типа судьба, мечта, веер, чувства, жизнь, душа — с этим надо бы поосторожней. Они в романтической поэзии и в Православии имеют разный смысл, зачастую противоположный.
Мне кажется, как православный автор, ты еще только рождаешься, и лучше начать бы тебе с нуля. То есть, проще говоря, поступить в литературную студию. Заодно вспомнишь русский язык и литературу, без знания которых писать что-то свое рискованно. Нельзя достигнуть должного уровня, не обучаясь. Это могут себе позволить только гении (которые, увы, где-то рядом со злодейством). А для нас, людей Божиих, сказано: потом и кровью будешь добывать себе кусок хлеба. Я уж не говорю о сливочном масле и зернистой икре сверху.
Я бы тебе этого не писал, а обошелся бы холодным «ничего, занятно», если бы не увидел, что есть в тебе потенциал — заявка на талант. Кстати, давай попробуем разобраться что такое талант. Мне он представляется лучом света с Небес, от Подателя света, от Света светов. Талант, как дар Божий, совершенен. Но вот этот луч света проходит через наше сердце, наполненное темными страстями, потом через разум, помраченный грехом, — и что на выходе? Да! На выходе нечто грязненькое и мрачное. И степень загрязнения соответствует степени нашей греховности.
Особенный спрос в творчестве с нас, христиан. Потому что наше творчество сродни иконописи. А иконописцами раньше становились по большей части монахи. Отсюда вывод: чтобы служить Богу словом или кистью, необходимо вести равномонашеский образ жизни. И уж такие сласти, как вино, девочки, тусовки, жажда славы — сразу побоку. Быть православным писателем, поэтом, художником — подвиг, полное забвение мирских утех и жизнь в суровом затворе. Готов ли ты к этому? Ответь себе сам.
Сам я писал с раннего детства. Это было для меня также естественно, как есть и пить. Писал дневники, письма, стихи, поэмы, рассказы и повести, статьи в газеты… Но когда воцерковился и вошел в новую жизнь, я понял, что начинать нужно с нуля. (А мне было уже больше сорока лет!) Понял, что почти весь накопленный творческий опыт отныне почти ничего не стоит. Несколько лет писал «в стол», потом стал давать читать рукописи православным друзьям. Господь, видя мое упорство, давал мне понемногу благодать творчества — вдохновение. Но, увы, процентов восемьдесят работы были черновыми — все эти кипы бумаги пошли в печь. И вот вдруг — пошло. Один за другим: рассказы, потом повесть, еще рассказы… и что? Не факт, что это когда-нибудь будет издано.
Теперь мое к тебе предложение. Тебе сейчас что стихи, что прозу — все равно нужно учиться писать с нуля. Потому что необходимо научиться чувствовать фальшь, неверное звучание слова, а это дается годами упорного труда. (Кстати, один трезвый писатель мне сказал, что писателем можно стать годам к 40-50, не раньше.) Лучше начни писать прозу. Вот почему. Публика, которая интересуется поэзией, за редким исключением, в основном молодежь интенсивно женского пола, истерического, прелестного склада психики (см. Эдичку Лимонова и его исследования в этой области, с последующим переходом в прозу). Люди нынешние перегружены заботами бытовыми: чем кормить семью, как найти работу, как не свихнуться, когда у всех вокруг планируют крыши; как найти мужа или жену… В конечном, итоге ─ как выжить в этом содомском Вавилоне. И вряд ли они будут искать ответы на свои вопросы в стихах. Любители поэзии сейчас — малый кружок. Время уж больно рациональное идет.
У нас же, у христиан, поле деятельности огромно. Впереди у нас монархия. Помраченные люди побегут в Иерусалим встречать своего антихриста. На Руси Святой будут востребованы все русские православные творцы. И сейчас надо нам к этому готовиться. Я не против поэзии, но ее потенциал, ее охват — в тысячи раз ниже, чем у прозы. Нам сейчас не до цветочков с бантиками — вокруг война, духовная, беспощадная. И с нас спросится в свое время, а где вы, мастера культуры, были, когда мы монархию кровью и потом строили? Истеричных девочек стишками в кабаках тешили — или слово Божие проповедовали на скрижалях своих романов (повестей, статей, очерков)?
Ты возьми Пушкина. Гений из гениев! А что про него преп. Варсонофий Оптинский сказал? «Душа его рвалась в Небеса, а страсти не пускали. Так он, как птица с перебитыми крыльями, и ползал всю жизнь по земле». Возьми его многотомные издания. Сколько там православного? Едва ли на махонькую книжечку наберется. Да что там говорить! Всю мировую православную прозу — на одной полке можно уместить. Почему? Что нам Бог вдохновенья не дает? Дает. Только мы не умеем брать. Нас сразу в тусовку за венками лавровыми тянет. А там эти самые… винишко, девочки поджидают с чепчиками в трясущихся от вожделения потных ручках. И как в гефсиманскую ночь с поцелуями: учитель, учитель! И всё — конец Православию в отдельно взятой личности. Дальше — читай о предсмертных воплях Иуды, Вольтера, Ницше и иже с ними.
Ты, дорогой автор, не бойся, у тебя получится. Господь поможет. Да и задатки у тебя есть. Пусть они пока только намечаются. Кстати, знакомство с поэзией даст тебе возможность писать интересно, романтично, увлекательно, емко, насыщенно. Возьми из нее лучшее и привнеси в прозу, и она засверкает, воспарит. Останься поэтом в душе в лучшем смысле, конечно. Ищи во всем красоту, отражение Небесного света. Научи подслеповатых рационалистов увидеть свет во тьме и радугу в сером небе. Сколько раз я слышал от таковых: ты поэт!, ты живешь какой-то красивой и насыщенной жизнью! (это я-то, который большую часть времени в затворе!)
Поле православной прозы почти непаханое, на нем десяток человек. Каждый свою тощенькую бороздёнку ковыряет. Писателей наших нужно выращивать, как штучные выставочные цветы. Вот и расти. И учись. Пока молод, пока есть силы — пиши и пиши, молись, читай святых отцов и новинки православной прозы — и снова пиши. Это жутко интересно — писать о нашей новой жизни, о новой России, о будущей монархии. У нас огромное количество нетронутых тем!
Да только на эти темы можно писать всю жизнь: ад, рай, апокалипсис, монархия, почему она после небывалого расцвета падет, почему иссякнет наша Церковь… А как мало о нашей нынешней жизни в Церкви? Как мы живем, о чем говорим при встречах, как отдыхаем, что едим, как относимся к одежде, деньгам, как боремся с грехом, как детей воспитываем? Всем, кто входит в Церковь, кто симпатизирует нам — это драгоценно. Люди хотят знать, какова она — жизнь православная. Как эмигранты, например, интересуются о жизни той страны, куда собираются выезжать.
Так что успехов тебе! Извини, что написал тебе прямо, что думаю. Лгать не приучен. Да и сам первые годы писательства получал в основном только отрицательные отзывы. Но они меня закалили. «Битое лицо — умная голова!» — говорил мой учитель журналистики. Суровый человек был, но именно его затрещины и подзатыльники меня кое-чему научили. Кстати, старик вообще никого из своих учеников не хвалил. В лучшем случае: «Слабенько, конечно, ну да ладно, для тебя сойдет» — и статью в номер.
Самое худшее, что делают для тебя твои мнимые друзья — похвальба и публикация без очистки критикой. Это все равно, что ядом тебя поить. Яд, кстати, может быть очень приятным (например, цианистый калий по вкусу напоминает абрикосовые косточки, вино, коньяк, галлюциногены — весьма занятны) — но это яд!..
Кстати, чтобы научиться писать сжато, остро, интересно — журналистика — лучшая школа. А стихи… вплетай их в прозу. Возьми Бунина, Пушкина, Лермонтова, Солоухина — они начинали поэтами, но лучшее из написанного осталось в прозе. Кстати, один критик заметил, что если взять гениальное стихотворение и переложить на прозу — читать нечего. (Это он про «Гамлета», от которого все млеют.) Рифмованная пустота в прозе сразу обнаруживается. Мне представляется, стихи — это своего рода обольщение, колдовство что ли… Ну, как например взять уродину, одеть в шикарное блестящее платье, намазюкать макияжем, глазки поросячьи очками прикрыть, волосенки реденькие завить и уложить, духами дорогими попрыскать — и вот, пожалуйте — «Албарисна, а я и не знал что вы у нас Василиса Прекрасная!» и только утречком, как глянешь на эту общипанную курицу трезво, так и ноги в руки. Да… Как говорил незабвенный тов. Сталин: «Хочется, знаете ли, товарищи, иногда немного и пашутить!»
И никогда не торопись публиковаться, если есть хоть малое сомнение в безукоризненности написанного. Если не прошел суровую чистку критикой и цензурой. Пойми, ты христианин, а значит, как бы посол Любви в мир, апостол. И здесь нужно семьсот раз отмерить, и только раз опубликовать. Есть такой принцип: лучше ничего, чем плохо. Так что, пожалуйста, будь осторожен.
Прости. Успехов тебе и мужества, раб Божий. Андрей»
Отдал отзыв Игорю, он его прочел, кивнул головой и обещал передать священнику, а потом — автору.
А через неделю мы по традиции прогуливались по нашему скверу и зашли в кофейный клуб. К нам выскочил из-за стола огромный Василий и чуть не насильно усадил за свой стол.
— Андрюха, — чуть не закричал он, — спасибо тебе, братуха!
— За что, Василий? — спросил я недоумённо.
— Ну как же, получил твой отзыв о моём творчестве.
— Так это ты тот самый таинственный автор?
— Ну да! — улыбнулся он, хлопнув меня по плечу. — Спасибо, что разглядел у меня талант. Спасибо, что нашел хорошие слова. Обещаю тебе и вот Игорю: я буду теперь и стараться, и учиться пойду, и… Ну вы всё поняли. Да?
— От души желаю тебе успехов, — сказал я.
— Да я теперь так возьмусь за дело! Ого-го-го! — сказал Вася.
Когда мы вышли из клуба и делали последний прогулочный круг, Игорь сказал:
— Мне примерно известно, что ты хочешь спросить насчет Василия. Когда я привел его в храм такой же вопрос задал ему священник: убивал ли он кого-нибудь. Отвечаю: нет, Василий с самого начала был поставлен телохранителем одного бизнесмена, который очень хорошо относится к нему. Почти как к сыну. Василий дважды заслонял его от пули. Но самого Василия пуля не берёт. Он говорил, что это молитва бабушки его оберегает. Вот, как он мне это рассказал, я и повёл его в храм. Ну, а батюшка наш дал задание узнать, есть ли у него талант. Так что спасибо тебе за Васю и от батюшки и от меня.
Даша жила на два дома. Ей приходилось ездить на прежнюю работу, навещать престарелую мать и сестру, часто оставаться там на несколько дней. Так что у меня дома Даша появлялась наездами, как гостья. Поначалу мне такой образ её жизни казался ненормальным, но после одного рассказа я успокоился.
Как старшей сестре, ей с раннего детства приходилось ухаживать за Матильдой. Родители были погружены в работу, сестры их видели только по выходным, да и то не по всем. Отец назвал младшую дочь, услышав арию Роберта из оперы Чайковского «Иоаланта» («Кто может сравниться с Матильдой моей!»). Дашу назвала мать в честь своей матери, которую очень любила и считала святой. Вот как мать рассказывала дочке про бабушку:
«Бабушку твою звали Дарья Антоновна. Царствие ей Небесное!
Родилась она в позапрошлом веке. Точной даты никто не знает. Раньше это было обычное дело. Мы считали днём её рождения 10 ноября 1898 года. Родилась и прожила все годы до самой голодовки в селе Маньковка Черкасской области.
Молодые годы бабушка вспоминала часто. Особенно песни. Перед песней обычно шло вступление. Бабуля говорила: «Вот эту песню пели на свадьбе дружки (или подружки), а эту пели, если у невесты не было матери, а вот так пели, если не было отца…». Все варианты песен она помнила наизусть. А ведь в пору твоего детства ей было уже около 70 лет.
Возможно, эти воспоминания были самыми частыми потому, что молодости у неё почти и не было. Кавалеров в селе было много, а особенно приударял за ней некий Фрол. Но когда девушка решилась пойти на танцы, то дома разразился страшный скандал. В доме была старшая незамужняя сестра, и негоже было гулять младшей, пока не засватали старшую. Старшая Оксана с парнем встречалась, да сватов засылать он не спешил. Обо всех этих семейных неурядицах пожаловалась мама девушек (т.е. моя бабушка) своей знакомой, а та и успокоила: «Да хоть сегодня сваты придут, есть у меня жених на примете». Так и случилось. Но узнал об этом кавалер Оксаны и прибежал к ней, выгнал сватов чужих и прислал своих. Вот так счастливо закончилась эта история.
А бабушке погулять так и не пришлось. Потому что в это время началась война, потом революция. Всех парней из села забрали. Кто ушёл надолго, а кто и насовсем.
Шли годы. Однажды послали бабушку в город к тётке, как бы юбку шить, а там её уже мужчина дожидается, жених значит. Она его видела до этого один раз, тот с отцом разговаривал, ещё подумала, что друг отца (по возрасту такой же). Вот это и была её судьба, отдали замуж, не спрашивая, за вдовца. А у этого вдовца пятеро детей, старшей дочери 17, а младшей чуть больше годика. На этом молодость твоей бабушки и закончилась. Растила, выдавала замуж чужих детей, а свой ребёнок, сынок Васенька, умер от воспаления лёгких лет 4-5 от роду. Ещё дедушка уезжал на заработки в Америку, оставляя бабушку одну. А потом началась голодовка.
Среди пятерых неродных детей бабушки был один мальчик, а остальные все девчата. Парень вырос, уехал на заработки на Донбасс, там женился. В 1933 году дедушка с бабушкой (в то время они уже жили сами, все дети разлетелись — кто в Киев, кто в Москву, кто на Кубань) решили ехать в Сталино (Донецк), так как сын писал, что у них лучше с продуктами, чем в Черкасской области. Но голодовка везде была страшной. И Иван, и его жена умерли в те годы от голода.
Сразу дедушка устроился работать на шахту, но там у него вышли неприятности, чуть не попал в тюрьму и он ушёл работать на железную дорогу.
Жили они в железнодорожном бараке (и сейчас ещё пара таких стоит на нашей станции). В 1936 года бабушка родила меня. А у дедушки с работой не ладилось, как всегда, несколько раз попадал под поезд, пока не погиб в 1941 году. Вот так и получилось, что войну бабушка встретила с маленькой дочкой на руках. На то она и война, всем досталось в те лихие времена. Всякое бывало и в этой семье. Во время одной из бомбёжек загорелся барак, бабушка только и успела, что отвязать козу, а весь нехитрый скарб, все документы погибли в огне.
Первое время ночевали наши погорельцы в яме от бомбёжки, пока однажды их чуть не расстреляли немцы. Домов на станции было несколько, идти некуда. Упросила бабушка взять их на квартиру сумасшедшую старуху Синиху, которая убила топором своего мужа, а в оплату за жильё делала той всё по хозяйству. Съёмная квартира представляла собой угольный сарайчик, откуда убрали уголь. Но в то время выбирать не приходилось. Жить с больной было страшно, спасало то, что бабушка всегда была доброй и покладистой, умела поладить со всеми.
Когда немцев выгнали, стала бабушка просить участок под постройку, жить-то где-то надо. Когда дали участок, возникла проблема, а из чего строить? Собирали наши солому, глину, кизяки и месили всё это, потом делали саман. Я помню, как маленькой пыталась во всём помогать. Да только как-то ночью весь самодельный кирпич был украден, потом забрали отведенный участок. Скитания продолжались. Тяжело приходилось одной, да ещё и безо всяких документов. Однажды ей всё-таки удалось договориться с одними хозяевами и они ей выделили угол от своего участка. Много лет мои родители так и жили на этом смешном треугольном клапте земли. Заготавливать саман бабушка больше не стала, она просто вырыла землянку-времянку и жили мы в этом холодном убежище до самого моего замужества. Новую хату уже строили вместе с моим отцом, когда переехали в Подмосковье.
Какой была бабушка? Всегда одинаковой — божий одуванчик. Когда ты родилась, она уже была старенькой (ведь я была поздним ребёнком). У неё совсем не было зубов, ходила в платочке, подвязанном под подбородком, плохо слышала, и нам всегда приходилось громко разговаривать с ней. Смешно, но все в нашей семье, забывшись, громко разговаривают — осталась привычка с тех времён… Не было у внучков возможности увидеть её молодой, ведь и фотографии все погибли в огне.
А ещё, я совсем не помню её без дела. Мы с отцом всегда были на работе, а вы — с бабушкой. Например, тебя я оставляла на бабушку уже в 3-месячном возрасте. Я так и помню — вы с бабушкой пасёте коз, вы с бабушкой на огороде, вы с бабушкой рвёте траву.
За несколько лет до смерти, бабушка упала, поскользнувшись зимой на льду, и сломала руку. Рука хоть и срослась, но сделалась нерабочей. Это её не смущало, просто всё то же она стала делать одной рукой. Я ругалась, жалко было бабушку, но та просто не могла иначе. До последних дней сама стирала за собой, а ведь была уже полностью глухой и почти слепой. Умерла она в 92 года.»
Даша очень любила слушать этот мамин рассказ, поэтому просила снова и снова его повторить. Сейчас, повзрослев, она вспоминает бабушку, будто икону рассматривает, и со временем поняла, чьими молитвами жила и охранялась и она сама, и брат с сестренкой. Конечно, молитвами святой русской женщины, бабушки, маминой матери и дедушкиной жены.
Матильда росла непослушной и капризной, поэтому Даше приходилось с ней непросто. Сразу после бабушки совсем молодым умер на работе отец, прямо на рабочем месте от инфаркта. Мать стала работать сверхурочно и совсем редко появлялась дома. В то время, как сверстницы начали интересоваться мальчиками, заводить романы, а чуть позже выскакивать замуж, Даша не могла и часа найти на развлечения и личные дела: стирка, уборка квартиры, огород, учеба, заботы о сестре и брате — съедали всё время. Каждый день, ложась спать, Даша с ужасом вспоминала о том, как мало она успела и как много дел отложено назавтра.
Наконец, мать вышла на пенсию, взяла на себя часть работы по дому, а старшую дочь заставила поступать в институт. Даша выбрала Педагогический и с обычным рвением взялась за учебу. Хоть старший брат устроился на работу, денег в семье постоянно не хватало, поэтому с третьего курса она перешла на вечернее отделение, а работать устроилась в детский сад. Там к ней присмотрелась одна очень состоятельная мамаша и пригласила поработать с её дочкой персонально, пообещав заработок в два раза больший. Даша под давлением мамы согласилась.
Однажды в том доме, где она занималась с воспитанницей, появился весьма красивый, молодой и богатый парень по имени Алик. Как увидел молодой горячий горец скромную, красивую девушку, как услышал её терпеливую беседу с девочкой, так и воспылал неистовой страстью. У Даши в то время не было опыта общения с влюбленными юношами, и она поначалу отнеслась к ухаживаниям Алика с симпатией. Ей нравилось внимание красивого, хорошо воспитанного юноши, его щедрые подарки. Дело дошло до того, что Алик познакомил её с родителями.
В тот вечер смотрин мать жениха увела Дашу на кухню и задала ей всего два вопроса. Первый — девственница ли она? Получила утвердительный ответ. Мать спросила во второй раз: готова ли она принять мусульманскую веру. Нет, ответила Даша и объяснила, что бабушка крестила Дашу в младенчестве, научила молиться, поститься и обязательно каждый праздник велела ей причащаться. Выслушав Дашу, открыв рот, мать жениха подняла руки к потолку и запричитала. На крик сбежались отец с сыном и стали громко, часто-часто между собой говорить. Даша почувствовала острое одиночество, тихонько собралась и ушла из богатого дома. Рассказала о своём романе маме, и та одобрила дочь: женихи у тебя, красавицы нашей, еще будут, а вера у нас одна и менять её смерти подобно.
Алик пробовал уговорить Дашу, объяснял, что лично ему все равно, он вообще атеист и это просто формальность для соблюдения обычаев. Он предложил всего разок сходить с матерью в мечеть, сделать там все что нужно, а потом ходи в свою православную церковь, сколько хочешь, он не против, только тихо, чтобы его родичи не узнали. Но тут в Даше проявилось качество, о котором она и сама, пожалуй, не догадывалась: она стояла как скала и ходить в мечеть, даже чисто символически, наотрез отказалась. Алик был единственным наследником старинного рода, баловнем, он не привык к отказам. Поэтому взорвался и накричал на Дашу, оскорбил её, стал угрожать и даже поднял на нее руку, правда, обжегшись о ледяной взгляд девушки, остановился и медленно опустил кулак. Даша встала и, не говоря ни слова, вышла.
На следующий день хозяйка, безо всяких объяснений, прогнала Дашу с работы. Потом её отчислили из Педагогического университета. Она стала искать работу в Москве, её брали, она даже работала несколько дней, но всегда без всяких причин и объяснений увольняли. Однажды позвонил Алик и спросил, не передумала ли она? Не надоело ей гробить свою жизнь, карьеру и учебу? Вот оно что, это горячий влюбленный ей жизнь ломает, сообразила Даша. Нет, не передумала и никогда не передумаю, твердо, но спокойно сказала она. Алик стал преследовать ее, звонил, встречал у дома, уговаривал, угрожал и снова поднимал руку. Потом мать обошла школы и детсады Кучино и в одном садике ей старая подруга сказала: веди свою дочку, мы ее знаем, нам такие работящие и умные девочки нужны. Мать рассказала о преследовании горца. Не волнуйтесь, у нас закрытое предприятие, сюда никого не пустят, успокоили её. А за своих сотрудников мы умеем постоять. Так что пусть приходит, работает и ни о чем не беспокоится.
Так Даша устроилась в детсад весьма солидного предприятия с высоким допуском секретности. Сунулся туда было Алик, но ему серьезные мужчины из спецохраны объяснили, что здесь власть денег и блата кончается, а начинается государственная безопасность. А если его или кого из знакомых еще раз тут увидят, меры будут приняты очень серьезные, вплоть до лесоповала на мордовской зоне. Алик уходя не выдержал и все-таки пригрозил дюжему охраннику. Тот, не долго думая, схватил его за шиворот лапищей, затащил в подсобку и профессионально отбил резиновой дубинкой кобчик и почки, не оставив на теле ни одного синяка. При этом сибиряк, прошедший выучку в спецподразделении, в двух словах объяснил наследнику старинного рода, что он думает о нём лично и о его роде в целом. Потом запер его на ключ и свет для экономии электроэнергии выключил.
Алика еще ни разу в жизни никто не бил и не оскорблял. Он даже представить себе не мог, что с ним такое может произойти. Всегда и всюду его охраняли, с детства внушая, что он бесценный отпрыск, наследник, мужчина. А тут какой-то детина вот так просто, взял и избил его, как грязного безродного мальчишку. Алик дрожал от животного страха, от негодования, от бессилия и лютой ненависти. Он метался по черной комнате, натыкаясь на невидимые предметы. Наконец, сел и заплакал, прислушиваясь к малейшему звуку снаружи своей мрачной тюрьмы. Охранник после окончания смены заглянул в подсобку и спросил невежу, достаточно ли хорошо усвоил тот урок или требуется повторение пройденного курса? Да, сказал Алик и прошипел что-то невнятное. За шипенье получил удар дубинкой по пятке. Его переспросили. Да, я все понял, пожалуйста, не бейте меня больше, проблеял воспитуемый, и только после этого был отвезен на машине подальше от населенных пунктов и выпущен ночью в чистом поле.
Больше он Дашу не беспокоил. И вообще никто её больше не беспокоил, кроме, разве что, меня.
Так уж случилось, что за нашим свадебным столом красовались две пары: мы с Дашей и Игорь с Лидией. Мы в один день зарегистрировались в ЗАГСе и обвенчались в нашем храме. Гостей было мало, только самые близкие. Даша с Лидией несмотря на свою внешнюю непохожесть, сразу подружились. Мне показалось, что за этим свадебным столом кроме обычного веселья, тостов, криков «горько» и танцев — происходило еще что-то невидимое, но вполне ощутимое. В моем сознании несколько раз всплывала картина, будто нас окружили ангелы и осеняли своими огненными крыльями. Я поделился этим с Игорем, а он ответил просто и лаконично: «Так и есть».
Наши свежеиспеченные жены были настолько красивы, они так сияли, как бриллианты! От них трудно было отвести взгляд. Даже Матильда, несколько раз убегавшая поплакать в тихом уголке, под конец торжества засияла отраженным светом и тем самым привлекла пристальное внимание моего свидетеля Василия. Свидетель Игоря, Федор Семенович, окружил своей заботой маму Даши — и она помолодела, и она заискрилась надеждой. Меня не оставляло чувство незаслуженного блаженства. Я даже несколько раз спрашивал и себя самого и Дашу, со мной ли это происходит? Никогда такого еще не было, чтобы так много счастья в одном месте и чтобы именно со мной.
В душе звучало: «Это тебе от Меня, радуйся и веселись», а в ответ: «Благодарю, Господи! Знаю, что не заслужил, вижу, что это дар. Благодарю, Милостивый!». Этот день вместил в себя столько света, столько радости, что мне до сих пор кажется, что он длился много-много дней. То ли время остановилось, то ли мы прожили за один день блаженство, отпущенное на полжизни, но до сих пор вспоминаю венчание как огромный взрыв света, как салют в миллион выстрелов из тысячи орудий. Как рай небесный, опустившийся на нашу грешную землю.
Даша рассказала на работе, что вышла замуж и хочет переехать в Москву. Ей обстоятельно и проникновенно объяснили, что она незаменимый сотрудник, без пяти минут заведующая детсадом. Они помогут ей не только защитить диплом, но устроят в аспирантуру и помогут защитить диссертацию. А что такое ездить от дома до работы пятьдесят минут? Да в Москве полтора часа ездят на работу и ничего. Потом директор предприятия позвонил мне и с час объяснял, какой Даша незаменимый сотрудник и как тщательно всем коллективом просят у меня разрешить Даше продолжить работать в Кучино. Я, конечно, для приличия поворчал, но уступил, испытав даже гордость за свою супругу. А потом положил трубку и в полной тишине понял: звездочка моя ясная будет появляться в моей жизни очень и очень редко. Ну что ж, значит, так и надо. Мне. Ей. Им. Нам.
Диана обгорела
Последнее нашествие Дианы очень не понравилось и заставило меня обратиться к Игорю за советом и с просьбой молитвенно оградить от девичьего экстремизма. Я верил в силу его молитвы и не раз убеждался в реальности её силы. Игорь пообещал «воздохнуть при случае» и посоветовал взять у батюшки благословение на ежедневные поклоны с краткой молитвой о помиловании «заблудшей Дарии» (именно так он перевел имя девушки с языческого языка на православный). Я получил благословение, и каждый день на утреннем молитвенном правиле клал три земных поклона с молитвой. Несколько раз я слышал, как Диана хлопала входной дверью, что-то кричала звонким голоском, но ни разу она не дотронулась до кнопки моего дверного звонка и не посмела войти в мой дом. Несколько раз я каким-то параллельным зрением видел, как она подходит к моей двери и поднимает руку к звонку, но что-то происходит, она опускает руку и, раздраженная, уходит.
Новогодний праздник с некоторых пор стал для меня временем искушений. Во-первых, продолжается Рождественский пост, и следует охранять чрево от скоромной пищи, разум от любопытства, а душу — от страстей. Во-вторых, новогоднее застолье с подарками просто так не отменить. А в-третьих, недели три до и столько же после Новогоднего праздника город буквально сотрясался от взрывов, хлопков, визга петард и вспышек салюта.
Игорь предложил новогоднюю ночь провести на литургии в монастыре. Там была чудесная служба по древнему чину: то есть когда всенощная без перерыва перетекает в утреннюю литургию. Так, по ночам до рассвета, молились и причащались первые христиане в ежедневной готовности к аресту и мучениям за Христа. Так молились и причащались и мы в новогодний праздник. Ночная служба пролетела на одном дыхании. Мне показалось, что с начала до отпуста прошли час-полтора, когда же взглянул на часы, удивился: шесть часов без перерыва пронеслись незаметно. И вот мы из торжественной тишины храма вышли на улицу. Воздух ночного города гудел, вибрировал и сотрясался от криков, автомобильных сирен и взрывов салюта. Только что мы причащались Святых Тайн под ангельский хор в мире и покое, а тут на наши головы обрушилась адская канонада.
Меня будто что-то подбросило, когда где-то рядом бухнул взрыв и в рыжее небо взвилась красная ракета. Охватила паника вперемежку с раздражением. Игорь положил братскую руку на моё вздрогнувшее плечо и улыбнулся: спокойно! Рядом пронеслась черная «волга», но резко остановилась и вернулась к нам задним ходом. Водитель потянулся к правой двери, опустил окно и крикнул: «Вам куда?» И вот мы уже несемся прочь от ночной канонады и через полчаса выходим в нашем районе. Здесь было гораздо тише, народ, видимо, устал безумствовать и задремал у телевизоров. Мы с Игорем попрощались. Напоследок он попросил меня изо всех сил сохранять в душе мир, чтобы не растерять ту тихую радость, которую дарит Причастие.
Дома я разделся, прочитал «Благодарственные молитвы по Святом Причащении» и лёг в постель. Не смотря на непрестанную канонаду за окном, я спал как дитя и видел во сне нечто настолько красивое и светлое, что и словами не передать. Случаются такие счастливые минуты, когда даже не пытаешься их осмыслить, просто бережно носишь это в себе и в зеркальном отражении непрестанно видишь свою блаженную улыбку, которая случается только у детей, стариков и влюбленных.
В полдень первого дня года я проснулся бодрым и отправился в Кучино. Электричка увозила прочь от мегаполиса весьма разношерстную публику: пьяных и похмельных, трезвых и сонных. Там рядом сидели бабушка с внуком и охрипший от воплей хулиган, упавший безвольной головой на плечо суровой подруги с поджатыми губками. Вон там, у окна четверо парней с максимальной конспирацией разливали нечто из стеклянной ёмкости в пластмассовые стаканчики, а на них завистливо поглядывали мужчины, намертво прихваченные сильными руками бдительных подруг. Три девушки напротив меня попрыскивали в ладошки и стреляли шальными блестящими глазищами то в меня, то в моего соседа, отстраненно читающего детектив.
О, пассажиры подмосковных электричек! Кто бы вы ни были, я люблю вас и до боли в груди благодарен за ваши теплые плечи, подпирающие меня, усталого; за ваши глаза, любопытные, насмешливые, смущенные, дружественные; за те многочасовые беседы обо всём и ни о чем, когда ты лишь обмениваешься сокровенной любовью с простыми добрыми людьми, число которых с каждым годом становится всё меньше.
У меня в сумке булькали тяжелые «бомбы» с игристым, сминался под тяжестью рук торт и еловая ветка в мишуре, таяли в вагонной духоте шоколадные конфеты, мерно покряхтывали консервные банки с икрой, лососем, маслинами и зеленым горошком, шишковатый испанский ананас, абхазские мандарины и огромные бугристые херсонские груши. Мне вдруг показалось, что девчушки напротив необоснованно обделены тем праздничным богатством, которое таилось в моём обширном бауле. Их простенькие китайские курточки, дешевые стоптанные сапожки подсказали мне это, а их девичье жизнелюбие и провинциальная безыскусность возмутили во мне мощный душевный порыв — словом, я решительно вжикнул молнией на сумке и выхватил оттуда ананас, горсть мандарин, потом пакетик конфет «Каракум» и зеленую баночку зернистой икры. Это вам, детки, от Деда Мороза! Девочки смущенно залились звонким смехом, но от протянутых гостинцев не отказались.
Пошарив по наружным карманам своего баула, извлек махонькую бутылочку ликёра, отвинтил игрушечную пробочку и произнес витиеватый тост, в котором пожелал им прожить новый год радостно, полезно, чтобы через год на этих посадочных местах рядом с ними сидели добрые, трезвые и ясноглазые юноши — и пустил крохотную бутылочку по рукам. Будто рухнула ветхая стена между нами, и за несколько минут я узнал, что живут они в небольшом поселке, где мужики беспробудно пьют, женщины рано стареют в тяжких трудах, женихи разъехались по городам, поэтому они решили съездить в Москву и там среди людей встретить волшебный новогодний праздник. Им очень понравился шумный веселый народ, громадная ёлка в огоньках и горячие пирожки с мясом, которые им удалось купить на Лубянской площади. В общем, теперь будет что вспомнить длинными скучными зимними вечерами. Напоследок они назвали меня добрым Дедушкой Морозом (я их — Снегурочками) и поблагодарили за новогодние подарки, которых им никто еще не дарил.
Пробираясь к выходу сквозь толпу людей, стоящих в проходе, ловил на себе удивленные взгляды попутчиков и, едва сдерживая слезы, чувствовал, что соприкоснулся с тем почти незнакомым сообществом людей, на которых держится вся наша страна — нищих, трудолюбивых, обделенных, но неунывающих в своей беде и таких открытых всему доброму и светлому. Я запомнил имена девочек и решил внести их в свой синодик, чтобы поминать в молитвах всю жизнь. А чем еще могу я им помочь?.. Эх, милые девочки, пусть не оставит вас материнской заботой Пресвятая Богородица, ваши святые угодницы Вера, Надежда, Любовь с родительницей Софией, ангелы-хранители. Кому, если не вам, обиженным и оскорбленным, труждающимся и обремененным, помогать в этой жизни святым и непрестанно молиться к Спасителю о помиловании и спасении ваших бесценных душ.
Даше я принес на лице ту блаженную улыбку, отражения которой не раз наблюдал сегодня. Она спросила, почему я так счастлив, ведь её рядом не было. Тогда мне пришлось рассказать и о ночной праздничной службе, и о веселых моих попутчицах, и о том, что передумал по дороге от платформы до этого уютного дома. И тут уже пришел черед Дашиного возмущения: почему пожадничал, почему не отдал половину содержимого сумки? Да что там — всю сумку и отдал бы. Мы что с тобой бедствуем, в конце концов? А девочкам — радость на всю жизнь. Может, им такой Дед Мороз больше никогда не повстречается! Я стоял, поникнув головой, не зная точно, издевается она надо мной, ревнует, или на самом деле так за девочек переживает. Наконец, Даша закончила обличительную тираду, с визгом повисла у меня на шее и жарко шепнула на ухо: «Если бы ты знал, как я люблю этого Дедушку Мороза» — и сомнения отпали: сегодня, кажется, меня отсюда не вытурят. Да, и этот сказочный вечер, и ночь, и следующий день хоть и несли на себе сдерживающую печать поста, но Рождество Христово из недалекого будущего уже освещало наши сердца нарастающей радостью воплощения Бога Любви на Земле. И с каждым днем, и с каждым часом мороз и тьму пронизывали потоки света, льющиеся от восходящей Рождественской звезды.
И грянуло Рождество! После голодного Сочельника, жиденькой кашки с изюмом, ночной морозной дороги в храм, исповеди в длинной очереди, долгой всенощной службы. …Наконец, хором на всю вселенную: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе» — и сладкое причастие Святых Тайн, и обратная дорога домой под яркими звездами, когда в душе только свет и радость, и праздничное застолье, и поздравления, и гусь с яблоками — и много, много чего еще.
Я бесшумно поднялся по лестнице на третий этаж, открыл дверь своим ключом, вошел в просторную квартиру и… замер.
Над телом молодой женщины, распростертом на полу, стоял сухопарый мужчина, словно любуясь результатом проделанной работы. Он вернул пистолет в наплечную кобуру, нагнулся и бережно поправил полу её халата: дети, старики и мертвецы беззащитны под насмешками пошляков. Обвёл пристальным взглядом помещение, ободряюще, как старой приятельнице, кивнул убитой женщине и удалился на балкон, где на фоне серого неба чернела решетка пожарной лестницы. Женщина в светлом махровом купальном халате и тюрбане из полотенца на голове, должно быть, только что приняла ванну и остановилась у большого зеркала в гостиной. Там её и настигла пуля. Кожа её сияла нежной матовой белизной, чуть согнутые в коленях стройные ноги, разбросанные гибкие руки, изящная длинная шея, прядь волос на щеке — всё в ней еще дышало жизнью и здоровьем, и только небольшое темное пятно под головой, растекающееся по паркету, напоминало о том, что она мертва.
В затемненной части комнаты кто-то шевельнулся, и меня осенила догадка: не я один являюсь свидетелем этого убийства. Там, в полутьме, что-то качнулось, тонко звякнуло стекло и будто бы сверкнул камень на перстне невидимой руки. Холодок животного страха пробежал по спине, и я остался неподвижно стоять в темной прихожей, ожидая следующего поворота событий.
В гостиную вошел пожилой мужчина, увидел убитую и трясущимися пальцами набрал короткий телефонный номер:
— Я должен сообщить об убийстве. Женщина двадцати трех лет. Адрес…
Спустя буквально минуту, в комнату вошли двое в штатском, сфотографировали тело, задали старику несколько вопросов, тщательно смыли кровь с паркета, упаковали тело в черный пластиковый мешок и вынесли. Старик вышел вслед за ними. Осталась пустая комната, некто в темноте и я, в состоянии гнетущего ожидания.
Вдруг раздался щелчок замка, распахнулась входная дверь, и вошли две девушки.
— Почему тут никого нет? Может, ты дверь перепутала?
— Да нет, ключ же подошел. И потом я уже здесь была. Рита в гости приглашала.
— Где же она?
— Сама не знаю. Она обещала устроить здесь вечеринку.
— Слушай, а давай уйдём. Что-то мне тут не нравится. Страшно!..
— Да брось ты, глупая! Ну может, она в супермаркет на углу выскочила за шампанским, или еще за чем. Мы уйдем, а она вернется.
Девушки сняли куртки и бросили их в кресло. Сами расположились на диване и разложили на коленях свежие номера глянцевых журналов. Они поминутно толкали друг дружку, показывая картинки, увлеклись и не заметили, как слегка качнулась портьера, появился ствол с глушителем, и раздались два глухих щелчка. Головы девушек поочерёдно дернулись, размякшие тела завалились на бок. На этот раз сухопарый даже не вошел в комнату. Он лишь отодвинул тяжелую портьеру, внимательно рассмотрел тела убитых и бесшумно скрылся из виду.
— Тебе не показалось, что эти стражи порядка действуют заодно с киллером? — раздался глуховатый голос из темноты.
— Да, уж как-то подозрительно быстро они свернули расследование убийства, — откликнулся я из своего укрытия.
— Может, какая-нибудь секта? Знаешь, сейчас много развелось психопатов, которые якобы занимаются борьбой с нравственностью и под эту идею убивают людей.
— Очень даже возможно, — согласился я.
— Выходи из своего окопа, присаживайся, — прошелестел голос, и снова звякнуло стекло. Передо мной появился высокий стакан с желтоватой жидкостью и льдом. Вот откуда стеклянный звон, подумал я, делая обжигающий глоток и утопая в кресле.
— Жена, дети? — спросил меня голос из темноты.
— Скорей да, чем нет, — ответил я туманно. — Уехали в пансионат. Я им купил путевки, чтобы отдохнуть в праздник без помех.
— Понятно. Постой! Смотри: снова эти липовые следователи.
— Да ну их, Серега, стоило ли покупать дорогущий киноцентр, чтобы такую муть смотреть.
Сергей взял пульт и защелкал по каналам — их у него оказалось около двухсот. Вот уж насмотрелись мы в тот вечер! На месяц хватит.
В полупустом вагоне висел устоявшийся праздничный аромат, настоянный на хвое, мандаринах, шампанском и духах. Пассажиры по большей части дремали, будто ехали не из гостей или от тёщи, а после завершения ночной вахты на вредном производстве. Только одной паре мужчин не спалось. Один из них — жизнелюб, искусный говорун — сиял открытой улыбкой и непрестанно изливал поток сознания, а второй — ироничный и задумчивый — так же сиял, только отраженным светом первого, то возражая, то соглашаясь. Этот второй напомнил беспризорника в исполнении Савелия Крамарова из фильма «Бей, барабан!» 1962 года. Тот сидел в кресле, а ему юный оборванец по слогам читал «Капитал» Маркса: «Читайте прейскурант и вы найдете стоимость денег во всех товарах» — «Правильно пишет старик!» — «Но сами деньги не имеют цены» — «Не правильно пишет старик!»
Я сидел у окна и, прислонившись к дребезжащему стеклу, невольно слушал их разговор с прикрытыми глазами. Как и большинство пассажиров, я чувствовал праздничную усталость и желал тишины. Только эти двое не давали задремать, что впрочем, нисколько нас не раздражало и даже напротив — занимало. Жизнелюб обладал несомненным талантом рассказчика, не лишенного чувства юмора и, наверное, если бы вышел на эстраду, сорвал бы немалые аплодисменты.
— Ну и что вы там с Сергеем насмотрели? — подхлестнул жизнелюба ироничный собеседник.
— Значит так. Очень большие проблемы у руководства ряда стран. Просто ряд проблем у ряда стран руководителей. — Он достал большую плоскую фляжку, пригубил и протянул ироничному. — Взять хотя бы американского президента, это же ходячий клубок противоречий. Разбомбил башни торгового центра, объявил войну терроризму, а сам с главарями террористов бизнес делает. Они ему: Жоржик, давай долбанем по башням-близнецам, а нам — страховки по сто миллионов дадут. Он им: конечно, а то скоро моему президентству конец, а жить на что? Ладно, давайте рванем, начнем борьбу с терроризмом и под это дело из госбюджета еще по сто миллионов огребём.
— А как же свободная пресса? — Подскочил ироничный. — А если они затеют скандал? А если затеют новый Уотергейт?
— Всё продумано. В связи с чрезвычайной ситуацией дали команду службе безопасности пресекать все критические сообщения, ограничив свободу слова. Потом они решили отвлечь внимание народа, развязав Иракскую войну. А там же нефть! Значит — конкуренция его саудовским партнерам по бизнесу. И тут Жоржик с арабами сразу трех зайцев убили: усыпили народ, опустили конкурентов и сами заработали на черный день. А ты думал! Знаешь, какая у президентов жизнь дорогая? Это ж машины, виллы, драгоценности, вредные привычки. Они бывало криком кричат: не хотим ваших лимузинов, фраков и золотых часов! Хотим на жигулях в телогрейке. А им: что поделаешь, надо, такой уж протокол. Поэтому нужны им десятки миллионов презренных долларов в год. Да. Но уж отметили Жоржик с арабскими товарищами как надо. Он с полгода после отходил, всё сам не свой был. То с фингалом на морде лица появится, то падает у всех на виду, то такую галиматью набрешет, пресс-служба за головы хватается. А он им: я президент, мне всё можно. А сам вспоминает заработанные миллиарды, и они его душу согревают.
— А знаешь, как в русском интернете американцев называют? — вставил ироничный, возвращая фляжку. — Пиндосами!
— Так им и надо, буржуазным экстремистам. Суются всюду. Братьев наших, украинцев и грузин, с русскими стравили. Так что есть за что. А французский президент Саркози! Такую хулиганку в жены взял, что сам не рад. Но, понимаешь, любовь у них. Карла голышом снимется, половина французов кричат: позор Бруне и всем нам! А другие: да-а-а, а мадама-то очень даже ничего! Вызывает старушка-королева английского премьера Гордона Брауна, наливает чаю, плюшки с повидлом пододвигает и говорит: слушай, внучок, разберись там с ними, наведи порядок. Звонит Гордон Николя Саркози и говорит: Колька, ну ты того, маму-Карлу-то присмири, а то ведь бывшая жена твоя Сесилия желчью изошла, всем газетам по очереди рассказала, что Николя бабник, и никакой державной скромности в нем не наблюдается. Собрались они на Большой восьмерке, почесали репы и спрашивают итальянского премьера Берлускони: слушай, Сильвио, ты у нас самый богатый, значит самый умный, опять же у тебя медиа-империя и опыт работы с мафиозными товарищами, что ты нам посоветуешь? А тот махнул портвешку, капусткой квашеной похрустел и сказал: если у Николки с Карлушкой такая любовь-морковь, коль они такие харизматичные, но крайне полезные народу, то давайте Сесилии мужика найдем, может, успокоится. И тут немецкая канцлерша Анжелка встрепенулась, допила рислинг, стукает себя по лбу и кричит: вспомнила! Был у Сесилии полюбовник Ришар, я сама их как-то в Президент-отеле на рояле застукала. Ну, вызвали их обоих на ковер, дали чемодан денег и сказали: Сесисушка с Ришариком, живите в любви, голубки, а Николя оставьте в покое, он не только за Францию радеет, а за всю Европу и еще полмира.
— Это точно, — кивнул ироничный, — Николя очень умеет конфликты разгребать. Думаю, это потому, что он обаятельный, и народ его за своего принимает: такой же обалдуй и котяра, как все мы, да баба его вроде наших: глупая и блудливая коза.
— Верно. На том восьмеркинцы и сошлись. А потом снова закусили и задумались. Вот, говорит американец Жорж, Китай у нас совсем из повиновения вышел, так и норовит мировое господство у нас отнять и себе присвоить. Что будем делать? Предлагаю начать прения по данному вопросу. Товарищи, прошу высказываться. Все зашумели: а что мы о Китае знаем? Да они настолько закрыты, что нам неизвестно даже сколько у них ядерных боеголовок и сколько носителей? Всё у них там секретно, а как мы своих шпионов к ним засылаем, так они нам их — обратно, но уже по частям. Не извольте беспокоиться, пацаны, говорит Буш, у китаёзов столько оружия и населения, что им ничего не стоит Америку с Европой за месяц в руины превратить. Снова министры-капиталисты зашумели, загалдели, рюмками зазвенели, вилками замахали. Официанты в поту: замучились, бедные, горючее с закусью подтаскивать. В общем, так они ничего и не решили в тот раз, только перебрали все, как обычно, и на полном приводе на четвереньках по нумерам расползлись.
— А нам говорят, что только мы одни злоупотребляем, — вздохнул ироничный, третий раз прикладываясь к вежливо протянутой фляжке.
— Ну конечно! Да мы рядом ними воспитанники детсада, просто у них качество продуктов повыше. …А в это самое время, встречаются китайский Цзян с венесуэльским Уго — такие богатые, раскованные, пахнущие духами, устрицы с лангетами жуют, коньяк фужерами дуют и говорят: хорошо сидим, а давай позвоним нашим отсталым братьям корейцам, кубинцам, вьетнамцам и научим их жить по-нашему, по-нэпмановски. А то они, сердешные, в нищете прозябают. Пусть как мы, по-умному поступят: коммунисты пускай заседают на пленумах и съездах в своих загонах-резервациях, а резвые капиталисты занимаются подъемом экономики. Надо только диктаторов завалить и дать свободу народам. И говорит Цзян: тогда станут они воровать, копировать и задарма выбрасывать подделки на мировой рынок, как мы; или как ты, Уго, нефть добывать и продавать. Посидели, поболтали, перебрали, как водится, да и расползлись на полном приводе.
— Ой, не говори, дорогой товарищ, — вспыхнул очами ироничный. — Ой, не зря всё мировое сообщество насчет Китая озаботилось! Это ж такая глыбина! Такая матёрая человечищем! Полтора мильярда! И все как один с прищуром, голодные и — жуть сказать — трудолюбивые и дис-цип-ли-ниро-ванные! А ну как эта миллиардная орда на нас попрёт! Да они же если не пулями-снарядами, то рисовыми вениками нас закидают.
— Вот только не надо, коллега, повторять разную паникерскую пропаганду! Это политически безграмотно и идеологически вредно. Если бы дело обстояло именно так, они бы нас еще в 1969-м на острове Даманском сделали. Они тогда и вовсе без кровли остались: Мао их культурной революцией так запугал, так мозги закомпостировал, что терять им вообще нечего было. Но только наши «Грады» пальнули — и конфликту конец. Не надо забывать про наличие у нас самого лучшего в мире оружия, в том числе ядерного! Один, другой залп С-400 и «Тополя-М» — и половины Китая как не бывало. Наши вороги лютые давно бы нас с политической карты мира стерли — ан нет, страшно: у русских ядерного и прочего другого оружия в ассортименте хватит, чтобы сто раз весь земной шар на молекулы распустить. Помнишь, когда твои пиндосы решили начать бомбардировку Белграда в 1999-м? Только после того, как ЦРУ доложило Белому дому, что на территории Сербии нет ни одного нашего С-300. А то бы и не сунулись. Да что там! Какой-то сербский мужичок зениткой образца 1960-го года сбил их дорогущий хваленый F-117 «Стелс» за сто сорок мильёнов. Были даже сообщения сербов о том, что они сбили два В2, стоимостью по два миллиарда, но янки упираются изо всех сил, кричат всюду, что это враки. Только кто же этим врунам поверит? Скорей, сербам… А уж один комплекс С-400 — половину России закрывает щитом. Так что не надо про военное вторжение. Враги наши его боятся, потому как в прямых военных конфликтах мы всегда всем по шапке давали. А вот мирное ползучее проникновение — это да, на такое они вполне способны. Но тут уж всё от наших продажных властей зависит. У меня один знакомый комендант студенческого общежития целое состояние сколотил, поселяя китайцев за сто басков с носу в сутки. Видел я как-то утром, как эти хунвейбины от общаги разъезжались — целый хвост автомобилей в очереди. Они по одному выходят, а наш бомбила уже дверцу распахивает: извольте, ваше китайское благородие, за ваши баксы — любой каприз…
Слушай, слушай, ворчал я про себя, не открывая рта. В твоей жизни ничего случайного не бывает. Если эти собеседники оказались рядом, значит, так нужно. Зачем? Ну, к чему, спрашивается, мне вести из той жизни, с которой я покончил? Уж кому-кому, а мне-то доподлинно известно, что все события в жизни людей происходят только в зависимости от нашего взаимодействия с Богом.
Взять хотя бы Исход. Моисей по повелению Божиему выводит народ из египетского рабства. Бог призывает Моисея на гору Синай и вручает ему скрижали завета. А в это время Аарон по многочисленным пожеланиям трудящихся соорудил золотого тельца, провозгласил его богом, и стал народ ему поклоняться. Бог велел Моисею спуститься с горы и наказать предателей. Моисей сошел с горы, увидел поклонение народа золотому тельцу и приказал сынам Левиным убить три тысячи человек. Потом поднялся на гору Сион и стал просить Бога простить остальных людей. Ради Моисея Господь простил народ.
Как всё тут ясно: причина — поклонение золоту, следствие — гнев Божий и три тысячи убитых. Если бы ни мольба Моисея, Бог весь народ поразил бы, и от Моисея произвел бы новый народ, не запятнанный предательством. То же случилось и с Россией. Предательство веры, увлечение золотом — гнев Божий в виде революции, миллионов жертв — прощение народа по жертвенной молитве Божиего Помазанника и тех оставшихся верующих, кто еще способен молиться и жертвовать собой; ради тех детей, которых нынче ведут к Причастию…
Тогда, спрашивается, к чему эта болтовня о следствиях, если о причине ни слова? Ну, не знаю… Скажем, для того, чтобы узнать международную политическую ситуацию, которой ты вовсе не интересуешься. А тут тебе — политинформация доступным языком, да еще в оптимистической манере изложения. Может случиться, что эти сведения и тебе со временем пригодятся. Так что, слушай терпеливо, Андрей, слушай и не привередничай.
Дома сел в кресло, чтобы по четкам почитать Иисусову молитву. К завершению первой сотни я полностью успокоился и вошел в неспешный ритм: молитва пульсировала в унисон с сердцем, сердце стучало в такт молитве. Передо мной проносились неясные видения, шелестели обрывки фраз и воспоминаний, но всё лишь скользило по краю сознания и бесследно уносилось прочь. Наконец, внутри наступила полная тишина.
И вдруг в этой тишине оглушающим взрывом прогремел звонок в дверь. Я с трудом погасил волну раздражения и открыл входную дверь. На пороге стояла Диана с повязкой на лице и умоляюще смотрела на меня. Не зная как к этому относиться, я отступил и впустил девушку в дом.
— Что с тобой? — Указал я на повязку на лице.
— Как, ты ничего не знаешь? — тихо спросила она.
— Что я должен знать? Я только что из Подмосковья приехал.
Она подвела меня к окну и показала на дом, что напротив нашего, на другой стороне проспекта. Там на белом фасаде чернела пещера выжженной дотла квартиры без окон и дверей.
— Я в той квартире Новый год встречала. Пашка накупил китайской пиротехники. Вся лоджия ею завалена была. В полночь стали пускать ракеты прямо с лоджии. Мне повезло: я на кухне с девочкой болтала. Когда вся пиротехника взорвалась, я успела добежать до двери и выскочила из квартиры. Четверо погибли, остальные до сих пор лежат в реанимации. Мне больше всех повезло, но всё равно огнем щеку и волосы опалило. Теперь останутся шрамы на всю жизнь. Ты не смотри на меня, ладно… Я такая уродина…
Девушка говорила тихо, поворачиваясь ко мне необожженной частью лица, по-прежнему красивой. Такой печальной, смиренной, мягкой мне её видеть еще не приходилось. С одной стороны я понимал, что это Божие наказание за то, что она использовала дар красоты для соблазнения, а с другой — испытывал жгучую жалость к изуродованной девочке.
— Постой, но ведь есть же пластическая хирургия!
— Есть. Только стоит такая операция тридцать тысяч долларов.
— Ого! — вырвалось у меня.
— Я уже родичей и знакомых обзвонила. Все отказали. Даже те, кто хвастали, что у них сотни тысяч. — Она подняла на меня единственный глаз (второй был замотан бинтами) и обреченно спросила: — У тебя случайно нет тридцати тысяч долларов?
— Откуда!.. Но можно попытаться найти эти деньги.
— Попробуй, а? — совсем шепотом сказала он. — Я тогда рабыней твой стану до конца жизни.
— А вот этого не надо!
Девушка подошла к входной двери, положила руку на ручку замка и, не поднимая головы, сказала:
— Я ходила на похороны девочки, которая сгорела… там. Видела, как опускали гроб в глубокую яму. Там все плакали!.. Я думала, что с ума сойду от рыданий матери. Потом ночью мне снилось, будто это меня в гробу опустили в могилу и засыпали мерзлой землей. А я лежу там, на глубине, живая, а ни пошевелиться, ни крикнуть не могу. Проснулась и потом две ночи глаз не сомкнула. Всё боялась, что вернусь в эту могилу. Андрей, мне так страшно!
— Знаешь, девочка, бояться этого не стоит, — сказал я как можно мягче. — Когда человек умирает, его душа покидает тело и три дня посещает друзей и близких, прощаясь с ними. А на третий день, когда тело предается земле, душа поднимается к своему Отцу Небесному, который дал ей жизнь. Там, на том свете, неверующих нет, потому что всё духовное и вечное. Там всё что человек или отвергал или верил — предстаёт воочию. Вот внизу — мрачный ад с миллионами страдающих в мучениях грешников, а вот наверху — свет, исходящий от Спасителя. И душа сразу узнаёт своего Отца и тянется к Нему, изо всех сил взлетает — а тут стоп! На пути восхождения души к сияющему Спасителю — двадцать мытарств, и на каждом из них тебе показывают твои грехи, один за другим. И если ты не исповедовалась, не сжигала их в таинстве покаяния в храме Божием, то этот частный суд душа не выдерживает и низвергается вниз, в пучину ада. Вот этого нужно бояться. И если хоть чуть-чуть совести осталось, то нужно спешить в храм Божий и начинать уже сейчас готовиться к этому страшному суду. И стоит только начать это святое дело, как жизнь наполнится смыслом и радостью. Тут и страхам конец. Понимаешь?
— Хорошо. Я подумаю.
Диана последний раз умоляюще взглянула на меня красивым глазом, бесшумно, как тень, просочилась в узкую щель входной двери и тихо щелкнула защелкой замка. Я позвонил Игорю.
— Да, да, наслышан об этом пожаре, — как всегда спокойно сообщил созерцатель. — Так значит и Дарья там была. — Он упорно не признавал её языческого имени, называя на православный манер. — Знаешь, Андрей, это неспроста. Значит, твоя молитва возымела действие.
— Слушай, брат, мне бы не хотелось такого поворота. Что же получается, я виноват в том, что девочка обгорела?
— Виновата, конечно, она, её смертный грех, — сказал Игорь, — только если Господь устроил девушке такое испытание, то это, несомненно, для спасения души. Господь хочет и ждёт её обращения. А деньги на пластическую операцию… — он запнулся, вероятно, погрузившись в молитву, потом сказал: — Деньги ты ей скоро принесёшь. Они появятся, не сомневайся.
Вечером следующего дня позвонил Игорь и сказал:
— Ну вот, видишь, Андрей, как всё устроилось! Антиквар перед выездом из страны распродает свою коллекцию. Ту её часть, которую не может вывезти с собой и продать в Москве. Вспомнил нашу с тобой работу с яйцом Фаберже и снова приглашает нас на дело. Опять доставка Уральским партнёрам. И знаешь, какова сумма гонорара?
— Тридцать тысяч долларов?
— Именно! Чтобы даже у самого непроходимого тупицы не было сомнения: Бог посылает искушение и даёт всё возможное для его успешного преодоления.
Вся операция с яйцом Фаберже повторилась за исключением доставки денег наличными. Теперь партнеры перечисляли деньги на счет антиквара в Швейцарском банке, что легко и наглядно прослеживалось из Москвы, поэтому самую эмоциональную часть операции — инкассацию денег — с нервотрепкой и истериками мы упустили. Правда, и объем посылки был посолидней: когда мы тащили старую потертую сумку Игоря с бесценным вложением, руки наши очень быстро устали. Видимо, там золота было с два пуда. Но и эта работа была сделана Игорем без особых трудностей. А по возвращении с Урала, антиквар вручил Игорю конверт с тремя пачками долларов. Игорь передал мне, уверил в том, что будет молиться за неё, а я понёс деньги Диане.
— Хочешь послушать, куда мы с тобой должны попасть после завершения дел на земле? — спросил я Диану, когда она пришла ко мне по моей просьбе. Деньги я ей пока не отдал.
— Не знаю, — сказала он неуверенно. — А как это, узнать?
— Просто послушай, а я тебе почитаю. Это свидетельство человека, который бывал там и бывал неоднократно.
— Давай, — кивнула она забинтованной головой. Девочка по-прежнему поражала меня своей тихой кротостью, и это мне нравилось. Я раскрыл книжку и стал зачитывать подчеркнутые места:
«Духовным оком воззрел я на рай. Вершины всех гор низки пред его высотою. Но как ни высоко поставлен рай, не утомляются восходящие туда, не обременяются трудом наследующие его. Красотою своею исполняет он радости и влечет к себе шествующих, осиявает их блистанием лучей, услаждает своим благоуханием. Светоносные облака образуют из себя кущи для соделавшихся достойным его.
Украсил и уразнообразил красоты рая исткавший их Художник; степень степени украшеннее в раю, и сколько одна над другою возвышается, столько же превосходит и красотою. Для низших назначил Бог низшую часть рая, для средних — среднюю, а для высших — самую высоту.
Когда праведники взойдут на степени, назначенные им в наследие; тогда каждый, по мере трудов своих, возведен будет правдою на ту именно степень, какой он достоин, и на какой должно ему пребывать. Как велико и число и различие степеней, так же велико и число и различие в достоинстве поселяемых; — первая степень назначена покаявшимся, средина — праведникам, высота — победителям, чертог Божества над всем превозносен.
Никакие уста не в состоянии изобразить внутренность сада сего и привлекательные красоты его наружности. Даже и простых украшений на ограде его не в состоянии описать они, как должно. Блистательны краски его, дивны благоухания, вожделенны красоты, многоценны яства.
У края ограды рая — последние из сокровищ его, но и они превосходят богатством все сокровища вселенной. Как ни малы сокровища низших пределов его в сравнении с сокровищами страны горней, однакоже блаженство у самой ограды его гораздо превосходнее и выше всех благ этой нами обитаемой юдоли.
Пусть не гневаются на меня, что дерзнул язык мой изобразить превышающее силы его, и потому умалил недостаточным своим изображением. Поелику нет зеркала, в котором бы отражалась красота рая, и нет красок, которые бы живо описали его; то пусть не винят и мое произволение; для пользы нашей принял я труд составить изображение рая.
Там видел я кущи праведников, которые… разливают благоухание, убраны цветами, увенчаны вкусными плодами. Каково делание человека, такова и куща его; одна ниже своим убранством, другая сияет своею красотою; одна менее с виду, другая блистает славою.
Но меня усладил Едем более покоем своим, нежели своею красотою. В нем обитает чистота, и нет там места скверне; в нем живет покой, и нет там места смущению.
Спрашивал я потом, вместителен ли будет рай для всех праведников, которые должны обитать в нем? Тело праведников будет подобно духу, который может, когда хочет, расширяться и увеличиваться, и когда хочет, сокращаться и умаляться, и когда сократится, может быть в одном месте, а когда расширится, быть повсюду.
Выслушай другие подобия и вразумись. Тысячи лучей или искр солнечного света бывают в одном доме, лестки тысяч благоуханий носятся над одним цветником. Так и рай, хотя полон духовных существ, но обширен для того, чтобы распространялись там существа сии.
Нет конца и числа помыслам, заключающимся в сердце, сколько оно ни мало; и хотя все оно преисполнено ими, но помыслы не стесняются в сердце, и не стесняют друг друга. Так и славный рай поместителен для чистых духов.
Одно воззрение на рай возвеличило, одно помышление о нем обогатило меня; упоенный его благоуханиями, забыл я свое убожество; обновленный разнообразием красот его, стал я как бы иной, и погрузился в волны славы его. О, как стал я упоен и забыл вины в этой стране!..
И хотя много было для меня и одной волны его красот, однакоже он взял и поверг меня в большее еще море. В лепоте его увидел я еще большие красоты, и размышлял: «если так славен рай, то сколько славен Адам, этот образ его Насадителя; сколько прекрасен крест, эта колесница сына Адамова — Господа»!
Не ради рая был создан человек, а напротив того, сам был виною насаждения рая. Чистое сердце драгоценнее растений, песнь — лучше плодов, слово — приятнее того, что произрастает на древах, вера человека многоценнее благовонных корней, любовь прекраснее всяких аромат.
Церковь святых есть образ рая; в ней ежедневно собирается всеоживляющий плод и для пития влагается в точило грозд, исполненный животворного врачества. Змий приведен в изнеможение, связан проклятием; уста Евы запечатлены спасительным молчанием, и снова покорствуют Творцу.
В искушениях утешайте себя обетованиями! Неложно слово Того, Кто на всех изливает дары Свои… Сына Своего Он предал за нас, чтобы уверовали мы. С нами Его плоть, с нами и истина Его. Он пришел и дал нам ключ Свой; потому что сокровища Его нас ожидают.
Не будьте, братия, нерадивы, не думайте, что подвиг ваш продолжителен, Воскресение отдалено. Вот смерть за нами, и пред нами Воскресение. Будьте терпеливы сетующие, вы войдете в рай. Роса его омоет вашу нечистоту; пристанище его возвеселит вас; вечеря его положит конец вашим трудам; венец его утешит вас; вечеря его подает алчущим утешение, а оно очищает вкушающих его; предложит жаждущим небесное питие, а оно умудряет пиющих его.
Блажен нищий, устремляющий взор к этой стране, наполненной несметным множеством богатства! Аметисты и другие драгоценные камни отложены вне ее, изринуты оттуда, как сор; они осквернили бы эту страну славы. Если бы внес кто туда бериллы и прочие драгоценные камни они показались бы мутными и темными в этой лучезарной стране.
И мужи и жены облечены в светлую ризу, славою закрыта нагота их составов, умолкли постыдные движения в членах, заграждены источники похотений, яд истреблен, душа чиста и зеленеет в Едеме сладости, как пшеница без плевел.
Торжествует там девство о том, что исчез змий, тайно в слух его вливавший свой яд. Исполнившись радостного усердия, говорит ему смоковница: «приведи на память невинное девство свое, вспомни тот день, когда, обнажившись, укрывалось ты в лоне моем. Хвала Тому, Кто наготу твою прикрыл ризою!»
Радуется там юность, что одержала победу, видит в раю Иосифа, который совлек себя и отринул сладострастие, пламеневшее в безрассудных, и победил аспида в собственной его норе.
Успокоеваются там жены, жестоко пострадавшие здесь в болезнях проклятия и муках чадорождения. С радостию видят они, что младенцы их, которых с воплями предавали погребению, подобно агнцам пасутся на пажитях едемских, поставлены на высоких степенях славы, как братия пречистых Ангелов.
Славословие Милосердому, Который нередко так рано пожинает детей — поздний плод престарелых родителей, чтобы в раю стали они плодом первородным!
Прилепись духом к раю, о старость! Воня его возвратит тебе девство, дыхание его соделает тебя юною, он облечет тебя в лепоты, которыми прикроются нечистоты твои.
Нет темных пятен в обителях рая, потому что чисты они от греха; нет в них гнева, потому что свободны от всякой раздражительности; нет насмешки, потому что свободны от всякого коварства; не делают они друг другу вреда, не питают в себе вражды, потому что свободны от всякой зависти; никого там не судят, потому что нет там обид.
Там сыны человеческие видят себя во славе, и сами себе дивятся, почему плотяная их природа некогда возмущаемая и возмутительная, теперь спокойна и чиста, почему наружно красотою и внутренно чистотою сияют, видимо — тело, а невидимо — душа.
Скачет в раю хромый, который не мог и ходить; по воздуху носится там увечный, который не двигался с места. И очи слепых, от матернего чрева алкавшие света и не зревшие его, восхищены райскою красотою, звуком райских цевниц возвеселен слух глухих.
Кто не дозволял себе ни проклятия, ни злоречия, того прежде всех ожидает райское благословение. Кто взор очей своих постоянно хранил чистым и целомудренным, тот узрит наивысшую красоту рая. Кто всякую горечь подавлял в своих помыслах у того в членах потекут источники сладостного веселия.
Дева воссияет там в брачном чертоге праведников, который любит чад света. Поелику возненавидела она дела тьмы, и поелику жила одиноко в доме; то возвеселит ее там брак, и будет она утехою Ангелов, радостию Пророков, славою Апостолов.
Кто с Даниилом, которому воздавали честь цари, преклоняясь пред ним в своих диадимах, в пищу себе избрал овощи, такого постника вместо царей почтут там древа, преклоняясь пред ним во всей красе, взывая ему: «войди в кущи наши, живи под нашими ветвями, окропляйся нашею росою, наслаждайся нашими плодами».
Кто омывал ноги святым, того очистит эта роса. Кто простирал руку, чтобы снабжать бедных, пред тем сами собою наклонятся плоды с оных дерев. Все множество цветов радостно поспешит увенчать ногу, ходившую посещать больных, и друг у друга будут оспаривать, кому прежде облобызать ее стопу.
Кто с мудрой умеренностию воздерживался от вина, того преимущественно ожидают к себе райские виноградники, и каждая лоза простирает к нему свои грозды. А если он девственник; принимают его в чистые недра свои, потому что живя одиноко не познал он супружеского лона, не восходил на брачное ложе.
Венчавшиеся здесь мечем за Господа нашего славно в венцах своих восторжествуют там победу; потому что тела их посмеялись огню мучителей. Как звезды сияют там седмь сынов света (св. мученики Маккавеи) этот победный венец их матери; потому что смертию своею посрамили они ярость нечестивого.
Блаженство страны той обновит жен, потрудившихся в служении святым. Там увидят они, как блаженствует в Едеме вдовица, приявшая в дом свой Илию. Вместо двух питавших ее источников — водоноса и чванца дают ей пищи в Едеме древесные ветви; потому что пропитала она бедных.
Там нет ничего, что не служило бы на пользу; и былия издают там приятное благоухание, и снеди в Едеме прекрасны. Кто вкушает их, тот юнеет, кто обоняет их, тот делается прекрасным. Каждый цветок скрывает в недрах своих Воскресение, и готов подать тому, кто сорвет его; каждый плод носит в себе сокровище, и готов вручить тому, кто возьмет его.
Никто не утруждается там, никто не алчет, потому что никто не грешит. Никто не чувствует там раскаяния, потому что нет там кающихся. Подвизавшиеся на поприще не выходят там на подвиг, и пребывают в покое. Нет там старости, потому что нет и смерти; нет там предаваемых погребению, потому что нет и рождающихся.
Нет у них печали, потому что свободны от всяких страданий; нет у них опасения, потому что далеки от всяких сетей. Нет там противника, потому что брань кончена. Непрестанно себя и друг друга именуют блаженными, потому что прекратились их брани, венцы получены и в кущах их покой.
Взирал я на эту страну и сидел, оплакивая себя и подобных мне. Миновались дни мои, протекли, как единый день; они утратились и исчезли; а я и не замечал. Объяло душу мою раскаяние, потому что утратил я и венец, и имя, и славу, и ризу, и светлый брачный чертог, и трапезу царствия. Блажен, кто сподобился их!»
— Скажи, Диана, у тебя не создаётся впечатление, что тебе всё это уже знакомо?
— Пожалуй, да, — сказала она, наморщив лоб, будто что-то вспоминая. — Как будто в кино видела.
— Но это не кино. Это книга «О рае» преподобного Ефрема Сирина, который жил в четвертом веке. Святые от Бога получают откровения, то есть непосредственные знания о том, что их интересует. А, судя по красочным поэтическим описаниям, очень даже возможно, что Ефрема душой возносили в рай, как, скажем, апостола Павла.
— Дядя Андрей, — сказала Диана, — но мне-то что до этого? Ты же сам знаешь, какая я плохая девочка. Мне туда пути нет.
— Здрасьте! — возмутился я. — Только что читал ей, что вход туда открыт любому покаявшемуся грешнику. Так что, милая барышня, покайся и войди в сообщество будущих жителей рая.
— Да? — прошептала она после долгой паузы. — Ты думаешь, у меня получится?
— Не думаю, а абсолютно уверен. Если хочешь, я помогу тебе и за ручку отведу в храм. И постою рядом, чтобы страшно не было. Согласна?
— Конечно.
— Умница! — сказал я. — А это тебе в качестве аванса за будущие труды.
И я извлек из внутреннего кармана пухлый конверт с деньгами и протянул девушке.
— Это что? — затаив дыхание, спросила Диана.
— То самое, ради чего ты была готова стать моей рабыней. А я прошу тебя стать рабой Бога-Вседержителя, Который через меня послал тебе эту помощь. Это Бог тебя к Себе зовет, чтобы поделиться с тобой радостью, светом, блаженством, а после всех дел поселить в прекрасных райских садах.
Девочка потянула руку к конверту, но вдруг обмякла и заплакала, тихо, протяжно, со всхлипами и бабьим подвыванием.
— Я гадила тебе, как коза блудливая, хотела занести в свою коллекцию под номером три. Я хотела тебе семейную жизнь разрушить в отместку за твой отказ. А ты!.. Такие деньжищи мне… А ведь мог бы, как другие, себе оставить…
— Да не я это, — сказал я, едва сдерживаясь, чтобы самому не зареветь. — Это Господь. Только Он способен такое людям делать. А я лишь Ему подчиняюсь. Понимаешь?
— Не-а, — шмыгнула он покрасневшим носом. — Но я тебе верю. Давай, говори, что сделать, чтобы отблагодарить Бога и тебя. — Потом замотала головой и добавила: — Ничего не понимаю, но это так здорово! Это так… Это так классно!
Старик — уход
Старик заболел. Когда я вошел в его душную комнату, он лежал на высоких подушках и держал крестообразно сложенные руки на седой груди.
— Прошлая ночь была очень длинной, — прохрипел он и с трудом поднял набрякшие веки, полуоткрыв красные воспаленные глаза.
— Как вы себя чувствуете, Федор Семенович? — спросил я.
— Несравненно лучше, чем ночью. Не думал, Андрей, что за несколько ночных часов можно прожить столько жизней. Меня распинали на кресте и бросали к голодным львам, четвертовали и сажали на кол, топили в воде, жгли в огне, вешали и расстреливали.
— Как же вы такое выдержали?
— Только с Божией помощью. А так, по человеческим меркам, я бы умер уже во время первой же казни. Знаешь, что я подумал, когда всё это закончилось?
— Что?
— Нельзя просить у Господа мучений. Это от гордой переоценки своих возможностей. Мы должны просить только милости. Поэтому — наши непрестанные «помилуй». Понял?
— Пытаюсь…
— Гордость умеет скрываться за благими намерениями. Ты думаешь, что пожелание мучений — это хорошо, а тебе по носу — щёлк! Не дури! Это от гордости.
— А что же в таком случае от смирения?
— «Господи, помилуй» и целиком положиться на волю Божию. Всё!
Федор Семенович лежал неделю, другую, пытаясь умереть. Иногда звонил мне и докладывал о том, что с ним происходит: слабость разлилась по телу расплавленным свинцом, прижимая каждую жилочку и кровеносный сосуд к постели. Он почти ничего не ел, пил только святую воду, иногда растаивал во рту просфору. Когда он вспоминал вкус и запах водки, его тошнило, и он радовался этому. Если Господь снял с него позорную пьяную епитимию, значит, гордость дрогнула и покинула его сердце, думал он.
Много раз перед ним проходила жизнь от трех лет, с которых он себя помнил, до последнего часа. Всплывали старые грехи, исповеданные им, легко обжигали грудь и уносились прочь. Он благодарил своего ангела-хранителя за то, что тот поднимал его по утрам и вечерам и приводил в храм. Благодарил за то, что помогал вспоминать грехи и с отвращением их сжигать на исповеди под епитрахилью священника. Потом лежал и часами прислушивался к себе. Он даже пробовал делать глубокий выдох, чтоб душе проще было вылететь из тела. Он долго и сосредоточенно вдыхал, будто собирал всё духовное изо всех уголков тела, а потом также медленно всё это выпускал наружу через дыхательные пути. Но, увы, измученная душа не желала покидать тела, как он ни старался.
Но вот однажды ночью он испытал настоящий страх. Перед ним проходила череда обиженных им людей: нищие, мимо которых прошел он с презрением; просители, которые ушли ни с чем; женщины, над которыми он издевался, посмеивался, унижал. Он вопил, казалось, на весь город «Господи, помилуй», а они шли и шли мимо, по одному приближались к его одру и прожигали спокойным пронзительным взглядом до самой глубины сердца. Утром старик с трудом дотянулся до телефона, позвонил священнику и просил прийти, рассказал о ночной казни, исповедался, причастился, успокоился.
Потом позвонил бывшему помощнику, который до сих пор сохранял ему верность, продиктовал перечень имен и просил узнать, как живут эти люди материально. Как-то давно старик сам выбрал молодого специалиста из сотен чиновников за спокойную рассудительность и умение… краснеть. Он вырастил из парнишки прекрасного работника, прощал ошибки, подсказывал единственно верное решение, ну и конечно, помогал материально. Во всяком случае, персональную надбавку к окладу, регулярные премии, автомобиль и квартиру в приличном районе помощник получил именно стараниями наставника. Сейчас это уже состоятельный господин, глава небольшой фирмы, но с широкими международными связями, контролирует мощные денежные потоки. Ни жадным, ни чванливым он так и не стал, и чем особенно располагал старика и всех сотрудников — до сих пор не разучился краснеть. Через день помощник доложил: почти все указанные в списке люди живут плохо, некоторые совсем на грани полной нищеты.
С тех пор, как Федор Семенович стал проходить сквозь тернии алкогольных искушений и перестал доверять самому себе, он вручил помощнику кредитную карточку продиктовал пароль и PIN-код и приказал не давать ему денег, даже если он будет умолять на коленях. Вот ему-то Федор Семенович и доверил раздать этим людям деньги. Старик был уверен, что «аккуратный мальчик», как он его называл про себя, выполнит всё в наилучшем виде. Положил трубку, прислушался к внутренним ощущениям и вдруг понял, что там — внутри — стало намного лучше. Он пошевелил ногами, руками, вскочил с кровати и прошелся по квартире. Смерть отступила, можно жить дальше.
А на следующее утро мы с Федором Семеновичем сидели в общем вагоне поезда и морщились от сквернословия и криков возбужденных челночников, загромоздивших свободное пространство огромными сумками. Когда поезд, наконец, тронулся, старик встал и пошел искать бригадира поезда. Вернулся с двумя билетами в плацкартный вагон. Мы перешли в соседний вагон и сразу удивились уютному покою, который нас окутал. Наши места оказались одно над другим. Напротив располагалась молодая супружеская пара, с боковых мест не без любопытства поглядывали на нас люди постарше.
Старик достал из своего чемодана коробки с салатами, молодой картошкой и копченую курицу. По спертому воздуху вагона разлились домашние ароматы. Потом вздохнул и выставил то, что поэты Серебряного века называли «лё де ви» (l’eau de vie).
— Прошу вас, — сказал старик, широко улыбаясь. — Присаживайтесь, дорогие попутчики. Отобедаем, чем Бог послал, но в основном поговорим.
Помявшись для приличия, пассажиры подсели к столу. О чём говорить будем, подумал я про себя, поглядывая на соседей и старика. Всё еще пребывая в раздумьях, я встал и, сказал народу «пойду, принесу инструменты». Выпросив за небольшую плату тарелки, стаканы, вилки с ложками, пачку салфеток и еще минералки, я вернулся в купе. А там… Там уже вовсю разгоралась беседа.
— Вот вы все ругаете его, — говорил молодой, слегка раскрасневшийся молодой человек, — а между прочим, он предложил очень неплохую идею: собрать доллары и вернуть Штатам. А взамен потребовать золото.
— Да что болтовня Жириновского! — хрипел мой старик. — Генерал де Голль в 1965-м сделал это! Не на словах, а на деле! Он привез в США долларовых бумажек на полтора миллиарда и получил взамен золото. Конечно, это просто так ему с рук не сошло. Ему устроили студенческие волнения, потом он проиграл референдум и его отправили в отставку, после которой он подозрительно быстро умер.
— Молодец де Голль! — крякнул усатый мужчина лет сорока пяти.
— А то, — кивнул старик. — Но каков канцлер Германии Эрхард!
— А что этот… канцлер? — совсем тихо спросил молодой, смятый натиском мощного старика. По всему видно, он примкнул к стае «орлят Жириновского» и теперь всем рассказывал, почему выбрал Элдэпээр, а не «Медведя» в каких-нибудь «Кедрах».
— Эрхард, как и «вся прогрессивная общественность», во все тяжкие в средствах массовой инфернации ругал обнаглевшего отщепенца де Голля за то, что тот поднял руку на святое — доллар. А сам тихой сапой загрузил баржу чуждыми американскими фантиками на общую сумму четыре миллиарда и так же обменял у ненавистных янки бумажки на золото в слитках.
— Увау, — промяукал Орленок, возбужденно почесывая прыщик на щеке, на глазах теряя уважение к драчливому отечественному пустослову. — А мы-то чего стесняемся?
— Погоди, — поднял пятерню старик. — Канцлера-то через год тоже убрали. Понимаешь?
— Ну тут бомжу понятно, — солидно пробасил усатый Казак с широкими бордовыми скулами.
— Наши правители побоялись возмездия американских империалистов, — прошептал оглушительно старик, тщательно обсасывая загорелое куриное крылышко. — Все эти правители подчиняются одному мировому центру. — И он показал пальцем почему-то вниз.
— Впрочем, господа попутчики, — старик поднял руку, требуя внимания, — прошу взглянуть за окно и отметить про себя мистическую значимость тех мест, которые мы сейчас проезжаем.
— А где мы? — хором спросили мужчины и женщины.
— Только что проехали Павлово-Посад. Во-первых, я на этой станции всегда выходил, не имея ни сил ни здоровья продолжать наш с Венечкой «очень жизненный путь». А во-вторых, именно на этом перегоне, согласно поэме «Москва-Петушки», «хорошая и мяконькая баба» по имени Даша поведала человечеству свой «чудовищный по стилю» рассказ о пресловутом Евтюшкине, который как известно, «сердцем любил её душу, а душой — нет».
— Так вы, оказывается, были знакомы с Венедиктом Ерофеевым? — спросил усатый.
— И не только знаком, но даже на короткой ноге, — кивнул старик. — Он тогда, в начале семидесятых, работал истопником в спортивном комплексе «Динамо», что на Петровке. Это было недалеко от моей работы, поэтому я к нему туда часто захаживал поговорить по душам. А говорить с ним, я вам скажу, было весьма интересно.
— Еще бы, — сказал молодой, — судя по поэме, это был человек больших знаний.
— Если бы только знаний, — сказал старик, — я бы сейчас о нем не говорил. Мне душа его казалась огромной, как море, и при этом утонченной, как скрипка Амати. С ним невозможно было пройти незамеченным по Петровке или, скажем, по Курскому вокзалу. К нему тянулись сотни рук: Веничка, пойдем к нам, у нас есть; Веня, посиди с нами, у нас твой любимый «Кавказ» и много чего еще. Он всюду ходил, как народный любимец. В Петушках его выносили на руках. Ворья там ужас сколько, но никогда никто у него из кармана ничего не утащил.
— Значит, даже воры его уважали, — восхитился Казак, сделав ударение на трепетно-ужасном понятии «вор».
— Не стану говорить о других, про себя скажу, — протянул задумчиво старик. — Всю жизнь ходил в начальниках. Ломал об коленку таких крутых мужиков, что ты! Одним щелчком прошибал железобетонные лбы. …А рядом с Венечкой я чувствовал себя влюбленной насмерть девчонкой! Я готов был выполнить любой его каприз, любую прихоть. Это был человек гениального магнетизма, великой и бездонной души!
— Это точно, — закивали мужчины и женщины.
— Вот такой случай был, — продолжил Федор Семенович. — Ведь что такое «Динамо»? Это клуб не только милиции, но еще и Кэй-джи-би. А куда ж без него… Так вот сидим как-то с Венечкой, и он читает мне по мятым бумажкам свою поэму. Остановился, как помню на гениальных словах: «Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма» — и тут вошел генерал при погонах и лампасах и строго так говорит: «Всё, Веня, клерикальную пропаганду в самом сердце Родины распространяешь!» «Вообще-то, как известно, именно в сердце живут такие идеалистические вещи, как совесть, любовь, дружба и вера», — возражает Веня. И генерал, чтобы не опозориться, резко меняет тему. Есть, говорит, народ такой — нивхи. Их всего-то пять тысяч человек. Так вот есть мнение, что им нужно срочно заиметь писателя, потому как известно, именно количество писателей на тысячу населения показывает культурный уровень народа. Так вот, Веня, напиши-ка от имени нивхов небольшой роман про то, как они расцвели ввиду приближения коммунизма. Ставлю два ящика. Мы с Веней пожалели умирающий народ и за неделю написали роман о любви нежной нивхи с Алтая к мужественному нивху с острова Сахалин, максимально удобрив его чуть осовремененными стихами из «Илиады» незабвенного нашего товарища Гомера.
— Петушки! — крикнул молодой Орленок. И мы встали во фрунт. Не только поля и леса петушковских далей, но и наш вагон наполнился всенародной любовью к безалаберному, но такому близкому горемыке Венечке Ерофееву. Молча простояли минуту, потом еще и еще.
Потом вздохнули и устало присели. Молчание взорвала фраза:
— А вы слышали про нашу подлодку на дне Гудзона в шестидесятые годы? — спросил старик оглядывая окружающих. Жены Орленка и Казака пожали плечами, сокрушенно вздохнули и пересели к боковому столику через проход.
— Какая подлодка? — расплющенно просипел Орленок, готовый провалиться сквозь пол вагона и пересчитать носом шпалы от собственного невежества. Длинный ноготь его указательного пальца продолжал нервически истязать прыщик на впалой щеке.
— Давай я это сделаю, — проворчал старик и решительно выдавил пресловутый прыщ. Сунул руку в дорожный саквояж и достал из его недр лосьон для бритья. Намочил палец и прижег язвочку больному. По воздуху пробежала волна хвойно-лимонной свежести. Белоснежной салфеткой придавил рану и прижал ее рукой размякшего Орленка. Больной на протяжении операции кротко сидел, опустив руки и по-детски подставив лицо с закрытыми глазами под умелые руки хирурга.
— Так вернемся к нашим подлодкам, — сказал старик под одобрительное покрякивание Казака, предвкушавшего информационный пир. — Приехал я как-то в одну славную обитель. Поселили меня в старинной монашеской келье. Смотрю, а в келье рядом с моей — еще одна узкая кровать. Я пощупал её и удивился: под старым суконным одеялом — голые доски. Кто такой, думаю, на этой кровати спит? Сходил в трапезную поужинать, возвращаюсь, а в келье у складного аналоя стоит плечистый монах и задушевно так молится. Я встал чуть сзади и тоже молча вступил в дело. Закончил монах вечернее правило, обернулся ко мне и поклонился: «инок Антоний». Познакомились.
Рассказ старика о монастыре подействовал на наших попутчиков странным образом. Казак смутился и опустил голову, а Орленок откинулся на спину и скрестил на груди руки. Ясно. Парни от веры далеки. Сейчас будут скабрезничать и издеваться. Но Федор Семенович, ни мало не смущаясь, сказал: «Напомню гениальные слова Венечки: «Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма». А дальше там было еще круче: «Взгляните на… безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня… Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он (Бог) благ, и сам поэтому благ и светел!»
Казак с Орленком сменили образ восприятия с атеистического «темноликого и безобразного» на верящий «благой и светлый». Старик удовлетворенно кивнул и степенно продолжил рассказ, аккуратно отправляя вилкой салат из коробки в рот.
— Поговорили мы с отцом Антонием о том, о сём, и почему-то вспомнил я именно этот случай с подлодкой на дне Гудзона. И тут монах мне и говорит: а я ведь был на той лодке. И сейчас, говорит, каждую ночь сижу в ней и обливаюсь потом от страха и духоты.
— Да что же там было? — встрепенулся Орленок. — Я ничего не понимаю.
— Да ничего особенного, — произнес старик. — Наша подводная лодка с полным боекомплектом, с тремя ракетами, в каждой из которых мегатонна ядерного боезаряда пролежала восемь месяцев на дне Гудзона в Нью-Йорке. Если бы командир получил приказ на отстрел всех ракет, на месте Нью-Йорка осталась бы груда радиоактивного мусора с миллионами смертельно облученных и обожженных инвалидов. И сейчас мы бы не знали, что такое доллар и американское всемирное господство.
— Так чего же они не бабахнули?!! — вскричали дружным хором старый и молодой попутчики.
— Вот и я у монаха, бывшего военного моряка, примерно так спросил, — сказал старик. — Ты знаешь, ответил он мне, мы все тоже очень этого хотели и боялись. Но слава Богу, что этого не произошло. А то восьмимесячное лежание на дне Гудзона я до сих пор переживаю, как самые страшные дни моей жизни. Каждую ночь до сих пор кричу. И каждую ночь вижу, как мы запускаем свои ракеты. Там ведь половина экипажа не выдержала. Умом повредилась. Так их тихо-мирно списали и такую секретку наложили, что до сих пор молчат и они и их потомки. Насмерть молчат!
— И как же монах это объяснил? — спросил Казак.
— Очень просто, — сказал старик. — Тысячи раз человечество было на грани полного исчезновения. Тысячи раз наши смертные грехи навлекали на нас гнев Божий. Но всегда находились молитвенники за весь мир — монахи. Они-то и вымаливали милость Божию к падшему человечеству. В том конкретном случае, таким монахом, который предотвратил мировую войну, был отец Антоний.
— Так он же не был тогда монахом! — возразил молодой и горячий.
— Господь ведает не только наше настоящее, но и будущее. Ему тогда уже было известно, что матрос примет постриг. Потому что уже тогда матрос дал обещание: если выживет, то уйдет в монастырь. Примерно как Павлов во время Сталинградской битвы. Дом Павлова до сих пор стоит как памятник, а сам он — старец в Лавре. Вот так, ребятки.
Старик встал и потащил меня в тамбур.
— Помнишь, как провожают приговоренного к смертной казни в последний путь? Ему дают рюмку спиртного, сигарету и возможность исповедаться. Рюмку я выпил, сейчас выкурю последнюю сигарету — и на исповедь.
Он пристально смотрел за окно на пролетающие мимо деревья, будто запоминал. Потом сказал:
— Они пытались исцелить нас гомерическим смехом от скуки, которой у нас отродясь не бывало.
Они уговаривали нас напрячь силы и заиметь успех, который нам и даром не нужен.
Они заставляли нас уничтожать конкурентов и, пройдясь по костям, зарабатывать деньги, много денег, которых нам и так всегда хватало.
Они пугали нас смертью, которую мы ожидаем, как освобождение от мерзости земной жизни и переход к вечному блаженству.
Они прельщали нас мнимыми ценностями, хоть мы испокон веков обладаем несметным богатством, которое у нас никто не отнимет, потому как оно находится в вечности, недостижимой и непостижимой для них.
Они пытались нас обмануть, предлагая множество разной лжи, но все их попытки разбивались о камень Истины, которую мы впитали с молоком матери, которая проста и ясна даже для младенца — смиренная любовь.
Они пытаются запугать, обмануть, уничтожить нас, на что мы отвечаем как наши непобедимые предки: «Нас — рать! С нами Бог! И кто против Него?!»
А на утро я проснулся от шепота: «Просыпайся, Андрей, скоро наша станция». Вышли мы в маленьком городке на берегу реки. Меня удивила тишина. Нет, там, конечно, пели петухи, скрипели калитки, негромко говорили прохожие, но то были естественные живые звуки, а не скрежещущий шум мегаполиса. Наконец, старик увидел машину и подошел к шоферу, сидевшему на капоте.
— Сколько ты зарабатываешь за смену? — спросил старик.
— Пять тысяч, — не моргнув, соврал шофер.
— Хорошо, я заплачу тебе десять тысяч, но с условием: ты нас довезешь до места, переночуешь и отвезешь моего попутчика обратно на станцию. Идет?
— Идет, — кивнул тот и, суетливо открыв багажник, сел за руль.
Мы ехали по шоссе, свернули в лес и дальше пылили по грунтовой дороге слегка присыпанной крупным щебнем. Останавливались в лесу, завтракали и снова ехали, забираясь в глушь. Приехали в монастырь к трапезе. Нас встретил странный мужик с длинной бородой и провел в келью к игумену. Потом нас покормили, положили спать в прохладной келье. Вечером наш водитель пошел на рыбалку, а мы — в храм на всенощную. На вечерней трапезе игумен рассказал, как он однажды приехал сюда на охоту и обнаружил развалины этой обители. Вернулся в Москву, а она словно каждый день звала обратно. Тогда он через полгода еще раз приехал. А тут уже поселился первый монах, с которым он провел в беседах не один день. Потом и его постригли в монахи, а чуть позже — в иеромонахи. Так он стал игуменом этой обители.
Потом он отвел нас в келью к старцу обители, который «сам недавно пришёл». В пустой комнатке на табуретке сидел седой старичок в латаном подряснике дореволюционных времён и привычно перебирал чётки. Говорил он тихо, с едва заметной доброй улыбкой. Он покряхтел, выдвинул из-под кровати затертый до дыр чемоданчик и извлёк оттуда тяжелый старинный альбом в муаровой обложке. Он листал страницы с пожелтевшими фотографиями и рассказывал, каким богатым и цветущим был этот монастырь: вот храм из белого мрамора, вот просторный братский корпус из черноморского песчаника, привезенного благодетелем. Вот у этой березы его потом расстреляли. Посмотрите, какие толпы приезжали сюда по праздникам, и ведь всех кормили и устраивали на ночь. Этот куст сирени привезли с Афона, и из малого росточка вырос и раскустился эдакий гигант! Перевернул он страницу и пошли современные фотографии: руины, кучи мусора, крапива с человеческий рост. Старец с той же улыбкой и с тем же кротким умилением рассказывал, как пришли солдатики, многих сразу расстреляли, кого-то с собой забрали, а прежде чем уйти, погрузили ценности в телеги, взорвали все храмы и здания. Сам старец был арестован и сослан на Соловки, где прожил лучшие годы жизни, когда «небо отверсто и ангелы сходят и восходят с душами мучеников».
Несколько раз я подпрыгивал от возмущения! Во мне закипал «праведный гнев» и рвался наружу, но каждый раз старчик поднимал на меня детские глаза, облучал неземной любовью и я затихал. Наверное, если бы это всё рассказывал кто-то другой, я не поверил бы в его искренность и осудил бы за равнодушие… Но в этой нищей келье сидел рядом со мной очевидец всех событий и только он в своей ветхой одежде, переживший расцвет и падение, арест, допросы, избиения, ежедневную угрозу расстрела — только этот человек имел право вот так смиренно говорить: «Всё по воле Божией, детки. Раз нужно, Господь попускает разрушение храмов. А наше дело за всё благодарить Божию милость к нам. Слава Богу за всё!» На прощанье он благословил нас пряниками, а передо мной сделал низкий поклон, дотянувшись до пола рукой. Ушел я от него потрясённый, пристыженный, унося в душе сокровенную радость.
— Почему именно мне поклон? — спрашивал я Федора Семеновича.
— Знаю, но не скажу, — ответил тот.
— Почему старец мне кланялся? — спросил я игумена.
— Вообще-то именно так он смиряет нас, — сказал тот задумчиво. — Но, впрочем, может быть и другое… Например, он предвидел мучения и кланялся мученику. Но это не обязательно так.
— Спасибо, успокоили.
Ночью, перед сном я с неприязнью рассмотрел множество комаров, сидящих на фанерных стенах. Ну, думаю, веселая ночь нам предстоит. Но вот в соседнюю келью вошел игумен и встал на ночную молитву. Мы слышали его громкий шепот, скрип половиц от земных поклонов, под которые мы заснули. Несколько раз ночью я просыпался. За фанерной стеной по-прежнему шептал монах и без устали клал земные поклоны. Синеватый свет полной луны падал на стены. Там смирно сидели комары, не пытаясь взлететь. Утром за трапезой я сказал об этом игумену, а он смутился, пролепетал о том, что он велел насекомым не тревожить гостей, и попросил никому об этом не рассказывать.
После завтрака шофер сел за руль и несколько раз нетерпеливо прогудел. Федор Семенович положил мне руку на плечо и, глядя в лицо, сказал:
— Ты не обижайся на меня, Андрей, за то, что я тебя сюда привез. Мне очень нужен был человек, который помог бы мне сюда доехать и не сбежать с полпути. Я ведь приехал сюда умирать. Назад дороги нет. Это мой выбор. Так что прости меня, помолись обо мне и сюда больше не приезжай. А то могу не выдержать и с тобой обратно вернусь. Не обижайся, брат. Благослови.
Потом была дорога, разговоры с шофером, станция, билетная касса, поезд, купе, жидкий чай с печеньем и постоянное, неутолимое чувство утраты.
Путешествие из «Елисея» в Питер
Как-то ехали мы в электричке, и мне вспомнился один потешный детский тест. Я достал блокнот, нарисовал пять квадратов, в них — символы, которые у человека вызывают подсознательные ассоциации. И предложил Даше быстро, без размышлений заполнить квадраты какими угодно значками, рисунками или цифрами.
Даша начиркала что-то и с ироничной улыбкой протянула мне. Вот что там было:
Главенство Воля Дом Тип мышления Наличие цели
Каждому квадрату я присвоил имя и надписал. Потом выдал результаты тестирования. Итак, первые два квадрата показали, что она предпочитает подчиняться чужой воле и нуждается в покровительстве, подвержена влиянию чужой воли… Тип мышления — конкретный, в жизни имеется цель, которой она неукоснительно следует. А вот третий квадрат меня несколько озадачил. Маленький уголок в большом пространстве символизирует семью, дом, очаг — и Дашины интересы находились вне дома. Даша усмехнулась и сказала, что это неправильно.
Спустя какое-то время я вспомнил об этом шутливом тесте и признал, что реальная жизнь показала полное соответствие результатов теста с поведением Даши.
Когда у неё был выбор, провести вечер со мной или посидеть с больной мамой или тоскующей сестрой, она всегда выбирала последнее. Когда мне требовалась какая-нибудь отвертка или пассатижи, я обнаруживал их отсутствие. Как-то незаметно, почти все инструменты перекочевали из моей кладовки в детсад Даши. Я конечно понимал, что «всё лучшее — детям», но иногда чувствовал обиду, растерянность… Каждый раз спрашивал себя: если бы в день нашего знакомства мне стали бы известны предпочтения моей будущей супруги, решился бы я жениться на этой девушке? … И каждый раз отвечал: да и еще раз да, и нет в том никаких сомнений. Я любил её такой, какая она была, и не видел необходимости что-то в ней менять. Да и не смог бы…
Иногда во время приступов растерянности и печали, я становился на молитву и спрашивал: «Почему, Господи, в моей семейной жизни всё ни как у людей? Почему Ты отбираешь у меня друзей? Почему почти всегда я один?» Потом долго в полной тишине всматривался в спокойные глаза Спасителя, прислушивался к помыслам, к малейшим звукам и движениям души — и ничего, что могло быть ответом, не чувствовал. Правда, через несколько часов на ночной молитве «на сон грядущим» я открывал Псалтирь, чтобы найти место последней прочтенной кафизмы, и первое, что бросалось в глаза, были слова: «Удалил еси от мене друга и искреннего, и знаемых моих от страстей» (Пс 8,19). Вот оно что! — доходило до меня — и в семье, и в дружбе, и на работе — всюду и всегда — я должен оставаться созерцателем. В этом моя миссия, это мой крест. А Господь помогает мне в этом деле.
Между тем, немало тягучих и суетных дней проводил я в ожидании моей прекрасной леди. Наконец, наступал день, когда я понимал, что окончательно соскучился и собирался к ней в гости в Кучино. Так случилось и на этот раз. Но не с пустыми же руками ехать из столицы в тучные подмосковные луга, подумал я и решил отправной точкой своего путешествия назначить Елисеевский магазин.
Этот гигант торговли подобно айсбергу лишь на десятую часть виден подавляющей части народа. Мало кто догадывается, какие обширные хранилища скрывают его подземные казематы. Мне довелось познакомиться с его кладовыми в те времена, когда на полках магазинов зияла пустота. Но в подземных тайниках Елисеевского никогда пусто не бывало. О, эти косяки замороженных осетров и белорыбицы в холодильниках размером с кабинет начальника! Тысячи банок и баночек зернистой икры, балыков, ветчины, километры стеллажей со спиртным всех сортов со всех стран мира… И сотни снующих туда-сюда «посвященных», допущенных к недрам пайкового изобилия, в числе которых был некогда и я, сжимавший в потной ладони заветный талончик с круглой печатью. О, нет, я не относился к номенклатурному клану, в этот чертог изобилия меня посылали от работы в качестве грузчика праздничных заказов.
Сегодня вхожу под кров Елисеевского как простой смертный. «И вот стою я перед вами — простой русский мужик!» Как-то я имел неосторожность зайти сюда с другом-архитектором. Сколько же пришлось услышать неприличных слов, произнесенных нарочито громко, с максимальным восторгом! Там было что-то такое: балясины, пилоны, анфилады, полуколонны, аркады… В общем, натерпелся сраму-позору — на полжизни хватит. С тех пор захожу в этот дворец пищевого безобразия очами вниз, не обращая внимания на архитектуру, и по привычке занимаю очередь в рыбный отдел.
Когда-то к нам в издательство захаживал один именитый писатель, из тех старичков, которые помнили «Елисей» времен НЭПа. Он всегда приносил с собой пару-тройку селёдочек марки «залом» — обязательно с икрой и красными глазами. Именно с красными, потому что во-первых, это признак свежести, во-вторых, малосольности. Мы освобождали гурману половину стола и расстилали ватман. Старик обнажал хищное лезвие немецкого кинжала, нежно разделывал рыбий трупик, расчленял его на равные части и раскладывал по кусочкам бородинского хлеба на пластинки сливочного масла, но так, чтобы каждому досталась порция мелкой фиолетовой икры. Завершали композицию кольца лука и веточки петрушки. После его угощения мы набрасывались сначала на чай, а потом на его рукописные листы но уже с таким вниманием, будто он последняя надежда всемирной литературы.
Вернуться обратно из страны воспоминаний в настоящее время заставил меня вопрос соседа по очереди.
— Сначала селёдочки, потом бородинского и еще мечниковской простокваши? — спросил он с улыбкой.
— Примерно так, — кивнул я. — Только добавьте ананас и шампанское.
— Значит, намечается романтический вечер с дамой?
— Ну да, с женой.
— Значит, браконьер, — констатировал он, — в смысле женатик. Повезло женщине, — сказал он мечтательно. — Немногие мужья покупают женам шампанское. Я не покупал.
— И как результат?
— Как видите, — вздохнул он печально, позволяя всесторонне обозреть свою холостяцкую неприкаянность.
В верхней области груди у меня зародилась волна жалости к человеку. Она мягко ухнула по дну диафрагмы и ударила в лобные доли мозговых полушарий. В таких случаях обычно моя воля ослабевала, и я отдавался потоку эмоций. Все-таки в жалости есть некая подспудная сладость.
— Андрей. — Сунул ему ладонь.
— Федя, — отозвался он.
Подоспела моя очередь выбирать селедочку. Несколькими почти профессиональными фразами я обозначил задачу. Дама в белом коротко кивнула, как своему, и положила на весы именно такой товар, какой нужно — красные глаза, брюшки полны икрой, серебристая мясистая спинка. «Зачитайте гражданке права, я её забираю», — проворчал я под нос.
…А в это самое время продолжалась непрестанная беседа:
— Полностью — Федор?
— Нет, Федерико. Папа был фанатом Феллини.
— Сочувствую повторно.
— Да нет, уже привык. И дело даже не в этом. Тут другое!..
И он посмотрел на меня так, что волна жалости из лобных долей ухнула вниз, без задёву пронеслась сквозь диафрагму и хлестнула по пяткам. Видимо, это как-то отобразилось на моей внешности, потому что он сказал:
— Это хорошо, что ты такой зеленый и плоский.
— Что ж в этом хорошего?
— То, что мне предоставляется возможность помочь доброму человеку.
И в тот миг я понял, что сопротивляться этому бесполезно. Это как поздравления с двадцать третьим февраля — неотвратимы, поэтому бесполезно объяснять, насколько тебе это не нужно. Вздохнул, похвалил удачную работу торговой дамы в белом и отправился за мечниковской простоквашей, потом за шампанским, потом за ананасом…
…Мы с Федей сидели в кафе на балконе кинотеатра, потом в комнате коммуналки перекусывали яичницей, «потом в саду, где детские грибочки, потом не помню…», хотя нет, помню! Мы же вышли на площадь и там аккурат под сенью памятника Пушкину житель Питера спросил, указывая на красную букву «М»: «А не мужской ли туалет это?» — «Нет, это метро, и там дальше тоже не то, а «Макдональд» Он кивнул и пригласил нас в гости. Мы, не раздумывая, согласились. В едином порыве. Нам представилось кощунством отказаться от поездки в Северную столицу, к тому же в обществе столь приятного во всех отношениях, крайне интеллигентного, гостеприимного человека. Поэтому мы все дружно спустились в метро и направились на Комсомольскую площадь.
Слева от меня сидел Федя, справа мальчик, я поискал глазами петербуржца, не нашел… Зато увидел девушку лет пятнадцати дивной красоты. Федя несколько раз порывался познакомиться с ней, но я дергал его за предплечье и сажал обратно. Девушка смотрела на меня с благодарностью огромными синими глазами с длиннющими ресницами, я на неё, девушка смущалась и краснела, а я был не в силах оторвать от неё восхищенного взгляда. Да, милое создание, не долго тебе с такими данными ездить в метро, подумал я.
Потом дернули за правый рукав меня. Я посмотрел на мальчика. Он молча показал на мою довольно тяжелую сумку, которая ввиду тряски и моего недосмотра съехала с моих тощих колен на его, еще более тощие. Я извинился и поправил сумку.
— Ты приезжий? — спросил мальчик.
— Нет, уезжий, — сострил я и чуть было не воскликнул, как Михал Михалыч: «А ведь хорошо сказал, ребятки!» — Как вас зовут, юноша?
— Кирюша, — ответил мальчик.
— Нет, это неверно, — сказал я. — Такие солидные мужчины, как мы с тобой, должны и представляться как-то по-солидному.
— А ты солидный?
— Ого, еще какой!
— А кто ты?
— Я! Да ты даже не представляешь, кто я!
— Так кто?
— Я? Ну, этот… Как его? Я ого-го-го!
— Ну скажи, — открыто надсмехался надо мной настырный мальчишка.
— Вот прицепился… Слушай, мальчик, ты такой умный, может ты сам что-нибудь придумаешь?
— Ладно, будешь просто Уезжий. А куда уезжаешь? — спросил мальчик.
— В Питер, кажется.
— А! Я там уже был.
— Да? И тебе понравилось?
— Красиво, — кивнул он белобрысой головой с очень даже стильной прической. — Правда устал очень. Там нужно много ходить пешком. Эй, — снова дернул он меня за рукав, — тебе выходить, это «Комсомольская».
Я поспешно вышел. Феди рядом не оказалось. Меня это почему-то не удивило. С этими Федериками всегда так. Помнится, в моей тогда еще юной и неокрепшей жизни появился Феллини. В виде «Восьми с полтиной», «Амаркорда», «Ночи Кабирии», чего-то еще… Напустил Федерико туманов, нашпиговал фильмы заумными символами, пунктирами. Мы стояли в трёхчасовых очередях за билетами, терпеливо высиживали до конца сеанса, усиленно расшифровывали то, что он так старательно зашифровал. В общем, как поётся в одной песенке: «На рубиль семушек наели и ничего не понялИ». Расстроились, как обычно, и для удаления из груди горечи по-бунтарски сходили на простенького «Фантомаса». Федерико презрительно фыркнул нам в спины и пропал из нашей жизни, как Федя-Федерико только что из моей.
Толпа людей с багажом деловито подхватила меня и понесла вдаль. Чуть позже я прошел сквозь кассовый зал и оказался на перроне.
О, железная дорога, все эти блестящие рельсы, смоляные шпалы, покрытые рыжей пылью вагоны, тяжело вздыхающие тепловозы, басовитые гудки, горький торфяной дым… Когда я стою на платформе, встречаю кого-то или провожаю, или сам уезжаю — меня наполняет необъяснимое волнение, может быть, даже голод или ностальгия по тем городам, селам, полям, горам, лесам, рекам, которые я не видел и, скорей всего, никогда уже не увижу.
Вот и сейчас, когда на меня дохнуло дорожным запахом, я встал столбом и замер. В мои артерии ворвался тревожно-сладкий дух неведомых дорог. Как в детстве, когда наша семья занимала купе, отец сильными руками забрасывал меня на верхнюю полку, поезд мчался сквозь жаркое лето, в открытое окно упругими порывами влетал теплый ветер, наполняя крохотное купе духмяными запахами полыни, мазута, торфяного дыма. А когда поезд грохотал по металлическим конструкциям моста, и под нами блестела под солнцем зеленоватая река — к нам залетали запахи тины, рыбы, водной свежести.
Всё это нахлынуло на меня и сильно повлекло в дорогу. Весь погруженный в густые дорожные мысли, садился я в сонный поезд и с нетерпением ждал, когда за окном мягко покачнется серый асфальт перрона и станет плавно улетать вправо. Оживут невидимые колеса и застучат по стыкам сверкающих рельсовых струн, с каждой минутой всё чаще и громче. И сердце радостно откликнется ритмичным волнением, в котором смешаются голод, страх, тоска и детская радость непременного ожидания чуда.
После этого любое место, куда бы ты ни приехал, кажется волшебным, особенно если это город, в который так стремился попасть, особенно если это Питер! Вот площадь, автобусы, автомобили, отсюда разбегаются в разные стороны таинственные улочки. И пусть это поздняя ночь или предрассветное раннее утро, но ты всей душой принимаешь это незнакомое место и готов наивно восхищаться абсолютно всем.
Конечно, Питер мне почти незнаком, и никого из близких тут нет, но под черным небом, над серым асфальтом, за темными глыбами стен — мне представлялись вычурные фасады дворцов, бурные потоки проспектов, свинцовая рябь холодной речной воды, громады соборов и простор площадей. Мои ноги несли меня вперед, сквозь темень и вспышки фонарей, по лужам, в которых отражались тающие звезды. Я так спешил увидеть неведомый город, так бежал, что не заметил во тьме яму. Вокруг всё разом перевернулось, и мокрая густота облепила мои ноги, потом руки, потом лицо.
Кое-как на четвереньках выбрался из ямы и захромал дальше. Вокруг не стало ни огней, ни людей, ни машин, ни одного светящегося окна. Из моей гортани вырвался хрип, и вдруг четко осознал: я попал в беду, совсем один и некому мне не помочь. Ну куда я теперь, такой грязный, мокрый! Кому я тут нужен в чужом городе, где меня никто не ждет? И кому я тащу эти елисеевские подарки, все время прижимая их к хрипящей груди?
Господи, вскричал я сипло, почему Ты оставил меня в этой беде! Ты видишь, снова я влип в плохую историю. Помоги мне! Я вслушивался в ночную тишину, оглядывался вокруг, но так ничего и никого не увидел. И только холод сквозь мокрую одежду, облепившую мое тело, проникал все глубже и глубже, и только тьма окрест…
Почему-то вспомнилась популярная в 70-х годах американская рок-группа «Three Dog Night» («Ночь трех собак»). Её назвали в честь аборигенов Австралии, которые в холодные ночи укладывали рядом с собой двух собак, а если трех — значит, ночь была очень холодной.
Покрепче прижмитесь ко мне, мои лохматые, верные, злобные псы! Эта ночь самая холодная в моей жизни. Вы же видите, люди ушли от меня, Бог отвернулся от моих грехов и только вы — дикие, вечно голодные, клыкастые звери — согреваете мое ледяное тело, сохраняя мне жизнь.
Но вот блеснул фонарь. Наверное, где-то здесь недалеко должен быть Невский проспект, и уж если я попал сюда, то мне обязательно нужно пройтись по нему, хотя бы немного, хотя бы до первого милиционера, который, наверняка, сразу же схватит меня и запрет в какой-нибудь обезьянник с черными прутьями решетки и огромным висячим замком.
Вокруг фонаря поблескивали дрожащие листья березы, светлела какая-то дорога, зовущая вдаль. Вот трансформаторная будка на высоком дощатом настиле и фанерная табличка, на ней какой-то юморист написал: «Не влезай! Убьют!» Ладно, думаю, хоть и очень хочется, но, пожалуй, сегодня я сюда не влезу, чтобы суровые энергетические дяди не убили. Наконец, дорога привела меня к дому, я обошел его и разыскал распахнутую дверь. Обрадовался и, не помня себя, устремился внутрь, в домашние запахи, тепло и покой. Мой серый от засохшей грязи палец вдавил кнопку звонка, там за дверью раздались шаги. Какие же тут в Питере отзывчивые люди! Ночью открыть дверь незнакомцу… В Москве никто и не подумает, чтобы ночью, чтобы открыть дверь — да хоть криком ори. А петербуржцы народ интеллигентный, блокаду пережили, поэтому не разучились помогать человеку, попавшему в беду. Наконец, щелкнул замок, дверь отворилась и меня ослепил желтоватый свет лампочки.
— Что с тобой? Андрюш, ты весь в грязи. Бедненький ты мой, — раздался голосок Даши, моей родной, любимой женушки, такой теплой, потешной и заспанной.
— И ты приехала в этот город? — пробубнил я ошеломленно, и добавил: — Как хорошо, что ты тоже здесь!
ЧАСТЬ 3
…Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.
Иоил. 2:28
Бирюк
Утром я долго пытался понять, так где же я на самом деле: в Питере или все-таки в Кучино? Внимательно оглядевшись, узнал обстановку Дашиной квартиры и вынес вердикт — и всё-таки Кучино! Потом попытался выяснить, куда же делся Питер, в который я так упорно ехал. Так ничего и не поняв, решил следующее: Питер остался на своем законном месте, а я подобно Антону Римлянину был неким таинственным образом перенесен из Питера в Кучино, что случилось по моей же просьбе, высказанной в молитве на дне ямы. Версия, конечно, не ахти, но хотя бы что-то.
Часовая стрелка не доползла и до восьми, как раздался звонок телефона. Дашу звали на работу. Она сумела выпросить лишь часок времени на решение срочных семейных проблем и сразу воскликнула звонким голоском:
— Вставай, поднимайся, рабочий народ! Здравствуй, страна!
— А можно еще чуть-чуть? — заныл я, хватаясь за пульсирующую острой болью голову.
— Ни в коем случае, дорогой! — сказал она непреклонно и протянула мне стакан воды с шипящей огромной таблеткой на дне. — Ты меня спрашивал, как поживает мой братец. Так вот я тебя сейчас к нему заброшу, и ты сам во всем разберешься. Может, тебе удастся как-то ему помочь. …Или ему тебе… А?
— Ладно, — проворчал я, чувствуя, как головная боль потихоньку отпускает. — Чего только не сделаешь для любимой жены. Ты же знаешь, я для тебя в лепешку расшибусь, если надо, — соврал я бесстыдно.
Дашин «опель» по каким-то дремучим лесам, по неведомым дорогам привез меня на опушку леса. На пригорке стояла изба, откуда на шум мотора вышел потрепанный мужичок в телогрейке, накинутой на белоснежную рубашку. Я не узнал в нём того красавца-мужчину в отличном костюме, которого в последний раз видел на нашей свадьбе. Этот был обросший многодневной щетиной, вполне презирающий такие низменные вещи, как одежда, гигиена и комфорт. В избе было чисто, но пустовато. Из предметов роскоши я заметил только книги на полке над кроватью: Библия, молитвослов, Псалтирь, «Невидимая брань», «Лествица», Краткие жития святых священника Иоанна Бухарева — словом, «минимальный набор православного джентльмена».
Даша принесла из багажника пакеты с едой, свежими рубашками, расцеловала нас и уехала на работу. Я смутно помнил, что звали его Володей, виделся с ним только раз, на нашей свадьбе, но там он скромно сидел в углу, не обнаруживая себя никак, и в окружении столь ярких людей, как Игорь, Федор Семенович, Василий и наших очаровательных жен, он остался незамеченным. Вот и сейчас он только зыркнул исподлобья и молча кивнул: пойдем. Так я остался один на один с этим бирюком.
Мы помолчали. Я внутренне читал Иисусову молитву, а хозяин искоса меня разглядывал. Наконец, он будто проснулся, ожил, задвигался.
— Давай, Андрей, начнем, как положено, с молитвы, — предложил Володя.
Он протянул мне новенький молитвослов, зажег свечу, подложил кусочек ладана в кадильницу лампады, взял в руки свой сборник молитв, потрепанный, проклеенный прозрачным скотчем — и мы начали с покаянного канона, распевая песни по очереди. Потом читали акафист и кафизму. После такой совместной работы между нами протянулась невидимая нить, по которой, как по проводам, потекли токи взаимной приязни.
Только после такого зачина Володя сменил белую рубашку на колючий свитер на голое тело и предложил мне подкрепиться томленой в печи картошкой и чаем. А потом позвал на экскурсию по дому. Когда я находился в горнице, мне казалось, что в избе больше комнат нет. Просто мысленно сравнил размеры внутренние с внешними. Но вот хозяин толкнул почти незаметную за печью дверь, и мы оказались в другой комнатке, чуть поменьше, из которой вела винтовая лестница на второй этаж. Поднялись наверх.
— Как ты понимаешь, Андрей, это комната Даши. Она сюда привозила мастеров со стройматериалами — и вот, что получилось.
Да уж, этого можно было и не говорить. В отличие от аскетических нижних комнат, второй этаж напоминал номер дорогой гостиницы в русском стиле: морёное дерево под лаком, изящная мебель, ковры, декоративный камин, люстра и даже картины в бронзовых рамах.
— Ты, брат, сам выбирай, где тебе лучше остановиться: в барской части или в нижней, монашеской.
— Нет, нет, только внизу! — сказал я поспешно. — Там лучше… Молиться… И вообще.
— Как скажешь, — улыбнулся хозяин. — Но и это еще не всё! Сейчас мы с тобой спустимся в подполье.
По винтовой лестнице на первый этаж, потом по приставной лесенке — мы спустились в подвал. Володя включил освещение. Батюшки! Да тут еще один этаж.
— Это еще одна келья, это овощное хранилище, а это мастерская, — показывал хозяин дворца, открывая одну дверь за другой. — Потом долго смотрел на меня и после некоторых сомнений сказал: — А теперь, если хочешь, покажу еще одно потайное место.
Он завел меня в мастерскую, за руку протащил мимо токарного станка и инструментальных стеллажей и, сдвинув гору столярных обрезков, открыл люк. Мы спустились вниз. Он включил свет, откуда-то из невидимой ниши извлек лопатку и веник. В углу снял слой песка, обнажив крашеную металлическую дверцу сейфа, вставил большой ключ и открыл. Оттуда достал саквояж, поставил ближе к свету и раскрыл. К своему разочарованию, я увидел там пачки денег.
— Таких чемоданов три. Видишь, это рубли старого образца, это доллары, а вот это, — он достал шкатулку, — золотые царские империалы. Я прикинул, тут миллиона два в условных единичках.
— Жаль, — процедил я. — Очень жаль. Ты меня огорчил.
— Да я и сам, когда откопал, расстроился. Случайно нашел. С полгода назад.
— Должно быть, это ярмом на шее повисло?
— Да нет, — сказал он, зарывая клад обратно в песок. — У меня в голове прозвучало: не твоё и нечего брать. Я ведь только тебе, Андрей, это показал. Больше никто не знает, даже Даша.
— И не надо никого соблазнять этим… — а то начнется: Париж, Лондон, Майами, устрицы, бриллианты, яхты, феррари, хочу, хочу, хочу…
— Это точно! Думаю, придет время, и мне откроется: зачем, откуда и куда. Ладно, пошли наверх.
Когда мы поднялись в горницу, я другими глазами увидел то, на что не обратил внимания раньше. Здесь не было ничего лишнего. Более того, обнаружилась некая ветхость: полы в трещинах и щелях приятно скрипели под ногами, мебель оказалась старой, плафон под потолком времен адвоката Плевако, занавески по-деревенски простенькие, выцветшие…
— Послушай, Володь, ты что, антиквариатом увлекаешься?
— Почему?
— У тебя тут старинный стол, комод, посуда, графин, одежда…
— А, это… — рассеянно махнул он рукой. — Стол и комод от прежнего владельца дома, лесника. После его преставления всё барахло отошло мне вместе с домом. Посуда и одежда от бабушки остались. «Казанская» — тоже от неё. Знаешь, как стыдно смотреть на Пресвятую, когда сделаешь что-то плохое или там скажешь… Когда напортачу, Её взгляд будто насквозь прожигает, а когда раскаешься, взгляд такой добрый становится… как у бабушки. Однажды голова разболелась на полнолуние перед грозой — думал, помру или с ума сойду. Приложил икону к голове, сначала боль прошла, потом заснул, как дитя. А сны в ту ночь снились такие… Представляешь, как в раю побывал. Нет. Не «как», а просто — побывал.
Володя посмотрел на моё лицо, видимо, ожидая увидеть на нём следы удивления или обычного в таких случаях сомнения в его психической полноценности. А я в это время вспоминал свои видения и думал, как бы я сказал об этом кому-то кроме Игоря. Какие бы слова стал подбирать? И что бы сам при этом пытался разглядеть на лице собеседника?
— А чьи рубашка с пиджаком?
— Дедушкины. А деду от прадеда отошли. Ты посмотри, какой материал. Никакой синтетики, одна естественная прочность. Столько лет всё это носили, а ведь ни одной дырочки, всё удобно и… добротно. А еще… — Он снова принялся сканировать мою физиономию. — А еще, когда это надеваешь, приходит такое чувство…
— Будто они рядом? — помог я ему.
— Примерно.
Портал времени в чулане
— Володя, а можно мне пиджак надеть? — Показал я на светло-бежевый чесучовый пиджак, висящий на спинке стула.
— Не знаю. Надень…
Я сначала прощупал рукава, плечи, зачем-то понюхал лацкан. Пахло очень приятно: ладаном, полынью и мужским потом. За несколько секунд передо мной промелькнули красивые бородатые лица, открытые, суровые, взыскующие: «А ты кто таков? А ты, часом, не из этих, новых? В Бога хоть веришь?..»
— Нет, — сказал я, — такое серьезное дело пускать на самотёк никак нельзя. Это надо строго по-научному! Пожалуй, я уединюсь в чулане — там полная темнота и ничего не отвлекает. А ты, Володь, зажги свечу и помолись, чтобы я не вляпался в общение с нежелательным существом, которое принимает обличие ангела света, дабы обольстить верных.
— Хорошо, — с готовностью кивнул Володя.
Я встал, вошел в чулан, сел на пол, закрыл за собой дверь и оказался в темноте. Прочитал «Отче наш», «Богородице Дево…», «Царю небесный» и принялся творить Иисусову молитву — медленно, ритмично и внимательно. Сначала во мне не унималось весьма нежелательное возбуждение исследователя, видимо, разновидность стяжания. Но вскоре спасительный круг умного делания вывел моё сознание на твёрдую дорогу созерцательной рассудительности. Когда все вокруг и внутри успокоилось, я, наконец, надел пиджак, еще раз глубоко вдохнул застарелые запахи, впитанные тканью, и замер.
…Мимо проехал с шипением черный паровоз, на горизонте в голубоватой дымке высятся циклопические терриконы, между железной дорогой и горизонтом, в широкой долине, простирается поселок из белёных домов под серыми крышами в пышных зарослях зеленых кустов, плакучих ив, пирамидальных тополей, груш, шелковиц, абрикос, вишни… За холмом блестит река, в ней отражаются облака. Сладко пахнет дымком, цветами, борщом и жареным луком. От кирпичного здания шахтоуправления по улицам поселка шагают усталые люди в серых спецовках. Чуть позже, раздаются звуки патефона, а потом гармони и протяжное пение: «чому я нэ сокил, чому нэ литаю? Чому мэни, Боже, ты крылэць нэ дав, я б зэмлю покынув, тай в нэбо злитав…» Вот, значит, как… И эти смертельно усталые после работы, зачумленные красной пропагандой люди хотят летать, как ангелы! И попробуй это антикоммунистическое мировоззрение вышиби из них. Не тут-то было.
Кожей шеи и лица я чувствовал тихое веяние теплого ветра. От реки поднялся туман и окутал меня, словно одеялом. Внутрь моего уютного кокона вошли двое мужчин, один прошагал дальше в глубокой задумчивости, другой остановился и встал передо мной, как вкопанный. Мы смотрели друг на друга в упор, пытаясь узнать, кто есть кто.
— Что смотришь, как на врага народа? — спросил мужчина до боли знакомым голосом. Тут во мне что-то вспыхнуло, и я понял, что стою перед собственным отцом.
— Михаил Иванович, ты почему здесь, а не в Москве? — спросил я чужим от волнения голосом.
— Я с выездной следственной бригадой, — отчеканил тот. — Расследуем дело о диверсии.
— Какой-нибудь честный человек правду сказал о рабских условиях работы?
— А ты откуда знаешь? — резко спросил он. — Ты кто?
— А это знать тебе пока не следует, — протянул я по-чекистски сурово, не понимая откуда во мне взялись нотки профессионального садиста. — Пройдемся немного. Погутарить нужно.
Я вразвалочку зашагал в сторону реки, отец послушно плёлся рядом. В кармане широких брюк, где лежала моя рука, я вдруг обнаружил нечто шуршащее, извлек это на свет и задумчиво изучил. Это было командировочное удостоверение полковника НКВД с незнакомыми фамилией, именем, отчеством. Хлопнул по внутреннему карману пиджака, сунул туда руку — точно, есть! Паспорт на то же имя, но уже с моим фото. Вот это легенду мне разработали! С такой бронёй мне тут можно делать что угодно.
— Фамилия главного подозреваемого? — спросил я скрипучим голосом.
— Токарев, — нехотя откликнулся допрашиваемый.
Меня слегка передернуло: это была девичья фамилия моей жены Даши.
— Что есть на него? — спросил я, начиная понимать для чего я тут оказался.
— Заявления трех партийцев, ударников труда.
— Настучали, значит, дятлы, — сделал я вслух вполне логическое заключение. — И что им нужно? Квартиру Токарева? Его должность? Или он им воровать не даёт?
— Что вы себе позволяете? — возмутился отец. — Мы тут на страже социалистической законности.
— Похвально, — кивнул я. — Так всё-таки, какова причина доноса? Насколько мне известно, товарищ Токарев абсолютно честный работник, принципиальный партиец, активный общественник, хороший семьянин.
— Тройка… — осекся отец. — Эти трое заявителей вменяют ему антисоветскую пропаганду, воровство и разложение дисциплины на вверенном ему участке.
— Коллектив опрашивали? Ворованное нашли? Кого конкретно он «разложил», и какие это имело последствия?
— Слушай ты… — угрожающе насупился отец. — Кто ты такой, в конце концов? Что за?..
Я сунул свое удостоверение ему под нос, он сразу осёкся и закашлялся — астма на нервной почве, со мной такое тоже иногда случается.
— Простите, — едва слышно произнес он. — Не знал.
— Присядем.
Мы дошли до реки. В этом месте имелась запруда со спокойной водой, у берега покачивались лодки-плоскодонки с просмолёнными бортами. В одну из них мы вошли и пристроились на носу. Я открыл невесть откуда взявшийся портфель и обнаружил внутри сверток. Достал, развернул и выставил на носовое сиденье коньяк «Самтрест», «Боржоми», пару стальных стаканчиков; выложил кирпичик бородинского хлеба, банку крабов и черной икры, открыл офицерский складной нож с тремя лезвиями, вилкой и ложкой и проворчал:
— Займись. Надо кое-что обсудить.
— Слушаюсь, — прошипел он и взялся за нож.
Молча, почти молча, мы осушили бутылки, сжевали по паре бутербродов. Я знал, что отец быстро пьянел, ему вообще выпивать врачи запретили. Но мне необходим был разговор начистоту. Мне нужно спасти родича жены, да и вообще хорошего человека. Да и отцу кое-что объяснить не мешало бы.
— Где же я вас видел? — спросил отец, потирая переносицу. Я тоже так делал в задумчивости.
— Может быть, на верхних этажах Лубянки, или Смоленки, — нагнал я туману. Еще не время говорить всю правду. От такой правды у него может и психика не выдержать.
— Значит, у Токарева обнаружился высокий покровитель? Будете дело закрывать?
— Ни в коем случае! — возмутился я. — Наоборот, дадим ему полный ход, да еще и в центральной прессе осветим, чтобы другим прохиндеям-стукачам неповадно было! Так что я прослежу только за исполнением законности. Ведь никаких улик у вас на Токарева нет? Только лживые заявления? Не так ли?
— Так, — кивнул отец.
— Вот и всё! Теперь эта тройка пусть предстанет перед судом за клевету на героя труда. Слушай, Михаил Иванович, а ты чего тут делаешь? Здесь что, местных органов нет?
— На соседней шахте был взрыв. Сорвана установка нового всесоюзного стахановского рекорда.
— И вы обычный взрыв метана с угольной пылью, конечно, представили как подрыв динамитом?
— Что от нас наверху требуют, то мы и представляем.
— Скажи, а разве ты не знаешь, в каких условиях работают шахтеры? Есть ли под землей вентиляция, удаляющая скопление горючего метана? Есть ли укрепления сводов шахты, безопасное освещение, горизонтальный транспорт? Почему шахтеры жизни свои кладут ради мифических рекордов, чтобы начальство получало ордена? Почему взрыв скопления метана квалифицируется не как нарушение техники безопасности, а как диверсия?
— У нас четкая инструкция руководства!
— Есть под ней подписи?
— Нет. Только устно.
— Это для того, чтобы потом всё свалить на тебя?
— Наверное, — устало кивнул отец.
— Значит, ты в любом случае «мальчик для битья», так не лучше ли поступить хоть раз честно и по-мужски? Наказать настоящих врагов народа: тех, кто убивает героев труда в шахтах, тех, кто пишет на них клевету? Ты знаешь, скоро ведь работать некому будет — всех пересажаете и расстреляете. Останутся одни стукачи, карьеристы и пьяницы — а от них нет никакого толку. Это балласт. А рабочую элиту — под нож! Так кто здесь враги народа? Не ты ли, Михаил Иванович?
— Что ты предлагаешь?
— Я предоставлю тебе бумажное прикрытие с печатью и подписью. А ты просто честно выполнишь свой долг. Накажешь подлецов и оправдаешь настоящих героев труда.
— Согласен, — кивнул отец. — А теперь скажи ради Бога, кто ты и почему лицо твое мне знакомо?
— Хорошо. Только то, что я тебе открою, является важной государственной тайной.
— Я понимаю. Буду молчать, как камень.
— Естественно, это же в первую очередь, в твоих личных интересах. За раскрытие такой информации расстрел станет розовой мечтой юного идиота. Слышал о специальных психиатрических лечебницах для особо опасных высокопоставленных лиц?
— Да, слышал.
— Ты все еще хочешь услышать правду?
— Да. Хочу.
— Я твой сын, а моя жена — внучка Токарева. Только спокойно. Просто в будущем некоторые люди научатся преодолевать временные границы.
— Ничего себе!.. — только и сумел сказать отец, глядя на меня. Так, наверное, я смотрю на мироточивую чудотворную икону. — Сын? А я-то думаю где я тебя… Да в зеркале!
— Точно, папа, мы с тобой физически очень похожи. Но, увы, только физически.
— А что не так? — осторожно спросил он.
— Видишь ли, папа, я верующий. Это Господь позволил мне встретиться с тобой. Ведь Бог существует в вечности, и только для Него нет временных границ. Видишь, как Он всё устроил чудесным образом: ты не расстреляешь деда моей жены, родится на белый свет девочка Даша и станет мне любимой женой. Ты не совершишь этого преступления и под прикрытием документов с подписью и печатью выведешь на чистую воду истинных врагов народа. А я буду за тебя молиться и, если ты попадешь в ад, я сделаю всё возможное, чтобы тебя оттуда извлечь.
— А что он есть? Этот ад?
— Есть, отец. И там очень плохо.
— Да нет! Не верю. Пока сам не увижу, ни за что не поверю.
— Увы, значит тебе суждено его увидеть. И не думаю, что тебе там понравится.
— Тогда мы все до одного туда попадем. А этого быть не может. Если твой Бог такой жестокий, что отправляет нас после всего этого земного ада еще и в ад подземный, то… мне такой Бог не нужен.
— Не Бог отправляет Своих детей на мучения, а мы сами богоотступничеством, своими грехами. Господь как раз делает всё возможное, чтобы мы спаслись и после смерти блаженствовали с Ним в раю. Это мы сами отворачиваемся от Бога, от Его помощи. И знаешь почему? Потому что нам очень нравится грешить — это сладко! Проявлять власть над людьми — это кайф! Тратить деньги на пьянку с женщинами — это весьма приятно. А Бог от нас хочет покаяния — а это добровольные слезы, это сознательный отказ от сладости греха. Вот тут и находится водораздел между верующими и неверующими. Вот почему я на тебя похож только физически. Но я обещаю тебе: пока жив, буду молиться о тебе. И верю, придет время, ты еще меня поблагодаришь за это.
Отец молчал. Я чувствовал, что между мной и им — высоченная стена его гордости. Скорей всего в сознательной жизни он не будет помнить нашей встречи и этого разговора. А может быть, останется нечто на подсознательном уровне, что будет останавливать его преступления, и еще пожалуй это — официальная бумага с подписью и печатью, которая сохранит жизнь нескольким хорошим честным людям.
Отец мой продолжал сидеть в лодке с бумагой в руке. Мне вспомнились два события: первое — Даша всё-таки родилась, значит, её деда не расстреляли; второе — отец рассказывал, что своё наградное оружие получил за операцию на Донбассе, показывал статью в газете «Правда» и очень этим гордился.
Я медленно взобрался на холм и обернулся. Отсюда было видно, как по-прежнему блестит золотистая река, в ней отражаются пурпурные облака. Сладко пахнет дымком, цветами, борщом и жареным луком. От кирпичного здания шахтоуправления по улицам поселка уже не шагают усталые люди в серых спецовках. Трудовой народ готовится ко сну. Раздаются звуки патефона, гармони и протяжное пение: «чому я нэ сокил, чому нэ литаю? Чому мэни, Боже, ты крылэць нэ дав, я б зэмлю покынув, тай в нэбо злитав…» Эти смертельно усталые после работы, зачумленные красной пропагандой люди стремятся летать, как ангелы! И попробуй это антикоммунистическое мировоззрение вышиби из них. Не тут-то было…
Когда я вернулся в горницу, Володя все еще стоял перед иконами у догоравшей свечи.
— Что, брат, глюк пошёл? — грустно улыбнулся Володя, тщательно соблюдая аскетическое правило самосокрытия.
— Вроде того, — промямлил я, не лишая и себя привычной афонитской конспирации. — Хорошие люди, — сказал я рассеянно, возвращаясь по оси «Т» обратно, в исходную точку путешествия. — Твои предки, Володя, очень хорошие люди. Они жили на земле, работали под землёй, а жили небесным. Ради нас, чтобы нам передать сложенные крылья, чтобы мы с тобой взмахнули ими, отряхнули пыль и взлетели, понимаешь?
И тут я увидел то, на что не обратил внимания раньше: в углу на стене над кроватью висели плакаты с видами Киева, Запорожья и Донецка. Я подошел к фотографии ДнепроГЭСа и сказал:
— Надо же, как тут красиво стало! Новые мосты, эстакады, иллюминация…
— А ты бывал в Запорожье?
— Да, — сказал я, уносясь в страну воспоминаний. — И знаешь, пожалуй, именно там прошли самые счастливые месяцы моей юности.
— Расскажи.
— Это надолго.
— Ничего. Нам с тобой торопиться некуда.
— С удовольствием, — сказал я и начал свой рассказ.
Настоящая жизнь
Отец считал себя «личностью с тонкой душевной организацией», поэтому на всех вокруг смотрел свысока, в том числе и на нас с мамой. Случались у них мучительно долгие кризисы. Отец тогда почти каждый вечер приходил навеселе, а мать, уложив его спать, приходила ко мне и спрашивала, с кем я останусь, если они разойдутся. Меня это сильно раздражало, поэтому я отворачивался к стене и бурчал: «Ни с кем. Уйду из дому. Один. А вы сами разбирайтесь, без меня!»
Несколько раз отец уходил от нас, на неделю-другую, а иной раз и на месяц. Странно, мне его уходы даже нравились. Я переставал жить в тягостном ожидании вечера, когда он являлся на пороге какой-то липкий, насмешливо-злобный — в таком состоянии он мог треснуть меня по голове, оскорбить («я в твои годы уже деньги зарабатывал, а ты всё в дурачках бегаешь») или, например, достать из сейфа пистолет и приставить его к виску, угрожая самоубийством. Эти обострения чаще всего начинались весной, а иногда и осенью. Однажды мать в состоянии крайнего уныния позвонила сестре в Запорожье и попросила увезти меня к себе, подальше от неприятностей, тем более, что мне исполнилось 14 лет, начался переходный возраст, когда психика неустойчива.
Приехала тетя Галя — шумная, горластая — с порога обругала отца и выгнала из дому на время своего там присутствия. Вихрем собрала мои вещи и, не дав маме опомниться и вдоволь поплакать, схватила меня за руку и потащила на вокзал, да я и не упирался. Всю дорогу она обещала мне райскую жизнь на полном пансионе. Как только поезд тронулся, я прилип к окну и стал буквально впитывать всё, что удалось там рассмотреть. Со мной такое и раньше случалось: в обычном состоянии мой взгляд рассеянно блуждал, мысли путались и мало что меня занимало; но стоило погрузиться в тревогу, как я замечал, что любая мелочь вдруг начинала меня сильно интересовать, отпечатываясь в памяти навсегда.
Тетушка за спиной что-то уютно бурчала, а я весь был снаружи — среди полей и лесов, на улицах незнакомых городов и деревень, плыл по реке и летал по небу; каждая птичка, кошка или собака, ребенок и взрослый — весь этот огромный мир становился родным. Почему? Может потому, что появлялась возможность побывать там, где не мог и мечтать в своей скучной, обыденной жизни. Когда в жилах кипит кровь, прошлое отходит в сторону, тает, обесценивается, зато в будущем волшебные события кажутся как никогда реальными. Ты их не опасаешься, как раньше сидя в комнате за учебником, в малодушной самозащите собственного микромира — нет, распахиваются твои горизонты, распахивается навстречу новому душа, и ты бесстрашно жаждешь подвигов!
— Тетя Галя, — сказал я неожиданно, — ты понимаешь, что мне придется драться?
— Это еще зачем? — отпрянула она в испуге.
— Ну как, — продолжил я, глядя в её загорелую морщинистую переносицу, — в новой компании нужно будет заставить себя уважать.
— Никто тебя не тронет, — сказала она, махнув рукой. — Как только узнают, что ты мой племянник, так за родного и примут.
— Вопрос в том, приму ли их я, — отрубил я решительно и отвернулся к окну.
Словом, всю дорогу я готовил себя и тетку к разного рода приключениям, которые просто обязаны свалиться на меня, и которых я отчаянно желал.
В Запорожье мне и раньше случалось бывать, но лишь денёк-другой, проездом, по касательной. Я не воспринимал город серьезно и привычно скользил по нему рассеянным взглядом туриста, не углубляясь в детали. Когда же мы с теткой из душного вагона, пропахшего несвежими носками и туалетом, вышли на привокзальную площадь, опоясанную душистыми цветочными клумбами, я увидел на крыше вокзала метровые буквы «Запорiжжя», в моей голове будто вихрь пронёсся, и с первых шагов я буквально врос в этот ранее чужой город.
Тогда стоял конец мая, здесь, на юго-востоке Украины, вовсю царствовало лето. Во всяком случае, народ одевался по-летнему, воздух сразу обнял меня жаром, я снял пиджак и остался в сырой мятой рубашке. Мы ехали на новеньком чешском трамвае с чистыми стеклами, за окнами мелькали пирамидальные тополя, каштаны и акации в цвету, яркие цветочные клумбы, кряжистые дома с витринами магазинов и кафе. А вот таинственные вывески: «Взуття», «Гудзики и шкарпетки» — интересно, что это такое?..
Я ждал, когда появится Днепр. Я чувствовал его близость, его могучее дыхание. Так, должно быть, охотник среди буйных зарослей тропической сельвы чувствует приближение невидимого могучего зверя. Наконец, мы сошли с трамвая и по бульвару, мимо утопающих в кипучей зелени домов, дошли до теткиного подъезда. Бросив свои вещи в комнате, отведенной мне, я сразу потребовал сводить меня на Днепр. Тетка вздохнула, не сумев противостоять бурной энергии познания, жалостно буркнула что-то несущественное про возможность покушать где-нибудь в кафе, и мы вышли во двор. Никого, кроме малышни, там не наблюдалось.
Нырнули в гулкую арку, разрезавшую дом до четвёртого этажа, навечно пропахшую жареным луком и тушеной капустой. Дальше по широкому проспекту вышли на площадь, пересекли её раскаленное солнцем асфальтовое покрытие, и вдруг из-за тополей и акаций сначала мелькнула синяя вода, а потом открылась величественная панорама. Справа бетонной грядой пересекала реку плотина Днепрогэса, слева — высились утёсы острова Хортица, где-то далеко в сизой дымке кудрявился зелеными холмами противоположный берег, а между всем этим — переливалась сверкающей синевой обширная акватория нижнего бьефа. Да, это меня обрадовало! Я подумал, что если и придется прозябать тут в одиночестве, стану бегать сюда, часами любоваться этой красотищей и, может быть, даже писать стихи. Я даже сочинил начало: «Стою на скальном отвесном утёсе, как апач на пироге; подо мною раненным зверем ревут Днепровские пороги». Конечно, надо будет подшлифовать, но начало положено.
Тетка тоже замолчала и стояла не шевелясь. Но потом все-таки очнулась и непреклонно повела меня в вареничную: кажется, для неё самым главным было, чтобы племянник не оказался голодным. Я подзабыл уже вкус вареников, выбрал в меню те, что с капустой и с вишней, и с таким удовольствием съел обе порции, что даже тетка восхитилась. Вернулись мы во двор, а там уже на лавках у нашего подъезда собрался народ.
Они вскочили с насиженных мест, окружили нас и засыпали вопросами: кто, откуда, надолго ли? И вот мне улыбаются мальчишки и девочки моего возраста, пожимают руки, приглашают в гости, утром на рыбалку, днем на прогулку по городу, вечером в кино. У меня стучит в висках и в груди от счастья — нет отчуждения, нет неприятия, наоборот: мне рады, со мной хотят дружить. В отличие от меня, запорожцы были загорелыми, общительными, говорили по-русски мелодично, их «г» больше напоминало «х», вместо «что» произносили «шо», вместо «ничего себе» — «тю», часто в их речи встречались украинизмы, вроде «позычить», «до хаты», «тикать», «злякався», но больше всего мне понравилось «та ты шо!» — нечто вроде нашего «вот это да!», но произносится слитно, с протяжкой и вытаращенными глазами: «Та-а-атышоо-о-о!..» Запорожцы и запорожанки искренно любили свой город, пытались сходу заразить приезжего этим сильным чувством и просто обязаны были и меня влюбить в это мощное разноликое многообразие. Но как же мне всё это нравилось! Словом, началась настоящая жизнь.
— О, брат, — воскликнул я, взглянув на благодарного слушателя, — а знаешь ли ты, что это такое — настоящая жизнь?
— Догадываюсь, — пробормотал Володя, пряча глаза.
— А вот, чтобы ты не догадывался, а знал точно, я тебе это сейчас объясню. Жить — это значит, принимать всё и всех открытым сердцем. В таком состоянии ты всех любишь, и все любят тебя.
— Неплохо сказано…
Следующие дни новые друзья буквально разрывали меня на части. Казалось, я перезнакомился с населением половины города. Меня водили из одного двора в другой, из одной окраины города в другую, из шестого поселка в восьмой. Родители моих новых друзей чуть не насильно засаживали меня за стол и кормили, кормили… Да так вкусно! Я успел посетить центральный пляж имени Жданова и даже искупаться в маске и ластах, взятых на прокат. Пешком прошёлся по Днепрогэсу, рассматривая слева по ходу с высоты пятидесяти метров огромных сомов, резвящихся далеко внизу, а справа — совсем близко, только руку протяни — стояла зеленая вода, тихая как на болоте. Вот задвигался козловый кран, поднял задвижку, и по одному из лотков водосброса полился бурный поток, сотрясая плотину и поднимая над водой облако водяной пыли, в которой заиграла радуга.
На пляже правого берега удивился толчее народа и цвету воды, которая тут «зацветает», по этой зеленой воде носились скутера на огромной скорости и дико выли мощными моторами без глушителей. Был так же на стадионе «Металлург» на концерте, где пела София Ротару, Лев Лещенко, а в перерывах на «Антилопе-гну» ездили по кругу Остап Бендер со товарищи, из глаз которых сыпались искры. Побывал в цирке и в кино, в пятиэтажном универмаге «Украина» и на двух рынках, в парке «Дубовый гай» и в речном порту. Видел огромные заводы «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», «Коксохим» и «Коммунар», выпускающий автомобили, комбайны и «кое-что еще».
Остров Хортицу я полюбил насмерть! От 800-летнего дуба, под сенью которого отдыхали Тарас Бульба, Тарас Шевченко, Нестор Махно, Александр Пушкин, Илья Репин — меня не могли оторвать с полчаса, я всё ощупывал корявую щелястую кожу дерева, прикладывал уши, пытаясь расслышать голоса тех людей, которые тут побывали, крики отчаянных запорожских казаков, ржание горячих коней, свист батогов, булатный звон клинков. Меня дурманили зной и душистые запахи степи, дарили неожиданную густую тень и прохладу дубовый гай и молодые сосновые лесопосадки. Я по привычке набросился на грибы, но меня строго предупредили, что собирать их нельзя: в этом месте во время войны шли ожесточенные бои за переправу, поэтому много захоронений, и можно отравиться трупным ядом.
Тетка водила меня на базар — так назывался местный рынок. Мне он показался огромным и богатым. И чего тут только не продавали! Голова кружилась от густых ароматов, которые носились в воздухе и требовали обратить внимание, попробовать, купить. Пока мы обходили торговые ряды, я съел кулёк малины, стакан семечек, кусок брынзы, ножку копченой курицы, малосольный огурец, грушу «лесная красавица», жмэню абрикосов «колеровка», пожарной окраски рака и кружок чесночной колбасы. Самые роскошные прилавки здесь отдали, конечно, салу: белому, мраморному, с мясными прожилками, слоистому бекону, розовой буженине, копчёному окороку, перчёному шпигу…
— А это что такое? — спрашивал я, скривившись, указывая пальцем на нечто желто-зеленое, полупрозрачное, с неприятным запахом, явно залежалое и подпорченное. — Зачем оно тут лежит почти у каждого?..
— Это старое сало для настоящего украинского борща, — поясняла тетя Галя, уважительно выбирая кусок пожелтей и пострашней. — Вот растолку я его с чесноком и в борщ заправлю.
— Да не буду есть я эту гадость! — возмущался я.
— Еще как будешь! — говорила тетка с таинственной улыбкой доморощенного мудреца. — От такого борща за уши не оттащишь. Этой-то заправкой со старым салом и отличается настоящий борщ от щей, подкрашенных свеклой.
И на самом деле, когда за обедом тетка поставила передо мной глубокую тарелку с «двойной» порцией борща, я, конечно, подозрительно принюхался, осторожно лизнул из ложки ярко-красную жидкость… — и с такой жадностью набросился на главное украинское блюдо, что не успел заметить, как съел всю порцию, да еще и за добавкой тарелку протянул, на радость хозяйке.
— Мой покойный муж, Федор Васильевич, царствие ему небесное, — сказала тетка, — тот по ночам, бывало, просыпался, чтобы свою бадейку борща «зъисты». А бадеечка у него знатная была, литра на полтора… Да, уважал покойник борщ, сильно уважал! А еще синенькие в любом виде.
— Приготовишь, тёть Галь? — тянул я, предвкушая еще нечто грандиозное.
— Синенькие-то? — Гладила она меня по вихрам большой крестьянской ладонью. — А как же! Это баклажаны так здесь называют. Тебе чего хочется: икру, сотэ, печеные с сыром, рулеты с морковкой, рагу с мясом, тушеные с картошкой, соленые…
— Тетя, тетя, — умоляюще остановил я оглашение списка, — ты сама выбери. Ладно? Ну, скажем, что дядя Федя покойный любил.
— Тогда сотэ, икру и рагу со свининой… — Потом тетя Галя глубоко вздохнула. — А я больше всего по нашим русским грибам скучаю. Как сестричка моя ненаглядная, мама твоя, посылочку с четырьмя баночками маринованных белых пришлёт, так ничего больше и не надо.
Конечно, новые друзья расспрашивали меня о Москве — и у меня сразу портилось настроение. О чем говорить? Отсюда, из этого уютного, по-домашнему обжитого, утопающего в зелени и цветах теплого, дружественного, ароматного города, Москва казалась жестоким, хладнокровным вокзалом, где толпятся, снуют, толкаются сердитые пассажиры, которые не живут, радуясь каждому дню, а носятся из одной точки в другую. В Запорожье за несколько дней у меня появилось столько друзей, сколько в Москве не было и за всю жизнь.
Однажды на закате солнца сидел я на балконе, вдыхал густой аромат цветов, рассматривал розовое небо над черными верхушками пирамидальных тополей и лакомился огромной душистой клубникой. Из-под балконной плиты выскочил запыхавшийся Юра, сложил рупором ладони и позвал спуститься. Я, как был в одних шортах и босиком, сбежал по прохладной лестнице вниз, выскочил на улицу и замер под распахнутым окном первого этажа. Едва сдерживаясь, чтобы не закричать и не пуститься вприсядку, Юра сообщил, что завтра в семь утра они с отцом едут на остров Хортица навестить сестру Лену, в машине есть свободное место, так что если тетя Галя отпустит, я могу поехать с ними. Пулей слетал я домой, тетя сказала, что с кем, с кем, а с Юриным папой можно, потому что он «серьезный и ответственный мужчина» — и вернулся к Юре. Он жадно пил из большой эмалированной кружки. Не успел я удивиться, как в окне появилось сначала распаренное лицо тети Ани, а следом — её пухлая рука с кружкой для меня: «Попей, детынька». Я глотнул густую янтарную жидкость — это оказался холодный абрикосовый компот. И только допив чудо-компот до дна и вернув кружку с благодарностью, я взглянул на Юру и сказал: да, отпустили, едем!
Долго не мог я уснуть в ту ночь. На черном небе мигали огромные звезды, заунывно плакала птица, трещали сверчки, от реки доносились приглушенные команды диспетчеров порта, корабельные гудки и стрекочущий перестук электричек, а я смотрел сквозь оконное стекло на небо и вспоминал каждое слово, движение рук и выражение лица Лены, которую завтра я должен был увидеть. Она происходила из замечательной семьи обрусевших греков! И родители, и дети и, конечно, Лена — были невыразимо красивы. Причем, не просто там с правильными чертами лица и стройные, но как-то аристократически недосягаемы. Они словно парили над остальными людьми. Они повелевали, сдерживали грубость, ставили на место хамов одним взглядом огромных карих глаз — и даже самые циничные, отъявленные хулиганы в их присутствии превращались в пай-мальчиков, не знавших куда девать руки.
В Лену я влюбился в первую секунду, как только увидел. Она шагала по двору так плавно, грациозно, её пышные каштановые волосы при каждом шаге пускали искристую волну, белоснежная блузка туго обтягивала гибкий стан, а бежевая юбка полоскалась по длинным загорелым ногам — и всё это казалось замедленными кадрами из заграничного фильма с Софи Лорэн. Впрочем, думаю, и сеньора Лорэн рядом с Леной поблекла бы и выглядела деревенской простушкой в свите вельможной госпожи. В свои четырнадцать лет Лена выглядела как вполне сформировавшаяся девушка, а когда нас познакомили, и мы разговорились, мне показалось что её грудной певучий голос обволакивает меня, а я отрываюсь от земли и летаю в невесомости. Красивые девушки знают о силе своего воздействия на людей, им постоянно необходимо строго дозировать волны очарования. Вот и тогда она говорила, жестикулировала и улыбалась очень сдержанно, может быть, именно это и производило впечатление того аристократизма, который я сразу отметил и которым так восхитился. Уж не знаю, как у других греков, а в этой семье дети воспитывались в строгости. Во всяком случае, и Юра и тем более Лена, редко оставались без дел, и во дворе я их видел не часто.
А рано утром, почти не спавший ночью, я в куртке и с сухим пайком в хрустящем кульке, стоял в пустом дворе и наблюдал, как в облаках тумана играют косые лучи прохладного солнца. Сначала вышел из своего подъезда Юра, а следом из-за ряда гаражей выехала синяя «Победа» и остановилась рядом со мной, распахнув дверцу. Мы с Юрой нырнули в огромный салон автомобиля, я поздоровался с родителями, пожал руку Юре, помахал рукой тетке, вышедшей на балкон — и мы тронулись в путь. В дороге все молчали: наверное, как и я с недосыпа, из радио лилась популярная песенка о попугае, который нагадал счастье по билетику, а певица почему-то выражала недоверие этой арифметике… Словом, я тоже пригрелся, задремал и очнулся уже на Преображенском мосту, под которым сверкала Днепровская вода, а над нами, по второму ярусу, гремела электричка и раздавался вдали гудок большого белого трехпалубного теплохода, который выходил из тесного шлюза на речной простор.
Справа над широкой водой вздымалась бетонная громада Днепрогэса, в самом центре плотины сверкали два пенистых водопада, над которыми зависла яркая радуга.
— Эх, сейчас бы на лодках к водосбросу: там рыбы оглушённой — немеряно, просто руками хватай и вытаскивай, — мечтательно протянул дядя Гена.
— Не волнуйся, там есть кому рыбу собрать, — вставила слово тетя Валя, — через полчасика в нашем дворе сомов и судаков будут продавать по рублику за штуку.
Помнится, меня это очень удивило: как такие красивые люди, почти небожители, могут говорить о столь прозаических вещах. Дядя Гена высадил нас на берегу Днепра, выложил из багажника сумки с провизией и одеялами, большой казан с треногой — и уехал в пионерлагерь за Леной. Мы под руководством тети Вали разложили на песчаном берегу одеяла, насобирали хворосту и разожгли костер. Она повесила на треногу казан и принялась готовить жаркое с баклажанами. Мы с Юрой надули небольшую двухместную резиновую лодку, забрались в неё, заплыли подальше от берега и установили на глубине пяток донок с колокольчиками на поплавках. Да еще забросили с берега и укрепили на рогатках три бамбуковых удочки. Так что когда из-за холма показалась «Победа», мы с Юрой и тетей Валей были готовы принять дорогую гостью. Но что такое: Лена вышла из машины, покачиваясь, с заплаканным лицом.
— Вот, мать, наша дочь не желает оставаться в пионерлагере. Просит увезти ее домой.
— Почему, доченька? — всполошилась мать и бросилась обнимать Лену.
— Там эти мальчишки… Там пионервожатый… Там начальник… Они все ко мне пристают.
— А как же Витя? — спросила мать. — Мы же тебя специально с ним послали, чтобы он тебя защищал.
— Да у него там роман с одной девочкой. Он меня совсем одну оставил. Ну, и эти… стали ко мне приставать, просто проходу не дают.
— Ладно, всё понятно. Не расстраивайся, дочка. — Дядя Гена бережно обнял девушку. — Если не хочешь, мы тебя насильно держать тут не будем. Значит, уедешь с нами.
— Папка, любименький, спасибо тебе! — Она обожала отца, льнула к нему, а я ревниво зыркал на это и с болью в груди мечтал о таком объятии Лены, хотя бы одном, а потом не жаль и умереть…
— Ну вот и слава Богу! — облегченно вздохнула тетя Валя. — А то я за тебя переживать стала. Как там, думаю, моя девочка!.. Сердце-то материнское не обманешь. Я чувствовала, с тобой что-то не так.
— Ну всё, хватит, мать! — сказал дядя Гена. — А теперь, дочка, отдыхай. Видишь, с нами Андрей приехал. Уж он-то парень воспитанный, и умеет себя вести с порядочными девушками. — Что в переводе на бытовой язык означало, примерно, следующее: а ты, мальчик, к моей дочери даже близко не подходи.
— Андрюша, здравствуй! — улыбнулась Лена, порывисто шагнула ко мне, будто собираясь обнять, моё сердце сжалось, но за шаг от меня она резко остановилась и… протянула руку для рукопожатия. — Я так рада!
— Здравствуй, товарищ Лена, — сказал я с ехидным прищуром. А потом рассказал анекдот: — На параде маршал объезжает войска и «здоровкается»: Здравствуйте, товарищи артиллеристы! — Здрав-гав-гав! — Здравствуйте, товарищи десантники! — Здрав-гав-гав! — Здравствуйте, товарищи чекисты! — Ну, здравствуйте, здравствуйте, гражданин якобы маршал…
— Ш-ш-ш-ш, — зашикали на меня, бдительно оглядываясь, товарищи коммунисты и комсомольцы. — Ты, Андрюш, пожалуйста, поосторожней с анекдотами, а?
— Да ладно, если так… — пожал я плечами, — а мы как-то без оглядки всё это рассказываем.
— Знаешь, Андрей, — сказал дядя Гена, отведя меня в сторону, — когда у меня был только Юра, я ничего в этой жизни не боялся, а вот когда родилась эта чудная девочка, я сразу хвост поприжал. Разумно иной раз промолчать, стерпеть, скрипнув зубами. А то, сам подумай, что с ними будет, если мне путёвку выпишут на лесоповал?
— Тогда я устроюсь на «Запорожсталь» и стану знатным сталеваром! И буду их содержать! — сказал я воодушевленно.
— Ты сначала школу-то окончи, герой! — потрепал он меня за плечо. — Но за моральную поддержку спасибо.
Да, такие дни не забываются. Чем только мы не занимались! Наловили рыбы, купались, потом надели маски и таскали раков из прибрежных коряг, ездили по степи на машине, устроили пир горой. На скатерти кроме печеной рыбы, салата по-гречески, возлежали зеленые конвертики долмы и — самое главное — мусака из казана, нечто вроде слоёного пирога из баклажан, помидоров, мелко нарубленного мяса и тёртого сыра — всё такое перчёное! У меня во рту горело и слезы выступали, а сотрапезники надо мной слегка посмеивались. Они-то ко всему прочему постоянно откусывали от стручков злого перца, к которому я даже и не прикасался. В греческом салате попадались какие-то черные ягодки.
— Что это? — спросил я.
— Маслины, — ответила тётя Валя.
— Я видел тут маслиновые деревья с серебристыми листьями и махонькими ягодками, и даже пробовал их на вкус, но они были приторно сладкими с косточкой внутри и совсем крошечными.
— Маслины, которые в салате, — сказала тетя Валя, — нам привозят родственники из Крыма, там они дозревают до нужной кондиции. А вообще-то, маслины для греков, как для русских грибы — вещь незаменимая.
В маленьких гранёных стаканчиках у каждого едока искрилось рубиновое домашнее вино, кисловато-терпкое, пахнущее солнцем и степью. В тот день мы все обгорели! Лица стали бордовыми — только белые зубы и белки глаз сверкали. Тетя Валя протянула Лене тюбик с кремом, и она по очереди помазала отца, мать, меня и брата. Когда длинные пальцы красавицы касались моего лица и плеч, я буквально таял от счастья. А запах того крема под названием «Детский» до сих пор считаю самым изысканным и постоянно держу в ванной у зеркала, в стаканчике с бритвой и зубной щеткой.
Во время чаепития дядя Гена рассказал, что греки проживали на черноморском побережье Крыма с древних времен, еще до Александра Македонского. А после турецкого нашествия сам Александр Суворов руководил их переселением на территорию нынешней Украины. Греки до сих пор живут в этих краях общинами, поддерживая национальные традиции. Многие так же восстанавливают родственные связи с исторической родиной, для чего им позволено иногда выезжать в Грецию и принимать оттуда гостей. Конечно, это всегда связано с большими хлопотами, но ради родных чего не сделаешь!
Потом еще рыбачили и купались, а Лена водила нас с Юрой на родник в лес. Оказывается там, в глубине острова, стоял настоящий заповедный лес с дубами, березками, соснами, осинами и тополями. А в самой чаще леса из-под струящегося песка бил ключом источник прохладной чистой воды, аккуратно обложенный тремя рядами камней. Вот уж мы напились! Да еще и с собой прихватили в трехлитровой банке, которую тут называли «баллоном». Вдруг ближе к вечеру собрались и внезапно тронулись в путь. Дядя Гена вспомнил, что у него недалеко отсюда живет старинный друг. Поехали к нему в гости на дальний хутор в плавнях, что на юге острова Хортица. Друга дома не оказалось, зато его мать-старушка нас не отпустила: да как же это гостей да борщом не накормить!
И вот мы сидим в старинной хате-мазанке под камышовой крышей с открытыми настежь оконцами, во дворе тявкает старая псина, квохчут куры и ворчат индюки, где-то далеко мычит корова. Под окнами цветут пышные пионы, от которых в хату вливаются сладкие воздушные волны. В центре стола — глиняный горшок с бордовым борщом. Мы по очереди деревянными ложками зачерпываем густое душистое варево и на кусках хлеба-паляницы доносим до рта, хлюпаем, закатывая глаза от удовольствия, а баба Христя ходит вокруг, гладит каждого по голове, хвалит за хороший аппетит: «яки ж ото вы у мэнэ добри диты», вываливает в борщ пол-литра сметаны, а мы смеемся, мокрые от пота, выступившего на лбах и черпаем, черпаем безумно вкусный борщ.
Потом была степь! Мы вышли посреди бескрайнего раскаленного пространства и пешком по серебристому ковылю, по духмяной полыни, осторожно обходя колючий осот и огромный двухметровый татарник с шипами, шлепали по направлению к одиноко стоявшему дереву. Снизу, от нагретой серой земли, поднимался жар, от растений исходили густые тревожные запахи, справа у горизонта серебрился Днепр, сзади клубилась поднятая нами рыжеватая пыль, сверху безжалостно пекло солнце, а над нами кружила парочка коршунов, вероятно, считая этих беспомощных двуногих созданий внизу своим плотным ужином. Наконец, мы подошли к раскидистому дереву шелковицы. Юра забрался на нижнюю ветку и собственным весом прижал её к земле, а мы срывали мягкие плоды, похожие на крохотные грозди винограда и отправляли в рот. Потом я сменил Юру, позволив и ему насладиться дарами природы. Скоро наши руки и губы окрасились в бордовый цвет. Тетя Валя заставила нас по очереди умыться водой из «баллона» с мылом, «чтобы так до конца жизни не осталось». Потом Лена попросила отца позволить ей сесть за руль, и вот мы едем по степи, а наш суровый водитель, вцепившись в баранку и вытянув шею, с визгом восторга, под чутким отцовским руководством несёт нас по голой степи со страшной скоростью в десять километров в час, хотя ей, наверное, кажется, что на спидометре все сто десять.
Потом Лена вернула руль отцу и попросила его отвезти нас с Юрой на Ждановскую набережную, потому что она жуть как соскучилась по городскому пляжу. Родители уехали домой, а мы купались, лежали на белом песке. Здесь отовсюду доносились провоцирующие запахи еды: домашней колбасы с чесноком, котлет, малосольных огурцов, жигулевского пива, пончиков. У нас снова разыгрался аппетит, поэтому Юра посчитал на пальцах: пикник с мусакой был завтраком, борщ у бабы Христи — обедом, так что нам пора ужинать — и сбегал в павильон, принес раков, пирожки с капустой, которые мы запивали холодным лимонадом в запотевших бутылках, играли в волейбол, снова купались. К Лене подошли такие же как она кареглазые красавицы, они стали бродить по берегу по щиколотку в воде и тихо говорили о чем-то своём, девичьем… Мы с Юрой и еще двое парней, с которыми пришли подруги Лены, зорко следили, чтобы ни дай Бог! — никто не посмел даже косо взглянуть на наших девушек, а уж тем более обидеть, мы были готовы в любую секунду сорваться и броситься на обидчика, кем бы он ни был.
А потом отдыхающие стали потихоньку расходиться, огромный пляж пустел, выключили репродукторы, из которых непрестанно лилась популярная музыка, наступила дивная тишина и праздник очей! Раскаленный шар солнца медленно опускался в алые шелка облаков. А по золотому небу, по золотой воде Днепра, по золотому песку пляжа — плавно ступая, шли грациозные гречанки, нечеловеческой красоты неземные создания, неприкасаемые и недоступные, как дикие серны, совершенные, как ангелы. А потом мы, уставшие до ломоты в теле, притихшие и томные, брели под фонарями домой сквозь душную южную ночь, полную таинственных звуков, теней, неожиданных ароматов заснувших цветов, стрекота цикад, удивляясь, как много, оказывается, можно прожить, как много сделать и сказать всего-то за один летний день.
Поздно вечером мы с теткой чистили судака, пойманного мною, сохранённого тетей Валей в молодой крапиве и привезенного на машине прямо тётке на дом, и я сказал:
— Теть Галь, можно я у тебя останусь навсегда?
— Конечно, Андрейка! — весело кивнула она, но потом вскинула голову: — Погоди. А как же мама? Она же без тебя с ума сойдет.
— А мы и её сюда привезём.
— Да я-то с радостью, только разве она из Москвы в нашу провинцию поедет?
— А не поедет, так мы с тобой одни как-нибудь проживем. Ты понимаешь, теть Галь, здесь я живу, а там — прозябаю.
— Это, Андрюш, летом. А зимой и тут бывает тоскливо. А уж когда пыльная буря или воздух от заводов подует — тут просто ужас как плохо.
Может быть, зимой и так, хотя где бывает хорошо в холод и метель, в сырость и проливные дожди? Только я с утра до вечера погружался и купался в дивных струях интересной, многоликой, полной событий жизни.
Открыли мне пацаны два самых страшных места. Туда тетка настоятельно рекомендовала мне и носа не совать, что меня особенно прельстило. Однажды ребята собрались во дворе, слегка размялись игрой в волейбол, после чего нас потянуло на подвиги. Они в сторонке от меня немного посовещались, потом Юра громко сказал: «Я за него ручаюсь!» — и вот мы идём гурьбой в Милистиновку. Волнение и страх пробирали не только меня, вся компания как-то подобралась, засопела. Наконец, мы прошли дома, пересекли пустырь, перелезли через забор, и перед нами открылась с виду обыкновенная мусорная свалка. Но среди ржавого металлолома, гор битого кирпича, рваных противогазов, колёс и прочего хлама — то один, то другой — стали находить нечто, ради чего мы сюда пришли: оружие! Конечно, эти «отголоски войны» имели вид весьма потрёпанный, покрыты ржавчиной и грязью. Но вот извлекаешь из мусора что-то весьма отдаленно напоминающее виденное в военных фильмах, очистишь от грязи — и у тебя в руках парабеллум! Да, ржавый, нерабочий… Но настоящий немецкий пистолет! А вот Юрка упаковывает в сумку ленту патронташа с полтора метра с тремя патронами, а Валерику посчастливилось найти наган, а Борьке — ППШ без приклада, Витька сумел в комке грязи разглядеть гранату-лимонку и комок слипшихся от глины гильз. Где-то почти рядом залаяла собака, малолетние преступники приникли к земле: это обход военизированной охраны. Борька шипит «атас, братва!» — и мы даём стрекача в сторону забора, под который для более комфортного преодоления заблаговременно подставили бочку. Перемахиваем по очереди через забор, бежим через пустырь в кусты, там ложимся на животы и прислушиваемся. Кажется, пронесло!
Следующим пунктом военной операции — речной откос. Под Парком культуры и отдыха имени Горького, всего-то в пятидесяти метрах от культурно отдыхающих масс трудящихся, пятеро юных вооруженных бандитов — то есть мы — разбираем маскировку из веток и сена, разгоняем десяток ящериц, со скрипом открываем тяжелую бронированную дверь и попадаем в сырое бетонное подземелье ДОТа — долговременной огневой точки времен Отечественной войны. Здесь у моих боевых товарищей на случай войны имеются запасы воды, продовольствия, оружия и неплохо устроенные спальные места. Мы складываем в углу драгоценные находки, хватаем то, что уже очищено, и выходим наружу. От ДОТа к руинам ведет едва заметная тропа. Сверху доносится музыка духового оркестра и смех, слева сверкает широкая вода могучего Днепра, а вокруг нас на крутом склоне откоса крапива до пояса, осот и кусты плакучей ивы, скрывающие нас от нежелательных досужих взоров мирного населения. Наконец, наш взвод врывается в трехэтажные кирпичные руины, бойцы разбегаются по этажам и предаются любимому мужскому занятию — играют в войну.
Сейчас мы вооружены автоматом ППШ, наганом, парабеллумом и винтовкой Мосина, поэтому у нас идет битва за Днепровскую переправу: мы непрерывным огнём уничтожаем фашистов, рвущихся захватить крупный индустриальный центр, имеющий стратегическое значение. После просмотра в кинотеатре Глинки американского фильма «Спартак» мы рубились короткими деревянными мечами, защищаясь от нешуточных ударов противника круглыми щитами, изготовленными из крышек для кастрюль. После «Трех мушкетеров» из толстой арматурной проволоки, взятой взаймы на стройке, делали рапиры и фехтовали ими, как Дартаньян и Атос с гвардейцами кардинала.
Конечно, случались и у нас обычные для военных действий ранения, контузии и наказания начальства. Да что там, редкий день ходил я без повязок на теле, зеленки на ранах и хромоты от вывихов и растяжений. Однажды я упал затылком на камень, по шее потекла кровь, меня сопроводили до травмпункта и там даже сделали настоящую операцию с наложением швов и повязкой. Я очень гордился этим боевым ранением и, когда пришло время снимать швы и повязку, даже огорчился. Тетя Галя, конечно, испугалась и даже больше меня самого, но мы решили об этом маме ничего не говорить. А потом всё быстро зажило и забылось.
Недалеко от речного порта на улице Сорок лет Советской Украины на строительство пивного бара завезли круглые стеклянные лепешки для отделки стен. Разумеется, уже на следующий день у всех пацанов нашего двора в карманах позвякивала пара стекляшек — одну себе, другую на обмен. Поначалу-то мы просто обменивались, хвастали и швыряли их по асфальту, кто дальше забросит, а когда это наскучило, вдруг Юра вспомнил «добрую старую игру в цок».
— Значит так, — объяснил он, — кладем горкой монеты в банк и с десяти шагов по очереди кидаем биту. Если сбил — всё твоё, если нет, те, у кого стекляшка ближе легла с банком, первый, а потом следующие за ним по мере удаления биты от банка — бьют по монетам. Если монета переворачивается — твоя.
Разумеется, через неделю-другую игра в цок приобрела характер эпидемии, и почти все монеты в городе имели побитый вид. Тогда во дворе, на скамейках летнего кинотеатра участковый дядя Коля собрал народ, взобрался на сцену и громогласно объявил:
— Товарищи жильцы! Довожу до вас, что игра в цок является преступлением, так как азартная игра на деньги — это раз, и наносит ущерб денежному обращению — это два. Чтобы понять смысл, так сказать, игры, я на своём печальном опыте убедился, насколько это зараза является заразной, товарищи! — Он побагровел и искоса глянул на жену Лилю Амировну, которая, сидя в первом ряду и усиленно переживая за начальственного супруга, сжала тяжелые кулаки и тоже побагровела. Валерик мне как-то рассказал, что поздно вечером к ним в разгар игры подошел участковый в штатском и попросил принять его в команду. Он играл, как разорившийся наследник в рулетку, поставив последние деньги. Он спустил всё карманное состояние, в сердцах швырнул холщовую фуражку об землю, грязно высморкался и со страхом удалился домой получать нагоняй от супруги. Вероятно вспомнив этот трагический момент своей биографии, участковый повысил голос и чуть не фальцетом крикнул: — Так что, ребята, прекращайте, а то примем меры! И еще, товарищи комсомольцы, ну что это за игры на деньги у сознательных строителей коммунизма! Срам и позор! Прямо как какие-то буржуазные элементы… Тьфу!..
Мы все как один смутились и дружно прекратили чуждые азартные игры, вернувшись к обычным мужским занятиям: рыбалке, спорту и игре в войну.
А вот сижу я в гостях у Валерика. Обычная семья: бабушка, мать отца — еврейка, дедушка — украинец, мама Валеры — русская, жена старшего брата — грузинка, муж старшей сестры — татарин. Кто же тогда по национальности сам Валерик?.. Русский! На столе традиционный борщ, обязательные баклажаны, домашняя колбаса, салат из огурцов и помидоров, к чаю подают пахлаву и пирог с вишней. И так здесь уютно, так бережно относятся к старикам, настолько мягкий разговор: всем интересно как прошел твой день, как чувствует себя мама зятя и дедушка невестки, сколько наловил раков Валерик и читал ли я «Пеструю ленту» Конан Дойля и «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэбери, а смотрел ли я фильм «Спартак» с Кирком Дугласом и катался ли на катере вокруг острова Хортица… За распахнутым окном сгущаются лиловые сумерки, от соседей долетают запахи жареной рыбы и задушевная песня. Сначала высокий женский голос старательно выводит: «Ридна маты моя, ты ночей нэ доспала, ты водыла мэнэ у поля край сэла…», а потом хор мужских и женских голосов подхватывает: «И в дорогу далэку ты мэнэ на зори проводжала и рушнык вышиваный на щастя дала…» Вдруг Валеркин отец едва слышно подпевает: «…и рушнык вышиваный на щастя, на долю дала» — и склоняет лысеющую голову на плечо бабушки, а та ласково, как ребенка, гладит, гладит и что-то бормочет ему на ухо.
В один из душных вечеров сидим на лавочке под плакучей ивой с Леной. Из открытых окон дома раздаются крики и выстрелы: народ смотрит «Щит и меч», поэтому двор опустел и никто нам не мешает. Я подрагивающим голосом рассказываю девушке о своих глубоких чувствах, а она гладит мою напряженную руку душистой ладонью и сопереживает незадачливому воздыхателю. Наконец, она медленно поворачивает ко мне самое прекрасное на свете лицо, обжигает взглядом невероятно больших черных глаз и спрашивает, умею ли я хранить тайну. Да, конечно, могила, вздыхаю я, предчувствуя недоброе. Девушка, запинаясь, подбирая слова, рассказывает, что прошлым летом приезжал из Греции один богатый парень, сын владельца заводов, кораблей и плантаций, и родители их с Леной обручили. Ты любишь его, спросил я упавшим голосом. Полюблю, ответила она. Так тебе же придётся уехать к нему, заграницу, прошипел я, как секретарь комитета комсомола на антисоветчика. Наверное, отозвалась она эхом. Я без смущения, как в последний раз, рассматривал невероятно красивое лицо, запоминая каждую черточку, линию, изгиб — и готов был умереть тут же, у её ног, чтобы она потом рыдала над моим бездыханным желтым телом… Но я не умер, а просто встал и чужим голосом предложил проводить её до подъезда. Бедный Ромео, я виновата перед тобой, вздохнула она и тоже встала. Так мы и шли рядом: я со сгорбленной спиной, с трудом переступая свинцовыми ногами, Лена — прямая, тонкая, легкая и… жалостливая.
Ранним утром мы с Юрой, Борькой и Валериком отправились на Днепр — там «пошёл бычок». Это нечто очень увлекательное: не успеешь опустить крючок в воду, как по удилищу пробегает дрожь, и ты вытаскиваешь бьющуюся черную рыбку с огромной головой. Уже через час наши ведра доверху наполняли черные рыбешки, которых мы сразу пересыпали крупными кристаллами вещества под названием «сiль кам'яна». На следующий день все мальчишки ходили по двору с бусами из подвяленных бычков, и щелкали их как семечки — одного за другим.
Потом после заката солнца ходили за раками. У каждого была своя персональная раколовка: у Валеры из нихромовой проволоки, у Борьки из ивовой корзины, у меня из старого ведра с загнутыми краями. В карманах у нас лежали фонари для освещения хода операции и привлечения речных чудовищ и завернутое в несколько слоёв целлофана тухлое мясо для наживки. Уже через пару часов мы возвращались во двор с нашими снастями, доверху наполненными копошащимися серо-зелеными раками. Тетка сразу бросала половину добычи в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и спустя минуту шумовкой доставала и выкладывала на тарелку ярко-красных раков, которых мы терзали пальцами, выковыривали бело-розовое нежное мясо и съедали всю добычу, оставляя на тарелке горку красных хитиновых панцирей.
Иногда я чувствовал усталость от приключений и устраивался на балконе с книжкой в руках. Но не тут-то было. Разные невероятно интересные события и здесь настигали меня. Вот старый конь по имени Лебедь привез в столовую телегу с овощами. Я, разумеется, выскакиваю из дому, и мы с пацанами кормим его из рук хлебом и морковкой, а он большими черными губами осторожно берет с ладоней еду, обдавая теплом и похрапывая, и подрагивает мощным телом, а наши руки еще долго помнят теплое осторожное касание губ с редкими волосками, а наши ноздри долго хранят острый запахи конского пота, навоза и мочи.
Вот старьевщик на старой телеге с высокими дощатыми бортами собирает тряпьё, расплачиваясь с хозяйками стиральным порошком и синькой. Вот точильщик ножей устанавливает свой страшноватый станок с абразивными кругами. Мы приносим ему из дома тупые столовые ножи, стоим в очереди и смотрим, как он жмёт ногой на педаль, с шипением ползает кожаный ремень, передавая вращение на вал с кругами, прижимает лезвия к вертящимся зернистым зеленоватым кругам, рассыпая золотистые искры. На его руках не хватает нескольких пальцев, что ему совершенно не мешает…
А вот из столовой веселая пышная тетка в белом халате выносит прямо во двор большую кастрюлю с пирожками, ставит на табуретку и кричит: «Пирожки-и-и-и с капу-у-устой, с карто-о-о-ошкой, с пови-и-и-идлой! По четыре копеечки!» — и через минуту рядом с ней вырастает нетерпеливая очередь с протянутыми монетками. А толстушка в белом ловко одной рукой открывает крышку, другой ныряет внутрь и достает наколотые на двузубую вилку тощие желтые пирожки, грохает крышкой, чтобы тепло зря не выходило, заворачивает гроздь пирожков в маслянистую бумажную ленту от конденсатора и протягивает тому, который уже устал сглатывать голодную слюну и мигом съедает один пирожок, медленно, с наслаждением жуёт второй, а остальные бегом несет домой.
А вот раздаётся по двору заливистый звон колокольчика, и из-за угла выезжает серый мусоровоз со звонарём на подножке. Двери подъездов захлопали, народ выносит ведра и по очереди высыпает содержимое в оттопыренный квадратный зад спецмашины. Звонарь непрестанно трамбует мусор лопатой, потом дергает рычаги сбоку, и порция мусора уезжает внутрь, а мальчишки стоят и смотрят на всё это, обсуждая шепотом, как должно быть увлекательно и престижно работать на такой чудо-машине.
А вот и сталевары съезжаются на своих «Москвичах» и «Волгах». Это рабочая элита! Они все в белоснежных рубашках, круглый год загорелые, но не от солнца, а от мартеновского огня. Сразу пустеет доминошный стол, они солидно рассаживаются и начинают посиделки с водкой, пивом, дорогой копченой колбасой, вяленым лещом. Часто такие клубные мероприятия заканчиваются борьбой или даже дракой, но никто не решается вмешаться и призвать их к порядку, даже милиционер дядя Коля или управдом дядя Вася. Они из касты неприкасаемых, они герои труда!
С наступлением вечера выходит Валерик и словно камешек по воде, швыряет по асфальту кусок серебристого металла, который назывался «церий». В темноте вспыхивают снопы ярко-белых искр — сначала рядом, потом дальше, еще дальше. Потом кто-то предлагает идти в порт, где мы наблюдаем, как шлюзуется огромный сухогруз, а чуть дальше маневровый паровоз таскает вагоны со шлаком, рудой, металлоломом туда-сюда, громко, с шипением пускает раскаленный пар, издавая пронзительные гудки. Бежим следом за огромным черно-красным паровозом, скрываясь от вооруженного винтовкой старика-сторожа в густых клубах пара и забираемся на циклопические горы серо-черного шлака, пахнущего дымом, и оттуда разглядываем небо над заводом «Запорожсталь» — там, среди высоких труб, огромных мартеновских печей и градирен иногда вспыхивает багровое зарево — это выпускают из печей наружу тот самый шлак, по которому так бесстрашно мы ходим.
А на следующее утро пьём кофе с теткой на кухне, вдруг раздаётся дверной звонок. Тетя Галя бросается к двери, на ходу предполагая, что это из школы. Но входит на кухню с Леной. Девушка садится за стол и принимает от тетушки чашку кофе. Тетка, чувствует мощную электризацию атмосферы и тактично удаляется в зал. Лена отпивает глоток, другой, потом вскидывает на меня огромные черные глаза, нежно глядит на мою смущенную физиономию секунду, другую, третью и, певуче растягивая слова, говорит:
— Андрюша, я чувствую себя виноватой. Я, наверное, испортила тебе настроение на всё лето. Ты прости меня, пожалуйста, и давай останемся друзьями.
— Да разве ты виновата, что… такая красивая…
— Ну да… Знаешь, какое это несчастье — видеть, как разбиваешь сердце хорошему человеку и ничего не можешь поделать.
— Да ладно, «нэ хвылюйся», как у вас тут говорят, я как-нибудь это переживу.
— Значит, друзья! — Она озарилась той сверкающей улыбкой, от которой, должно быть, стрелялись гусары, влюбленные в Лилю Брик, и матерые шпионы из окружения Мата Хари, вонзали меч в сердце приближенные Клеопатры и сходили с ума мальчики, знакомые с этой прекрасной греческой розой. — А я тебя, Андрюша, приглашаю на соревнования.
— Какие соревнования летом?
— А у нас в октябре городские, а сегодня — отборочные. Придешь? В ДСШ. Юра покажет.
И вот сижу я в спортивном зале и смотрю, как по большому ковру бегают и прыгают девочки в трико. Мне это всё не очень нравится. Пахнет потом, девочки волнуются, тренер кричит на них, доводя до слёз. И вот выбегает Лена. Публика сразу замолкает, всё внимание — только на неё. Она самая стройная, длинноногая и гибкая. Кажется, будто в этом совершенном теле и костей-то нет! Вот как она умудряется сидеть в шпагате и еще доставать лбом колена? Лена выполняет свои упражнения с такой легкой грацией, что даже тренер удовлетворенно молчит и только кивает головой. А мы с Юрой вытянули шеи, сжали кулаки и ловим каждое движение гимнастки. Судейская коллегия поднимает высшие оценки — полный триумф! Публика неистовствует! Лена с достоинством делает книксен и царственно удаляется.
Рядом со мной сидела курносая девушка. Она повернула ко мне лицо и сказала:
— Я тоже за Лену болела. А ты тоже, как все мальчики, влюблен в неё?
— Да, как все мальчики, — вздохнул я обреченно и пристыжено.
— А ты говоришь, не как запорожец. Ты приезжий?
— Да, с севера, — кивнул я. — Издалека.
— Вика. — Она протянула мне ладошку.
— Андрей. — Я пожал руку девушки. От неё пахнуло дружеским теплом. Она была проста, общительна и, кажется, «всё понимала».
Мы дождались, пока выйдет из раздевалки Лена, поздравили чемпионку, при этом она с достоинством кивнула Вике и ревниво-одобрительно глянула на меня: я всё понимаю и тебя не осуждаю. Юра провожал сестру до дома, я же оказался в компании Вики, которая нравилась мне всё больше и больше. В следующие дни она меня сводила в парк «Дубовый гай», где мы плавали на лодке, смеялись до икоты в комнате смеха, разглядывая свои — то сплющенные, то вытянутые, то изогнутые — отражения. Потом сидели в кафе на берегу пруда и ели шарики ванильного и ягодного мороженого из алюминиевых вазочек. Вика читала свои стихи, которые мне нравились: они были такими же искренними и простыми, романтичными и светлыми. А напоследок мы прокатились на колесе обозрения, с самой высокой точки которого были видны и Днепр, и остров Хортица, и наш шестой поселок, и дымящиеся трубы заводов.
На следующий день она пригласила меня прокатиться на катере вокруг острова Хортица. Это было какое-то волшебство. В жару нам было прохладно от речного ветерка, там всё так здорово было видно: берега, меняющиеся от высоких скал до песчаных пляжей, Преображенский мост, Бабурка и правобережная часть города, плотина Днепрогэса, шлюз и острова нижнего бьефа. Но самое главное — высокое синее небо, чайки, прохладный ветер и эта простая, общительная и веселая девушка рядом. Пожалуй, она вылечила меня от болезни под названием «несчастная любовь» и вдохнула в меня желание жить и радоваться. Правда, через неделю Вика уехала в пионерлагерь на море, и мы увиделись только перед моим отъездом домой. Зато она еще долго писала мне замечательные письма, добрые, умные, веселые.
Однако, ряды моих новых друзей стали потихоньку редеть. Кто уезжал в пионерлагерь, кто к бабушке в село, а кто на море. Наш двор заметно опустел. Вот тут и появился у меня новый друг по имени Саша. В отличие от других, он не стал выяснять где лучше жить: в столице, провинции или заграницей. Саша сходу меня огорошил: «Мы живем не снаружи, а внутри самих себя, поэтому важно только то, что у нас вот тут» — и он ткнул пальцем в левую часть груди.
Саша не любил шумных компаний и, если соглашался на участие в играх или походах, то как-то нехотя, больше из вежливости. Этот парень никогда не злился, не скучал, был задумчив и очень необычно говорил. Чуть позже я узнал, что отец его работает «в органах».
Однажды, по уже сложившейся традиции, отец Саши предложил нам прокатиться на его «Москвиче». Мы доехали до самого Азовского моря, где удалось искупаться и даже принять участие в ловле рыбы сетью. Когда мы вытащили сеть на песчаный берег, старшие выбирали крупную добычу, а я выковыривал из бурых водорослей рыбу-иглу, морского конька, креветок — и очень радовался этим диковинкам. В каждом городе, который мы проезжали — Гуляйполе, Пологи, Мелитополь, Бердянск, — дядя Игорь заезжал в разные учреждения, а нам позволял прогуляться по городу. Потом мы снова ехали, и он обстоятельно рассказывал о местной истории, промышленности, национальном составе, климате. Спросил, видел ли я кинофильмы Тарковского? Пока не довелось, ответил я. Он пообещал показать дома собственную кинокопию, а потом сказал, что для выбора натуры фильма «Сталкер» приезжал в Запорожье сам Тарковский, и ему очень приглянулся ландшафт с отвалами шлаков на заводе «Запорожсталь» — натуральная запретная зона после космической катастрофы. Но что-то у него не заладилось, и он снимал в пригороде Таллина на окраине химзавода. А вообще-то у Тарковского большое будущее, он режиссер мирового уровня, закончил дядя Игорь.
Но самым интересным для меня оказалось заезжать в дома простых людей. Вот едем мы по степи, жарко, пыльно… И вдруг из-за холма вырастает село: белые домики, утопающие в густой сочной зелени, речка или пруд, гуси, поросята, индюки, куры, кошки, собаки. Дядя Игорь останавливается у любого дома, тут же выходит хозяйка и приглашает «пойисты тай спочиваты». Мы заходим в прохладный домик с домоткаными дорожками, огромной кроватью с горой подушек, лавками и табуретами, круглым столом посреди комнаты, и всюду — кружевные салфетки, полотенца, занавески, цветы, в углу — иконы под белыми рушныками с горящими лампадами. Хозяюшка «насыпает» борща в керамические миски, режет паляницу домашней выпечки на крупные куски, нарезает салат из огромных помидоров и душистых огурцов, на тарелочке — обязательное сало, иногда — вареники с капустой или картошкой, горчицу, цибулю, хрен, перец.
Случалось, мы ложились прикорнуть, а когда сразу вставали и ехали дальше. Почти всегда дядя Игорь предлагал деньги, но хозяюшки — почти все вдовые, потерявшие мужей на войне — отказывались, тогда он отвлекал старушку разговором и незаметно совал сложенные рубли под салфетку на комоде и быстро уходил, поторапливая нас. А я зачарованно смотрел на эти корявые узловатые руки и грубоватые морщинистые лица, загорелые почти дочерна. И эти глаза — усталые, добрые, выплакавшие море слёз, — они лишь изредка поднимались на собеседника — и сразу опускались вниз, стыдливо, по-девчоночьи смущенно… И эти «сыночки», «ласкаво просымо», «звыняйтэ, якщо нэ так», «до побачэння». И в каждом доме — застенчивая, гостеприимная, хлебосольная доброта, такой чистоты, такой небесной высоты!..
— Женщины, пережившие войну, — говорил дядя Игорь, — отличаются удивительной простотой и материнской любовью. Вот уйдут эти наши старушки… И как мы без них? Кто вот так просто откроет дверь, впустит в дом и накормит путника? Кто предложит «спочиваты»? Кто доброе слово скажет?..
А как дядя Игорь умел слушать этих простых людей, их незамысловатые рассказы о войне, о работе на заводах, в колхозах, о похоронках, о том, как одни женщины и хлеб растили, и дома латали, и «план робыли». Он задумчиво кивал, иногда переспрашивал, будто на всю жизнь запоминал, чтобы потом рассказывать эту настоящую историю простых людей, на которых вся жизнь в стране держится.
Может быть, от отца Саша воспринял такое уважительное отношение к слову. Например, задашь ему вопрос, он внимательно выслушает, потом несколько секунд помолчит, разглядывая твое лицо, и только потом открывает рот, чтобы обстоятельно ответить. Мне почему-то казалось, что такие погруженные в себя люди много читают, пишут — оказывается, нет! То есть, Саша, конечно, читал что-то и дневник вёл, но бессистемно и не всегда.
— Знаешь, мне неприятны вопросы, вроде, читал ли ты то или это. Большей частью, люди читают не для практической пользы, а чтобы потом сказать: да, знаю, там еще она отвергла его любовь, а он её долго добивался, пока она не снизошла к нему. Чушь! Мне кажется, достаточно десять хороших книг прочесть, двадцать настоящих фильмов посмотреть — и хватит, чтобы до конца жизни или подтверждать или отвергать те идеи, которые в них заложены. В книге «Лунный камень» Уилки Коллинза есть такой персонаж — управляющий Беттередж. Так он всю жизнь читал одну книгу — «Робинзон Крузо» и в ней находил ответы на все вопросы. Возьми Шерлока Холмса. Помнишь, Ватсон удивился, когда узнал, что тот не знает, что Земля круглая? Зато Холмс досконально знал всё, что ему необходимо из области криминалистики, и был гениальным сыщиком.
И дальше после недолгого молчания Саша сказал:
— Мы обязаны в первую очередь себя самих узнать. Что нам какие-то французы, немцы и американцы — нам с ними детей не крестить. А с собой, с собственной душой нам придется жить вечно.
Хорошо сказано. Или вот это: «Мы живем не снаружи, а внутри самих себя, поэтому важно только то, что у нас вот тут» — процитировал я слова Саши, ткнув себя пальцем в грудь. — И еще: «Не важно где, важно как!» Что тут скажешь на столь убийственный аргумент!
— Вот оно! — воскликнул Володя, хлопнув меня по колену. — В этом вся суть твоей поездки в Запорожье. Ради этого вывода ты и ездил туда: мы живем внутри себя! И еще — ради любви. Эти ребята, да и всё то, послевоенное поколение, еще не растеряли любовь.
— Да, да, — прошептал я, — пожалуй, ты прав. Я вот тут подумал, что Запорожье — это нечто за порогами, за преградой. Нечто, что преодолело препятствие, стало отправной точкой. Удивительно! Я доверяю тому детскому прошлому больше, чем настоящему; а себе-ребёнку, больше, чем себе-взрослому. Тогда я умел быть счастливым в нищете. Тогда мы все были одинаково бедны, но при этом жили очень интересно. А сейчас я только учусь этому. Пытаюсь вернуть себе утраченное.
Земляничные поляны
— Отведи меня в храм, — попросил я Володю на следующий день. — Хочу исповедаться. Мне уже пора.
Пылинка за пылинкой, капля грязи за каплей, грешок за грешком — накопилось мерзости в душе, хоть святых выноси! Будто тёмная туча сгустилась надо мной, вокруг и внутри — и скрылись Небеса. Говорят: «Вот здесь только что Господь прошел!» Бегу, трогаю следы Его, но нет, всё унесло ветром, тем самым испепеляющим ветром пустыни, от которого лишь песок да пыль и ничего живого. Вот здесь, в этом месте часто видят Господа нашего, бегу туда заплетающимися тяжелыми ногами, сижу, стою, жду — ничего. И в это место принёс я свою черную тучу с горячим ветром, и здесь для меня ничего живого, лишь пыль да песок. Куда бежать? Бессмысленно. Всюду со мной душа, а внутри — мерзость запустения.
Остановись и прижги ростки отчаяния хотя бы на время. На какое время? Оно словно замерло, как самоубийца перед падением в пропасть. На время твоего покаяния. Чтобы взять в руки карандаш и будто пинцетом вытащить из души занозы грехов и записать на бумаге, прикрепить их к хартии и бежать в храм, бежать, не оглядываясь, как от убийцы к стражу порядка: защити! И там, на позорной страшной исповеди безжалостно испепелить этих пришпиленных уродцев огнём благодати и выйти из храма очищенным, с возрожденной надеждой в сердце. И тогда вернутся и аромат следов, только что прошедшего здесь, в этом месте Спасителя и свет, оставшийся в пространстве от дозорного обхода владений Света светов, Света истины и надежды на прекрасное будущее.
На рассвете мы облились холодной водой и бодро зашагали по лесу. Володя тащил в руках два больших пакета. Он переложил в них половину содержимого холодильника.
— Надеюсь, ты не против поделиться с малоимущими? — спросил он, когда я застал его за этим занятием.
— Конечно, — кивнул я, — от недоедания мы с тобой точно не страдаем.
Мне досталось вслух по памяти читать утреннее правило. При этом не уставал любоваться стройным просторным лесом, голубым небом над нами. На разные голоса пели птицы, звенела мошкара. Тут и там выглядывали бурые шляпки грибов, будто посмеиваясь: врешь, не возьмёшь! Да уж, сейчас нам не до вас, ребятки, но вы не обольщайтесь, на обратном пути у вас шансов не будет. А вот это вообще нечто вызывающее! Вы только взгляните на это бесстыдство! Огромная поляна — и вся ярко-красная от земляники. Она тут просто ковром под ногами стелется, а сорвать и бросить в рот хоть пяток ягодок нельзя. А запах-то какой! Ну просто голова кружится! Томный густой железистый аромат проникал в ноздри и заполнял собой и легкие, и голову, и всего тебя от макушки до пяток; а полость рта — обильной слюной. Но и это искушение мы преодолели и вошли в сумеречный густой ельник. Тут дышалось легко и безопасно. Но вот за соснами, да березами высветило золото осиянного солнцем поля, и мы вышли из лесу.
Между поселком и лесом, на покатом холме, стоял небольшой храм. Мы вошли под его уютную сень — и сразу окунулись в атмосферу покоя и тишины. Кроме нас стояли всего-то с десяток бабушек, две сестрички лет от четырех до десяти и двое мужчин, один из которых был старостой, другой — алтарником. Я как-то быстро оказался рядом с аналоем, чуть ни в упор взглянул священнику в глаза и… осёкся. Батюшка смотрел так, будто знал меня с рождения, он видел во мне то, чего я и не подозревал. Ну, думаю, то что нужно, опять мне крупно повезло — и стал рассказывать о событиях последних месяцев. Как я и думал, священник мягко оборвал меня и сказал нечто очень важное:
— Ты задаешь вопросы, ответы на которые и так знаешь. Ну хорошо, для твоего утешения повторюсь. Да, существует опасность прелести. Да, враг непрестанно обольщает христиан всеми возможными способами, в том числе, видениями и снами. Но при этом из Библии не вычеркнешь пророчеств Авраама, Иакова, Лавана, Гедеона, Соломона и Даниила, Иосифа-обручника, апостола Петра — все они были во сне. Никто не вправе оспаривать Божии слова, сказанные пророку Иоилю: «Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоил. 2: 28).»
Рядом с нами уже минут пять стояла бабушка и трясла книжкой акафиста, привлекая к себе внимание и шепча на весь храм: «А меня благословили!» Батюшка смотрел на неё и, видимо, ожидал, когда же она сама догадается, что мешает и уйдет. Но нет, не догадалась, он прервался, взял из рук старушки книжку акафиста, благодарно кивнул и с улыбкой продолжил:
— Помнишь, как куратор ЦК по Союзу Писателей Поликарпов пожаловался Сталину, что его подопечные ведут себя нехорошо: пьют, романы заводят, лишнее болтают? Что ответил «отец всех народов»? А Сталин сказал: «Других писателей у меня нет». Примерно так у Спасителя и с нами, грешными: нет других! Ты думаешь, нынче молитвенников много? Нет. В лучшем случае, один-два процента от верующих. А сколько созерцателей, учитывая непрестанные окрики фарисеев: прелесть, прелесть! На порядок меньше, чем молитвенников. Вот такая арифметика…
— Но я не пустынник и даже не монах! — просипел я взволнованно. — Обычный мирянин, подверженный страстям. Я просто элементарно боюсь всех этих видений и снов.
— Вот и хорошо, что боишься, — протянул батюшка, почесав подбородок, — значит, не считаешь себя достойным. И об аскетическом сокрытии ты знаешь, и о путях прелести осведомлён. А слова ученика старца Силуана иеромонаха Софрония не забыл? Напомню. Аскетическое правило гласит: при встрече с духовным явлением «не принимать и не отвергать». Не принимая, мы ограждаем себя от обольщения. Не отвергая, избегаем божественное действие приписывать падшим ангелам. Причем, вторая опасность страшнее первой, потому что возникает привычка отвергать благодать и возненавидеть её. По сути это есть богопротивление и хула на Духа Святого, которые не прощаются не в сем веке, ни в будущем. Книга «Преподобный Силуан Афонский», глава «О познании воли Божией».
— Не дай Бог, — прошептал я со страхом. — И за что мне это?..
— А ни за что, — строго сказал священник. — Это дар Божий. Даром, понимаешь? Господь так пожелал, и не наше дело анализировать Его волю и подвергать сомнению. Так что идите с Володей вместе, и помогайте друг другу, раз уж Господь одарил вас.
После отпуста мы стояли на паперти. На щебеночную стоянку со стороны поселка приехал внедорожник «Лексус», из него выскочил мужчина в фривольной одежде.
— Мужики, где тут молебен можно заказать? — спросил он.
— Зайдите в храм и увидите справа прилавок. Там вам помогут, — объяснил Володя.
— А вы тут постоянно тусуетесь? — спросил мужчина. Он явно не очень-то спешил в храм.
— Да, мы прихожане этого храма, — невозмутимо ответил Володя.
В это время на паперти появилась ветхая старушка, которой помогала идти десятилетняя девочка, следом, держась за юбку старшей сестры, вприпрыжку бежала малышка. Володя отдал сумки бабушке и девочке.
— Простите, вам не трудно будет подвести бабушку с девочками до поселка.
— За сколько? — автоматически спросил автовладелец. Потом посмотрел на потенциальных пассажиров и вздохнул. — Ладно, довезу. Вот только молебен закажу. Жена просила. Слушайте, мужики, а можно с вами общнуться? Вопросы есть.
— Пожалуйста, — сказал Володя. — В любое время. Мы живем в лесу, в километре отсюда. Поезжайте по этой дороге, — махнул он рукой, — мимо нас не проедете.
— Так что ждите. Кстати, меня Вадимом зовут.
«Стремись к тому, чтобы расстояние между возмущением и успокоением было как можно короче. Страсть — это область зла, и нечего там делать христианину», — сказал на прощание священник во время отпуста.
О, если бы это было так просто, тогда Блаженный Августин в «Исповеди» не просил: «Избавь меня от страстей, но только не сейчас!» Если бы не эта сладость страсти, привлекающая нас, как огонь мотылька, как эйфория пьяницу, как дурной кайф наркомана, как наслаждение — развратника и обжору, как опьянение успехом и властью — честолюбца. Кажется, ну что лично мне все эти фальшивые стекляшки, когда нам, христианам, доступны бриллианты чистой воды. Только оказывается, подделки приобрести легче: фальшивый бриллиант стоит намного дешевле, махнуть стакан водки и сразу опьянеть гораздо легче, чем часами стоять на молитве, чем в тысячный раз отказываться от навязчивого соблазна. Конечно, и результат несравним и последствия не разрушительны, но как часто мы забываем прежние уроки, чтобы начать всё снова: соблазн — тяжкое похмелье — отчаяние — трудное восхождение из пропасти в гору.
Только нет у нас другого пути в Царство Небесное, только покаянием восходим в гору, только после горячих слёз раскаяния приходит великая радость спасения, когда в душе непрестанно звучат сладкой песней из детства, от земляничных полян, навсегда залитых солнцем и ароматом, когда в душе сияют радужными буквами — слова, желаннее которых нет ничего: «прощён!»
Конечно, мы вернулись в дом, запаслись корзинами, ведрами, чтобы вернуться на солнечные лесные поляны и собрать грибы с ягодой-земляникой. Грибы мы дома пожарили с картошкой и луком, а землянику — часть съели, часть сварили, а остальное оставили сушиться на столе под марлей, отчего вся изба буквально пропахла душистым земляничным ароматом.
После трапезы чуток отдохнули, а ближе к вечеру собрались прогуляться по лесу. Володя показал мне уединенное место, сокрытое от досужих взглядов. Он убеждал меня, что именно здесь когда-то стояла келья монаха-отшельника и даже назвал его имя: Спиридон. Это третье место, после храма и домашней келии, где он упражняется в Иисусовой молитве. А инок Спиридон по любви своей помогает ему. Мы, конечно, не упустили такой возможности, и вместе присели на травянистые холмики и стали перебирать четки. Уж не знаю, как у Володи, а мне на той поляне очень хорошо и молилось, и дышалось.
В ладонях пенилось земляничное мыло. Остро пахло детской несвободой, быть может потому, что этот сорт мыла всегда оказывался в рукомойниках детсадов, пионерлагерей, где детей закабаляют не меньше, чем взрослых в тюрьме. Этот пронзительный запах земляничного мыла в общих детских уборных перемешивался с запахом мочи и хлорки, с брызгами противной ледяной воды в грохочущую раковину с мутной водой и зелеными сгустками в ней, с матерной руганью малолетних хулиганов и мечтательными планами на завтра: футбол, костер, печеная картошка, бессонный «тихий час» с зубной пастой в ушах и в носу, воровство зеленых яблок из соседнего колхозного сада и традиционная драка с местными мальчишками.
Ладони механически перекатывали скользкий розовый брусок, взбивая белую пену. В ноздри проникал безжалостный запах, оседая где-то глубоко в груди прохладной тоской. А мысли уносились рекой времени, разливая во всем теле, душе, памяти — всюду, внутри и снаружи, чувство обреченности нашего земного путешествия. В груди клубились тоска по умирающему свету и мимолетному счастью, которое мы пережили — но и мудрое удовлетворение неминуемой конечности того мрачного и мерзкого, что так отравляет нашу жизнь.
В такие минуты прозрения прошлое представляется выпуклым, как шишка от удара дубинкой по лбу, без обычной ностальгической лакировки с непременным забвением всего подлого и страшного, что случилось с нами. Нет, в такие минуты истина вторгается в твои воспоминания жестокой правдой о твоих преступлениях, чтобы следом накатила волна горячего раскаяния, успокоившись в послештормовой тишине покоя, где остаётся лишь безбрежная тишина благодарности — высшего состояния человеческой души.
Каждый раз, когда судьба отрывала меня от обжитого комфорта и переносила в дебри неизвестности, когда терял друзей и родичей и попадал в общество чужих людей, когда на новом месте погружался в пучину одиночества — тогда заползали в душу и страх, и жалость к себе, и ропот, но именно в такие дни душа росла и крепла, да в боли, в тесноте и безлюдье — мужала и готовилась к подвигу, к чему-то большему, что не может произойти в комфортном состоянии. Должно быть ангел-хранитель выдергивал меня из трясины и поднимал на более высокую орбиту. И только приходило привыкание к новым условиям, появлялись новые друзья, свежие идеи, неизведанный вкус жизни — вот тут и наступал «момент истины», обычно под утро, на рассвете нового дня — и сердце наполнялось нечаянным счастьем и благодарностью моему таинственному, незримому путеводителю, который конечно же гораздо лучше меня знал, где, как и с кем лучше мне жить и почему.
Давно уже завершен вечерний туалет, я лежу на левом боку лицом к стене и, рассматривая аляповатый рисунок на коврике, Бог весть каким образом созерцаю величественную картину тишайшего океана абсолютного покоя, в зеркальной глади которого отражаются мириады звезд и большая круглая луна. Уже погружаясь в уютный омут сна, затухающим сознанием отмечаю про себя до сих пор витающий в избе аромат земляники и еще нечто: в центре сердца затихают завершающие слова благодарственной молитвы.
Если ты умный, почему бедный?
— Именно поэтому, — ответил Володя.
— А поконкретней, — предложил я.
— Именно потому, что не только слушаю, но и слышу, — и показал пальцем на окошко.
— И что ты слышишь?
— Шум двигателя «Лексус» и шорох протекторов по щебеночному полотну.
Только что он встал, зажег старинный примус и высказал предположение, что к нам едет давешний знакомец Вадим. Я ничего не понял и задал первый вопрос, который возник в моей голове, занятой анализом последних событий. Вопрос: «Почему ты так думаешь?» Честно сказать, мне было весьма комфортно с Володей, накопилась тьма вопросов, и гости лично мне представлялись помехой. Но мой друг, который и сам очень ценил тишину, проявил вдруг энтузиазм и, как мне показалось, ожидал от гостя чего-то необычного.
Прежде чем войти в дом, Вадим с ироничной улыбкой обошел его вокруг. Когда он постучал и появился в горнице, на примусе во всю шкворчала жареная картошка с грибами. Гость, не снимая ироничной маски с гладкого лица, рассмотрел примус, поскрипел половицей и осторожно присел на табурет.
— Вас устраивает то, как вы живете?
— Конечно, — сказали мы хором.
— Вроде трезвые мужики, а живете в такой нищете.
— Обедать с нами будешь? — спросил Володя, раскладывая по тарелкам жаркое, салат из огурцов с помидорами и соленые грузди.
— Давай, — кивнул тот. — Пахнет аппетитно.
— А с чего ты взял, что мы живем в нищете? — спросил я.
— Вижу.
— Я, например, вижу, что ты сейчас одет в такую же примерно одежду из хлопка, как и мы. С аппетитом ешь то же, что и мы. Над нами не капает, ветер не продувает. Тебе что, плохо сейчас?
— Да нет, хорошо, — сказал Вадим. — Хоть насчет одежды я бы, конечно, поспорил. Разные марки, разные цены.
— Ну это ты барби своим рассказывай. Мужчинам это как-то до лампочки. Но мы не видим другого — того, что у тебя на счетах в банке.
— Это точно, — расцвел гость. — Думаю, в этом мы с вами не ровня.
— С радостью соглашусь, — сказал Володя. — Под какой процент кладешь деньги? Двадцать? Пятьдесят? Сто?
— Ну, если на круг, вместе с прибылью от бизнеса, то все сто пятьдесят, — важно пробасил богатый гость.
— Вот! — сказал Володя. — Продешевил ты, брат. Надули тебя, как матёрые жулики — наивного первоклашку.
— Че-е-его-о-о? — протянул Вадим с издёвкой. — Чтобы меня надули? Ха!
— Скажи, сколько ты потерял на дефолтах, черных вторниках и деноминации?
— Ну да, — с печалью на глазу согласился Вадим, — ну потерял. Процентов семьдесят.
— А наши с Андреем активы находятся в таком месте, где проценты исчисляются в тысячах, и никто никогда ничего не теряет.
— Это где такой банк? — загорелся бизнесмен.
— В Царствии Небесном.
— Шутишь?..
— Наоборот. Предельно серьёзен. Вот вчера мы с Андреем дали милостыню в церковную казну и бедствующим прихожанкам. Для иного человека это может послужить путевкой в рай, где ему обеспечены и прекрасное жилье, и пропитание, и блаженство. Мы с моим другом, — он кивнул в мою сторону, — строим на Небесах такой дворец, что если бы ты увидел его, всё бы отдал за махонькую комнатку в нём. Всё!
— Да брось ты, — махнул рукой Вадим. — Кто его видел? Сказки всё это для наивных простаков.
— Кто видел? Да вот мы с ним и видели. Но это другая тема, о которой с тобой говорить рановато.
— Это почему? — обиделся спорщик. — Что же я дурней вас?
— Да нет, скорей всего во многом умней и энергичней. Только на пути в рай есть множество ступеней, и их надо преодолевать постепенно. Первая ступень — это вера.
— Но я верю! Был же я в церкви вместе с вами.
— Был. Но ты заскочил, заказал молебен и выскочил. А там, в храме Божием, люди готовятся к переходу в рай. А для этого надо пройти несколько ступеней и при этом победить в войне. Потому что тот господин, который взял тебя в плен и до поры до времени подбрасывает тебе объедки со своего стола, он очень не любит отпускать пленников на свободу. Как только ты начнешь делать первые шаги к побегу, он таких бандитов на тебя натравит, что мало не покажется. А самое страшное, ты их даже увидеть не сможешь. Они — духи бесплотные.
— Ой, бросьте вы, — опять махнул он рукой.
— А говоришь «верю»! — улыбнулся Володя. — Ты веришь, что если купишь товар, продашь, то получишь миллион?
— Да. Верю. Потому что много раз делал это.
— А представь, тебе сказали: есть товар и покупатель на миллион! А ты говоришь: верю, и ничего делать не станешь. Просто веришь и всё. Заработаешь ты этот миллион?
— Нет, конечно. Надо побегать, попотеть…
— Так и в любом деле. Если веришь в Бога, значит, должен что-то делать, чтобы добиться Его расположения. Нужно узнать Его волю, раскаяться в грехах, молить о помощи, получать эту помощь в Церкви — и только тогда получишь необходимое — рай после смерти. Ты хоть раз исповедовался в церкви?
— Нет. А зачем? Я не считаю себя таким уж грешником. Живу как все.
— Людей убивал?
— Ну было, конечно. Так кто не убивал в девяностые?
— С женой в церкви венчался?
— Нет. Жена просила, а мне всё как-то недосуг.
— Десятую часть от прибыли в храм отдавал?
— Да ваши попы и так на «мерседесах» и «ауди» ездят. Хватит им!
— Я знаю не меньше пятидесяти священников, и никто из них не ездит на дорогих иномарках. И где вы таких находите? В «Московском комсомольце» что ли? Ну вот наш батюшка из того храма, где мы встретились, — на чем он ездит?
— Тоже, поди, на «мерсе»!
— На старенькой «ниве», а живет в обычной избе, а детей у него пятеро. Но не в батюшках дело! Если ты Господу Богу не отдашь хотя бы часть того, что Он тебе дал, то ты неблагодарный раб, которого бьют. Ведь Богу эта десятина не нужна. Она тебе нужна!
— Да я как-то обходился до сих пор, — саркастически хмыхнул Вадим.
— Ну так до сих пор ты жил, как самоубийца. А раз пришел к нам, значит, пришло время менять жизнь. Ты пойми, Вадим, если не дай Бог, ты в таком состоянии умрешь — это геенна огненная! И когда ты будешь извиваться в страшных мучениях в огне, ты каждый день своей безбожной жизни проклинать будешь. Да только поздно будет. Там — исправить ничего нельзя, только здесь, на земле.
— Да с чего ты взял, что я буду гореть в геенне? Что вы всё народ пугаете?
— Пугают малышей бабаем, а мы предупреждаем. Предупреждён, значит наполовину спасён. Сделал смертный грех — геенна! Всё просто. А ты убийца, блудник, сребролюбец — мало тебе? Впрочем, Бог дал тебе свободу, и ты можешь сказать, как герои триллеров: до встречи в аду, у меня там будет хорошая компания! Голливуд выполняет некий инфернальный заказ, они там зрителей готовят к падению в бездну. Их рогатый хозяин хорошо оплачивает услуги своим рабам.
— И что вы мне предлагаете? — по-прежнему иронично спросил Вадим.
— Пойти в церковь к батюшке и сказать: не хочу в ад, хочу в рай. Что мне делать? Он скажет, а ты делай. Всё. Ты же водитель. Знаешь, что такое колея в бездорожье. Вот по этой колее миллионы людей в рай попали. Ну и ты давай!
— А что, без вашей церкви туда попасть нельзя?
— Ну, во-первых, Церковь не наша только, а вселенская. Бог воплотился на земле, чтобы создать Церковь. А во-вторых, не зря же церкви строят по типу кораблей. Помнишь, был в истории человечества всемирный потоп? Ной по повелению Бога построил корабль под названием Ноев Ковчег. Кто вошел в этот корабль, тот остался жив, а остальные погибли в потопе. Так что всё в этой жизни очень просто: или ты в Церковном ковчеге и спасаешь свою душу — или гибнешь вне Церкви в волнах всемирного потопа. А то, что народ гибнет миллионами — это и доказывать не нужно, просто оглянись, и увидишь горы трупов.
— И вы предлагаете мне переселиться в такую халупу и прозябать в нищете?
— Нет, рановато для тебя. Для этого нужно много ступеней преодолеть. Живи как живешь, только начни ходить в храм и выполняй, что скажет батюшка. А там, Бог даст, и сам созреешь до «халупы» и вольной нищеты. Но для этого нужно сделать переоценку ценностей. Потребности вечной души поставить на первый план, а смертного тела — в самый конец. А лучше вообще свести их к минимуму.
— Значит это всё, — Вадим обвел руками интерьер горницы, — принципиальное? Тогда если вы такие умные, скажите, что я сделал неправильно, когда убил свою первую жену. Пока мы жили как все советские люди, она меня любила. Потом пришла перестройка, мой Научно-исследовательский институт прикрыли, и я вынужден был открыть свой кооператив. Появились деньги. Она почувствовала, какой это кайф покупать красивые вещи, ездить заграницу, кататься в хорошей машине. И у жены будто крышу сорвало: требовала деньги постоянно, а когда я отказывал, она писала на меня в прокуратуру заявления одно за другим. Помните, спектакль «Энергичные люди»? Я его смотрел дважды. Там есть такой момент. Бизнесмен со страшного похмелья узнает, что жена написала телегу в прокуратуру. Он звонит друзьям-подельникам и предлагает уговорить её не относить заявку в органы. Давайте, говорит, на колени перед ней станем и попросим прощения. Так вот в восьмидесятых в этом месте стояла гробовая тишина. А в девяностых — гомерический смех. Почему? А потому что такого рода проблемы стали решать просто и эффективно — заказываешь, платишь деньги и — нет человека. А нет человека — нет и проблемы, как учил великий Сталин. А уж он-то знал суть вопроса. Так, что я сделал, когда узнал о заявлении в прокуратуру? Правильно! Заплатил прокурору и тому суровому бойцу невидимого фронта, который убирает проблемы в комплекте с проблемными людьми. Итак, что я сделал неправильно?
— Ты нарушил заповедь Божию «Не убий». Знаешь, можно купить прокурора, можно обойти закон уголовный, но от кары Божией никому еще уйти не удавалось. Или здесь на земле ты раскаиваешься в Церкви, несешь скорби с болезнями, или после смерти на Суде Божием получаешь путёвку в геенну огненную. Так что, сам решай: с Богом в рай или с гордостью в преисподнюю.
— Ладно, хорошо, — закивал Вадим, — считайте, уговорили, речистые. Только всё никак не пойму, почему нищета — это хорошо? Мне приходилось общаться с немцами, итальянцами и французами — все христиане. Они говорят: «Если ты такой умный, почему такой бедный?» Они считают бедность — наказанием Божиим за лень и пьянство.
— А почему Иисус Христос был нищим и бездомным? Разве не мог Он — Бог всемогущий — воплотиться на земле богатым царем с огромной свитой? Разве не мог Он жить в роскошном дворце? Да разве Он не мог, наконец, немедленно наказать тех, кто Его схватил в Гефсиманском саду, тех, кто плевал Ему в лицо, бил его палкой по голове, избил бичами до полусмерти, распял на кресте? Мог! Да Бог вселенную одним повелением Своим может уничтожить так, что и пылинки не останется. Но Сын Божий и сам Бог-Слово явился нищим и смиренным. Именно смирением Он победил врага человеческого. Именно, смиренно приняв все мучения на кресте, Он искупил грехи всего человечества. Благодаря чему у людей появилась возможность после смерти не в адскую бездну падать, а в рай восходить. А нищета — это лучший способ смирения. Богатство подобно камню на шее тянет душу человеческую на дно, а нищета даёт невыразимую легкость! Не зря же Спаситель сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное» (Мф. 19: 23). Был такой учитель Церкви — Иоанн Златоуст, он жил в богатой Антиохии в то время, когда Православие было государственной религией. Так он о сребролюбии написал самые страшные слова, потому что видел вокруг себя расцвет этого смертного греха. Святитель Иоанн называл сребролюбие началом всех зол, грехом Иуды. Сребролюбцев называл самоубийцами, безумцами, завистниками, идолослужителями.
Володя встал, прошелся по горнице, взял с полки книгу Иоанна Златоуста и отдал Вадиму:
— Почитай. А теперь вернемся к пословице католиков и протестантов, которых христианами можно называть с очень большой осторожностью. А лучше вообще не стоит. Я где-то читал, что эти — прости Господи — братья во Христе огнем и мечом уничтожили больше православных, чем Наполеон, Гитлер, Сталин и Чингисхан вместе взятые. И сейчас они спят и видят, как бы им нас со света белого изжить. Но это так, к слову. В Библии есть такие слова: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога»» (Пс.52,2). То есть, иными словами, если человек не верит в Бога, он безумец, разум его смертельно болен. И если Господь сказал: «Нельзя служить Богу и маммоне» (Мф. 6: 24), а ты продолжаешь грешить сребролюбием, значит в Бога ты не веришь, значит ты — безумен. Так что пословица предателей Христа и служителей маммоны — ложь. А как известно, отец лжи — сатана. Отсюда единственно правильный ответ на вопрос «Если ты такой умный, почему такой бедный?» звучит так: «Именно потому что умный!» Потому что верю в Бога и Его словам. По этой причине имею разум и исполняю заветы Бога, один из которых: раздай своё имение нищим и следуй за Мной. Что сделал тот богач, который услышал эти слова Иисуса? Он сбежал. Тогда Господь и сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому попасть в Царствие Небесное.
— Снова уговорил, речистый! — восхищенно пробасил Вадим. Но тут по его лицу пробежала усмешка. — Только, мужики, зуб даю: если вам сейчас на этот стол положить миллион долларов, вы ведь не откажетесь?
— Откажемся, — кивнули мы одновременно. — Уже отказались.
Мне вспомнился клад, что лежал в подвале, под скрипучими половицами — и я улыбнулся. Так же таинственно улыбался Володя, и несколько обескуражено — Вадим.
ЧАСТЬ 4
Среди ночи глубокой, среди тьмы беспросветной
С изумленьем и страхом я Христа созерцаю.
Симеон Новый Богослов, «Гимны»
Le roi est mort! Vive le roi!
День тот спозаранку был отмечен необычным золотистым светом, исходившим от небесного свода. Облака словно растворили в себе лучи невидимого солнца и рассеивали солнечное сияние равномерно и безмятежно.
В тот день я непрестанно думал об Игоре, перебирал в памяти его слова, те события, которые нам пришлось пережить. С тех пор, как он женился, наши встречи почти сошли на нет. Я чувствовал, что мне не хватает Игоря, но вмешиваться в их семейную жизнь не мог себе позволить, поэтому слегка грустил о тех днях, когда мы часами общались. По сути, он открыл мне двери в новую жизнь, где самое главное не материя, а дух; где на смену опустошающей суете приходит истинная полнота жизни с Богом.
При наших кратких встречах в последние месяцы я задавал ему кучу вопросов, которые специально копил, чтобы получить от него столь важные для меня ответы. Игорь что-то говорил мне, но больше молчал. Иногда мне казалось, что ответы его были невпопад… Но вот проходило время, и я понимал, что вопросы будто сами собой разрешились: то из одного, то из другого источника я получал исчерпывающую информацию. И только потом понимал, что кроме непосредственного общения Игорь продолжает со мной общение на молитвенном плане — духовное. Вот и тогда он словно услышал мою просьбу: приди!
Вошел Игорь как-то странно беззвучно, будто не телом, а лишь бесплотной душой и, коснувшись пальцами моей закрытой тетради на столе, рассказал о ночном созерцании. Голос его был особенно тихим, он почти не двигался, сознание его будто вернулось в ушедшую ночь и растворилось там, оставив мне для материальных ощущений телесную оболочку, через которую сообщалось нечто важное. А потом Игорь сказал: «У Исаака Сирина есть такие слова: «Бог не даёт великого дарования без великих искушений». Помни это, когда они придут к тебе, и не отчаивайся». Он еще молча постоял, потом внимательно рассмотрел с ног до головы, обнял меня, поклонился до земли и так же беззвучно вышел, тихо прикрыв за собой дверь.
А я сел за стол и открыл тетрадь, чтобы как можно точней записать его рассказ.
«И сказал Созерцатель ученику своему: прошлой ночью после покаянной молитвы открылся мне Ангел и ослепил ярким светом. Рядом с его блистающей светлостью увидел я себя грязным и уязвленным мириадами черных стрел грехов моих. И тело, и душа мои истекали смердящим гноем, и не находил я в себе ни одного чистого и здорового места, но весь был мрачен и как прокаженный.
В страхе поднял я глаза свои на ослепительный лик вестника Божиего. О, сколько сострадания прочел я во взоре его! О, как рыдал он и содрогалось окрылённое тело его! Будто Марфа и Мария над телом брата своего Лазаря рыдал Ангел над моей погибшей душой. Ангельские слёзы пролились живительной росой на струпья души моей, на горящее от стыда сердце моё, потому и не умер я, но остался живым.
И сказал мне Ангел: вот, покрою тебя крылами своими, и ты войдешь под сень любви Господней. Осиял меня великий свет, и стал я подобен воску, мягким и податливым в руках Сотворившего меня. Сердце моё наполнилось любовью такой, которой не вмещало доселе. И возлюбил я всякую тварь, будто навечно соединился с ней и плотью, и душой. В тот счастливый миг не стало у меня врагов и неприятелей, но все родные и возлюбленные. Взору моему открылся бескрайний мир, и увидел я море огненной любви, затопляющей и людей, и животных, и птиц небесных, и всякое насекомое, и каждый камешек, и каждую малую песчинку — всё это поглощал огонь Божией любви, и ничего не оставалось вне её животворящих струй.
В океане света любви той чудной увидел я глаза Господа моего и руки Его, а сам Он остался невидимым, как бы сокрытым облаком обширным. От глаз Его исходила милость и сострадание к моему уродству, а руки Его простирались ко мне. И раздался голос — не как гром небесный, а будто колыбельная матери над младенцем. И услышал я слова чудные: «Приди ко Мне, сын возлюбленный. Очищу тебя так, что одежда твоя станет как снег. И войдешь ты в чертоги блаженства и разделишь с возлюбленными Моими радость спасения. Готовься. Скоро, скоро уже!»
И растаял свет. Вернулся в тело своё, поверженное ниц перед святыми образами, и услышал предрассветное пение птиц и прохладу на коже своей. Поднялся, дошел до кровати и уснул без сновидений. Проснулся через полтора часа и почувствовал бодрость в уме и в теле. Стал на утреннюю молитву и излил радость из сердца в слова благодарения».
Долго звонил и стучал я в дверь. Наконец, своим ключом открыл замок и вошел в дом Игоря. В гостиной в придвинутых друг к другу креслах сидели он и она, взявшись за руки. Полузакрытые глаза смотрели в окно, в бесконечную даль. На лицах застыло таинственное выражение — такое изредка фиксирует фотоаппарат: человек или начинает улыбаться, или заканчивает, возвращаясь к серьёзному состоянию. Улыбка едва заметна, продолжает тлеть затухающим угольком в уголках губ и глаз.
В этой крошечной точке огромной вселенной поток времени остановил своё журчание и разлился в безбрежное море вечного покоя. Эта непривычная тишина окутала меня, заполнила, мягкой настойчивой рукой усадила на стул и держала за плечи в неподвижном созерцании двух человеческих лиц, на которых лежал золотистый отсвет заката. Души этих людей выпростались из тесного кокона тела, расправили крылья, взлетели и понеслись прощаться с близкими, теми, кто их любил и теми, кого любили они сами.
Я чувствовал их легкие дружеские касания, словно теплый ветерок скользил по лбу и щекам. Глубиной сердца слышал слова утешения и тепло их любви, которое изливалось из центра груди и затопляло меня всего без остатка. Пожалуй, впервые в жизни рядом с умершими людьми ни тоска, ни печаль, ни чувство утраты не давили на меня свинцовой тяжестью. Здесь, в этой тихой комнате, меня осенило счастье таинственного радостного покоя, которое наступает после завершения трудного пути, когда ты после теплой ванны и вкусного обеда сидишь, завернувшись в махровый халат, с тонкой фарфоровой чашкой зеленого чая в руке и просто безумно радуешься окончанию удачного дня и предчувствуешь скорое погружение в чистую постель, пахнущую горной свежестью.
Вдруг из открытой форточки пахнуло прохладным ветерком, будто невидимая рука смахнула что-то с комода. Нечто прозрачное, как крылышко большой тропической бабочки слетело, превратившись в пластиковую обложку диска «Le roi est mort! Vive le roi»[2] группы «Enigma» и плавно упало прямо в мои ладони. Я положил его на колено, рассмотрел — поверх зачеркнутых французских слов фломастером надписано по-русски: «Созерцатель ушел. Да здравствует Созерцатель!»
А вечером после похорон от поминального застолья отделился элегантный господин в темно-синем костюме, подошел ко мне и полушепотом сообщил, что согласно завещанию покойного эта квартира и всё, что в ней находится, переходит в мою собственность. Так я стал созерцателем.
Игорь с Лидией непрестанно готовились к этому переходу в вечность. Они в последние дни часто исповедовались и причащались, раздавали долги, написали завещание и у всех людей, с которыми общались, просили прощения и молитв. Каждый раз на поминальной молитве от прочтения их имен словно вспыхивали веселый огонек в моем сердце, проносился ласковый ароматный ветерок и на глаза накатывала прозрачная слеза. Этот миг мы проживали вместе, совсем рядом друг с другом, и обычный человеческий страх смерти улетучивался, оставляя в душе предчувствие скорой встречи с моим другом и его прекрасной подругой. Как, должно быть, красивы и светлы они там, в блаженных райских садах!
Но прошла сороковая ночь. Блеснула прощальным светом полуночная заупокойная молитва, когда я будто видел сияющего Христа, раскрывшего объятья Игорю и Лидии, услышал дивные слова: «Придите ко Мне возлюбленные Мои, войдите в блаженство вечное».
Проводил своих самых близких и… загрустил. Внезапно навалилось чувство одиночества. Я носил в себе это горькое чувство и днем и ночью, в пустой квартире и в толпе прохожих. Мне это не нравилось, умом я понимал, что тоска одиночества коренится где-то в области эгоистического саможаления. Понимал, но ничего поделать не мог. Обращался к священнику, он мне сочувствовал, просил изо всех сил хранить мир в душе, отпускал грехи, мне на несколько часов легчало, но потом все возвращалось. Ночами стоял на коленях, потом устало сидел в кресле и часами смотрел на лики Спасителя и Пресвятой Богородицы. Смотрел и молча умолял снять с души эту тяжесть, чувствуя, как колеблется моя вера, как покрывается льдом сердце, а я весь каменею, догораю, превращаясь в черную головешку.
И вот пришла минута, когда понимаешь: всё, край! Конец всему. Вот он — конец света в отдельно взятой душе. Вокруг мрак, внутри ужас, впереди только беда, болезни, смерть и, наконец, ад. Вокруг безумие. Кажется, окружающие потеряли всё хорошее: любовь, свет, разум, веру. Под окнами беснуется пьяная толпа и ревет матом. Соседи сверху долбят каблуками в твой потолок так, что две лампочки из трех в люстре погасли; соседи за стеной визжат арии, телевизор у них там мелодичным голоском красавицы-диктора сообщает о групповых смертях, наводнениях, пожарах, расстреле заложников, крушении банков, разгуле коррупции и преступности… Словом, кажется, что наступил всеобщий хаос.
И вдруг появляется в твоей жизни человек, и ты поднимаешь на него усталые глаза и видишь — да он сияет светом, добром, любовью, мудростью. Он спокоен в своем кристально-алмазном смирении. И расходятся тучи, и восходит солнце — и ты понимаешь, что впереди — счастье, блаженство. Надо только чуть-чуть потерпеть, оглянуться, найти и опереться на протянутую дружескую руку, благодарно улыбнуться ему, как ангелу, посланному Богом и идти, шагать дальше. Ведь ты знаешь куда и зачем, ты веришь, что там — блаженство.
Александровский сад
Позднее утро настигло меня у кремлевской стены на лавочке Александровского сада. И странно было бы, если бы столь мистическое время, как позднее утро, застало меня где-нибудь в иной точке мегаполиса, нежели пурпурные дебри Александровского сада. Где еще, скажите на милость, так же удобно можно заниматься такой насущной проблемой, как трепанация ментальных сфер? Или, выражаясь обыденно, где еще искать человека, как не в толще народных масс?..
Второй час я напряженно разглядывал победно-красную кирпичную стену, редкие березы с ёлками, ядовито-зеленый газон, тех, кто поселился на его травянистом лоне — и ожидал события. Будто растворился в этом сакральном действии — ожидании события. Молодежь раскованно лежала кверху ногами, дети ползали в поисках конфет, а между ними деловито прыгали обнаглевшие воробьи. Влекомая слепым звериным инстинктом, прижавшись пузом к траве, к воробьиной компании подкрадывалась жирная кошка. Серые чирикающие попрыгунчики беспечно игнорировали хищницу, а при её приближении легко вспархивали и перелетали на новое место. Кошка возмущенно садилась на шерстяную попу, обматывалась лохматым хвостом и, утопив малахольный подбородок в шейных складках, обиженно щурилась на непослушных птиц. Известно, что кошка считает себя хозяином в любой ситуации, она привычно дает указание подчиненным — грубым, туповатым, дурно пахнущим людям, птицам, собакам — и всегда смертельно оскорбляется, когда те игнорируют утонченное кошачье начальство.
По дорожке фланировали скучные блюстители порядка в поисках его нарушителей, но безуспешно. Резиновые палки в их мускулистых ладонях, казалось, набухли от досужего пота. По новой демократической инструкции им запрещалось с веселием гонять и педагогически наказывать нахалов, сминающих незаконными телами государственный газон, поэтому они предавались воспоминаниям из недавнего прошлого, когда это занятие было для них основным развлечением.
За всё утро только раз довелось им проявить служебное рвение и рявкнуть дуэтом на пятилетнего нарушителя, бросившего мимо урны обертку от мороженого. Мальчик от крика двух больших дядей опустил ручки, теребил пальчиками низ шортиков и удивленно смотрел снизу вверх на блюстителей. Они мощным утёсом возвышались над младенцем, а тот щурился против солнца и поднимать скомканную бумажку вовсе не торопился. Тогда они позвали родителей нарушителя, но никто не откликнулся. Наконец, проходившая мимо старушка со строгим лицом и вуалью на шляпке пристыдила их за то, что они кричали в общественном месте на ребенка, и по-учительски сурово повелела им самим поднять мусор и бросить в урну. Тем ничего не оставалось, как скрипя зубами подчиниться. Малыш убедился в том, что инцидент исчерпан и больше ничего смешного не будет. Он вскарабкался на джинсовые колени мамы, которая увлеченно рассказывала по сотовому телефону, как она загорала на черном вулканическом песке пляжа Тенерифе. Потом он как по горке сполз в узкую щель между маминым бедром и соседским, как буравчик, ввернулся тельцем в прогалину и деловито приступил к поиску очередной порции мороженого в сумке мамы, которая все еще пребывала мыслями на испанском острове Тенерифе, где температура круглый год 24 градуса и все до одного выше нуля.
Место на скамейке досталось мне с трудом. Прежде чем присесть и начать комфортное метафизическое сидение, мне пришлось не менее получаса ходить туда-сюда вдоль ряда скамеек, пока не случилась вакансия. Так же как и я прежде, мимо выжидающе прохаживалась рыжая девушка с могучими формами и посылала в мою сторону штатные знаки внимания. Следом шла тощенькая сутулая дамочка бальзаминовского возраста и занималась тем же, хотя всем было ясно: шансов получить место прежде могучей огненновласой конкурентки у неё практически не имелось. Рядом со мной на скамье полулежал мужчина в светло-сером костюме и, запрокинув голову, уютно посапывал. С другой стороны сидела старушка с газетой и грызла зеленое яблоко. Ну яблоко и газета старушки не вызвали движений моей души, а вот портфель у ног спящего мужчины возмутил в глубине памяти мощное уважение к этому культовому аксессуару.
О, сколько же может вместить в своё безразмерное чрево этот предмет багажа! Как сейчас помню: четыре учебника, шесть общих тетрадей с конспектами, плавки и шлепанцы (для бассейна ввиду сдачи норм ГТО), три бутылки пива для утренней свежести, бутылка портвейна для вечерней перспективы и не менее трех бутербродов с ливерной колбасой для дружеского ужина в компании ясноглазых однокашников. А тот, который стоял у ног мирно дремлющего господина, был к тому же выполнен из дивной выделки кожзаменителя под кожу аллигатора, да еще — мамочка моя! — с кокетливыми латунными уголками и — ой, я не могу! — технически-интеллигентной фиолетовой изолентой по ручке. Ну не портфель, а прям, скрипичный концерт Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Орманди! Из чувства неубывающего восторга на время здорового богатырского сна господина я решил взять на себя бремя охраны бесценного артефакта.
Внезапно старушка, докушав яблоко и хрустнув газетой, решительно поднялась. Не успела она сделать и шагу прочь от скамьи, как на освободившееся место откуда ни возьмись тяжело упала рыжая девушка и победоносно оглядела меня, спящего соседа и худую конкурентку. Видимо от шлепка мясистого тела о брусья скамьи, ветряного возмущения атмосферы и моей попытки чуть сдвинуться в сторону, чтобы не получить перелом берцовой кости, а, может просто потому, что выспался, господин в светло-сером костюме приподнял голову и огляделся.
— Доброе утро, — поприветствовал он соседей.
— И вам того же, — откликнулся я, оставив время и место для ответов следующих соседей, которых не последовало. Я с надеждой взглянул на рыжую соседку. Дева только вежливо тряхнула подбородком, шевельнула огненным пламенем в волосах, а от вербального символа приветствия ближнего воздержалась.
— Простите, нет ли у вас желания войти в порядошный дом и остаться там на пир души, — спросил он с гостеприимством в голосе. По всему видно, утренний сон приободрил человека, и он почувствовал силы, необходимые для того, чтобы сделать кого-нибудь счастливым, вот он и взялся за нас.
— Есть желание, — сказал я с готовностью, — если, конечно, в порядошный дом.
— А у вас, девушка с золотыми власами, оно еще не родилось?
— Видите ли, — замялась она, — мне очень дорого досталось это место и нелегко вот так просто его оставить, хотя, конечно, пир души в порядошном доме и мне интересен, как таковой.
— Давайте разберемся вместе, так сказать, на брудершафт, — предложил сосед, по-профессорски обхватив себя руками и выставив наружу упрямый подбородок. — Мы с моим уважаемым соседом не сомневаемся, что место занято вами вполне законно согласно вековой традиции добрососедской конкуренции мегаполиса. Но неужели бы я посмел предложить вам нечто худшее, чем то, на чём вы сидите и чем временно владеете?
— Не думаю, — сказала дева. — Во всяком случае, с первого взгляда вы производите впечатление человека разумного и адекватного.
— Вот видите, — сказал он, расплываясь добродушной улыбкой, празднуя победу логики над косностью недомыслия. — Значит, решительно встаём, и начинаем выдвижение вглубь дружеской территории.
— Встаём… — прошептала она, не двигаясь.
— Встаём! — рявкнули мы с соседом и поднялись. Наши места очень уж сразу заняли конкурирующие добрые соседи жестокого мегаполиса. Мы протянули каждый по руке деве, и она, вцепившись в них белыми пальцами в веснушках, с видимым сожалением и легким стоном покинула скамью неподсудных. Пока мы неуклонно продвигались в бурной толпе отдыхающих граждан в сторону черно-бронзовых ворот, девушка постоянно оглядывалась на утерянное место и грустно вздыхала.
— Разрешите представиться, — сказал бывший сосед и нынешний попутчик, чтобы отвлечь девушку от печальных мыслей о невосполнимой утрате. — Меня зовут Борис.
— Андрей, — откликнулся я, пожав ему руку.
— Марина, — сказала дева. Мы с Борисом совершенно не удивились такому имени, потому что не могли представить себе, как могла бы она жить с другим. Нет и нет, такая харизматическая дева могла носить это — и только это — звонкое, музыкальное, таинственное имя. Словом, нам ничего не оставалось, как одобрить имя девы, саму деву и жгучую внешность её. Предполагаю, Борис, как и я сам, был уверен в том, что девушку с такой походкой и внешностью необходимо иметь среди друзей, но никак не среди врагов. Такая амазонка с прямой спиной и взбитой шевелюрой без сомнений войдет в горящую квартиру, остановит взбесившегося владимирского тяжеловоза и одним ударом уложит того безумца, который бросится на её друга. Вот почему Марина так гармонично вошла в наш мужской коллектив и заняла там подобающее место.
Наш путь лежал сквозь бурный поток прохожих и строго параллельно потоку автомобилей. Борис из вежливости непрестанно говорил. Он рассказывал о сценической находке Виктюка, новой книге Орлова, премьере фильма Соловьева с дивной Танечкой Друбич, неспешной музыкальности группы «Браззавиль», линии ароматов «Новой зари», ценах на недвижимость по оси Москва — Токио — Нью-Йорк и меню аборигенов Полинезии. Мы с Мариной переглянулись, потому что человек в светло-сером костюме, летней шляпе и с дивным портфелем мог говорить на эти темы только в случае недоверия к своим слушателям. Борис заметил наше недоумение и тут же переключился на то, что его на самом деле волновало.
— Люди, вы же видите, хоть мы и проходим сквозь ваш устремленный в вечность поток, но мы отнюдь не остаемся индифферентными по отношению к вам, — заголосил он сверкая глазами. — Мой бедный народ, ты должен верить в то, что ты нам очень нужен и горячо нами любим. Именно поэтому иной раз то отчаяние, то печаль накрывает мою лысеющую главу, — он приподнял шляпу, приоткрыв сильные залысины на лбу, — из-за того, что мы с тобой живем как бы в параллельных мирах, а это неправильно!
Ну вот, говорило выражение наших с Мариной физиономий, человек вступил в сферу привычного аутомистического менталитета. Теперь никто уже не сможет сказать, что у Бориса проблемы с адекватностью или он неосмотрительно вступил в правящую партию. Наш человек, сияли наши глаза. Нашенский, до мозговых извилин лучевых костей, вопили сурово сомкнутые улыбающиеся уста. Борис почувствовал народное одобрение и продолжил:
— О, мой простой и неподкупный народ, сколько ночей не спал я в раздумьях о твоей сверхтонкой душе, о путях твоего мощного движения ввысь, о сакральной сущности твоей вселенской миссии! Миллионы крепчайших европейских и американских лбов разбились в щепки от невозможности понять и принять твою уникальность! Ибо невозможно рассчитать рассудком то, что познается только страдающей душой. И чтобы не случилось со мной, я всегда буду с тобой.
Наконец, мы оказались в Камергерском переулке, почтили молчанием безвременно закрытый МХТ имени неоправданно прославленного Чехова и вошли под богемные своды артистического кафе. Здесь, как всегда выставлялись полотна художников, в самом дальнем углу шумела компания театралов, употребляли бизнес-ланчи забитые и честолюбивые до слез менеджеры соседних бутиков. Мы же, пройдясь по уютным красно-белым залам с вкрадчиво-мягким светом, оценили гениальный мазок слабо-известных модернистов, заглянули в прохладный туалет, вышли наружу и присели за столик летней веранды. К нам подошла (подлетела, принеслась на крылышках, материализовалась из ванильного аромата швейцарского пирожного) официантка в белоснежной блузке с блокнотом в тонкой руке и профессионально изобразила на лице максимально возможную степень внимания.
— Андрей, — сказал Борис, снимая шляпу и слегка обмахиваясь ею, — если надумаете жениться, найдите себе девушку, которая умеет вот так слушать мужчину, не прогадаете. — Затем мудро улыбнулся и нежно сказал официантке: — Милая барышня, нам прямо сейчас кофе с ледяной водой три раза. И еще на вынос… — он открыл меню и стал зачитывать: — салат из спаржи и авокадо, салат «Цезарь», тигровые креветки на спагетти, крем-суп из рыбы и раков от Дольфа, фирменный морковный торт и бутылочку «Шато Кот Монпеза» 1982 года. Оплата «Визой». Всё.
— Ваш заказ будет готов через десять минут, — пропела девушка, ослепила напоследок блузкой, зубами и удалилась ну с таким изящным покачиванием всего тонкого существа, что в глазах долго еще скакали-покачивались яркие солнечные зайчики.
— Старик всё это очень уважает, — пояснил Борис и принялся рассеянно разглядывать прохожих, тем не менее не снимая руки с пульса событий.
— Старик? Это тот, к кому идем мы в гости? — спросила Марина, изучая чисто женским взглядом ярко-бордовый ридикюль дамы в алой тунике, вышедшей из банального красного «Мазератти» последней модели-люкс.
— Да. А вот и наш кофей, — потер ладони Борис, принимая крошечную чашку, принесенную девушкой в ослепительно белой униформе. — Пригубьте, друзья, этот чудный напиток, нам еще понадобится бодрость.
Слегка подкрепившись огненным крепчайшим абиссинским кофе и холодной горной водой с лаймом и льдом, с пакетами в руках, мы покинули воспетый писателем Орловым переулок, который с момента выхода его последнего бестселлера казался насквозь пропахшим солянкой, так же воспетой вышеупомянутым голодным профессором. Пройдя по широкой многолюдной Тверской, свернули в узкий и безлюдный Козицкий переулок и попали в неухоженный двор с собачей площадкой и задним двором театра Станиславского со складом и мастерскими. Вошли в прохладный полумрак подъезда и по лестнице с витыми перилами поднялись на третий этаж. Борис позвонил в покрытую лаком дубовую дверь. Раздались невнятные шаги, мягко щелкнул замок, и на пороге появился сутулый мужчина с седой бородкой в черных очках. Он распахнул дверь, вспыхнул мимолетной улыбкой, потом сурово поднял палец, буркнул «входите, я сейчас закончу» и зашаркал шлепанцами в комнаты. Оттуда раздался его скрипучий голос:
— А на прощанье послушайте «Песню Сольвейг» Грига.
Раздались печальные аккорды, и впервые в жизни услышал я исполнение девичьей песни скрипучим старческим голосом:
Ко мне ты вернешься, полюбишь ты меня,
Полюбишь ты меня.
От бед и несчастий тебя укрою я,
Тебя укрою я…
Ну что ж, по крайней мере, прозвучало это неординарно и даже забавно, подумал я. Хозяин вышел к нам в сопровождении худенькой девочки с мамой и всё бормотал:
— Вот так, примерно, ты должна играть и петь к концу текущего года.
Я представил себе, как это эфемерное создание с большими глазами и ножками-хворостинками будет под завывание декабрьской вьюги хриплым басом исполнять плач иностранной невесты и предпринял экстренные меры, чтобы не упасть на паркет в приступе гомерического хохота. Однако, мои спутники сохраняли на лицах невозмутимость, а учитель продолжил:
— Деточка, ты пойми, научиться играть на фортепиано без ежедневной тренировки невозможно. Пожалуйста, повтори дома сегодняшний урок. И левую ручку — помягче, погибче, чтобы как ветка у плакучей ивы. Понимаешь?
— Юрий Ильич, мы вам так благодарны, — шептала мать девочки, прижимая руки к впалой груди. — Вы не волнуйтесь, пожалуйста, мы всё-всё повторим. Обязательно.
Бедная девочка, что они делают с твоим безмятежным детством, подумал я. Когда дверь за музыкальной парой закрылась, старик обернулся к нам и развел руками:
— Простите, друзья, я тут бизнес делаю. Зарабатываю прибавку к пенсии. Проходите в гостиную, проходите.
О, эти старые дома с мебелью из мастерских Гамбса с резьбой по палисандру, красному дереву и ореху, обивкой из ситца под цвет обоев! О, этот мелодичный скрип наборного дубового паркета и неистребимый аромат восковой мастики! В таком доме хочется укрыться от наружных стихий и утонуть в нетленном уюте державной старины.
Мы знакомились и выставляли на стол коробочки с европейскими блюдами. Марина из буфета доставала мстерские серебряные приборы, дулёвский фарфор с бордовой глазурью и позолотой и мальцовские хрустальные фужеры и салатники. Хозяин поставил на граммофон шишамового дерева с бронзовой трубой толстую граммофонную пластинку с шаляпинской «Блохой». Раздался треск, шипение — и сквозь шорох времён, эпох и общественно-экономических фармаций до нас долетел сначала фортепианный аккорд, а следом — трубный голос из далекого прошлого: «Жил-был король, когда-то. При нём блоха жила. Милей родного брата она ему была, ха-ха-ха-ха-ха блоха…». В завершение композиции Юрий Ильич на две трети задернул муаровые шторы и зажег ядовито-алые ароматические свечи на бронзовом канделябре середины ХIХ века.
Марина попыталась было разложить блюда швейцарской кухни по тарелкам участников пиршества. Она даже величественно встала, что мы сразу оценили со всех точек обозрения. «Рубенс «Вирсавия», она же Бат Шева, она же Дочь Клятвы!» — произнес восхищенным полушепотом Борис. Потом девушка слегка согнулась и развела руки в локтях наподобие орлиных крыльев. Сколько же изящных ассоциаций рождалось в наших сердцах, почти сразу же испаряясь бесследно. И, наконец, старательно сжимая в белых с веснушками пальцах столовую ложку, потянулась к салатнику с овеянным легендами блюдом и… окаменела. Конечно, такую мощную и решительную девушку могло остановить только нечто необычное. И оно случилось. Хозяин вскочил, воздел руки к лепному потолку и вскричал:
— О, несчастный император, зарезанный подлым сенатором Брутом! Тебя и сейчас прежде чем поименовать «Цезарем» старательно режут наши брутальные современники-повара! Ты, наверное, переворачиваешься в склепе, когда очередной гурман изрезанное тело твоё кладет в свой бездонный рот и тщательно пережёвывает!
— Ничего себе, — только и смогла сказать Марина, глядя на салат с нескрываемой брезгливостью на белом веснушчатом лице. Должно быть, таким же образом смотрел Миклухо-Маклай на ужин каннибалов. — В таком случае, что мне ложить?
— Не ложить, а покласть, — иронично дёрнул щекой старик, в тяжких сомнениях оглядывая европейские блюда.
Я посмотрел на Бориса, который утверждал, что покупает именно то, что нравится хозяину порядошного дома. На его лице сохранялось крайнее почтение к старику и любопытство к поведению Марины, которая так и застыла в орлиной крылатости, ожидая дальнейших указаний.
— Знаешь, Мариночка, у меня от завтрака осталась овсяная каша. Мне её принесла соседка Тоня. Ждала в гости внуков, а они, подлецы, не приехали. Не пропадать же добру! Там одного геркулеса рублей на шестнадцать потрачено. Вот она, сердешная, в память о нашей школьной любви и принесла мне целую кастрюлю. Там на кухне, на подоконнике. Увидишь.
Марина молча направилась по указанному адресу. Раздалось громкое урчание живота. Мы переглянулись, как бы спрашивая: это у кого такое? Никто не сознался, и мы вежливо опустили глаза. Наконец, вернулась Марина с трехлитровой темно-синей кастрюлей и обошла наши тарелки, раскладывая мутную слякоть с прогорклым изюмом. Молча ели кашу, как и подобает людям, чье детство прошло под лозунгом «Когда я ем, я глух и нем». Молча протянули тарелки для добавки и так же молча вторично протянули их для мытья. Самым тяжелым для нас оказалось не смотреть на артистические кулинарные изыски, которые бесстыдно возбуждали органы чувств красочным сиянием и головокружительными ароматами.
Когда мы слегка утолили голод животный, наступила вполне естественная потребность заняться утолением голода взыскующей души. А какой еще может быть душа, если не взыскующей, тонкой и бессмертной. С этой целью мы почти не сговариваясь отвернулись от стола и принялись нагнетать внутри себя ментальное напряжение. Первому удалось достичь необходимого уровня Юрию Ильичу, он подскочил к давно умолкшему граммофону, что-то там переключил, поставил более тонкий диск и, перевернув адаптер, ткнул в невидимую глазу кнопку. Мы вздрогнули. Со всех четырех сторон по нашим ушам грохнули мощные басы, потом взвыла соло-гитара и знакомый голос запел «Июльское утро» группы «Юрайа Хипп». Старик вмиг преобразился и стал похожим на седоватых рокеров, у которых берут интервью, а они величественно рассказывают, как их травили органы и как они ненавидят попсу, потому что она прогибается, а они никогда и ни за что. Он даже закатил глаза и изобразил руками, будто играет на электрогитаре длинное соло.
— Это мне один умелец «прокачал» граммофон, — прокричал он. — Теперь он еще и квадрофонию на виниле способен выдавать! Следующий апгрейд позволит крутить си-ди и эм-пэ-три.
— Простите, а нельзя ли чуть потише! — взмолилась Марина, воткнувшая указательные пальцы в уши.
— Ну что за нежная молодежь пошла, — вздохнул Юрий Ильич, чуть убавив звук. — Милая барышня, рок-музыку предписывается слушать на максимальной громкости.
— Скажите, пожалуйста, — спросил я. — Этот антиквариат вам достался по наследству?
— Как же, дождешься от них, — проворчал старик. — Вы что, Андрей, историю нашу не изучали? Ничего про обыски с изъятием ценностей не слышали? Мне от моих родителей досталась развалюха с кучей хлама, типа «подайте на пропитание» или «трагедия в стиле суицидальный инсайт». А это я уж сам за многие годы стяжал. Вернул, так сказать, дому облик, достойный ирреальной амбивалентности.
Борис встал, поднял палец и приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но его опередил Юрий Ильич:
— А давайте поговорим о бренности бытия, — сказал он таким радостным тоном, как первоклассник предлагает сходить в театральный буфет за пирожным.
— Надо же какое совпадение, — сказал Борис, — именно это я и хотел предложить.
— И я, — смутилась Марина. — Мне тоже так захотелось… — И рискованно бросила взгляд в сторону актерских блюд.
— По-моему, это очень достойная тема, — согласился я, не глядя на обеденный стол.
— Вот, вот! — кивнул старик кустистыми бровями, всё понимая и почти всё предчувствуя. — Когда бытие открывается нам с точки зрения бренности, жизнь обретает такую немыслимую цену, что прожить её…
— …Нужно так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы, — продолжила Марина. — Чтобы не жег голод от еды, стоящей на столе, — проговорилась она, испуганно втянув рыжую голову в белые плечи.
Мы вежливо пропустили последние слова мимо ушей.
— Да, — протянул Борис, — когда прожитые годы приносят горечь утрат, а твоя жизнь неуклонно подходит к концу… Да что там, наш всеобщий прародитель Ной прожил 950 лет и под конец сокрушался, что жизнь пролетела как одно мгновение и рыдал от бренности бытия. Вот и мы, которые живем всего-то 70-80 лет сокрушаемся и рыдаем, и рыдаем…
— Да вы что, Борис! — возмутилась Марина. — Вам еще жить да жить.
— А давно ли вы, милая барышня, ходили по кладбищу? — спросил Борис. — По всему видно, давно. Так вот, свежие захоронения принадлежат двадцати- и пятидесятилетним усопшим. У первых — наркотики, аварии, убийства, а у вторых — инфаркт, инсульт, цирроз, сердечная недостаточность. Так что мы с вами входим в смертельно опасную группу риска. А поэтому и тема бренности бытия имеет для нас особую фатальную остроту.
— А вы знаете, господа, — вставил я слово, — меня мысли о конце всегда повергали в необузданный гедонизм. Помнится, после очередных похорон я бросался во все тяжкие, упиваясь радостями жизни. Это раньше. А сейчас мне спокойно.
— Прошла молодость, вы, Андрей, набили синяков и шишек, и умудрели умом, — поставил диагноз старик.
— Юрий Ильич, а вы что, во всех этих странах успели побывать? — воскликнула Марина, добравшись до стеллажа с фотоальбомами, путеводителями и сувенирами.
— Только в трех странах, если точно. А потом решил сэкономить и вместо поездок покупать книжки. — Старик откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. — Вот смотрите. Зачем, спрашивается, человек едет заграницу?
— Ну как, впечатления, приключения, фотографии… — промямлила Марина.
— Впечатления там строго дозированы, приключения пресекаются гидами и полицией. Нужно вам узнать о какой-нибудь стране, лучше зайдите в интернет, полистайте проспекты, рассмотрите фотографии, сделанные профессионалами. Еще неплохо посмотреть фильмы этой страны. Вот и всё! Поверьте, впечатлений и знаний у вас будет не меньше, чем у туриста, который только что вернулся оттуда. Если не больше. У него в голове каша, а у вас система. Согласно статистике, 80% туристов ездит по свету только для того, чтобы потом рассказывать о поездке друзьям. Ну и вы рассказывайте, если хочется. Накачайте снимков из интернета, на фотошопе вставьте свои изображения — и вперед! Зато какая экономия денег, времени и здоровья! Ведь двухнедельная поездка в другую страну — это страшный стресс для всего организма, включая кошелёк и, простите, психику!
— Ну нет, — капризно протянула Марина, — тут я с вами не согласна.
— Тогда самое время вернуться к поднятой выше теме. Что нам сказал австрийский психолог Альфред Лэнгле? А вот что: «Бренность бытия ставит нас перед вопросом смысла нашей экзистенции: я есть — ради чего?» Если мы живем только ради удовольствий — пожалуйста, убивайте себя дальше, никто вам не воспрепятствует. А если сия «экзистенция» — смысл жизни — вдруг окажется совсем в другой плоскости? Что нам скажет тот, кто прошел увлечение гедонизмом, унифицированным хаосом и умудрел? — воскликнул он, глядя на меня.
— А скажу я вот что: смысл жизни в том, — набрал я воздуха и выпалил: — чтобы после её окончания не попасть в ад — всё!
— Ну что ж, по крайней мере, просто и разумно — откликнулся Борис и взглянул на меня с растущим интересом. — Попасть в огонь геенны и гореть там вечность — конечно, не очень приятная перспектива.
— А кто это знает? — сказала Марина, подняв к потолку задумчивый взор и указательный пальчик. — И кто там бывал?
— Знают об этом все, кому это нужно знать, — сказал старик. — А возвращались оттуда тысячи людей и подробно обо всём рассказывали. И до сих пор десятки людей ходят Там, ведомые святыми и готовятся вернуться на землю, чтобы рассказать несведущим и предостеречь отчаянных. Мы же знаем!
— Вы серьезно? — спросила Марина, оглядывая нас троих. — Надеюсь, это не какая-нибудь тоталитарная секта фанатиков?
— Ну что вы, — протянул старик, — за нами тысячелетняя традиция родного Православия.
— Тогда конечно, — успокоилась девушка. — Зачем нам чужая шизофрения, когда есть своя истина, проверенная веками. Верно?
— Абсолютно, — подтвердили мы, согласно кивнув.
— Вы меня заинтересовали, — сказала девушка. — Примите меня в своё общество любителей истины.
— Примерно этого мы и добивались своим пацифистским экстремизмом, — сказал старик. Потом хлопнул в ладоши и торжественно произнес: — А теперь, когда наша милая барышня вышла, наконец, из дебилостремительного дискурса и встала на путь поиска единственной истины, мы наградим её вкушением блюд. Финита ля трагедия! За стол, господа! Не зря же вы потратились и всё это принесли.
Старик встал, обратился к красному углу с иконами, торжественно прочел «Отче наш» и красиво перекрестил яства и питие. После такого зачина, хотелось не есть, но — благочестиво вкушать трапезу. После салатов и перед крем-супом от Дольфа раздался громкий треск, мы вздрогнули, а оконное стекло мелко задрожало. Старик даже не оторвал глаз от оливкового цвета густой жидкости в дулёвской тарелке с красно-золотым ободком и продолжал невозмутимо черпать жижу сияющей серебряной ложкой мстерской чеканки.
— Это что, — наконец, произнес он, завершив исчерпывающий процесс, — шалят лукашки слегка. Пугают, чтобы не забывал народ честной лоб крестить. Здесь-то еще терпимо. А вот есть у меня знакомый друг по фамилии Ежов — внучатый племянник того самого политического деятеля, в честь которого целый период жизни нашего народа назван «Ежовщиной». Так вот у моего несчастного друга в доме скелеты из шкафов вываливаются пачками. Он, бедный, вынужден буквально каждый день не приходить в сознание, чтобы его не повредить и не свихнуться. Это в старых домах такая традиция.
Я вполовину глаза поглядел на Марину. Девушка, побледнела до такой степени, что побелели даже веснушки, некогда бордовые губы и карие глаза. Волосы её вздыбились еще выше и шире наподобие пионерского костра, вспыхнувшего от всплеска бензина из ведра решительным пионервожатым. Я сам, признаться, за время нахождения в этом порядошном доме несколько раз отключался, падал в обморок и умирал от страха. Правда, всеми силами виду не подавал, только поэтому моей слабости никто не заметил. Никто кроме премудрого старика. Это мне открылось, когда он вроде бы издалека начал свой мудрый сказ:
— Вот кушаю я эти дивные блюда, а сам нет, нет, да вспомню чарующий вкус овсяной каши, поднесенной к нашему столу моей школьной любовью Тонечкой. И столько в той каше было невыплаканной любви, растоптанной внуками, что я вспомнил своих детей и решил следующее. А не отписать ли этот дом со всем содержимым нашему Андрею, потому что он этого заслуживает, как никто. Можно бы, конечно, отписать это Борису, но он итак до неприличия обеспечен…
— Бесконечно признателен вам, Юрий Ильич, — сказал я, — но вынужден отказаться от вашей собственности. Видите ли, я очень серьезно отношусь к словам одного умиравшего монаха. Ему предложили мешок золота, а он сказал: если я возьму сие, то даже до Божиего суда не дойду, золото сразу утянет меня в преисподнюю, как тяжелый камень в болотную трясину. Так что это не для меня. Простите.
— Нечто вроде этого я и ожидал, — невозмутимо сказал старик. — Но ты ведь, сынок, можешь продать всё это, а вырученные деньги раздать церквам и нищим.
— Боюсь, не успеть. А что если конец настигнет меня в тот миг, как я буду с мешком золота носиться по инстанциям? Вы лучше отдайте всё это Марине. Она девушка сильная, полная жизни, у неё гораздо больше шансов успешно дойти до финиша.
— Марина, ты примешь наследство стоимостью более десяти миллионов евро? Кстати, она постоянно растет. Вот мы тут сидим и блюда кушаем, а она — стоимость — растет.
— Нет, нет, мне тоже не надо, — сказала Марина, выставив бело-розовые ладоши в качестве щита. — Знаете, Юрий Ильич, а вы простите своих детей, помиритесь с ними, и пусть они пользуются этим на здоровье.
— Да, Борис, и где ты только таких хороших людей находишь? — спросил старик.
— Они сами находят меня, — сказал Борис. — Задремлешь вот так на лавочке, проснешься — а они уже сидят и ждут моего приглашения.
Юрий Ильич с минуту в раздумьях оглаживал бороду, бурчал, вытягивал губы, потом кивнул и сказал: — Да ведь барышня права. Сделаю, как она сказала. А положить Мариночке за это морковного торта и поставить Сен-Санса!
Пока мы с Борисом отрезали кусок кондитерского шедевра и располагали его на раритетной тарелке, старик извлек новый диск и опустил на него адаптер. Зазвучала дивная мелодия.
— «Лебедь» из «Карнавала животных», — воскликнул я. — С детства лишь три мелодии понравились и запомнились мне из классического репертуара уроков музыки и пения, и уже две из них я услышал этом доме.
— Андрей, а третья-то какая? — спросил Юрий Ильич.
— «Avе Maria» Шуберта.
— Да, это то, что я попросил бы послушать перед смертью.
— Потом захватил меня молодежный бунт рок-музыки. А сейчас я стал ценить тишину.
— Умудрел, старина, — снова повторил диагноз старик и повернулся к Марине. Девушка плакала.
— Спасибо вам, — пропела она сквозь слезы. — Мне с вами так хорошо. И спокойно.
— Какая тонкая натура томится в столь богатой плоти, — прошептал восхищенно Борис.
— Это я только с виду сильная такая, — сказала Марина, виновато улыбнувшись, — а на самом деле меня очень легко обидеть. — Она обернулась к Борису: — Я все хотела у вас спросить, но стеснялась…
— …Нежная лилия, золотистая кувшинка на зеркале лесного озера, поющая свирель, прекрасная Вирсавия, — шептал Борис, не отрывая от девушки глаз, — о, я теперь понимаю, почему Давид пошел ради тебя на такое!..
— …А теперь я уже не стесняюсь и хочу спросить у вас, — продолжила Марина, — почему вы спали в Александровском саду?
— А, пустое, — махнул он рукой, беспечно улыбаясь. — Меня жена среди ночи из дому выгнала.
— Лилька? — взревел старик. — Нет, я, конечно, предполагал, я даже тебя предупреждал, но чтоб так!.. Вот дурёха…
— Такого мужчину!.. — Марина прикрыла пунцовый рот белой ладошкой. — Хотите, я могу дать вам комнату. У меня в Малаховке дом большой. Надо же, какое несчастье!.. Хотите, Борис, я буду вам суп варить и рубашки стирать.
— Хочу! Ох, как я этого хочу! — сказал Борис.
— Нет, ребята, я вас никуда не отпущу, — встрял Юрий Ильич. — На ночь глядя в Малаховку ехать, тоже выдумали. Оставайтесь и живите тут сколько хотите.
— А можно и у меня, — вставил я слово. — У меня тоже комната пустует.
— Нет, нет, дорогие мои, — смутился Борис. — Если можно, я все-таки поеду к моей Вирсавии, лилии, свирели…
— Андрюха, — сказал Юрий Ильич, махнув рукой на парочку влюбленных, — ну ты-то хоть старика не бросишь?
— Ну что вы, дорогой маэстро, — сказал я, чувствуя, как меня накрывает теплая волна, — мне с вами очень хорошо. И к тому же я, как Борис, не могу похвастать обилием друзей. Как раз недавно я потерял друга. И какого друга!.. Вот и схожу с ума от печали и одиночества.
— Ты что, Андрей! — воскликнули все трое. — А мы! Теперь мы вместе!
— Да, спасибо вам, друзья.
Конечно, мы все остались у гостеприимного хозяина порядошного дома и провели в разговорах короткую летнюю ночь. А на рассвете вышли из дому и по безлюдной Тверской направились в сторону Красной площади. По гулкому асфальту улицы кроме нас прохаживались бдительные безликие люди в штатском, два милиционера, да возвращалась домой предельно усталая компания молчаливых гуляк.
Странно, как могут люди спать в столь таинственное время, когда душа требует молиться или слагать благодарственные стихи; когда в теле живёт вышеестественная бодрая сила, а разум чист и бездонен, как глаза младенца; когда в полной тишине то там, то здесь оживают тонкие мелодичные звуки, шёпот далёких звезд и отголоски нашего детства, нищего и счастливого.
Верхушки деревьев и шпили домов уже пылали алым светом восходящего солнца. Небо еще сохраняло зыбкую ночную синеву. В тот час всё и всюду казалось нереальным тающим миражом, но мы-то знали, что есть в этом мире две вещи, которые более, чем реальны. Во-первых, семичасовая утренняя литургия, где встречается Небо и земля, в древнем храме, который никогда не закрывался и на протяжении веков впитывал слёзы покаяния и сияние святости. А во-вторых, недалеко отсюда существует замечательное место, где у победно-красной кремлевской стены томятся в ожидании странников гостеприимные дебри Александровского сада.
Мы были уверены, что успеем и туда и сюда. О, нам это было известно абсолютно точно…
Полтинник
— В день, когда мне исполнится пятьдесят лет, я застрелюсь!
Отец всегда так: скажет что-нибудь эдакое и смотрит иронично, ожидая реакции. Я подавленно молчал, чего он и добивался. Тогда всё наше благополучие, да вообще всё — держалось на нём, о чём он неустанно напоминал и мне, и маме.
— Па, ты хорошо подумал? — прошептал я. — Не в традиции русского воинства так заканчивать жизнь.
— Пустое! Традиции какие-то… Нет, я, конечно, накрою стол, — продолжил он мечтательно, — надену лучший костюм, выслушаю поздравления, получу подарки, всех поблагодарю. — Он закатил глаза. — Провожу-у-у — и уже тогда запрусь в кабинете, открою сейф, достану пистолет и пущу пулю в висок. — Отец поднес указательный палец к голове, издав резкий шипящий звук; сузил глаза. — Ну, ты сам подумай, сын, какая жизнь начнется после пятидесяти: старение, дряхление, болезни, тоска… Что еще? …Одиночество, нескончаемые похороны родственников и друзей. Нет, нет и нет! В пятьдесят — пулю в висок и кранты! Пусть меня запомнят молодым и красивым.
…Отец дожил до семидесяти двух. Подолгу болел, перенёс шесть операций, задыхался от астмы, падал от головокружений и слабости, разбивая в кровь лицо; хоронил друзей, томился в одиночестве — и цеплялся, отчаянно цеплялся за каждый день своей мучительной жизни.
Как-то раз сидели мы с ним летним вечером на даче. Нас окутывал влажным теплом туман, поднявшийся от ручья невдалеке и обильно политой земли, по небу разлилась золотая ртуть заката, откуда-то долетал запах шашлыка и текла негромкая песня о степи с ямщиком и колокольчиком; нашу скамейку обступали цветы и пьянили головы сладким ароматом. Я напомнил отцу о нашем давнишнем разговоре и о его самоубийственном решении насчет пятидесятилетнего юбилея. Он смутился и сказал:
— Знаешь, сын, мы часто ошибаемся. Верить таким экстремистским высказываниям не стоит. Конечно, жизнь — штука не всегда приятная, но случаются и в старости, и в болезни, и в одиночестве такие сказочные минуты… Ну, скажем, как эти. — Он показал рукой на малиновое небо, зеленую листву, цветы, пчел, стрижей и воробышек. — Разве это не красиво! Всё как обычно ранним летом — но как здорово!
Еще раз мы вернулись к цифре — «50», когда отец за несколько месяцев до смерти сказал:
— Самое страшное время для мужчины — это 49 лет. Почему-то именно между сорок девятым и пятидесятым днями рождения многие круто меняют свою жизнь и почти всегда в худшую сторону. Понимаешь, у человека каждые семь лет меняются клетки всего организма. А тут семь раз по семь — полный телесный апокалипсис! Ты не знаешь, но мы с твоей мамой развелись, когда мне было 49, я бросил работу, переехал в другой город. Потом долго еще приходилось исправлять все эти… крутые виражи. Будто лукавый меня водил, как собаку на поводке. В 49 лет, сынок, сиди, где сидишь, и не дёргайся! Этот возраст надо элементарно переждать в укрытии.
Мне это удалось — сорокадевятилетие пришлось на время, когда я обучался одиночным погружениям в мир созерцания. Тогда большую часть суток искал я уединения и тишины. То, что совсем недавно пугало и повергало в тоску, отныне стало желанным. Видимо, в достаточной степени все мирские привязанности открыли мне свои адские грани, которые враг человеческий или скрывает, или камуфлирует чем-то внешне привлекательным. Нет, свои 49 лет я встретил смертельно усталым от разочарований в «счастье» мирской жизни, поэтому отсиживался в окопе уединения с тихой радостью.
Только не всегда окружающее пространство предоставляло мне желанную тишину. Под окнами шумел проспект, соседи часто ссорились и оглушали рок-музыкой; то тут, то там кто-то затевал ремонт, сотрясая бетонные стены протяжным визгом дрели. Бежать от такого рода напастей бесполезно, поэтому я использовал шумное время на вычитывание канонов и кафизм — как правило, крики и грохот извне помогали «книжной» молитве разгораться в мощный костёр, разгонявший мрак уныния, тупую рассеянность и жесткую теплохладность.
Но уж стоило перетерпеть приступ бытового шума, как в награду получал я необычайную тишину в душе. Мог даже иногда расслышать тончайшие отзвуки ангельского пения в райских высотах, а иногда меня в эти высоты поднимали…
В конце мая в нашем доме поселился новый жилец. Никто его не видел, но шуму наделал он немало. Он устроил переделку своей квартиры. Больше месяца нанятые им смуглые строители грохотали и сотрясали весь дом. Встречаясь с соседями в лифте, мне обязательно приходилось выслушивать ворчание:
— Оказывается, он меняет планировку, убирает стены и бетоноломами прорубает углубления под электропроводку.
— Но у него, я слышал, есть все необходимые разрешительные документы.
— Если он мне встретится, я ему так накостыляю — никакие документы не спасут!
— Ой, мужчины, да вы только обещаете! А вот я ему точно глаза выцарапаю! Эти изверги моему ребенку второй месяц спать не дают!
— Говорят, он джакузи в ванной поставил размером с бассейн, может и мне тоже, а?..
— Если деньги есть, то можно и джакузи, конечно. Только вот, что я вам скажу, молодые люди! Страна, где во главу угла поставлен доллар, а не идея — обречена! Пора отсюда сваливать. Утеку мозгами на запад. Там наша докторская степень по физике очень ценится. Пусть потом поплачут, уроды.
Отчитав правило и не дождавшись тишины, я уходил из дому в парк. Возвращался к восьми вечера, когда рабочий день строителей кончался, чтобы насладиться тишиной.
Но именно в это же время стала приходить Даша. Там, на работе, что-то у неё переменилось, и она всё чаще стала навещать меня. И если первые внеплановые посещения меня обрадовали, то, начиная с третьего, я неожиданно стал ощущать раздражение. Моя возлюбленная жена — мне мешала! Она разрушала моё привычное уединение!
А однажды, вернувшись в восемь вечера домой, я обнаружил на полу кухни… пистолет. Мне, конечно, с раннего детства было известно, что у моего отца было наградное оружие, но от меня его скрывали в сейфе и ни разу даже не показали. Мать о нём ничего не рассказывала, да я и не спрашивал. Обследовал стены кухни. Под мойкой за трубами имелось углубление, которое закрывала фанерка. Видимо, от вибрации стен фанерка отвалилась. Под мойкой раньше был плинтус, но он давно треснул и был демонтирован. В образовавшуюся щель, наверное, проскользнул выпавший из тайника пистолет. Дедукция — это вам не прострация! …Итак орудие смертоубийства, как доложено выше, выпал из тайника, о последствиях чего будет доложено ниже, и во всей грозной красе явился мне прямо в центре кухни, чтобы я никак не смог его проглядеть.
Отец мой всегда отличался аккуратностью, и вещи свои содержал в идеальном порядке. Пистолет «ТТ» был смазан, в обойме имелся полный боекомплект патронов калибра 7,62 мм, так что выглядел аппарат полностью готовым к использованию. Я невольно залюбовался пистолетом. Вспомнились слова оружейника Маузера: «Только русскому Токареву удалось вместить столько смерти в крохотное пространство пистолета ТТ». Оттянув кожух-затвор, на обнажившейся боковой плоскости рамки я обнаружил гравировку: «За боевые заслуги… от руководства НКВД». Скольких же «врагов революции» папочка пристрелил из этой машинки?.. А пистолет-то смердит человеческой смертью!
Когда я только поднимал с пола оружие, в голову пришла мысль — срочно от него избавиться: зарыть в землю, спустить в унитаз, сбросить в мусоропровод. Но не успел я вдоволь налюбоваться агрегатом, опечалиться его смертоносностью и что-либо предпринять, как раздался звонок входной двери — должно быть, Даша. Снова из области солнечного сплетения полыхнуло раздражением. Только и успел сунуть пистолет поглубже в ящик стола, расслабил мимические мышцы лица, придав ему более-менее приличное выражение, и направился в прихожую встречать жену.
С приближением 50-летнего дня рождения во мне росло душевное неприятие этого праздника. Мои православные друзья, преодолевшие сей мистический рубеж, рассказывали, как они сбегали от юбилея в «срочную» командировку, на рыбалку, просто на дачу. Некоторым удавалось увильнуть от проявлений «всеобщей любви», но кого-то доставали и в глуши. Или, скажем, по возвращении из бегства встречал их домашний сюрприз в виде накрытого стола и гостей, гурьбой вываливающихся из тёмной комнаты.
Откуда у нас потребность к этому юбилейному бегству? Во-первых, святые отцы учили, что это праздник языческий. В один из первых дней рождения, который праздновался в Божием народе, царь Ирод преподнёс танцовщице в подарок отрубленную голову Иоанна Крестителя. Христианам прилично отмечать именины — день Ангела, да и то не пьянкой, а исповедью и причастием в храме, после которого полагается вести себя тихо и благочестиво.
В русском языке слово «новорожденный» относят лишь к только что родившимся младенцам, а старших называют «именинник» — а это, простите, тот, кто справляет именины. Во-вторых, почти ежедневно приходил на память разговор с отцом насчет самоубийственных планов на вечер после юбилейного застолья. А тема смерти, как известно, имеет какую-то мистическую фатальную привлекательность.
В то время, пока я бурно переживал внутренний конфликт и перебирал в уме варианты побега… Даша развернула энергичную деятельность, приглашая гостей, закупая продукты, носилась по магазинам в поисках какого-то особенного подарка. Что тут поделаешь! Мне ничего не оставалось, как терпеть это нежное изощренное издевательство, снова и снова проверяя на практике евангельские слова о том, что «враги человеку домашние его».
Даже не хочу вспоминать тот день. Я прожил его как трагедию, как ураган, дефолт, похороны любимой собаки, или уход любимой женщины — стиснув зубы, с прямой спиной, окаменевшей от напряжения. Самое неприятное — это часами улыбаться на каждое «желаю счастья», делать вид, что ты глубоко тронут проникновенностью словесных штампов, все время что-то есть и что-то пить, оставаясь при этом возмутительно трезвым…
На балконе двадцатилетняя Марина спросила меня:
— Андрей, скажи, а что такое полтинник?
— С одной стороны это ровно половина рубля. С другой… это такой возраст, когда ровно на половину ты старик, а на остальную половину — пацан, хулиган, мальчишка!
— И как ты это совмещаешь?
— Как видишь: на сцену выскакивает то шаловливый мальчишка и требует слегка похулиганить, а то выползает старикашка и гундосит, и ворчит, и рассыпает всюду песок. А ты осаживаешь их поочередно. То одного — в детскую и спать, то другого — на инвалидную коляску и в дом ветеранов партии.
— Ничего не поняла, но я тебе сочувствую.
— Спасибо. Время придет, поймешь…
Наконец, отзвучали тосты, отзвенел хрусталь, всё съедено-выпито. Гости нехотя расходились, часами застревая в проёме распахнутой входной двери, вдруг припомнив занятную «очсмешную» историю. Остались только новые мои друзья — Юрий Ильич, Борис и Марина. Но вот и они встали из-за стола и попросили проводить их до стоянки такси, а заодно «прогуляться и подышать свежим воздухом». Марина предложила свою помощь по мытью посуды, но Даша ревниво сверкнула очами и сказала, что легко справится сама. Видимо и ей надоело застолье и хотелось тишины.
Пропустив друзей в открытую дверь, я оглянулся — Даша стояла на кухне, опустив руки в желтых резиновых перчатках и с грустной улыбкой смотрела мне в глаза. В груди кольнуло, хотелось обнять её, сказать что-то тёплое, но я легкомысленно взмахнул рукой и решительно вышел из дому.
Как я и предполагал, гости поспешили вовсе не на стоянку такси, а в сторону яркой неоновой вывески «Спящий лев». Зашел туда и я. В подвальчике, пропахшем кофе, нас будто специально поджидал Антиквар, приехавший из Америки, и Василий.
— А я-то думал, кому я еще про свою одноэтажную Америку не рассказывал! — всплеснул ладонями Валерий Васильевич.
— Ты знаешь, Андрей, мы с Мотей решили на днях пожениться, — сообщил Василий своё, наболевшее.
— Тогда занимайте квартиру Игоря, в которой раньше Мотя жила. Я только иногда в комнату Игоря захожу посидеть вечерок. Остальная жилплощадь пустует. Будто Мотю ждет.
— Спасибо, Анрюха! Так ты как к нашей женитьбе относишься?
— Как я к этому отношусь? — спросил я изумленно. — Да какая разница, как кто-то там относится к твоей любви! Или ты хочешь алгеброй поверить сокровенную мистику высочайшего человеческого чувства? — Понесло меня по философским рытвинам и ухабам. — Или ты хочешь позволить по-научному ковыряться в человеке в поисках наличия любви? Представь себе, берешь девушку и — тре-е-есь ее по прическе! А как же, она-то в здравом уме разве позволит себя препарировать? А ты её, бесчувственную, беспомощную, беззащитную — кладешь на разделочный стол, берешь скальпель, делаешь полостной надрез и начинаешь по очереди разрезать органы: сердце, желудок, легкие, селезенку, кишечник… Вскрываешь, внимательно разглядываешь, есть ли там то, что тебя привлекает в девушке: любовь, нежность, верность, заботливость, обаяние? Расковырял несчастное тело, каждую мышцу, каждую жилочку от косточек отделил, а искомых ингредиентов не нашел. Что, нет их? Или они не видны? Или не обнаруживаются органами чувств? Но ведь тебе же рассказывали, что это всё — любовь, нежность, обаяние… короче говоря, душа — есть! Должна, просто обязана быть эта самая таинственная и непостижимая! А ты разделал юное, нежное, грациозное девичье тело, а самого главного не нашел. Дальше отправляешь истерзанное тело в морг, а сам — пулю в лоб и в пропасть. Ну нельзя, никак нельзя вычислить любовь, нельзя никому, кроме тебя самого, почувствовать её высоту и даже величие, если её нет у тебя и если нет её у твоей Моти. Так что ты, Василий, давай сам, по-мужски ответственно решай: есть любовь и послужит ли она основанием твоей будущей семьи. …Или нет.
— Сильно сказано! — сдавленно произнес Вася, с трудом вернув челюсти обычное состояние. — А я тебе скоро свой роман принесу. На прочитку. Знаешь, как я его назвал? «Третье иго». Было на Руси иго монголо-татарское, потом — польско-католическое, а сейчас — третье, атеистическое.
— Интересно, — сказал я задумчиво, — как ты нас будешь от этого третьего ига освобождать!..
— Понимаешь, Боренька, нынешнее искусство, как бы оно изысканно и утонченно это не делало, но все-таки занимается смакованием греха, а значит оно априори порочно, — хрипло басил Юрий Ильич, видимо, пытаясь поставить точку в затянувшемся споре.
— Мальчики, вы не представляете, как я вас всех люблю! — восклицала румяная Марина. — И даже не знаю, кого больше…
В общем, юбилей продолжился в подземелье. Проводил я гостей только после закрытия клуба, то есть глубоко за полночь.
Совершенно усталым и предельно опустошенным вернулся я домой. Открыл дверь своим ключом и встал, как дубиной оглушенный. В дальней комнате, в дверном проёме увидел обнаженные ноги Даши. Она лежала. Дорогу к ней преграждал смуглый молодой человек в стильном черном костюме. Он сидел на стуле и спокойно смотрел на меня в упор. Я метнулся было на кухню, где оставил отцовский пистолет, но нежданный гость достал ТТ из внутреннего кармана пиджака и тихо спросил:
— Ты за ним отправился?
И я снова остолбенел. Во рту стало сухо, я не мог ни двигаться, ни промолвить ни единого слова.
— Я Алик, — сказал тот, приподнявшись со стула и вежливо поклонившись. — Даша наверное рассказала обо мне. Я ее жених! А ты влез в наши отношения, как волк в чужой дом.
— Это я-то волк в чужом доме! — прорвало меня, наконец.
— Да. Ты. — Парень был спокоен, как смертник в поясе шахида.
Наконец, он встал и медленно подошел ко мне. Протянул мне пистолет и сказал:
— Если ты мужчина, застрели меня.
Отшатнувшись, я отрицательно замотал головой:
— Нет, людей я не убиваю — я в Бога верю, — сказал первое, что взошло на ум.
— Какой же ты мужчина? — просипел он с ненавистью. — Даже отомстить по-человечески не можешь!
— Месть только умножает зло, — прошептал я, глядя в его колючие черные глаза. — Господь велит делать не зло, а добро. …Как бы это не было противно иной раз…
— Вот поэтому мы вас всегда побеждали и будем побеждать, — сказал горец.
— Это мы еще посмотрим.
— Посмотрим! — вскричал он, брызнув слюной. — Ладно, урус, я тебе покажу кто из нас мужчина.
Его глаза будто залило чернотой — не только зрачки и радужную оболочку, но даже белки, казалось, почернели от звериной ненависти. Алик медленно поднял пистолет и направил мне в лоб. Я про себя читал Иисусову молитву, молча смотрел ему в глаза и чувствовал, как сначала тело, а потом и душа онемели, как челюсть от укола новокаина. Черный зрачок оружейного ствола, готовый в любую секунду выпустить свинец и разнести мой череп, расплылся и повис чуть выше этой пары горящих углей.
Пронеслась в голове фраза из какого-то американского фильма: «Из его глаз смердит преисподней!»
Вспомнилась Мотя с её криминальными проблемами и мысль о том, что у сестёр обычно сходная судьба. Видимо, и мне нужно пройти путём, который так достойно преодолел Созерцатель. Да ведь он и сам предупреждал меня, что прежде чем я в полной мере получу дар созерцания, мне придётся пройти через серьёзные скорби. Как там у Исаака Сирина: «Бог не даёт великого дарования без великих искушений».
Время будто остановилось. Минута превратилось в клейкую резину, она растянулась и по-змеиному обвилась петлей вокруг моей шеи.
Ох, чтобы стало со мной в тот момент, если бы не спасительная Иисусова молитва! Эти родные, восхитительно привычные восемь слов, возносящие хрупкое человеческое создание до высот, где вечно пребывает Спаситель человечества! Как живо они пульсировали во мне, удерживая на краю пропасти спасительной надеждой!
— Я покажу тебе, как поступают настоящие мужчины, — прошипел горец, все более впадая в бешенство.
Он медленно поднёс пистолет к своему виску, что-то тихо, будто по-собачьи, прогавкал и нажал на спусковой крючок. Словно в замедленной съемке, увидел я, как из обреза ствола блеснуло пламя, из черноволосой, аккуратно подстриженной головы брызнули струи чего-то густо-алого и упруго ударились о зеркало на стене, образовав красное пятно, стекающее вниз. Только потом до ушей донеслась звуковая волна и на секунду меня оглушила…
— Ну и дурак, — крикнул я и в три прыжка перенесся в комнату, где находилась Даша.
Она лежала одетой, раскинув белые руки, — значит, изнасилования не было. Я пощупал артерию на шее. Под моими пальцами мягко и упруго пульсировала голубая жилка — она жива! Я приподнял её за плечи и прижал к груди. В ту минуту не было у меня родней и дороже человека на земле. Словно вся наша совместная жизнь, все минуты — одна за одной — протекли передо мной. Дашина застенчивая улыбка, теплые глаза, нежные прикосновения рук, заливистый смех и столько слов, в каждом из которых звучало одно и то же — люблю!
Наконец, её плечи вздрогнули, напряглись и Даша пришла в себя, оглянулась. Тела несчастного горца она видеть не могла, я закрывал его спиной. Даша улыбнулась и прошептала:
— Всё хорошо? Мы с тобой живы?
— Да! Еще как живы!
— А этот… Как его?.. Алик?
— А вот он вряд ли, — вздохнул я. — Застрелился.
— …От несчастной любви, — вздохнула она. — Бедный мальчик.
— Да, бедный несчастный самоубийца.
— Прости меня, Андрюш. В твой юбилей и такое…
— Главное, ты жива.
— Как написал один из твоих авторов: «Она благоразумно шлёпнулась в обморок».
— Красиво написал, паршивец!
— Не говори!.. Наша молодежь такая талантливая. Помоги мне подняться, Андрюш.
— Может не надо? Там этот убивец с мозгами наружу. Это выглядит не очень эстетично.
— Все-таки, согласись, лучше так, чем наоборот.
— Ну да. Конечно. С этим не поспоришь.
Потом были Дашины слёзы над трупом, которые всколыхнули во мне легкую ревность. Приехала милиция, санитары, фотографы… Нас допросили, но как-то недолго, без должного рвения. Всё-таки наши менты как-то больше сочувствовали нам, чем непрошеным агрессивным гостям. Когда мы остались одни, Даша в резиновых перчатках смыла побуревшие мозги с зеркала, выбросила перчатки в ведро и опрокинула его в мусоропровод.
Юбилей, о необходимости которого так долго говорило большинство, свершился! Жертв и ранений с нашей стороны не обнаружено. Вторая часть жизни — от пятидесяти и дальше — продолжается.
Приезжие
Сижу как-то на травке, смотрю на воду и чебуреки кушаю. Вообще-то у меня к этой выпечке с некоторых пор отношение не очень… Особенно после того, как однажды, надкусывая сильно пропечённый край чебурека, сломал зуб, да еще и собаку съел, причем в смысле далеко не переносном — знающие товарищи объяснили, какое мясо порой используется для начинки и куда деваются стаи бродячих собак. Но тут у нас появился Фархад. Нет, чтобы как все смуглые предшественники, готовить чебуреки из мяса бродячих собак, отравляя население прогорклым канцерогенным жиром. О, этот восточный человек использовал только парную телятину и оливковое масло, которое менял строго по технологии не реже двух раз в смену, чтобы в нем ни в коем случае не скапливался убийственный канцероген. Именно поэтому, к Фархаду всегда стояла очередь, в которой иногда появлялся и я, и даже приводил сюда ближних.
Так вот сижу на травке, смотрю на воду и чебуреки кушаю. Рядом тёплый мой знакомец Боря сидит на травке, смотрит на воду и кушает примерно то же. Почему? Да потому, что на нас как-то внезапно обрушился тёплый вечер, обуял, очаровал, обнажил потаенные струны души, которые запели нечто пронзительное, вот мы под приятную беседу и засиделись у чебуречной до самого закрытия заведения.
Фархад закончил работу, прикрыл раздаточное окно зеленым металлическим щитом, вышел из кухни на воздух, обмахиваясь картонкой, и присел рядом с нами на густую подстриженную траву. Он хорошо и честно потрудился, устал конечно, может быть поэтому от него исходило такое умиротворение и приятный запах свежей выпечки и трудового пота. Я находился в том дивном состоянии души, когда глубоко внутри мягко пульсирует источник любви, хочется молчать и смотреть на спокойную воду, усталых людей, парящих в небе птиц и вальяжно развалившихся по траве кошек. Бориса, наоборот, потянуло на беседу, поэтому он и заговорил с чебуречником, с которым нас обычно разделял прилавок и товарно-денежные отношения, а тут случилась возможность непосредственного общения с хорошим восточным человеком.
Оказалось, что Фархад приехал из Баку, ему обязательно нужно заработать десять тысяч долларов, чтобы открыть свой маленький магазинчик для содержания семьи, в которой наполовину русская жена и трое ребятишек. Оказывается, он закончил Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии, и по распределению был отправлен домой, в родной Баку. Правда, кроме Москвы, он успел побывать во время дипломной практики в Канаде на съемках документального фильма о старообрядцах.
— Понимаете, — сказал он задумчиво, — там со мной произошло одно событие, которое до сих пор не дает мне покоя. Я видел глубоко верующих людей, снимал их на пленку, жил среди них и постоянно чувствовал себя каким-то неприкаянным. Кем я был тогда? Мусульманским атеистом — ни два ни полтора, как говорится. А эти бородатые мужчины, скромные женщины в длинных юбках, послушная молодежь — в них чувствовался порядок, они жили вековыми традициями, и я это уважал… Однажды я попросил сводить меня в магазин, чтобы купить чего-нибудь домой. Со мной послали молодого парня с едва пробившимися усиками. Утром я снимал сюжет о том, как он валит огромный кедр. Представляете, прикрепляет к стволу компактную бензопилу, гладит дерево, просит у него прощения, потом молится и нажимает кнопку.
Его карие глаза загорелись, он заерзал и стал жестикулировать.
— Пила сама пилит, наклоняет ствол в нужную сторону — и большущий кедр падает в нужное место. Красиво! Потом юноша обошел дерево и со всех сторон опилил ветви. Работал он четко, легко, постоянно молился. Вот этот мальчик и повел меня в магазин. Зашли мы туда. Чего там только не было! Особенно после наших советских магазинов. Я приценился к джинсам, к высоким кожаным ботинкам, туфлям и рубашке — всё оказалось дорого, не по моим деньгам. Да что там выдали нам — по семь долларов на нос. Я вздохнул, поблагодарил продавца, и мы вышли. Не успели опомниться, как закончились наши съемки. Очень сдружились мы с этими людьми, понравились они нам… Ну что, загрузились в автобус, попрощались… И тут подходит ко мне знакомый мальчик и его отец, и протягивают мне большой такой пакет, туго чем-то набитый. Я поблагодарил, сел в автобус и мы уехали. В дороге мне было не до подарка, приходилось следить за аппаратурой, там чуть что повредишь, можно и в тюрьму было попасть. И только уже в Москве в аэропорту я вспомнил о подарке, когда таможенник спросил, что там внутри пакета. Я сказал, что не знаю, еще не успел заглянуть, наверное, какие-нибудь сувениры. Он криво усмехнулся, не поверил и заставил открыть. Я вскрыл упаковку и обнаружил там все те вещи, которые мне в магазине понравились. Ну надо же, думаю, все мальчик запомнил и отцу рассказал, а тот купил. Ну, в общем, я у них как в раю побывал. До сих пор вспоминаю.
— Скажи, а на вас канадские староверы не покрикивали? Мне что-то всё больше злые попадались, которые нас за людей не считают: православные для них «нечистые», «еретики», «никонианцы», а лица наши — хари скоблёные.
— Нет, что вы! — тихо воскликнул Фархад. — Ничего кроме доброты, уважения и заботы мы от них не видели. Они с нами носились, как мать родная с детьми. — Потом он поднял глаза на Бориса и огорченно спросил: — А что, разве вы и они не одной веры?
— Когда-то были одной, — сказал смущенно Борис. — Но потом произошел раскол, они не подчинились церковным реформам, проявили гордое непослушание и отпали от Церкви.
— Вот оно что, — протянул Фархад. — Вы, я вижу, понимаете в этом вопросе. Дайте, пожалуйста, мне почитать про различие мусульманской и православной веры. Я хочу разобраться.
— Завтра принесу книгу по Сравнительному Богословию — это наука такая. Если захочешь, разберешься.
— Жаль, — сказал Фархад, — очень жаль, что нас разъединяют, будто по живому распиливают. Вы помните, как дружно мы раньше жили? Да мы тут в московском общежитии были как братья в большой семье! Никого не интересовала твоя национальность, главное, какой ты человек: честный или лжец, трудолюбивый или бездельник, подлец или настоящий человек. Вот и у нас в Баку, во дворе: все друг друга знали, жили как одна большая семья. Да что там двор! По улицам ходишь — и все тебя знают, приветствуют, в гости зовут. А теперь, кто разъехался на заработки, кто умер, кого убили, а кто стал богатым и с нами, бедняками, уже не водит знакомства. Всюду идет расслоение, раскол. Кажется, люди из-за денег совсем с ума сошли, готовы кровь проливать. У нас тут в Москве два таксиста из одного района Баку стреляли друг в друга из пистолетов. За что! За право везти клиента… Нет, не нравится мне это. Хочу дружбы, любви, чтобы как раньше было — помните: все люди братья…
И тут нашу тихую беседу разорвал пронзительный звонок моего телефона. Я поспешно выхватил трубочку из кармана, вскочил и, отойдя на три шага от собеседников, нажал зеленую кнопку. Это звонил из Америки антиквар.
— Слушай, Андрей, у меня беда, — кричал он с другого конца вселенной. — Дочка стала сама не своя. Ты помнишь, какой она лапочкой была? Чудо, а не ребенок! А теперь её словно подменили. Я Верочку самым лучшим врачам уже показал. Они говорят, что у неё нормальные подростковые проблемы. Вроде того, что так и должно быть. Но я-то вижу, что дочка на грани сумасшествия.
— Да успокойся ты, Валерий Васильевич! — сказал я в истошно кричащую трубку. — Ты меня совсем оглушил. Скажи, чем я могу помочь?
— Знаешь, Андрей, я чуть не каждый день вас с Игорем вспоминаю. Все-таки есть у вас какая-то сила. Наверное, это от Бога. Андрей, я прошу тебя встретить мою Верочку и поговорить с ней, как-то успокоить. Если можно, пусть она у тебя поживет, ну хоть недельку-другую. А? Ты не волнуйся, я дам денег, сколько нужно, и на расходы и тебе в качестве гонорара. Мы тут с женой пашем, как проклятые, а дочка все больше одна. Я нанимал няню, да толку от нее никакого. В общем, помоги, очень прошу.
— Хорошо, Валерий Васильевич. Встречу твою Верочку. Только прошу тебя об одном.
— Все что угодно, Андрей.
— Только одно. Я, конечно, не сам буду девочку лечить, а с помощью церковных средств. Так ты уж объясни ребенку, чтобы она меня слушалась и выполняла все мои указания. Хорошо?
— Конечно, конечно. Я уже в двух словах ей объяснил, что ты верующий, а потому добрый, и тебе можно довериться. Спасибо, Андрюха! Ты настоящий друг! Как билет куплю, сразу позвоню.
Выключил телефон, дождался, пока моё ухо покинет последнее эхо истошных звуков, прислушался к наступившей тишине и вернулся к друзьям. Они по-прежнему разговаривали усталым полушепотом, так дружелюбно и мирно… Но крик о помощи прозвучал. Пусть с другого континента, от человека далекого не только географически, но и духовно. И не помочь ему, его дочке я не имею права.
В ту минуту моих бестолковых размышлений прозвучали одновременно два телефонных вызова: моя «Нокия» пропиликала мелодию из фильма «Крестный отец», золотая «Верту» Бориса — детским плачем. Ясно: это Василий набрал нас обоих, используя функцию «конференция» — одновременный разговор с несколькими абонентами. «Юноша бледный со взором горящим» сообщил нам, что заполучил в гости замечательного старика, питерского дворянина, профессора и приглашает нас принять участие в дегустации его искрометных историй в кофейне «Спящий лев». Пока я выслушивал бурный поток сознания поэта с криминальным прошлым, мне вспомнился другой замечательный старик, который мог долгими часами непрерывно фонтанировать «правдивейшими» историями из жизни народных масс в том же кофейном заведении — и легкая грусть утраты коснулась моих седеющих висков холодным ветерком.
Мы с Борисом и Фархадом, за компанию, подошли к клубу, у входа стоял бронированный черный лимузин, на котором Василий возил своего начальника. В уютном полумраке подвальчика за столом в углу — голова к голове — сидела парочка: пылкий юноша в черной спецодежде и седой старик в классическом сером костюме-тройке да еще и с бабочкой в горошек. Начинающий литератор торопливо читал рукопись, старик с басовитым покряхтыванием слушал. Увидев нас, чтец вскочил с места и представил нам соседа по столу, долго перечисляя его заслуги перед всемирной литературой. Профессор усмехнулся и сказал:
— Мне очень приятно было узнать, что в столице водятся такие милые ребята, как Василий, которые в своих работах используют не сегодняшнюю «ацкую» тарабарщину, а высокий стиль Державина, Баратынского и Пушкина. — Он воткнул в рукопись Василия, молча возлегающую на столе, указательный палец, окольцованный на пушкинский манер тяжелым перстнем. — Только, ребятки, прошу вас, называйте меня без этого академического профита, просто: Старик Собакин или «док» — на выбор.
— Как-то не совсем удобно, — протянул Борис, растирая мочку уха; мы с Фархадом дружно закивали.
— Да бросьте, как говаривал мой приятелище Бродский «не в Бельгии живем!» — Он повернулся к Василию: — Но у меня есть к тебе, Василек, одно важное предостережение! Не нужно бы главным героем обозначать врага человеческого. Просто из соображений духовной безопасности. Наверное, слышал пословицу: стоит только имя его назвать, как хвост с копытами уже рядом. Видите ли, я седой православный дядька, но моя профессиональная специализация — поэзия Серебряного века, а мои подзащитные всерьез баловались оккультизмом.
Саша в неизменной красной бабочке на белоснежной сорочке принес горячие бутерброды с кофе, уважительно расставил по столу, смахнул несуществующие крошки и, взглянув на бабочку клиента, трепетно поправил свою. Старик прошептал «Отче наш», перекрестил еду, приоткрыл портфель, извлек салфетки размером с наволочку, одну бросил на колени, вторую укрепил на груди.
— Простите, вынужден беречь последний воскресный костюм: другой такой на мои нынешние доходы уж не потянуть. — Затем оттуда же достал и раскрыл кожаную коробочку с вензелем, выложив на стол серебряные вилку с ножом. — А это, чтобы дорогущие зубные протезы уберечь на всю оставшуюся… — И стал с хрустом отрезать от огромного бутерброда махонькие кусочки и, продолжая разговор, закидывать их в рот. — Так я продолжу. Знавал я одного господина довольно известного в питерских кругах. У нас в семидесятые годы существовала не только доморощенная э-зоо-терика, но доподлинная, переданная по наследству от прежних почтенных колдунов, спаси и сохрани от них. Этот господин Икс прошел адские круги буддийской инициации и стал практиковать магизм в натуре: заходил в любую сберкассу и брал нужную сумму денег, никогда не платил ни в ресторанах, ни в театрах, ни в авиа-кассах. Дамы-кассиры-официантки выполняли любую его прихоть, его самого не запоминали и покрывали недостачу из своего кармана. Так вот зашел он как-то ко мне домой, попили чайку, и решил дружок мне класс показать. Взошел на стену, погулял по настенному ковру, потом прошелся по потолку да и по другой вертикальной стене, как ни в чем не бывало, спустился на пол. Ну я конечно вежливо изумился. …А через некоторое время узнал, что мой Иксуша кончил весьма печально: вселился в него нечистый дух, забрали бедолагу в психушку, где он вскоре и скончался.
— Что-то я не пойму, — сказал Вася. — Вы сказали, что это он от буддизма так сомлел?
— Да, Василек. Думаешь, старый маразматик Собакин на самое гуманное учение напраслину возводит? Ведь это же, типа, гуманная этическая система, религия без Бога, интеллектуальная забава, ванильная услада одиноких дамочек. А Далай-Лама — милый, культурный, на десяти языках щебечет, мировую классику назубок знает, трупов животинушек не вкушает, собачек-кошек-коровок по холке гладит. Только вот, что я скажу, перекрестясь: добрейшая материнская улыбка Далай-Ламы наподобие карнавальной маски и по сей день скрывает кровавые языческие жертвоприношения с ритуальным убийством людей. Мало кто об этом знает, да еще меньше об этом пишут-говорят.
— Я нечто подобное читал у Юрия Воробьевского, — кивнул Борис. Там что-то было про сотрудничество буддистов с нацистами. Наци даже секретную экспедицию на Тибет посылали. Засняли там на кинокамеру человеческие жертвоприношения. А сейчас этот архив рассекретили.
— Видел я это фильм, — сказал я. — Его можно в интернете найти и посмотреть.
— Ну, видите, — приглушенно воскликнул Док, — правда она всегда наружу выходит. Юрочка — отважный парень, и судя по тому, какие факты он публикует и при этом жив-здоров, над его светлым челом — покров Божий. А вот вам, господа-товарищи-братва, история, которую приходилось рассказывать не раз по многочисленным просьбам коллег. Моим учителем был замечательный гуманитарий, германист, теоретик литературы, насельник «Башни» Вячеслава Иванова, приятель Блока. Назовем его Максимыч. На его похороны я прилетел с «Брюсовских чтений», где мне довелось делать доклад. Брюсов, как известно, был выдающимся оккультистом. О его проделках с Андреем Белым много сказано и написано. В семидесятых годах мне часто доводилось захаживать в музей-квартиру Брюсова. Захаживал туда и… Валерий Яковлевич. Музеем заведовала его вдова Жанна Матвеевна. Братья и сестры, господа рационалы и скептики, мир полон духов, и не всегда чистых… Помнится, спросил я машинопись воспоминаний Нины — прообраза Ренаты из «Огненного ангела». Спросил. А мне в ответ: нетушки, вчера Валерий Яковлевич заходили и взяли. Нет, мы уже тогда были ребятками смышлеными, подобными историями подкованными. И не надо ухмыляться!..
— А мы и не… — пытался сказать Борис, окидывая начальственным взором притихших застольщиков.
— Тем более, — удовлетворенно кивнул профессор Док. — Ну, взял покойник Брюсов собственную рукопись. Бывает. Но скоро вернул. Дело-то житейское. Ремизов в Париже Савинкова встретил спустя пять лет после его смерти. С кем не бывает! В Отделе рукописей Публички хранится изъятая глава из воспоминаний Остроумовой-Лебедевой, в которой она рассказывает, как к ней на питерскую квартиру заглянул Брюсов через пять годочков после своей смерти. Зашел, поболтали, чайком побаловались. Покойник явился не духом бестелесным, а во плоти: печенье кушал, чаем запивал. Супруг ейный, академик Лебедев, изобретатель синтетического каучука, после такого чаепития в Бога истово уверовал.
— Неисповедимы пути Господни, — вздохнул Вася. — Не его одного страх перед мраком к свету привёл.
— Однако вернемся к погребению моего уважаемого учителя, который был лично знаком с Брюсовым и написал о нем книгу. Вдова покойного Максимыча попросила меня купить похоронные тапочки и погребальные пелены. Похоронили мы его в Комарове, рядом с его подругой Анной Андреевной. Прошло полгода. Я готовлюсь к экзамену в аспирантуру Пушкинского Дома в квартире родителей на знаменитой Гороховской. Дома один. И вдруг! Звонок в дверь. Приоткрыл дверь и в щелку посмотрел: Максимыч. Почему-то я не испугался. Впустил учителя, а сам на ноги его — глядь! На нем те самые тапки из кожзаменителя за трешник и тот же костюм за сорок целковых, которые я ему покупал для положения в гроб. Часа три мы с ним поговорили о его семье, о моих делах, о том, кто стал главредом нашего любимого журнала. Потом он попросил проводить его домой, и мы пошли по Гороховой. Его фигура отбрасывала тень. Зашли в магазин. Купили булки с компотом. Михалыч извинился за отсутствие денег и взялся отламывать и аккуратно есть булочку. Я подумал, что если бы это был сон или галлюцинация, я бы не чувствовал тяжести банки с компотом. На набережной Фонтанки я ключами открыл крышку банки и мы попили вишневого компотику. У парадной Максимыча мы остановились, дальше он просил не провожать. Я спросил, как там? Он ответил: холодно и солнца нет. Вот и всё. А через десять лет после смерти Мануйлова я встретил и его. К чему я это? А к тому, чтобы предостеречь вас, дорогие молодые друзья, от весьма опасных общений с духовным миром тьмы. Неполезно сие. Да-с.
А дома, пока я переобувался и размышлял, как бы жену помягче огорошить вестью о приезде американки, Даша, прямо с порога сообщила свою новость: приезжает тетка Шура «з миста Донэцьк, шо на Вкрайыни-ридний». И цель приезда одна-единственная: накормить меня, а то я «зовсим отошшал», ну и так, по мелочам: Дашу навестить, по магазинам походить, по ВДНХ прогуляться. Тут и я умудрился словечко вставить и рассказал о приезде американской девочки Веры.
— Вот видишь, — воскликнула Даша, — как всё хорошо складывается: моя тетка заодно и твою Верочку в норму приведет, по крайней мере откормит! У тетушки же… этой, как её… пассионарности на троих хватит.
И вот у нас в доме появились две дамы: одна украинская, другая американская.
Сначала-то вошла вся в тюках, узлах и чемоданах объемная тетя Шура в сопровождении Даши. Они обе не могли остановить смех, перебивая друг друга, непрестанно прыская, кое-как рассказали, как тетушка огласила сначала вокзал, потом метро звонкими воплями восхищения, удивления, а перед лентой эскалатора — страха: пока она решилась ступить на бегущую дорожку, сзади собралась приличная толпа народа, который возмущался затором, Даша изо всех сил толкала тетку, а та стояла с поднятой ногой и панически выла. Зато, когда решилась и встала-таки на ленту, её восторгам не было конца. Гостья по привычке пыталась со всеми поздороваться, особенно учтиво со стражами порядка и контролерами. В вагоне метро за двадцать минут всем соседям поведала основные вехи своей биографии и планы на будущее. Особенно Дашу развеселили теткины комментарии по поводу одежды и невыразительной комплекции жителей столицы, которые она рассыпала с громким смехом и не всегда тонким юмором.
А на следующий день пришла моя очередь встречать в Шереметьево американскую девочку. Я бы вряд ли сам узнал Веру, все-таки видел её мельком, да и за три года она выросла. Но тут ко мне подошел не по-нашему загорелый мужчина и по-нашему дернул за рукав:
— Андрей?
— Да…
— Паспорт есть?
— Есть…
— Распишитесь вот тут, что приняли девочку Веру с рук на руки.
Мужчина сунул мне бумагу с печатью, тщательно проверив мой паспорт. Я расписался.
— Всё. Теперь вы заботитесь о ней. Получите! — И откуда-то из-за спины выудил невзрачное существо, пугливо озирающееся на всё вокруг и на меня.
Я «получил» сумку, девочку, она вежливо вцепилась в моё плечо, и мы двинулись к такси. В машине пытался расспросить спутницу о житье-бытье, но ничего вразумительного в ответ не услышал: она тихо мычала, крутила головой, ойкала и с испугом рассматривала улицы, дома, людей, машины — будто в первый раз. Да, тут работы непочатый край, случай запущенный, полный анамнез! Но ничего, ничего…
Итак, привез домой худенькую, с одной-единственной сумкой, Веру, и …«они сошлись, вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень!» Хотя лично мне, в отличие от Александра Сергеевича, эта парочка напоминала огромную оранжевую тыкву против смятого полиэтиленового пакета, выброшенного в мусорное ведро. Первое, что произнесла мощным басом потрясенная тётя Шура, увидев субтильную Веру и услышав тихое «дрась»:
— Така страшнэнька! Тош Бухэнвальд якысь! А ну, дивонька, мый ручки и зараз за стол йисты!
Вместо наискорейшего выполнения приказания, девочка прижалась ко мне своими косточками и, зарывшись в мою подмышку головой, испуганно икнула. Я что-то забубнил успокоительное про очень добрых и хлебосольных тетушек из Украины, которые больше всего на свете любят кормить чем-то весьма вкусненьким, а сам гладил трясущееся существо и пытался вытащить его из подмышки на свет Божий. Наконец, тетка решительно подошла, дернула девочку за тоненькую ручку, прижала к своей пышной груди и заворковала что-то невнятное, от чего девочка перестала трястись и позволила себя умыть, помыть руки и посадить за стол. После третьей ложки борща на бледном лице Веры выступила испарина, обнажились в улыбке кривые зубы, опутанные проволокой брекетов; синие губы на сером лице стали розоветь — словом, девочка прямо на глазах принялась оживать.
В ходе трехстороннего допроса удалось выяснить следующее: девочка не вписалась в американский социум, над ней всласть поиздевались наглые аборигены, друзей не завела, поговорить было не с кем, родители заняты бизнесом и налаживанием нужных знакомств, няня понять её не пыталась, а только что-то внушала и требовала на своем малопонятном рычащем языке. Вера пыталась найти забвение на форумах интернета, но там к ней отнеслись почему-то с завистью свои и с пренебрежением чужие. Потом она играла в компьютерные игры, читала, смотрела телевизор, но ничего не унимало тоски, которая навязчиво предлагала решить, какой способ самоубийства выбрать — и тогда она совсем испугалась и запросилась домой, в Москву, хотя бы на месяц или даже на недельку.
В течение допроса тетя Шура поминутно вздыхала: «Така страшнэнька! Ой, я нэ можу!» но потом собралась с мыслями и задала точный и весьма важный, по её мнению, вопрос:
— А чого ты, Веронька, йила на Амэриканщини?
— В основном, пиццу и гамбургеры, — ответила девочка.
— А що цэ такэ?
— Вроде наших бутербродов, — пояснил я.
— От, убивци! Такой отравой дытя кормыты!
Даша тоже задала свой вопрос:
— Верочка, а друзья в Москве у тебя остались?
— Была одна девочка, как говорил папа, «из нашего круга», но как я рассказала ей про Лос-Анжелес, послала фотки дома с бассейном, так она почему-то на меня обиделась и перестала отвечать на письма и звонить.
— А ты не против познакомиться с детьми «не вашего круга»?
— Конечно, тетя Даша! Хочу!
Странное дело, на Веру снизошла какая-то неявная радость, лицо осветилось, и из затравленного зверька она стала превращаться в нормального ребенка.
И тут в прихожей раздался звонок. Я открыл дверь. На лестничной площадке стояли Борис и Фархад, смущенные и серьезные. Они сели за стол, на который восточный мужчина положил гору своих знаменитых чебуреков. Тетя Шура брезгливо откусила кусочек, потом другой, заурчала, одобрительно кивнула головой и попросила дать ей рецепт.
— Вот, — сказал веско Борис, указывая перстом на Фархада, — брат наш возлюбленный решил креститься.
— А ты не боишься, Фархад, осуждения соплеменников, — спросил я. — Ведь может случиться, что они не просто выгонят тебя из своей среды, а могут — прости — убить.
— Да, я знаю, — кивнул Фархад. — В «Сравнительном богословии» прочитал, что признак истинной Церкви — это гонения. Кое-что узнал о мучениях, которые устраивали мои прародители христианам. Но в этом случае, мне приходится выбирать между страхом Божиим и страхом перед людьми. И еще я, когда читал книгу, постоянно испытывал стыд за жестокость моего народа. Думаю, мне надо как-то оправдаться и по возможности искупить грехи рода. Иного пути я не вижу.
— Знаешь, Фархад, — сказал Борис, — уверен, тебе нельзя будет после крещения жить в Баку, ни тебе ни твоей семье. Если позволишь, я помогу вам устроиться здесь, в Москве. Все-таки тут, в многомиллионной толпе, легче скрыться, затеряться. Да и защитить твою семью нам будет проще. У меня есть такая возможность.
— Спасибо, брат, — ответил Фархад, — только вот, что я успел понять: если Бог меня защитит, то никто из людей ничего мне не сделает, а если Богу будет угодно послать мне испытания, то я обязан принять их с благодарностью и смирением.
— Ну, что ж, дорогой Фархад, — сказал я, поднимаясь из-за стола, — поздравляю тебя с самым важным решением твоей жизни! Обещаю помогать тебе и твоей семье в меру своих сил. Поздравляю!
А в ближайшую субботу после поста и серьезной подготовки мы с Борисом повели Фархада, Верочку и тетю Шуру в наш храм. Фархад крестился, Вера с тетей Шурой впервые исповедовались, а в воскресенье мы все вместе причастились. Конечно, отметили такое торжество праздничной трапезой. За столом я смотрел на Фархада и видел, как сквозь великую светлую радость нет-нет, да мелькнет на его смуглом лице нечто такое — решительное и смиренное, что уже принадлежало не земному, но вечному: готовность к мученичеству ради Христа, готовность пройти весь положенный ему Спасителем путь, до последнего шага, до последнего вздоха… Наверное, нечто подобное сияло на лицах первых христиан, которые шли на мучения с радостным пением, без сомнений и страха, видя каким-то сокровенным зрением разверстые небеса и Господа, протягивающего руки детям Своим.
Тетя Шура даже присмирела и тихо улыбалась всем и каждому, подкладывая в тарелки что-то очень вкусное, но эта еда уже не довлела, не казалась чем-то главным, наши взгляды порхали выше стола, на уровне глаз и сердец, потому что в душе сиял огонёк, такой светлый и тихий, такой робкий и хрупкий, и его изо всех сил хотелось сохранить.
Тетя Шура с уважением посматривала на Фархада и с обожанием — на Верочку, которая сияла, как новенький золотой империал. И никто уже ни в тот день, ни позже не сказал о девочке: «така страшнэнька», потому что Верочка стала очень и очень красивой и, пожалуй, счастливой. Она, вся пронизанная светлой радостью, звонила папе в Америку, благодарила его за эту поездку. Она согласилась ехать с Дашей в Кучино, где её уже ожидали друзья, ребята «не из её круга», но хорошие добрые мальчики и девочки, готовые дружить и делиться с приезжей девочкой своей простой чистой любовью, столь естественной для детей, которых с младенчества каждое воскресенье водили в храм и причащали Святых тайн.
Будем как дети
— Дядя Андрей, смотри, смотри: коровка с телёночком, — раздался утихающий голосок снизу.
Пока я откладывал книгу, пристраивал очки на сетчатой полке, грузно переваливался на живот на верхней узкой полке и свешивался вниз, источник голоса иссяк. Девочка Аня заснула прямо на столике, склонив кудрявую головку на руку с вытянутым в сторону окна указательным пальчиком. На всякий случай, я все же взглянул в окно, но там законное место коровок на лугу заняли облупленные панельные дома, грязные автомобили, почерневшие сараи, кирпичные магазины времен Хрущева и стеклянные новостройки с нахальными названиями, вроде «Минигипермаркет «Вавилон»», «Торговый центр «В раю»».
Мне все-таки пришлось спуститься вниз и уложить девочку «валетом» с другой малышкой по имени Света — не спать же ребенку на столике. Анечка обмякла, как большой плюшевый заяц, но стоило её пушистой головке занять место на тощей железнодорожной подушке, она открыла на миг глазенки, благодарно сверкнула из-под длинных ресниц и, вытянув губки трубочкой, уютно засопела. Так же мирно спали все остальные жители купе: Даша с Сашулей и Верочка на верхней полке. Видимо, переволновались и устали.
Меня же, как всегда в дороге, монотонный перестук колёс втянул в омут воспоминаний и размышлений. На этот раз пришлось разрабатывать тему, обозначенную словами Спасителя: Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф.18,3). Как часто бывает, эти слова я читал не раз, но пришло время, и вот именно сейчас они захватили меня.
«Всё прогрессивное человечество» в лице моих попутчиков мирно плавало в теплых потоках сонного забытья. Во мне же призывно запульсировал мозг, застучало по-особому сердце, они воссоединились в единый орган — разум, который оторвал меня от телесных ощущений и устремил в ментальные воды океанского прилива. Босые ступни чавкали по раскисшим водорослям и жидкому песку, прозрачные струи от горизонта к берегу протекали сквозь моё душевное тело, ставшее вдруг невероятно обширным, сообщая тонким рецепторам души бесконечное множество чувств и переживаний.
Моя рациональная составляющая предостерегала: «А не опасно ли это?», на что созерцатель во мне ничего не отвечал, пренебрегая ничтожеством логики в тот момент, когда эго умаляется, уступая все большее пространство потоку божией любви. В такие минуты смиренного упокоения часть вселенной, доступная моим органам чувств, распускалась цветочным бутоном. Горизонт удалялся, растворяясь в небесной синеве, воздушный купол над головой поднимался от лазури к фиолету, обнажая мириады звездных миров, а абсолютно прозрачная вода океанского прилива растворяла донный песок с камнями и водорослями, подставляя под ноги твердь бездонной невесомости. Тихо и мерно, как старинные напольные часы, в глубине души пульсировала Иисусова молитва, а я, утратив взрослые ценности, превратился в доверчивое дитя в уютных объятьях любящего могучего отца, который шептал мне на ушко отеческие наставления, а я лишь согласно кивал головой, изредка поддакивая.
Давно, давно, когда мир вокруг казался полным волшебных тайн, деревья во дворе упирались верхушками в небо, а на бутоны розовых кустов я смотрел снизу-вверх; годы и десятилетия тому назад, когда муравьи, букашки, трава и земля были гораздо ближе, чем графин воды на столе в гостиной, а папа с мамой были молодыми, веселыми и заботились друг о друге и несказанно любили меня — в те светлые времена со мной уже случалось нечто подобное.
Да, отец сажал меня на колени и учил быть вежливым, бесстрашным и послушным, а я абсолютно доверял каждому слову, потому что они изливались из любящего родительского сердца — это дети чувствуют. В таких архисложных взрослых вопросах, как распознание любви, — они самые безошибочные эксперты.
Зеленый росток тянется к свету с огромной силой. Сочной и нежной плотью он пробивает асфальт и крошит бетон. Примерно так стремимся ввысь и мы, только в отличие от безыскусного создания природы, принимая зачастую мертвенное свечение гнилушки во тьме густого бурелома за сияние солнца. В детстве нам хочется поскорей вырасти, чтобы влиться в широкий поток человеческих страстей, безудержно теряя при этом самое главное свойство ребенка — естественную чистоту, за которую на детей Господь изливает любовь.
Конечно, окружение внушает нам: цель жизни — в успехе, в призах и званиях, в количестве нолей на счете в банке, завоеванных сердцах и количестве поверженных врагов. А мы… Что мы?.. Нам бы остановиться на миг и оглянуться на себя прежнего и вспомнить, как поступали в подобных ситуациях, будучи ребенком. Разве мы уничтожали соперника ради победы? Нет, согласно мальчишеским законам чести жалели и протягивали ему руку, чтобы тот поднялся и запрокинул лицо к небу, унимая текущую из носу кровь. Можно ли представить себе, что тогда, в детстве ты не сделал бы этого? Разве нарушил бы неписаный закон — драться до первой крови! Да как же смотреть в глаза этому человеку завтра, когда игра закончена и забыта, а впереди новые игры нового дня? Разве смог бы ты потерять друга ради какого-то гола, очка или похвалы капитана команды? Нет. Потому что дружба — это святое, помощь раненому — даже не обсуждается, а игры и соревнования — они были вчера, будут завтра и всегда.
Мы ехали в поезде на юг, с Верочкой, Дашей и с тремя детьми из детского дома. С некоторых пор моя ненаглядная берет с собой в отпуск сирот. Детский комбинат, в котором директорствовала Даша, открыл группу для детей, оставшихся без родителей. Даша брала по очереди сирот с собой в отпуск, в поездки по Москве и Подмосковью, иногда приводила к нам домой и кормила супом, устраивала поспать, если они устали. Странно, дети никогда не мешали мне, и даже наоборот — успокаивали, иногда веселили, а иной раз внушали молитвенное настроение.
Наверное, это «не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» живёт в генах каждого человека. Взрослые, приближаясь к Богу, становятся детьми. Мы невольно сравниваем свои жиденькие силёнки с неограниченным могуществом Бога Вседержителя — и вот стремительно умаляется наше самомнение. Называя себя рабами или детьми Божиими, мы унижаем себя перед Великим и Непостижимым, тем самым возвышаясь над страхом вечной гибели, в которую нас так упорно тащит враг человеческий, над его низменными соблазнами и пошлыми страстишками.
Как же иной раз замысловато и вместе с тем явно, Господь избирает и призывает к Себе! Думаю, самую главную роль в успешном воцерковлении тети Шуры и Верочки сыграл приход в наш дом Фархада. Признаться, это всегда волнует: близость человека, который сознательно и добровольно решился на мученичество ради Христа. Всего-то прочитал жития первохристианских мучеников и учебник по Сравнительному богословию! Хотя нет, не «всего-то»… Этот честный и смертельно усталый от вездесущего зла человек внутренне тянулся к правде и свету и нигде больше не смог этого найти, как только у Христа — подателя истины и света. Конечно, какую-то промыслительную роль сыграли и учеба в Москве, и поездка к канадским старообрядцам и это повсеместное «Капитализм — есть антисоветская власть плюс долларизация всей страны», потеря друзей, нищета… Не зря Борис так вцепился в него, не зря помогает его семье устроиться в Москве и начать здесь свой маленький бизнес, не зря познакомил его со своими особистами, чтобы те охраняли его семью. С годами, вера наша умаляется, затухает, что ли… В таких случаях нам просто необходима близость таких ярких неофитов, как Фархад, с их огненной верой и стремлением идти до конца, даже если и мучительного… Эта его детская вера, простая и кристально чистая, как у ребенка, естественная, как у младенца — в ней мы узнаем себя, прошлых.
В эту минуту вспомнилась недавняя встреча с Ларисой. Мы с Дашей в тот день поехали на автобусе в Детский мир: у неё была благотворительная кредитная карточка на покупку детских вещей. Забив детсадовский ПАЗик одеждой, памперсами, игрушками, мы решили не забыть и Дашины потребности и зашли в ЦУМ. Пока Даша копалась в дамских товарах, я стоял у входа в бутик и записывал богатые впечатления дня в блокнот: не пропадать же добру. Вот тут и дернула меня за рукав Лариса. Она была увешана яркими пакетами и светилась от счастья. Видишь, мой бывшенький, я в полном порядке, говорила ехидная её улыбка. Она за минуту рассказала, как к ним в магазин зашел как-то богатый дядечка, очаровался её красотой и пригласил на ужин в дорогой ресторан. Потом пригласил домой, где и предложил остаться в качестве гражданской жены.
А вот и он: к нам подошел полный лысый мужчина лет шестидесяти и вежливо поздоровался со мной. Лора прильнула к его округлому плечу.
— Знаешь, Лариса, я и не сомневался, что у тебя всё будет хорошо, — сказал я.
У меня имелись основания так говорить, ведь я за неё каждый день молился.
— Берегите её, она хороший человек, — сказал я старичку-жизнелюбу, на что он проурчал нечто маловразумительное, но благодушное.
И тут из бутика вышла моя Даша. О, сколько может нести в себе женский взгляд! Лора с Дашей обменялись приветственными кивками, секундными искрометными взорами, сразу всё поняли, оценили друг друга. После этой мимолётной дуэли, они молча разошлись, вцепившись в предплечья мужчин, Лора — подавленная, Даша — ликующая, с высоко поднятой головой. В тот день моя супруга выглядела в высшей степени привлекательно: её глаза блестели, на щеках выступил румянец, волосы слегка растрепались, что придавало внешности гламурную «сумасшедшинку», а количество пакетов с ярлыками знаменитых фирм в наших руках явно преобладало. В тот вечер Даша не задала ни единого вопроса о Ларисе. Она просто светилась радостью женщины-победительницы, сверкала глазами и говорила со мной ласково, как в первый день знакомства. А у меня в душе горела любовь к Даше и тлела зудящая жалость к Ларисе, такой одинокой и потерянной. Это различие столь явно бросилось в глаза: свет благодати в одном человеке — и мрак неверия в другом.
Или взять, к примеру, Диану. Девочке пришлось пройти через искушение красотой, потерять её, узнать цену нынешней дружбы — разочароваться во всём этом и прийти в Церковь. Сейчас это уже не та разбитная нимфетка-искусительница и не та изуродованная ожогами несчастная женщина, близкая к самоубийству — нынешняя Дарья больше похожа на идеал кроткой девушки, воспетой поэтами ушедших веков. У неё очищенная и обновленная душа, у неё новая кожа на лице и совсем иное поведение и взгляд. И Дарья, пройдя сквозь огненные испытания, вернула себе детскую чистоту.
Правда, сейчас она стоит перед непростым выбором: выйти замуж за православного парня Бориса, прихожанина нашего храма, или стать монахиней, к чему она вдруг почувствовала призвание, объездив три монастыря. Она приходила ко мне советоваться, но я предложил ей обратиться с этим к опытному старцу. Возможно, когда вернусь домой, Дарья примет решение…
Впрочем, самое главное в её жизни уже произошло: девушка очнулась от одержимости грехом и стала на путь покаяния. И кто знает, что бы с ней могло произойти, если бы не Игорь со своей созерцательной нестяжательностью, если бы ни его знакомство с Антикваром… Как же необычны, порой, пути нашего спасения! Скажи, например, молодому неопытному и не в меру горячему неофиту, что человека спасёт вон тот жирный дядька с толстой золотой цепью на бычьей шее — он и не поверит. А наш Созерцатель поверил Антиквару и не отвернулся от него — и вот результат: Игорь заработал деньги и отдал девушке на пластическую операцию. И получилось всё это как раз в то время и в той ситуации, когда Диана была готова к самоубийству. Ну не чудо ли! Да. Но чудо — в абсолютной вере Созерцателя, в его простой детской молитве, когда человек превращается в дитя несмысленное и, предстоя лицом к лицу горячо любимому Отцу, просит у Него спасения души грешной девочки — и получает!
Совсем недавно такая «пассионарная», разбитная и шумная тетя Шура вдруг после касания Божией благодати превратилась в тихую задумчивую девочку, которой она была много лет назад. Она прихватила в поездку фотоальбом, где я видел на карточке её, совсем маленькой, среди подружек детства, среди которых и Дашу в косичках. А теперь вспоминаю тетю Шуру именно такой, как на той пожелтевшей черно-белой фотокарточке: хрупкой, большеглазой тихоней, задумчивой, доброй и наивной. Как мы ни пытались уговорить её пожить с нами подольше, съездить вместе на юг, она мягко, но решительно отказалась:
— Та шо вы, дитоньки, в мэнэ дома вси таки нещасни. Трэба их до церкви довэсты, щоб и воны то ж пережили, що я. Цэ ж такэ щястя! Така радисть! А воны лякаются до Богу ходыты. Треба йим трохы пидмогты! — Да так и уехала, тихой, доброй, с мокрыми глазами.
Ну а мы тем вечером, проводив тетушку, купили билеты и уже через день сели в поезд, благо, Антиквар не пожалел для наших путешествий денег. Вот мы и решили ни в чём себе не отказывать. Верочка рядом с сиротками превратилась в маленькую маму, она готова была днем и ночью носить малышню на руках, кормить с ложечки, читать сказки. Наконец-то девочка почувствовала, что в ней кто-то нуждается, еще более слабый и беззащитный. Сироты — это ведь особая категория детей. Они на любую заботу откликаются искренней благодарностью, буквально льнут к старшим и очень дорожат дружбой с детьми. А эти детки еще и причащаются каждое воскресенье, что делает ребенка светлым, ласковым и радостным, как огонёк свечи… Вероятно, близость этих ангелоподобных существ и всколыхнула во мне интерес к слову Спасителя о детях.
Сам того не осознавая, я учился у маленьких человечков жить по-христиански. Взрослые ведь постоянно играют какие-то роли, подгоняя своё поведение под социальные типажи. Даже не замечая того, они врут почти непрестанно. Для детей ложь неестественна и враждебна, они её чувствуют, сразу замыкаются, защищаясь от зла, и теряют к вруну доверие. Детям лгать бесполезно. Ангел-хранитель им подсказывает, где зло, а где добро, где ненависть, а где любовь. Дети не стесняются физиологических проявлений тела. Если появилась потребность, они громко заявляют о желании посетить туалет. Они целомудренны, поэтому и стыдиться своей физиологии им не приходится. Попадись такому младенчику на глаза нечто эротическое, он, скорей всего, пожалеет дядю и тётю: ведь им же холодно, на них нет одежды!
Ведь если разобраться в смысле слова «целомудрие», получается, что это цельная, не поврежденная, не рассечённая грехом мудрость, дарованная человеку от рождения. Она теряется по мере нарастания греховности, а восстанавливается по мере очищения души. Так ребёнок становится нашим учителем Божией премудрости. Так, близость к тебе чистого человечка и тебя самого поднимает в небесные высоты чистоты, где воздух прозрачен и свеж, где Бог так близок и ответен.
Да, мы — дети — иногда любим немного и пошалить! И не мешайте нам слегка побегать, попрыгать, посмеяться. Нам необходимо играть, чтобы научиться чему-то серьезному. Дайте нам кубики, машинки, куклы и мячики. Позвольте нам забыть хотя бы на время ваши взрослые заботы, тревоги и… что там еще у вас. А мы — дети — из наших игрушек построим свой мир, красивый, уютный, добрый и веселый. И вы уж не обижайтесь — мы будем жить в нашем игрушечном мирке так, как это представляется нам правильным. В конце концов, мы же не можем помешать вам делать ваши гадости, так и вы не мешайте делать нам наши радости. …К тому же Сашуля и Светочка уже проснулись, сползли на коврик на полу купе и принялись друг дружку щипать и лягаться. Потом обнаружили вокруг залежи обуви и стали строить из неё пирамиду. Пора и мне включиться в нашу детскую игру. Как здорово, что моя жена педагог! Как хорошо, что она из педагогических соображений не помешает нам слегка пошалить, чтобы встать на путь восхождения в страну детства, что где-то совсем близко с Царством Небесным.
Как говорим мы — дети: отгадайте, к кому на Черное море мы приехали? Правильно, в Сочинскую Кудепсту к Апостолосу! Дети его длинное имя стали сокращать, и вот он стал сначала Апостиком, потом Постиком, а скоро и совсем уж дядей Пусиком. Мы как-то быстро привыкли к новым условиям, у каждого появился свой любимый уголок, но основным местом сбора стала беседка с круглым столом под навесом из виноградных лоз. В первый вечер, теплый, душный, мы с аппетитом отведали люля-кебаб на мангале с салатом из мясистых помидоров и зелени, пили чай с кизиловым вареньем и обсуждали насущную проблему. По зеленому тенистому двору веяли душистые ветра, сплетая замысловатые ароматические букеты из запахов угольного дымка, аджики, пригорелого мяса, истекающих сладким соком цветов, крема, окурков, морских водорослей, бензина и пота. Так вот мы отгадывали, что за запах и откуда он взялся. А утром, едва проснулись, обнаружили новую гамму: горная свежесть, испаряющаяся роса, просыпающиеся цветы, кофе и молочная каша.
Из будки, гремя длинной цепью, изредка выходил на прогулку старый пёс. Хозяин звал его Шалопаем, объяснив, что когда он был щенком, отличался двумя особенностями: все время шалил и лопал все подряд, отсюда и прозвище. Дети немного поиграли с ним, обнаружили доброту, интеллигентность и необычный восточный колорит внешности и дали псу прозвище Шалай.
После обязательной утренней молитвы, завтрака и купания на море, старый грек возил нас на джипе в Преображенский храм, построенный в 1914 году на пожертвования Государя Николая Александровича; на экскурсии в горы к Агурским водопадам, в аквапарк, и даже в дельфинарий. Вот уж где мы все — дети, Верочка, мы с Дашей, дядя Пусик, дельфины и многочисленная публика — повеселились на славу! Суровый с виду грек при детях превращался в улыбчивого парня, своего в доску, они по нему ползали, дергали за усы, таскали за руку посмотреть на большую улитку, на одинокого селезня в самшитовых кустах, трудолюбивого ежика и мудрую черепаху. Вечером старик помогал малышне ловить светлячков и разыскивать стрекочущих сверчков. А еще он разыскал в сарае ручной пресс и давил детям сок из винограда, открывал компоты из алычи, варенье из инжира, приносил козье молоко и телятину для котлет.
А однажды старика уговорили сходить на пляж искупаться в море. Такого уникального события, наверное, не случалось со времен его юности: местные жители всегда отличаются отсутствием загара и полным пренебрежением к морю. На пляже старик разделся до черных семейных трусов, дети сразу обступили его и подвергли тщательному осмотру:
— Дядь Пусик, ты такой беленький, такой красивенький — заявила Света, шлепая ладошкой по бледным спине и животу, не знавшим солнца, что особенно контрастировало с почти африканским загаром лица и рук.
— Пусинька, до чего у тебя животик нарядна-а-ай! — пропела Аня, ползая пальчиком по животу с рубцами шрамов от полостных операций.
— Апостолос, а ты крепкий мужчина, — баском констатировал Саша, ощупывая довольно рельефные бицепсы старого грека. — Мы тебя еще женим.
— Ой, только не на той тетечке, которая ходит к нам. — Света пыталась вспомнить сложное имя. — Как её… А, вот — Эля!
— А что, детка, разве тебе Эля не понравилась? — опечалился Апостолос.
— Не-а, — крутанула головой девочка. — У неё руки холодные, глаза колючие и губы слюнявые.
— Губы — это от французской помады, — пытался защитить подругу старик.
— Да ты не бойся, Пусинька, — стала успокаивать его Аня. — Напротив тебя хорошая тетя живет. Она добрая, детей любит, нам пирожки, конфетки и разные там груши дарит и на тебя все время смотрит. Вот так! — Аня изобразила на лице мечтательное выражение, сплела ручки в замок, закачалась из стороны в сторону и стала глубоко вздыхать. — Короче, любит тебя.
— Да вы что! — изумился старик. — Это надо же, а я и не замечал. Её Ниной зовут. Она хорошая женщина…
— И красивая! — добавила Света. — И пахнет хорошо! Вареньем!
— А если её приодеть и по улице под ручку пройтись, вот увидишь, все-все на неё любоваться будут, — добавила Аня.
— Ой, спасибо, детки, — шептал Апостолос. — Живешь вот так рядом с хорошим человеком и не замечаешь. А вы мне, значит, глаза открыли. Ой, спасибо вам!
— Да не вопрос, — махнул рукой Саша.
— Носи на здоровье, — сказала Света. Потом подумала и на всякий случай добавила: — На руках. Как в кино!
На пляже Саша увидел, как я плаваю в маске, и попросил её примерить. Я подтянул ремешок, надел ему на лицо и осторожно погрузил стекло маски на сантиметр в воду. Мальчик почувствовал себя первооткрывателем: он обнаружил, что под водой своя особая жизнь, множество неизученных им животных и растительных особей. Немного подучившись на мелководье рассматривать подводный мир, так чтобы не наглотаться воды и не захлебнуться, он попросил сводить его на волнорез. Это старое бетонное сооружение выступало из воды всего на вершок, поэтому там удобно было лежать на животе, погрузив маску под воду. Да, это вам не мелководье — на волнорезе толща воды составляла около двух метров, и тут всё было по-серьёзному: из-под камней высовывали клешни огромные крабы, среди водорослей плавали крупные рыбины с серебристыми акульими боками, стайками носилась и сверкала на солнце мелкая хамса, в медленном танце кружились желеобразные медузы с ядовитыми щупальцами, на песчаных ренуаровских солнечных пятнах возлегали бычки с зеленушками и… серебряные монеты, брошенные отдыхающими, чтобы непременно вернуться сюда еще раз. Сам волнорез был облеплен раковинами мидий, которых мы отдирали, чтобы потом принести домой, вскрыть, полить соком лимона и слизнуть упругого солоноватого моллюска, пахнувшего морем, как это обычно делают империалисты-колониалисты в своих дорогущих ресторанах в случае с устрицами.
Пока юный исследователь морских пучин учился, он сурово отгонял от себя девочек. Но как только почувствовал себя опытным подводником, он предложил Свете и Ане разделить с ним радость открытия. О, как заботливо этот маленький мужчина опекал девочек! А как они вместе визжали от восторга!
Аня отличалась кротостью и задумчивостью, она любила рисовать, вязать крючком шарфик и вышивать на пяльцах голубей и цыплят, по улице ходила с Дашей, вцепившись в её руку. Света обладала неистовым темпераментом и общительностью. Она в первый же день перезнакомилась с соседями, торговцами на пути к морю, перепробовала всё, что они продавали. Залезла на ореховое дерево, пыталась забраться на пальму, прошлась по краю высокого бетонного парапета, распугала кошек и собак, по-южному томно возлегающих на солнышке, перещупала весь товар на лотках в торговом ряду, перенюхала все цветы, облазала три детские площадки с качелями-каруселями, попробовала на вкус морскую воду, насобирала горку камешек, попрыгала на временно освободившемся шезлонге — и хоть бы что! Ни синяка, ни шишки, ни одного замечания от местного населения. Наоборот, непосредственность девочки всех умиляла, бабушки-торговки сами протягивали ей персики, груши, вишню-черешню, мороженое и еще эти красные сладкие сосульки — чурчхеллу… Я снимал Свету с деревьев и стаскивал с парапета. Верочка всюду бегала за непоседой, но бесполезно — не успевала. Даша только изредка подзывала Свету и ровным голосом делала ей замечания. Саша, если видел вопиющее нарушение правил капиталистического общежития, мог Свете и подзатыльник отвесить. Правда, потом сам бегал за ревущей на всю улицу девочкой и просил прощения. Да она и сама осознавала свои проступки и легко раскаивалась. Однажды утром она стояла у зеркала в ванной, чистила зубки и ругала собственное отражение: «Холера ты карасиновая-а-а-а! Синдипонка ты шипром недодушенная-а-а-а! Сексотина ты мордастая-а-а!» В общем, девочка каялась…
Я никогда не ругал детей и не наказывал. Потому что в памяти на всю жизнь осталось одно очень важное событие.
В детстве я долго носил шубу. Такие цигейковые шубы носили девчонки, поэтому я её ненавидел. Однажды осенью сказал отцу, что пусть лучше он меня убьёт, чем я снова зимой надену «эту девчоночью гадость». Думал, отец меня изобьёт или устроит скандал — нет! Он молча вышел из дому и спустя полтора часа вернулся с пальто. Это было настоящее мужское пальто из тяжёлого драпа с ватином и цигейковым воротником. Оно, конечно, было мне великовато: одежду детям всегда покупали на вырост. Но мама подвернула рукава, подшила низ — я надел его и почувствовал себя мужчиной. А еще отец подарил мне пару военных кожаных меховых варежек с отделением для указательного пальца, на случай стрельбы.
Когда в конце октября выпал первый снег, я надел пальто с варежками и вышел гулять во двор. Белый снег, чистый морозный воздух, пахнувший почему-то арбузом, выгнали детей из квартир. Они высыпали из домов, играли в снежки, лепили снежных баб, строили крепость. Мы все будто опьянели: визжали, кричали, толкались… Под тонким слоем снега, когда мы накатывали его на ком, оставалась полоса мокрой земли. Снег мало-помалу весь скатался в рукотворные сооружения, которые возвышались белыми островами среди серой грязи. Но мы этого не замечали, мы кричали, толкались и падали, и никто не думал о том, что падать приходилось уже в липкую грязь.
Часов около десяти вечера родители стали звать домой детей, одного за другим. Мы с моим другом Толиком уходили последними, с великим сожалением. Кончился красивый белый день, полный чудес и щенячьего веселья. Мы поднимались по освещенной лестнице, я — на третий этаж, Толик — на пятый. И только тогда я вдруг обратил внимание на пальто. О, ужас, моё новое пальто стало грязным и мокрым! Я сказал: «Толик, ты иди, а я хоть немного почищу одежду». Пробовал трясти, тереть варежкой, но грязь только глубже впитывалась в толщу ткани.
Обессиленный и растерянный, сел на ступеньку, и вдруг меня пронзила ужасная мысль: всё, больше не будет радости и смеха, летающих снежков и штурма крепости с раскатистым «ур-р-ра-а-а!» Сейчас рассерженные родители меня изобьют, станут долго и жестоко ругать, всячески унижая. Придется снова ходить в девчоночьей шубе с короткими рукавами, а пальто почистят и повесят в шкаф до тех пор, пока я не научусь вести себя по-взрослому.
В те тревожные минуты огромное черное горе парализовало меня. Будущее представлялось длинной похоронной процессией, когда скорбящие медленно идут за гробом и рыдают, отчаянно и безутешно, потому что тот, кто лежит в страшном красном ящике, уже никогда не встанет, не улыбнется и не увидит белый снег. В те минуты мне вдруг самому очень и очень захотелось умереть, чтобы прервать бесконечную цепочку тоскливых черных дней. Я даже привстал и хотел сбежать вниз, чтобы там, в пустом дворе, в пустом городе найти способ умереть как-нибудь не очень мучительно, поскорее.
…В этот миг скрипнула наша дверь, открылась, и на пороге вырос силуэт угрюмого отца.
— Понимаешь, пап, там было так весело! Белый снег, снежная баба, крепость, снежки!.. Мы все смеялись, толкались и падали!..
Я не заметил, как с испуганного шепота перешёл на отчаянный звонкий крик. Отец затащил меня в прихожую, захлопнул дверь, прижал меня к мягкой кожаной обивке и спокойно сказал:
— Ничего страшного. Раздевайся и ступай ужинать. Пальто мама почистит. Сын, это всего лишь одежда. Понимаешь? Ты еще столько износишь её, изорвёшь и выбросишь. Это всего-то шмотки. Е-рун-да.
Мама спокойно и молча приняла из моих рук шапку, пальто, брюки и тихо сказала:
— Умойся и вымой руки. На кухне на столе пельмени. Поешь.
В ванной я пустил сильную струю воды и дал волю слезам. Только что я готов был умереть от страха и позора, а меня простили и даже не отругали! Минуту назад казалось, что жизнь кончена, а впереди только мрак и тоска — но меня простили!.. Я смывал грязь с черных рук, смывал грязь, пот и слезы с лица и как страшную клятву повторял: «Никогда в жизни я не буду ругать и бить детей! Никогда! Детей буду только любить и прощать им все шалости, прощать все ошибки. Вот так!..»
С того вечера я изменился. Понял, как люблю родителей, друзей, учителей, соседей. Я старался быть аккуратным, добрым и трудолюбивым. Раньше я посмеивался над детьми младше меня и гнал их от себя. С того дня я их стал опекать. Помогал им, защищал от хулиганов, разнимал драки. Изучал их поведение и понял очень важную вещь — они лучше меня, искренней, веселей и добрей… Наконец-то я перестал стыдиться быть добрым, заботливым сыном. Старался понять и простить родителей, друзей, детей, стариков — всех. Это оказалось очень интересным занятием — изучать людей, чтобы понять и простить. Мама сказала, что я стал быстро взрослеть. Я стал жить интересно и насыщенно. Как любил говорить отец: «Жизнь стала приобретать вкус!»
Мне самому, признаться, было очень интересно с детьми. Вместе с ними я восторгался тем, мимо чего так бессердечно проходил раньше. Пришлось узнать и выучить множество названий цветов, деревьев, улиц, зданий и народностей — о чем спрашивали дети. А вечером после ужина мы ходили провожать солнце. Устраивались на теплом песочке пляжа, прижимались спинами к нагретому камню набережной и зачарованно наблюдали, как солнечный диск, небо, море, облака, камни и песок меняют цвета от нежно-золотистого до пурпурного и обратно. И в эти минуты не только непоседа-Света, не только завсегдатаи питейных заведений на набережных и вечно орущие торговцы, но и вся природа затихала и, затаив дыхание, наблюдала за вселенской солнечной феерией.
Однажды Апостолос остановил машину у скульптуры «Мацеста». Казалось, голова девушки высечена в скальных плитах вручную. Мне всегда казалось, что это древнее языческое изваяние, но согласно табличке, скульптуру воздвигли в 1967-м году. Дети стояли, пораженные красотой и циклопическими размерами гранитного лица, опутанного колючей ежевикой.
— А почему она такая каменная? — спросила неугомонная Света.
— Она не всегда была такой, — сказала Даша с педагогической ноткой в голосе. — Девочка была такой же непоседой, как некоторые. Её просили успокоиться, стать послушной, но она продолжала бегать и прыгать где ни попадя, лазать по деревьям и выпрашивать персики у бабушек. Тогда пришел злой колдун и девочку заколдовал, чтобы другим неповадно было. С тех пор она так и стоит — каменная и вся в колючках.
— Ой, — сказала Света, прижавшись к Даше, а потом подумала и для убедительности заголосила: — Ой-ой-о-о-о-ой! Не хочу быть каменной! Не хочу в колючках! Я больше не буду! Я послушная!
— Молодец, — пропела Даша и погладила девочку по головке. Потом подмигнула мне и шепнула: — Все-таки великая сила — искусство!
Причастились мы в Преображенском храме. Вышли из благоуханного полумрака в тихое воскресное утро, пронизанное солнечным светом, и, притихшие, медленно, как в замедленном кино, расселись по сиденьям джипа Апостолоса и торжественно двинулись домой. Там Даша разогрела суп, нарезала салат и мы, чинно потрапезничав, удалились в комнаты на полуденную сиесту. Вечером гуляли по набережной, позагорали на пляже и вернулись домой. Дети вели себя на удивление спокойно. В душе зарождалось таинственное ожидание чего-то необычного.
Перед сном Света затащила меня в детскую комнату, нырнула в постельку и сказала:
— Дядь Андрей, ты нам еще раз про Лимпомпу расскажи.
— Значит так, — сказал я серьезным тоном, оглядывая детское население. — В жаркой-прежаркой Африке есть река Лимпопо. Большая и красивая. Я предлагаю этой ночью во сне отправиться туда. Запоминайте! Когда попадете в Африку, идите от Занзибара к Килиманджаро по дорожке. Увидите указатель. На нем будет написано: «На Лимпопо — прямо!» — так вы шагайте строго по указателю, никуда не сворачивая. Дойдете до реки. Там на песчаном берегу увидите высокую пальму. Так вы от неё сверните направо. Там, в двадцати шагах от пальмы я и буду вас ожидать. Как увидите дивной красоты мужчину средней упитанности в самом расцвете сил в ярко-желтой рубахе, синих шортах и большой белой панаме, лежащего на оранжевом шезлонге под большим тростниковым зонтом, — это я и буду. Когда вы подойдете, я уже займу для вас шезлонги, закажу полотенца и по большому стакану мангового сока.
— А ты придешь? — спросила Света. — А то будет как в прошлый раз: я пришла на Лимпомпу, а тебя не видела. Одни крокодилы и обезьяны, и бегемотики с животиками.
— Ну я же тебе в прошлый раз как говорил? От пальмы нужно сворачивать направо. А ты куда пошла? А ты вильнула налево. А там — любому негритёнку ясно — никого, кроме крокодилов и обезьян, бегемотов и гиппопотамов — нет! Это же элементарно! В общем, на этот раз не забудь: от пальмы направо! И там я вас встречу. Будем купаться, загорать, ловить на мормышку крокодилов, прыгать с обезьянками на лианах, пить сладкий сок и жевать свежие ананасы. Весело будет!
— От пальмы направо, — как заклинание повторили дети. — До встречи, дядь Андрей!
— Спокойной ночи и веселых африканских приключений, — пожелал я напоследок, выключил свет и покинул комнату.
Вышел во двор, постоял в тишине и покое, полюбовался звездным небом, послушал скрежетание сверчков, глубоко вдохнул густой ароматный воздух. Вернулся в дом, уединился в свободной комнате на втором этаже, поработал на ноутбуке. Думал, может, меня посетит вдохновение, и я напишу что-то очень хорошее. Нет. Сознание рассеивалось, клубилось и только Иисусова молитва уверенно текла плавным ручейком, и тишина в душе, и неясное предчувствие, как поздней ночью перед рассветом.
Самая долгая ночь
Даша заглянула ко мне в «кабинет» и, едва сдерживая зевок, доложила, что ложится спать. Зашел Апостолос, принес фрукты и чашку свежего виноградного сока, увидел мою задумчивость и тоже удалился. В доме установилась невероятная тишина. Я без спешки и суеты прочитал благодарственные молитвы по Причащению, Правило на сон грядущим, главы из Апостола и Евангелия — да и прилег отдохнуть.
На границе яви и сна невидимые теплые руки переложили меня с дивана на дно лодки и пустили плыть по тихому течению туда, где призывно сияла заря востока. Но вот моё плавание остановилось, я привстал, поднялся на берег, заросший высокой зеленой травой, и прошел несколько шагов вперед. Я не знал, куда и зачем иду, просто двигался сквозь упругую растительность и поглядывал под ноги, чтобы никого не задавить, не ступить в лужу. Скоро я поднялся на вершину покатого холма и увидел впереди широкую долину сказочной красоты.
— Как хорошо, что ты причастился, — раздался за спиной знакомый голос. — А то бы пришлось тебе пройти через мучения.
Я оглянулся — передо мной стоял Игорь и приветственно улыбался. Он был одет в светлые брюки и рубашку навыпуск, на ногах — нечто вроде белых кроссовок, только без шнуровки. Примерно так он одевался летом, в самую жару. Лицо его стало гладким и красивым и будто подсвечивалось солнцем, которого, кстати, в этой местности заметно не было. Я обнял его, он оказался теплым и мягким, от него очень приятно пахло. Волосы на ощупь показались шелковистыми и будто перетекали сквозь пальцы. Из серо-голубых глаз на меня изливалась любовь, добрая, снисходительная и… сильная, как полноводный поток, текущий с горы.
— Соскучился по тебе, — только и смог я вымолвить.
— Знаю, — сказал он, не открывая рта, чуть отстранившись от меня. — Поверь, мы тут всё о вас знаем. Мне необходимо кое-что тебе показать. Но ты помнишь, как подниматься в рай?
— Через ад?
— Совершенно верно. Вот туда мы с тобой сначала и направимся. Пожалуйста, ничего не бойся, только крестись и непрерывно молись.
И в тот миг мы оказались на краю пропасти, куда, взявшись за руки, полетели вниз по крутой спирали. Быть может, из-за близости Игоря, крепкой хватки его руки, я не испытывал никакого страха, скорей детское любопытство, будто старший брат взял меня с собой и показывает те места, которые сам привычно посещает.
Уродливые прокопченные камни огромной шахты, по которой мы спускались, с каждым витком всё более раскалялись. От жерла шахты по горизонтали отходили туннели. Иногда мне удавалось слегка затормозить снижение и заглянуть внутрь: там были ниши, в которых на многие километры тянулись плотные ряды человеческих тел, голов, лысых черепов, над которыми носились мрачные тени и сверкали яростные глаза. Наконец, камни шахты раскалились докрасна, а наши с Игорем тела объяли языки пламени. Я не чувствовал ни жара, ни боли от ожогов, моё тело будто окружал жаропрочный скафандр — такую мощную защиту творит благодать Божия, полученная мною во время Причастия. Так же бесстрастно и спокойно погрузился в ревущий шторм огня мой попутчик.
Я ощутил под ногами твердую почву. Глянул вниз — мы стояли на горящих красных камнях. Оглянулся и увидел вокруг огромное множество человеческих тел. Они стояли друг на друге, объятые ревущим пламенем. Глаза были выпучены и устремлены вверх, в раскрытых ртах также горел огонь, люди извивались, насколько позволяла ужасная теснота. Тела производили впечатление горящей плоти, которую я как-то видел в кино про пожарников. Только эти несчастные не сгорали, как на земле, превращаясь в пепел, а горели непрестанно.
— В этом ряду, в этом самом месте, — показал рукой Игорь, — до недавнего времени находился твой отец, за смертные грехи.
Невидимая мощная рука вырвала нас из геенны, подняла, как на лифте вверх и пронесла по горизонтальному туннелю в обширную пещеру. Здесь люди копошились в мерзкой субстанции, похожей на содержимое выгребной ямы деревенского туалета. Их тела покрывали черви и пиявки, а некоторых еще пожирали огромные змеи, размером с питона — тот самый «червь неусыпаемый».
— И здесь побывал твой отец, — сказал Игорь. — Это мучение за пренебрежение постами, средой и пятницей, за ядение без молитвы.
Не успел я сообразить, как нас вынесло из этого, прямо скажем, малоприятного места и мы оказались в безжизненной пустыне. Как и везде, над головами висел арочный свод из уродливых камней. Густая тьма и невыразимая тоска насыщали атмосферу этого мучилища. Люди здесь напоминали объемные тени. Кто сидел, кто стоял, опустив унылые мрачные лица; некоторые лежали ничком — и все тряслись от страха. Над несчастными носились черные тени уродливых созданий — они вонзали длинные пики то в одного, то в другого и, услышав протяжный мучительный стон, удовлетворенно каркали. Парочка любопытных уродцев решила проколоть и нас с Игорем, они подлетели и замахнулись — но Игорь перекрестился, за ним следом я — и нечистых будто дубиной отбросило в самый дальний угол пещеры.
— Здесь находятся те люди, которые или не имели или искупили смертные грехи, но к Богу не пришли, и Церковь нашу святую презирали.
Игорь поднял руку и указал на свернувшегося калачиком человека. Его изможденное тело покрывала темно-зеленая слизь.
— Это твой отец.
— А могу я с ним поговорить?
— Попробуй. Только не ожидай горячих объятий и радостных восклицаний.
— Папа, я твой сын Андрей, — сказал я.
— Ну и что, — прошипел тот, кто был моим отцом, не поднимая лица.
— Мой проводник сказал, что наши молитвы вытащили тебя из геенны огненной и освободили от червя неусыпаемого.
— Что-то плохо вы молились, — сказал он скрипучим голосом. — Я горел в огне, и меня жрали черви миллион лет.
— Что ты, — изумился я, — ты умер всего девять лет тому назад.
— Здесь другое время, — сказал он ворчливым полушепотом.
— Ты не рад мне? — спросил я обескуражено.
— Здесь никто не радуется. Это место мучений и боли. Уходи!
Он поднял на меня лицо — я отшатнулся: это был череп в ошмётках обугленной кожи, из глубины глазниц тускло сверкнули черные зрачки.
— Сын! Андрей, — сказал он, сотрясаясь всем телом, — молись за меня. Вон там сидела твоя мать, — он дернул черепом в сторону пещерки в скале. — Её отсюда ангелы наверх подняли. Я тоже туда хочу…
— Я не оставлю тебя, отец, — сказал я. — Обещаю молиться за тебя пока будут силы.
…И нас опять подхватила невидимая рука и вынесла прочь от страха и боли, от смердящего мрака и смертной тени. Мы вернулись на прежнее место среди густой сочной травы на берегу реки.
— Надеюсь, ты не сильно опечалился, — сказал Игорь. — Видишь, как нужна твоя молитва! Ты уж не останавливайся, молись день и ночь. А теперь пошли туда, где царствует вечная жизнь.
По широкому, залитому рассеянным светом лугу, по упругой траве, сквозь тонкие ароматы и радужный свет — мы пошли туда, где сверкал золотым светом огромный храм, увенчанный громадным бриллиантовым крестом.
— Я намеренно не показал тебе других твоих родичей и знакомых, чтобы не опечалить. Просто молись за всех, кого записал в помянник, и надейся на милость Божию. Ваши молитвы, пока выживете на земле, имеют огромную силу.
— Я увижу мать?
— Ты увидишь всех, кто в раю. Думаю, тебя кое-кто удивит.
Наконец, мы вошли под своды храма. Внутри стояло множество людей в белых и золотых одеждах. Моя одежда также побелела и стала настолько легкой, что я перестал чувствовать кожей её касание. Головы всех людей были повернуты к центральному храму, от которого исходило мощное сияние, — на лицах, как у детей на Рождество — ожидание чуда, подарков, чего-то светлого. Думаю, если бы не Дары Причастия, которые растворились во мне несколько часов назад, я бы ослеп. Мы приблизились к главному храму во вселенной и встали напротив врат. Моё сердце сильно забилось, и нечто вроде страха прошлось по мне легкой вибрацией. В этот миг зазвучали невидимые трубы, все встрепенулись, херувим у входа приподнял копье с хоругвью, и врата распахнулись. Там, на престоле, весь будто в сверкании молний, величественно восседал Царь царей — Иисус Христос. Мои ноги подогнулись, и я оказался на коленях — лбом в хрустальный пол. Господь благословил нас, и мы встали.
Я не мог оторвать глаз от лица Бога моего — из Его очей изливалась на меня такая милость и такая любовь, что сердце таяло и растекалось по груди моей. В тот миг я забыл всё и всех, моя душа ликовала и пела молитвы, благодарила и воссылала славу Царю Славы. Я не заметил, как врата закрылись и херувим приспустил копье с хоругвью. В те блаженные секунды я весь словно был объят благодатным огнем. А передо мной прошли те люди, которых Господь дал мне любить — и самодействующая молитва, такая красивая и нечеловечески сильная связали нас в одно огненное сообщество любви.
Не знаю, сколько это длилось, но только моего плеча коснулась рука, я оглянулся и увидел Игоря. Его лицо сияло, как у Моисея, когда тот спустился с горы Синай. Мне ничего не нужно было говорить или объяснять. Просто повернулся и пошел за Игорем.
Вокруг нас стояли люди с такими же сияющими лицами. Они смотрели на меня и я чувствовал то, что на земле длилось секундами, а здесь непрестанно — меня любили! И я любил всех. И вон того мужчину в красном одеянии с мученическим венцом над головой, расстрелянного коммунистами и еще живым закопанного в могилу; и деву в белых одеждах непорочности с лилиями в распущенных волосах; и женщину со следами былых ран, растерзанную львами на арене римского Колизея; и монахиню невиданной красоты — невесту Христову. Я будто вспоминал их имена, знал всё об их жизни и подвигах, они мне были как родные, больше чем родные — свои, христовы… И я был всем близок и любим. И не было между нами разницы, будто мы все только что прибыли сюда и встали вместе пред храмом Господа нашего и соединились в одну божественную семью.
Я увидел мать, она обняла меня и благодарила за молитвы. Она знала, что мне предстоит вернуться на землю, но не печалилась этому. Она верила в моё спасение. Передо мной прошли мои родичи, прародители, друзья, знакомые и даже вовсе незнакомые люди, о которых кто-то просил молиться. Подошла ко мне девушка и улыбнулась. Я сразу узнал её. Как-то батюшка попросил помолиться за отроковицу Елизавету, умершую в тринадцать лет. Она была единственной верующей в семье, понесла на своих плечиках грехи рода, умерла от тяжелой болезни. С каждым именованием её за упокой, мне все приятней было думать о ней, какой она стала в раю, увижу ли я её, узнаю ли. И вот я вижу её, кротко улыбающуюся, невыразимо красивую. Она ждет меня, она благодарна и прекрасна в свете вечной любви.
А вот люди, которые меня обидели, а я их простил. А вот те, кто молился за меня, пока я жил грешной жизнью без Бога Отца и Матери Церкви — это благодаря их непрестанной молитве я через скорби и боль пришел все-таки к Богу. А вот вообще незнакомые люди, с которыми я повстречаюсь в будущем и стану для них тем, кем был для меня Игорь — проводником в рай. Здесь, в райских обителях Бога моего и Бога нашего, мы все стали как самые близкие, родные и любимые.
— Пора, — сказал Игорь.
Это были те слова, которых я ожидал. Думал, услышу их, и затоскую — но нет! Просто зашагал рядом с Игорем по упругой травке среди цветов и деревьев немыслимой красоты, сквозь нежные ароматы и чарующие звуки — домой, где даже описать словами или красками не сумею то, что видел.
— Посмотри, Андрей, как отсюда выглядит земля.
Игорь показал рукой вниз. Там пространство будто расступилось, и мне стала видна вся земля, с её уродством и красотой. Стоило мне мысленно пожелать увидеть человека — и вот он, будто рядом, в невидимом для земных глаз свечении, соответствующем его духовному состоянию. Кто-то источал грязно-серые всполохи, кто-то сиял, как небожители, только не так ярко и чисто.
Там, среди людей, между хаосом и святостью, обходила земные уделы со своей многочисленной свитой прекрасная Жена в черном монашеском облачении. Прекрасная лилия среди грязных, смертельно больных, неблагодарных детей. Это Пресвятая Богородица!.. Ясные очи Её со слезами смотрели на безумие и боль, отчаяние и самоубийственную гордость. О, эти материнские глаза видели гораздо больше, чем все люди на земле. Мать всех матерей благословляла землю, непрестанно умоляла Сына еще немного потерпеть с концом этой прокаженной жизни, ради немногих верных Христу мучеников, ради детей, которых матери приносят в храм к Причастию Тела и Крови Сына. …Но и Её материнское терпение, чувствовалось, подходит к концу…
Когда я молился Пресвятой Богородице, Она на миг взглянула на меня, будто обожгла болью, будто в этих прекрасных очах, полных слёз, я увидел немой укор: как же вы Меня измучили, дети! …И ушла, вся в черном, скорбная и сияющая божественной славой…
— А вот две личности, вокруг которых сосредоточилась сейчас вся история человечества, — сказал Игорь.
Где-то на Ближнем Востоке по зеленому двору в цветах и фонтанах, укрытому со всех сторон высокими стенами, прогуливался невероятно красивый молодой мужчина в черном костюме-тройке. Видимо, он почувствовал мой взгляд, развернулся ко мне и расцвел очаровательной белозубой улыбкой. Он стал говорить мне очень умные и красивые слова, от которых у меня на душе появилось восторженное смятение — это как первые ощущения от выпитого стакана водки: радостное возбуждение, желание продлить легкое головокружение и наркотический кайф. Я было уж собрался подойти к нему и продолжить столь интересную беседу: его слова мне показались верхом логического совершенства, но Игорь меня остановил и заставил перекреститься. Как только невидимый крест покрыл меня своей охранной сенью, мужчина рассвирепел, злобно прошипел нечто вроде проклятия, вспыхнул чернющим всполохом, больше напоминающим дым из трубы концлагеря, и гневно отвернулся, гордо вскинув красивую голову.
— Это антихрист. Он уже готов принять царскую корону и занять престол в будущем иерусалимском храме. Только вот храма пока еще нет, но это ненадолго… Никогда не смей с ним общаться и верить его словам! Он обладает поистине демоническим очарованием. Уговорит, заколдует, очарует — любого, кто хоть на миг перестанет молиться Иисусу Христу и креститься — только этого он боится и только верность Спасителю вызывает его невероятную злобу. А теперь сюда смотри.
По-моему, это была Сибирь. На берегу раздольной реки, плавно текущей среди бескрайних лесов, в небольшом православном храме стоял в последних рядах мужчина с опущенной головой. Он молился. «Мой государь!» — пронеслось у меня в голове, и он поднял голову и посмотрел на меня в упор. Если бы я не знал, что это человек, а не Бог, я бы поклонился ему. Именно такая, божественная милость и всеохватная любовь исходила из этих серо-голубых глаз. Почему люди вокруг него не видят этого мощного золотистого сияния, исходящего от будущего Государя Императора? Почему он среди людей, как один из них? Ведь это же так очевидно — он божественно велик и могуч. «Когда?» — пронеслось в моей голове. «Уже скоро» — ответил он, не открывая рта.
— Почему Господь сейчас не даст нам Царя? Вот же он — жив и здоров, готов занять Российский престол. Почему люди не узнают его?
— Есть такие слова в Библии: «Когда настала полнота времени…»(Гал. 4;4), — сказал Игорь. — Времена и сроки в ведении только Бога и никого больше. Пока люди недостойны принять Божиего помазанника, удерживающего восставшие силы зла. Слишком велико обольщение сребролюбием. Прежде чем Государь займёт полагающийся ему престол, большинство его подданных должны освободиться от этого инфернального соблазна.
Напоследок, Игорь показал мне небесный царский дворец. В блистательном великолепии, в великом сиянии славы Божией — не на царском троне, а на коленях перед Спасителем — стояли Государь Николай Александрович, царица Александра Феодоровна, цесаревич Алексий и царевны: Татьяна, Ольга, Мария и Анастасия. Они воздевали к Нему израненные руки, в великом ожидании обратили к Нему прекрасные лица со шрамами от пуль и штыков — эти следы убийства не вызывали ощущения уродства, но выглядели печатью небесной красоты, подобно ранам Христа на руках, которыми Он благословлял нас. Вокруг царской четы я видел множество людей — небесных и земных подданных. Они так же умоляли Царя царей спасти Россию от похотливого ига и дать народу свободу во Христе.
На берегу таинственной реки состоялось наше прощание с Игорем. Я лишь один вопрос задал:
— Почему у нас с Дашей нет детей?
— У вас есть дети. Их много.
Потом в полной тишине мы смотрели друг другу в лицо — и не надо было слов. Смысл того, что пронеслось в наших головах и осталось в сердцах, не смогли бы вместить все компьютеры земли вместе с библиотеками и хранилищами вселенской мудрости, но можно попробовать заключить в простые земные слова:
«Я не оставлю тебя своею любовью».
Пожалуй всё…
Точка покоя
С некоторых пор не даёт мне покоя одна мысль. Земля исторгает из себя телесность и всё, что её сопровождает. Хотим мы того или нет, но мы подчиняемся её законам.
Нам необходимо питаться — и мы работаем, попадая в натуральное рабство. Так новобранец подчиняется тупому сержанту, а уж тот изливает на бритую голову солдатика все свои обиды, ненависть и страх, накопленные с детства. Нам необходим кров — и мы попадаем в следующее рабство — тому, кто предоставляет жильё. Потом еще одежда, развлечения, информация, здоровье… А что, позвольте спросить, делать с инстинктом размножения? Приходит время, и каждый человек понимает… А если не понимает, то уж будьте уверены, ему не раз напомнят о необходимости влюбиться, жениться, рожать детей, чтобы их кормить-одевать, воспитывать-учить, любить и терпеть, терпеть, терпеть.
Всё, что исторгает земля: человека, растения, животных, птиц, насекомых — всё это когда-нибудь умрёт. И не надо тешить себя иллюзией, будто мы продолжим свою жизнь в детях, домах, самолетах, книгах, картинах. Тебе-то — лично тебе — что с того? Твоё тело будет тихо-мирно разлагаться в земле, а душа… У подавляющего большинства людей душа после смерти попадает в преисподнюю и жестоко мучается там. Земля из праха своего рождает прах — нас. И после смерти мы обратно возвращаемся в прах. И эта земляная жизнь составляет преобладающую часть нашего существования. …Это в лучшем случае — «преобладающую», а то ведь у большинства — страх сказать — всё!.. Это «всё» означает, что земля закабаляет нас, отнимая у нас жизнь. Сила, которая так мощно прижимает нас к земле, — гравитация. Она давит на голову и плечи, опускает руки и глаза. Гравитация земли порабощает и давит.
Существует в нашей жизни еще один диктатор — время. Представим себе, для кого-то это будет легко, кому-то придется напрячься — мы в достаточной мере позволили поработить себя землей и даже заслужили рабским трудом какие-то по большей части мифические временные преимущества. У нас есть всё, что считается необходимым: приличное состояние, дом, машина, семья… Но приходит старость, и мы как распоследний бедняк, лох, лузер — превращаемся в старую развалину, а потом и в труп. Наши деньги, конечно, могут на какое-то время оттянуть старость, но уж смерть они скорей всего только приблизят. Нам казалось, что мы свободны. Но на смену рабству земли пришло рабство времени — и ничего нам с этим не поделать. Итак, гравитация и время — вот те монстры, которые пронзают нас копьём страха и делают своими рабами.
Уильям Фолкнер в своей нобелевской речи сказал: «Наша нынешняя трагедия заключается в чувстве всеобщего и универсального страха, с таких давних пор поддерживаемого в нас, что мы даже научились выносить его. Проблем духа более не существует. Остался лишь один вопрос: когда тело мое разорвут на части?»
Когда-то эти слова весьма впечатлили меня, и я решил кое-что изменить в своей жизни.
У меня есть желание отменить гравитацию и время! …Но не имею возможности. Остаётся отменить страх, с помощью которого эти монстры держат меня в узде. Да, отныне я упраздняю страх, а значит, уничтожаю гравитацию и время. Нечего бояться нищеты, болезней, скорби — они мои пожизненные спутники, они мои враги, они мои друзья. Нечего бояться смерти — она покончит с чередой дней, пронизанных болью. Я отменяю гравитацию и время, а вместе с ними хамство, жадность, зависть, разврат, обжорство, безумие и страх. Покидаю рабские плантации жестокой земли, время страха и боли — и перехожу в нетленную безвременную небесную вечность. Сначала душой, а чуть позже и телом.
Твой есмь аз, Господи! Ты — моя вера, которую Ты даровал мне. Ты — мой выбор, который сделал я, по обретении веры.
Твой есмь аз, Господи. Возьми меня к Себе. Знаю, урод я и прокажен грехом, но Ты, Всемогущий, одним касанием исцеляешь прокаженных, поднимаешь безногих и воскрешаешь мертвецов. Я одновременно и урод, и грешник, и мертвец — спаси меня, Господи, и воскреси, потому что — твой есмь аз, Господи. Возьми меня к Себе.
Когда решаешься на что-то важное, когда незримо вся твоя жизнь переворачивается, Господь ниспосылает тебе нечто очень хорошее. Ты оглядываешься окрест — и радость переполняет тебя.
Мы жили как юные влюбленные весной. В сердцах наших горел огонь любви, а вокруг, куда ни взглянешь, все цвело под ослепительными лучами солнца. Мы жили так, будто с нами был праздник, который не затихал ни днем, ни ночью. Казалось, за день мы проживали целый год. Время уплотнилось и бурлило горным потоком хрустальной воды. Поздно ночью, когда уже розовел восток, мы с великим сожалением прерывались на краткий сон, а утром просыпались с первыми лучами солнца. Первая мысль, которая появилась в голове — как прекрасно, что я живу! Здравствуй, новый день! Нам светило солнце и мерцали звезды. Для нас цвели сады и клумбы, для нас ночами пели соловьи, а днем ворковали голуби. Над нашими головами распускались разноцветные радуги. Нам улыбались дети и старики. Вокруг пульсировало творчество: слагались стихи и сочинялась музыка, стрекотали клавиши и скрипели перья писателей, метались кисти художников между палитрой и холстом. И всюду — жизнь, радость и свет.
И это нежданное, совершенно незаслуженное блаженство даровал нам Господь. Он Сам стал для нас всем. Это Он вызвал нас из небытия и подарил жизнь. Это Он дал нам всё, чтобы мы прожили её в поиске: от помрачения, забвения и отчаяния — к прозрению, покаянию и вере. Лишь за малый шаг к Истине с наивным детским «хочу» — мы стали обладателями бесчисленных сокровищ, которые никто не отнимет, которые не умаляются, но будут расти и умножаться — и уйдут с нами в вечность.
Просто в один прекрасный день ты обнаруживаешь в душе огромную силу, подобную потоку света, и понимаешь, что в этом радостном сиянии звучит слово, от которого всё оживает и наполняется смыслом; слово, которое наполнено великой всепоглощающей любовью — Иисус!
Ты раньше думал, как такое возможно — любить незримого, идеального, не скованного границами материи? Но вот Он посылает тебе лучик Своей любви — Духа Святого — и в тот миг исчезают сомнения и вопросы — и ты просто начинаешь жить этой божественной любовью. И уже ничего так не притягивает твоё внимание, как Это. И уже никто так не властвует над твоей душой, как Спаситель.
В тот миг открывается тебе, что Господь для тебя всё — и отец и мать, и воспитатель и учитель, и друг и возлюбленный, и кормитель и покровитель, и спаситель и милостивый судья — всё!
Это Он всю твою жизнь — от первого удара сердца до последнего — даёт то, что ты имеешь; дарит то, что ты не заслужил; отнимает то, что вредно или пагубно; позволяет случаться скорби для смирения гордости и посылает временное блаженство, чтобы приучить к блаженству вечному.
В тот миг отверзаются Небеса и чутко слушают каждый вздох и каждое слово твоей молитвы, а когда иссякают силы, и ты в изнеможении падаешь и сон обволакивает тебя, то и тогда продолжается в тебе созерцательная беседа с невыразимо любимым и любящим тебя Иисусом Сладчайшим. И даже мысль о Его милости к тебе, о Его любви заполняет тебя блаженством всего без остатка, до самого потаённого уголка души, мельчайшей клеточки твоего существа.
Мне всего-то нужно кое-что вспомнить. Это очень важно, и оно уже от рождения живет во мне где-то там, в глубине души, под слоем праха, в руинах памяти. Нужно сосредоточиться и вспомнить тот всепроникающий свет, ту совершенную красоту, то непрестанное блаженство, которыми изредка жили мои предки — и постоянно самый первый из них — Адам в раю. Не стану утверждать, что я живу этим, но сделаю всё возможное для того, чтобы разыскать это, обрести и уже никогда больше не терять.
Ведь это всё равно, как вернуться в отчий дом после мучительно долгих блужданий по лабиринтам и джунглям, в чуждом мире, среди чужих людей. Ты уже не тот глупый мечтатель, который много лет назад уходил отсюда. Ты смертельно усталый от заблуждений, но протрезвевший навсегда. Тебе в том доме знаком каждый уголок, здесь любящий отец и ласковая мать — они одни заботились о тебе, ничего не требуя взамен. Здесь братья твои и сестры — и они открывают тебе родные объятья. Здесь все тебе рады. Здесь ты любим, и им ничего от тебя не нужно, только бы ты был счастлив.
Часто то, чего так сильно хочешь, к чему стремишься изо всех сил, приходит не тогда, когда ты этого ожидаешь, а внезапно, в тот самый час, когда уже потерял надежду и готов опустить руки, признавая своё полное бессилие и абсолютное собственное ничтожество. И лишь вера держит тебя на уровне выше нулевого, потому что Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11,1)
То, чего я так упорно искал, постоянно ускользало от меня, как мираж в пустыне. Думаешь, вот он — желанный источник воды. Вот уж сейчас напьюсь досыта! Но не тут-то было — зеленый оазис тает на глазах, а на том месте, где ожидал увидеть маленький рай на земле, всё так же перетекает барханами сухой безжизненный песок бескрайней пустыни. Ты падаешь от жажды и усталости, с огромным трудом заставляешь себя встать и тупо шагать вперед, оставляя за собой неровную цепочку следов. Тебя мучают не только сушь во рту, непрерывная тошнота и головокружение, но и сладостные обманчивые мечтания о воде, хотя бы о глотке, маленькой капельке на конце твоего указательного пальца… И вот, когда ты уже потерял всё: надежду, силы, последние крупицы самомнения… Когда ты на излёте сил поднимаешься на вершину бархана — перед тобой вдруг открывается картина, краше которой нет. Полноводная река в зеленых берегах! О, как сладки эти первые глотки воды! Будто сама жизнь вливается в твоё иссохшее тело — и ты оживаешь!
Примерно так открылась мне желанная, таинственная, долгожданная Точка покоя. Весь день меня терзала суета. Все, словно сговорились, оскорбляли, унижали меня, толкали, наступали на ноги… И только добравшись до дома и рухнув в кресло, я попытался хоть немного успокоиться и привести в порядок растерзанные суетой чувства. Открыл Библию в произвольном месте — то была Третья Книга Царств, где пророк Илия в отчаянии взывает к Богу: …сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. А вот, что я прочел дальше: И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь] (3 Цар. 19, 10-12). Я просто положил затылок на подголовник, поднял глаза к окну и над крышей соседнего дома увидел птицу. После огня веяние тихого ветра, и там Господь — повторил я, глядя, как птица, не двигаясь, парила над городом в потоках воздуха. Я наблюдал за полетом птицы и тихо шептал Иисусову молитву.
Как-то на Светлую Седмицу отправился в Свято-Даниилов монастырь. По дороге от метро «Тульская» вдоль трамвайных путей на ящиках сидели нищие. Раздав заранее приготовленные червонцы, я почувствовал, как настроение пошло в гору. Монастырский двор был залит солнцем. Я подал записки, поучаствовал в Крестном ходе, где вымок до нитки от щедрого окропления святой водой и зашел в лавку. Первое, что бросилось в глаза — картина Семирадского «Марфа и Мария». Там у ног Христа сидит юная девушка Мария и внимательно слушает слова Спасителя. По галерее богатого дома Лазаря под виноградными лозами идет Марфа с водоносом в руках. Она еще только приостановилась и с осуждением взглянула на сестру, еще не прозвучали её слова: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне», а Спаситель еще не сказал знаменитые слова, вошедшие в поговорки и стихи: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом. а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё» (Лк 10. 38-42). Из лавки я вышел с картиной в пакете. Уже у выхода ко мне подошел разбитной нищий в растрепанной бороде и ярко-красной девичьей куртке и протянул чумазую ладонь: «Ради светлого Христова Воскресения подай святую милостыню, брат мой добрый!» У меня от покупки картины осталась сдача, которую я и отдал ему.
— Христос Воскресе! — радостно заорал нищий.
— Воистине воскресе! — воскликнул я. В пяти шагах от нас стоял суровый казак-охранник. Он не бросился на нас и не повалил, не прижал лицом к брусчатке, не скрутил руки за спиной и не надел наручники — он улыбался и одобрительно кивал головой.
— А Христос-то Воскресе! — снова удивил меня новостью нищий, во весь голос.
— Воистину Воскресе! — вопил и я.
Так мы двенадцать раз прокричали пасхальное приветствие, поклонились друг другу в пояс и, довольные, разошлись.
На душе стояла радость. Мне подумалось тогда, как же, наверное, здорово в Царствии Небесном славить Христа, если даже здесь, на земле, тебя обливает свет с ног до головы, как святая вода из рук дьякона — обильно и освежающе!
Картину Семирадского я повесил у рабочего стола. Часто смотрел на неё и размышлял: как бы я вёл себя в присутствии Спасителя? О, я бы глаз не отвел от Него. Я бы на всю жизнь запоминал бы каждый жест, каждое слово, выражение лица, жесты рук…
…Покой сошел на меня, как свет вышедшего из-за туч солнца — и всего с ног до головы окутал безмятежным теплом тишины. Я сидел у ног Христа и впитывал каждое Его слово, каждый жест, выражение лица… Раньше искал я Точку покоя внутри себя, как некое сакральное место в сердце. Но оказалось, это не местоположение, а состояние всего твоего существа. Это, наконец, состояние максимально возможного для тебя смирения, когда гордость сокрушена, стёрта в пыль, а на её место с Небес нисходит эта необычайно тёплая тишина.
В тот миг перестало существовать всё материальное окружение моей души. Она, как та птица, взлетела на крыльях, поднимаясь в восходящих потоках воздуха. Только вместо мышечных усилий крыльев, вместо подъемной силы упругого ветра — самое таинственное, самое загадочное, самое прекрасное во вселенной слово поднимало меня от суетной земли в невероятные высоты Небес. И слово это звучало так желанно и благозвучно: Иисус.
Имя это уже не произносилось губами — оно пульсировало во мне просто и естественно, как сердечное биение, которое после инфаркта радостно слышит в груди исцелённый сердечник. И тихо радуется этому ритмичному, здоровому биению самого важного органа тела.
Вдруг я почувствовал, что меня подняли на максимальную высоту и теперь от меня ожидают нечто большего, чем просто покаянная Иисусова молитва. Сами собой где-то в глубине души возникли слова, и робко сложились в самую главную молитву. Я благодарил моего живого Господа за то, что Он открылся мне, за то, что Он взял моё спасение в Свои руки, просил прощения и оставления грехов моих, дарования мне божественной милости. Потом передо мной стали проходить близкие, потом дальние, совсем забытые люди — и я молился о них. Я чувствовал, что каждое слово моё, каждое имя внимательно и желанно выслушивается Вседержителем и Царем царей.
Но вот слова иссякли, молитва прекратила плавное течение. Напоследок я испытал огромную тихую радость и… всё прекратилось. Долго еще я приходил в себя. Душа моя никак не хотела возвращаться с блаженных высот в пыльные мрачные низины суетной земли. Тонкая печаль об ушедшем счастье, мягкая тяжесть усталости навалились на меня, приводя в чувства, вполне земные. За окном розоватым топленым молоком разливался по городу восход солнца, рассвет нового дня новой жизни.
1
«Une generation perdu» (фр.) — потерянное поколение.
(обратно)2
«Король мёртв! Да здравствует король!» (Фр.)
(обратно)
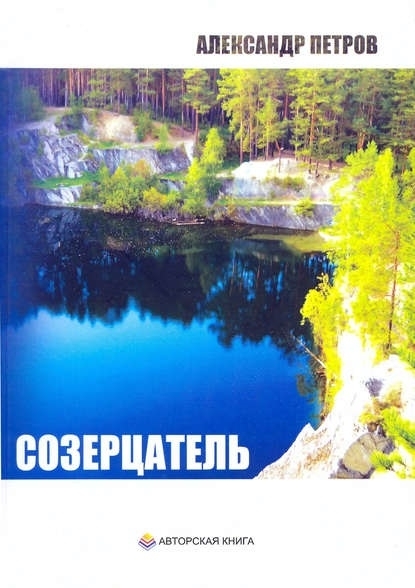

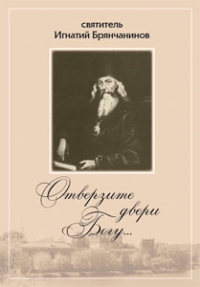








Комментарии к книге «Созерцатель», Александр Петрович Петров
Всего 0 комментариев