Автор-составитель В. М. Зоберн Тихие обители. Рассказы о святынях
В.П. Быков. Оптина пустынь
История Оптиной пустыни
Путнику во время переезда из Сергиева скита в Оптину пустынь на протяжении 109 верст, с пересадкой в Сухиничах, приходится претерпевать целый ряд самых досадных неудобств, в особенности, если он едет в третьем классе. Но как только он выйдет из вагона на станции Козельск и сядет пусть даже на самого плохого извозчика, то, отъехав от города, увидит в перспективе раскинувшуюся на бархате изумрудной зелени изумительную по своей красоте Оптину пустынь.
Колокольня в Оптиной пустыни
Оптина пустынь находится в трех верстах от Козельска, и, благодаря своим этнографическим условиям, совершенно изолирована от мира. С трех сторон она защищена от соседних селений дремучим лесом, настолько девственным, что в нем, благодаря строгому запрещению охоты, совершенно свободно располагается всякая дичь. Целыми гнездами живут цапли, и во время вечерней зари, когда еще не разлетался выводок, оглашают окрестность самым невообразимым, самым непередаваемым криком. Неосведомленный в этом направлении человек обыкновенно останавливается, не знает, на что подумать, и с нетерпением ждет первого встречного, чтобы выяснить причину и происхождение этих звуков. С четвертой, западной, стороны, почти у самых стен величественных храмов обители, течет неширокая, но очень глубокая, быстро бегущая речка Жиздра, приток Оки. По левому берегу Жиздры широким ковром раскинулся роскошный зеленый луг, который идет вплоть до большой дороги на Калугу и на котором кроме небольшой извилистой речки Клютомы, притока Жиздры, и нескольких небольших озер, красиво раскинулась чистенькая, нарядная, особенно летом, поддерживаемая обителью деревня Стенино.
Если же к этому добавить то, что через речку Жиздру существует только лишь одна переправа в пустынь на пароме, напротив самого монастыря, и что этот паром содержится пустынью и обслуживается ее иноками, следовательно, находится под ее контролем, – тогда будет вполне понятным, что площадь, лежащая под Оптиной пустынью, как будто самой природой назначена для таковой.
Не буду утомлять вашего внимания историческими справками относительно этого великого, хорошо сохранившегося памятника христианского уклада русской жизни. Могу рекомендовать книгу: «Историческое описание Козельской Оптиной пустыни и Предтеченского скита Калужской губернии, составленное Е.В.». Скажу только одно, что эта обитель пережила чрезвычайно много тяжелых моментов.
Точно указать время ее возникновения не представляется возможным, равно как и то, кто был ее основателем. Существует на этот предмет очень много преданий , но все они не являют собой того прочного материала, на котором можно было бы построить самые первые страницы истории этой обители. И, между прочим, как на одно из характерных в этом направлении, можно указать на местное предание такого содержания.
М. Нестеров. «Монах»
Очень давно на Руси, в отрогах непроходимых дремучих Брянских лесов, жили два разбойника: Кудеяр и Опта.
Тот лес, который служил естественной крепостной защитой от татарских полчищ, Литвы и во время междоусобной борьбы удельных князей для города Козельска, сильного и славного в то время города, этот же лес служил лучшим бивуаком разбойничьих шаек жестоких грабителей.
Много лет оба разбойника наводили ужас на окрестности, не щадя ни старого, ни малого, наконец что-то совершилось необычное в душе Опты, и разбойники разошлись. Кудеяр отправился в Пензенскую губернию, где долго еще наводил ужас на беззащитных обывателей, а Опта, резко изменив образ жизни, создал две пустыни: одну в Орловской губернии, Волховского уезда, а другую – в 70 верстах от первой, описываемую нами Оптину пустынь; поэтому эти две обители и назвались именем их созидателя, «Оптиными».
В основу обеих обителей, а в особенности последней, где и окончил свою жизнь Опта, были положены три правила: соблюдение строгой иноческой жизни, сохранение нищеты и стремление всегда и во всем проводить правду, при полном отсутствии какого-либо лицеприятия.
Это говорит народное предание.
Что касается исторических исследований, то они свидетельствуют, только лишь предположительно, что эта обитель основалась вскоре после того, как козельчанами было принято христианство. Тогда монашество являлось вообще как первый цвет принятого православия и самой совершенной формой его выражения. Это подтверждается историческими справками, свидетельствующими, что после принятия православия всегда, как естественное выражение первой горячности веры новообращенных, у нас, в России, до монгольского периода, созидалось много монастырьков, пустынек, строенных не князьями или боярами, а самими отшельниками; не серебром или золотом, а слезами, пощением, молитвою, бдением, потом и трудами самих подвижников.
И. Левитан. «Тихая обитель». 1890
Так или иначе, Оптина пустынь была известна много раньше истории о ней и служила с давних пор местом и обиталищем таких великих подвижников, при виде которых в душах благочестивых посетителей воскресала память о древнейших монастырях далекого Востока первых веков христианства.
И действительно, если взглянуть даже бегло хотя бы только на последнее столетие этой великой обители, которое является самым блестящим периодом развития в ее насельниках духовной жизни, чтобы иметь полное основание утверждать, что в более отдаленную эпоху, эпоху, не зараженную тлетворной культурой, насельники этой обители были великими подвижниками и молитвенниками за православную Русь.
В. Саврасов. «Монастырские ворота». 1875
Как и все, не принадлежащее миру сему и не от мира сего насажденное, Оптина пустынь, пожалуй, более чем всякая другая русская обитель, претерпевала самые ужасные и самые разнообразные угнетения, обиды, бедность. Ее неоднократно упраздняли, потом опять возобновляли. Неоднократно она подвергалась излюбленной сатаною форме гонения на всех работников Божьей нивы – клевете, но на ней оправдывались слова Христа, предохранявшего эту церковь, этот союз желающих служить Ему от нападения ада. Она возникала из пепла, из горькой нищеты, и кресты на ее Божественных храмах снова ярко блистали под голубою лазурью небес, окруженные, как естественными стражами, колоссальными соснами и дубами.
Чтобы иметь хотя бы слабое понятие о том, какие были иноки доброго старого времени, какими уставами руководились они, я позволю себе указать на две исторические выдержки.
Первую – это завещание монаха скитской жизни, преподобного Нила Сорского, скончавшегося в 1508 году. «Монахи, – наставлял он, – должны пропитание снискивать трудами рук своих, но не заниматься земледелием, так как оно, по сложности своей, неприлично монашеству; только в случае болезни или крайней нужды принимать милостыню, но не ту, которая могла бы служить кому-нибудь в огорчение; никуда не выходить из скита и не иметь в церкви никаких украшений из серебра или золота, ни даже для святых сосудов, а все должно быть просто».
Теперь следует обратить внимание на отзыв Зиновия Отенского, свидетельствующего о том, как жили подвижники наших обителей до XVI века. Вот что говорит последний: «Плакать мне хочется от жалости сердечной! Досель приходит мне на память, как я видел монахов некоторых из тех монастырей, которых осуждают за деревни (вопрос касался монастырских вотчин): руки скорчены от тяжких страданий; кожа, как воловья, и истрескалась; лица осунувшиеся; волосы растрепаны; без милости волочат и бьют их истязатели, истязывают, как иноплеменники; ноги и руки посинели и опухли. Иные хромают, другие валяются. А имения так много у них, что и нищие, выпрашивающие подаяния, боле их имеют. У иных пять и шесть серебряных монет, у других две или три, а у большей части редко найдешь и одну медную монету. Обыкновенная пища их: овсяный невеянный хлеб, ржаные толченые колосья, и такой хлеб, еще без соли. Питье их вода; вареное – листья капусты; зелень – свекла и репа; если есть овощи, то это – рябина и калина; а об одежде и говорить нечего».
И только с XVI века, при Иоанне Грозном, стало заметно ослабление пустынной жизни.
Вот в какой школе воспитывалась Оптина пустынь, и если прибавить ту изумительную красоту правдивости, нелицеприятия и смирения, то будет вполне понятным, что за могикане духа должны были воспитываться в этой обители.
В. Васнецов. «Христос-Вседержитель». 1885–1896
Если же принять во внимание то, что все эти свойства сохранились до некоторой степени в этой обители и посейчас, а в особенности правдивое нелицеприятие и поражающее непривычный глаз мирянина смирение, то вполне будет понятно, почему эта обитель и в наше время, на фоне упавшей нравственно современной жизни во всех ее слоях, не исключая и ордена монашествующих, является тем огненным столпом во мраке окружающей ночи, который привлекает к себе всех мало-мальски ищущих света.
Игумен Моисей
В истории монастыря видное место занимает настоятель, игумен Моисей (Путилов), который создал связующее звено между русским обществом и этой обителью, учредив в ней старчество.
Архимандрит Моисей, сын богатого серпуховского купца Путилова, с ранней молодости интересовался духовными вопросами и всячески искал случая познакомиться с опытными в этом направлении людьми.
В то время в Москве проживала известная монахиня Досифея (1785-1805 гг.), которая, по народной молве, была не кто иная, как известная княжна Августа Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны, заточенная по повелению Екатерины II в Ивановский монастырь. Эта великая женщина и направила первые шаги молодого Тимофея Ивановича – так звали в мирской жизни архимандрита Моисея, – к духовному совершенству. Он поступил в монастырь, и сорока трех лет от роду был назначен строителем Оптиной пустыни.
Человек этот был высокого духовного уклада, глубоко верующий, монах в самом точном смысле этого слова и безгранично добрый.
Так рассказывают про него. Найдя обитель без всяких личных средств к жизни и чрезвычайно запущенною, он приступил к приведению ее в порядок.
И прежде всего начал строиться, но строился не по прихоти, а по нужде, так как в то время (1839 г.) был во всей той местности ужасный голод, и о. Моисей задался мыслью – работами на своих постройках оказывать помощь нуждающемуся окрестному населению.
Когда же благосостояние монастыря стало внушать инокам беспокойство за их будущую необеспеченность, они, видя производящуюся постройку различных новых зданий, стали роптать на архимандрита и довольно громко высказывать, что «самим-де есть нечего, а между тем затеваются такие постройки, такие работы».
О. Моисей смиренно переносил это недовольство.
Преподобный Моисей Оптинский. Икона
Но наконец ропот дошел до того, что даже его родной брат, бывший в обители иеромонахом, решился сказать своему брату, что он поступает неправильно и что все эти работы надлежало бы прекратить.
Святые врата. Оптина пустынь
А в это время действительно весь монастырь битком был набит голодным народом, у которого не было дома ни корки хлеба.
О. Моисей задумался, опустив в землю глаза, ничего не возражал своему брату, но, когда от них отошел келейник, он начал говорить вполголоса:
– Эх, братец ты мой! На что ж мы образ-то ангельский принимали? Спасителем нашим клялись? На что ж Он душу-то Свою за нас положил? Зачем же слова любви-то Он нам проповедывал? На то ли, чтобы мы только перед людьми казались ангелами, чтобы слова о любви к ближнему повторяли только устами, а на деле втуне его оставляли? Чтобы ругались Его страданию за нас?..
И. Крамской. «Христос в пустыне». 1872
Что ж народу-то – разве с голоду умирать? Он ведь во имя Христово просить избавить его от голодной смерти. Что ж, мы откажем Христу-то нашему Спасителю, нашему Благодетелю, Которым мы живем, движемся и есмы? Да разве это можно? Разве можно сказать голодному: ты мне чужой, мне до тебя дела нет: уходи отсюда; умирай!.. Нет! – Господь не закрыл еще для нас щедрую Свою руку. Он подает нам Свои дары для того, чтобы мы не прятали их под спудом, не накопляли себе горячих угольев на голову, а чтобы возвращали в такую-то вот годину тому же народу, от которого их получили. Мы для него берем на сбереженье его трудовые лепты…
Этого было совершенно достаточно, чтобы братия навсегда оставила в покое стремление архимандрита служить Господу милосердием.
Вера этого человека была так велика, что в то время и при наличности имеющихся у него средств никто не решился бы даже подумать начинать, а архимандрит Моисей не задумывался: он был твердо уверен, что Господь не оставит его. И эта вера его передавалась даже всем рабочим. Они также привыкли к мысли, что Бог на их долю пошлет необходимые средства. Бывало, если кому-нибудь понадобятся из них деньги, а у о. Моисея их нет, он просит повременить денек… другой, – и они охотно это делают. И на самом деле, Господь не оставлял их; глядишь, а с почты и везут что-нибудь. Батюшка придет на работы и говорит им: «Ну вот, братия. Господь на вашу долю послал, давайте поделимся», и сейчас же раздаст кому что нужно.
Про этого доброго человека рассказывают чрезвычайно много.
Так, например, придут к нему бывало из Козельска бедные женщины попросить на зиму сенца для своих коров. Он позовет эконома и спросит: «Много ли у нас сена-то? – Да у нас сена-то только для себя». — О. Моисей обращается к женщинам и говорит: «У нас сена только для себя», а сам возьмет запишет их адреса и отпустит домой. Потом, когда придет время поднимать стога, призовет эконома и спросит: «Вот у тебя на лугу, близ города-то, стоит стожок, ты когда его думаешь свозить в обитель-то? – Да думаю, если благословите, завтра. – То-то, ты уж поскорее, а то занесет его снегом, – к нему и подъехать-то нельзя будет… Да, кстати вот что: приходили ко мне тут две женщины и просили меня продать им сенца, я было говорил, что сто нужно самим, да они тут набросали денег; одна рубля полтора, другая два, так 3/ж делать нечего, ты им отвези». А между тем женщины и не думали давать ему денег. Это он сначала узнает, действительно ли они нуждаются, есть ли у них дети и коровы; а потом пошлет.
Икона кисти И. Репина.«Преподобные Антоний, Макарий и Феодосий»
Или, например, был такой случай: проходя к старцам в Оптину пустынь, один приезжий настоятель увидал мальчика, сидящего около дорожки. «Ты что тут делаешь? — спросил настоятель. – Кротов ловлю. – И жалованье за это получаешь? -И жалованье получаю…» Идет настоятель дальше; смотрит, сидит около яблони другой мальчик. «А ты что делаешь ? - спросил настоятель. – Ворон пугаю от яблонь, чтобы яблоки не портили. – И жалованье за это получаешь ? — спросил настоятель. – И жалованье получаю».
Приходит настоятель к о. Моисею и высказывает ему удивление по поводу виденного.
– Да, да, – прервал старец: – крот-то ведь очень вредный зверек: корни у растения подкапывает; а ворона – такая птица, что все яблоки перепортит. Вот я и должен нанимать мальчиков-то, а мальчики-то сироты, – смущенно оправдывался о. Моисей.
Это было во время неурожая.
Но как ни прикрывал дела милосердия о. Моисей, они все выходили наружу.
И вот этому-то старцу выпало на долю учредить при Оптиной пустыни так называемое «старчество».
М. Нестеров. «Старец. Раб Божий Авраамий». 1914
Как человек большого духовного опыта, несмотря на то что он обладал даром слова, знанием человеческого сердца, прекрасно изучил Слово Божие, священное писание, учение Святых Отцов, – словом, был преисполнен большой духовной мудрости, он считал совершенно невозможным совместить в одном лице три обязанности в обители: и настоятеля, и духовника, и старца. Поэтому, во исполнение только что введенного в пустынь устава Коневской обители, где сказано, что «должность духовника состоит в совершении таинства покаяния, а обязанности руководительствовать иноков к богоугодной жизни частыми наставлениями должны лежать на особом наставнике или так называемом старце. Причем старцем иногда может быть, по благословению настоятеля, и простой монах, умудрившийся в духовной жизни, который вразумляет брата, открывающего ему свою борьбу с одолевающими его помыслами; учит противостоять искушениям сатаны; возбуждает к покаянию и исповеданию грехов, но сам не разрешает грехов. Таким путем старец, по точному смыслу Коневского устава, всех более должен помогать настоятелю в руководительстве, братиею ко спасению».
Само собою разумеется, в деле этого руководительства старец должен сообразоваться с Словом Божием, богомудрыми отеческими писаниями, правилами Святой Церкви и уставом обители.
Задача о. Моисея облегчалась еще тем, что при Оптиной пустыни был уже скит, учрежденный несколько раньше самим же о. Моисеем.
Скит
Стоит только выйти из Оптиной пустыни по направлению к лесу, и здесь, на расстоянии 170 саженей, помещается в глубине леса совершенно уединенный скит для избранных лиц, стремящихся и способных к созерцательной молитве. В настоящее время этот скит представляет собою центральное место как для самих иноков, так и для богомольцев, приходящих в Оптину пустынь.
Ведь в Оптиной пустыни, собственно говоря, не имеется никаких исключительных святынь. И последняя привлекает к себе беспрерывную массу паломников, несмотря ни на какое время года, только лишь исключительным настроением обители, высоким подвигом и строгим образом жизни иноков, и, главным образом, старцами.
Насколько высоко и возвышенно настроение Оптиной пустыни, может испытать на себе каждый, побывавший в ней.
Я не говорю уже о таких великих деятелях и умах, какими должно назвать Н.В. Гоголя, как известно, получившего в Оптиной пустыни полное возрождение своей духовной природы; момент, который разделил Гоголя: на Гоголя – творца «Мертвых душ», «Ревизора»; и на Гоголя, давшего высокохудожественные произведения духовно-христианского творчества, в виде его «Размышления о божественной литургии»; затем И.В. Киреевского, в котором, опять-таки благодаря той же Оптиной, получился коренной переворот в личных воззрениях. До Оптиной И.В. Киреевский был питомец западно-европейской, вольтерьянской, философствующей мысли, сторонник Гегеля, Шиллинга и К°; после Оптиной – это было истинное дитя Христова учения, воспитанное молоком Священного Писания и назиданием святых отцов, A.C. Хомякова, К.Н. Леонтьева, Ф.М. Достоевского…
А. Васнецов. «Скит». 1901
Не будем даже останавливаться на ярком факте какой-то чудодейственности, неотразимости Божественной благодати этого места, ощущавшейся сведшим на степень обыкновенного человека Господа нашего Иисуса Христа и отрицавшим православную церковь, как таковую, – Л.Н. Толстым, который очень часто, по свидетельству многих из оптинских иноков, придет, бывало, верхом на лошади, поставит ее в гостинице № 6, а сам отправится пешком за скит.
И. Репин. «Л.Н. Толстой на отдыхе в лесу». 1871
Сядет там на пенек, и иногда по 4, по 6 часов, не сходя с места, сидит и обдумывает какую-то угнетающую его мысль, разрешает какой-то тяжелый вопрос. Не будем говорить здесь даже о том, что этот, запутавшийся в своей собственной гордыне, колосс человеческой мысли инстинктивно, как слепой тянется к лучам согревающего солнца, тянулся туда перед концом своей жизненной эпопеи. Не будем говорить об этих великих людях, а проверим свои личные переживания в Оптиной, а затем в скиту, и, мне кажется, каждому из нас, когда мы были в этих местах, хотелось сказать словами патриарха Иакова во время его пребывания около Вефиля, где он видел знаменитый сон, – лестницу от земли до неба: «это место не что иное, как дом Божий, это врата небесные».
Во время моего двукратного пребывания в Оптиной мне приходилось говорить со многими из бывших там интеллигентных паломников, и все они в один голос уверяли, что за время довольно продолжительного пребывания здесь некоторых из них их всегда какая-то непреодолимая сила влекла в чащу Оптинского скита, к старцам.
– Не беспокоить их, не беседовать с ними, – говорил мне один отставной генерал, – а только бы вот посидеть на святом порожке у старцев, подышать и подумать в этой благодатной чаще божественного леса.
И так, повторяю, в Оптиной пустыни исключительных святынь – нет, но сама по себе Оптина пустынь изумительно богата массою привлекающих к себе каких-то духовных начал. Здесь что ни шаг, то пункт для какого-то духовного удовлетворения, для какой-то необъяснимой полноты души.
Начать с поразительной красоты берегов, окаймляющих одну из естественных границ Оптиной пустыни, – реку Жиздру. Словно сад какого-то богатого владельца раскинулся по всему ее берегу красивый бархатистый перелесок. Смотреть хочется – нет, этого мало, это неверно сказано, – отдохнуть хочется; невольно тянет туда, в эту благодатную чащу; какая-то неведомая сила влечет и говорит, что там за нею есть что-то вечно ласкающее, вечно умиротворяющее… Что там, за этим берегом, за этой прихотливо раскинувшейся зеленью находится другая зелень, зелень смысла и истины человеческой жизни; та неопалимая купина, которая на протяжении многих лет горит неугасаемым духовным огнем.
Икона Божией Матери «Утолимоя печали». Из трапезной церквиСергия Радонежского Троице-Сергиевой лавры, г. Сергиев Посад
Огнем очищения человеческой души. Огнем вразумления, утратившего и силу воли, и соль правильной оценки жизненных явлений человеческого разума. Огонь оздоровления больных, издерганных нервов, искалеченной обстоятельствами человеческой души.
Икона Иисуса Христа. Фото А. Ефимова
Чувствуешь, что это «великое место», «святое».
«Место, на котором ты стоишь – свято», и вы ищете пути к этой вечно пылающей неземным огнем купине.
Так и тянет к Оптиной пустыни, в какое бы время года, в какую бы погоду не подъезжали вы к ней, – неизменно говорят те, которые посещают пустынь: безразлично по отношению к количеству посещения ее, будь это первый, будь это десятый раз…
Вот перед вашими глазами хорошо устроенный, чистый – ни соринки на полу, – паром, который плавно подходит к берегу, направляемый седовласыми монахами.
Ваши лошади въезжают, вы переплываете эту темно-зеленую зыбь и чувствуете, что вы ближе и ближе к той невидимо манящей вас благодатной купине, в которой вы, чувствуете, найдете все, что нужно для вашей другой, быть может, не совсем понятной еще вам самим, духовной жизни.
А этот тихо и плавно покачивающейся паром с своими необычными хозяевами – монахами, разбивая легким шорохом быстробегущие волны Жиздры, как будто нежным шепотом повторяет вам ветхозаветное: «сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».
Оставь там, на том берегу, все то, что угнетало тебя в личной жизни, что не давало тебе возможности отдаться всей душой Тому, Кто, благодаря насельникам этого святого места, вечно пребывает здесь…
«Вы …осеняете себя крестным знаменем, как бы предъявляя Этой Великой Привратнице обители свой драгоценный документ, свидетельствующий о том, что вы носите имя Ее драгоценного Сына»
Этого мало, вы на фактах убеждаетесь, что «это место свято», что его оберегают от всего, что может так или иначе нарушить его святую тишину, его исключительную благодатную гармонию. Подъезжая к берегу, мы невольно делаемся свидетелями разговора между мужиком, сидящим на монастырском берегу, и монахом на подплывающем пароме:
– Отец, что же ты не взял с того берега странника-то?
– Не могу, родненький… Не могу. Нетрезв он, да вдобавок с гармонией в руках. Пусть выспится и «струмент-то» этот свой поганый на квартире в городе оставит, – тогда милости просим в нашу обитель.
Паром ударился о край пристани. Монах бросился прикреплять его к последней. Отодвинули засов. Лошади весело дернули на гористую дорогу к монастырю, и почти наравне с кельей-избушкой отца паромника вы увидали как бы встречающее вас изображение Пресвятой Богоматери «Утоли моя печали».
Благоговение охватывает вашу душу, вы невольно снимаете фуражку и осеняете себя крестным знаменем, как бы предъявляя Этой Великой Привратнице обители свой драгоценный документ, свидетельствующей о том, что вы носите имя Ее драгоценного Сына и состоите в той великой армии, которая ограждает себя от врагов видимых и невидимых, и лично своих, и лично Его, – символом Того Креста, на котором Он был распят за весь греховный мир.
Гостиницы
И перед вашими глазами открываются две дороги: одна – направо, к святым воротам, где помещаются монастырские гостиницы № 1, 2 и 3…
А дальше прямо идет дорога к гостинице № 6 отца Пахомия.
Еще дальше перед вами открывается путь к дальней гостинице, к странноприимному дому, и т.д.
Обратите внимание на эти гостиницы. Кажется, что может сказать такое учреждение, как гостиница? Вечные хлопоты, постоянная сутолока. Претензии и неудовольствия постояльцев. Стремление и желание служащих угодить им, нивелировать все это. А между тем гостиницы в Оптиной открывают вам целые страницы назидательных уроков жизни.
А. Корзухин. «В монастырской гостинице». 188
Каждою из гостиниц управляют, самою собою разумеется, малообразованные гостинники, но они поражают вас прежде всего, непередаваемой красотой своего смирения. Побеждающего смирения. Затем – вдумчивостью. Беседуя с ними, каждый раз приобретаешь что-то новое для размышления, для анализа своей личной жизни и души, и каждый раз, как в зеркале, видишь в себе массу самых неприглядных, самых вопиющих несовершенств.
И действительно – перед вами люди огромного духовного опыта, большой работы для Христа.
Я возьму для примера хотя бы двух отцов гостинников: о. Михаила и о. Пахомия. Первый из них в течение многих лет до монастырской жизни работал с одним известным православной Руси священником, который Христовым именем соорудил очень много храмов, приютов; устраивал людей, давал возможность выкарабкиваться из нужды, и о. Михаил вынес из этой жизненной школы изумительную способность делать все, чтобы быть так или иначе полезным своему ближнему: он и хороший столяр, он и прекрасный кузнец, он и опытный шорник; и в то же время из беседы с ним вы увидите, что этот человек прекрасно знает Слово Божие и, ни на одно мгновение не оставляя наблюдения за порученным ему хозяйством, стремясь и день, и ночь угодить каждому, иногда очень прихотливому, капризному постояльцу, – не оставляет ни на минуту дальнейшего изучения этого Слова и побеждает все, только лишь одним смирением.
Не менее интересною вырисовывается перед вами фигура другого гостинника – отца Пахомия.
Шестидесятишестилетний старик, с рыжеватой с проседью бородой, прямой, как стрела, предупредительный по отношению решительно к каждому из обращающихся к нему, как самая лучшая нянька.
Знает лично графа Л.Н. Толстого, беседовал с ним. Достаточно первого взгляда на этого монаха, чтобы отметить, что это не простой человек.
И на самом деле, быв еще кавалергардом, любимый, поощряемый начальством, с давних пор почувствовал он влечение к какой-то другой области, к какой-то другой жизни. Влечение это усиливается с каждым днем, с каждым часом. С нетерпением ожидает он срока выслуги узаконенных лет, и вместе с товарищем, прежде чем идти в родную Вологду, решился пешком пойти в Киево-Печерскую лавру. Побыли там, пошли пешочком к родному северу. Совершенно случайно подошли к Оптиной пустыни. Пахомий стал просить своего товарища переночевать в этой обители; товарищ не согласился, но предложил Пахомию остаться, а сам обещал подождать его где-то в ближайшем пункте. Пахомий остался в монастыре ночевать – «и вот ночую в нем более 20 лет», говорит с каким-то радостным восторгом этот воин-инок. Любить монастырь, который теперь для него – все. Любят, очевидно, и его.
Отец Пахомий… прежде чем идти в родную Вологду, решился пешком пойти в Киево-Печерскую лавру
Храмы Оптиной пустыни
Идя последовательно от этапа к этапу в обители, мы на каждом шагу встречаем что-либо, говорящее нашей душе.
Вот перед вами Святые ворота; терраса, ведущая снизу монастыря в обитель; эти ворота ярко напоминают вам о стремлении к «горе», к Богу. Поднимаясь под святые ворота, вы чувствуете, как ваша мысль напоминает вам о другом поднятии, о других ступенях.
Из окна книжной лавки, расположенной направо от святых ворот, виден портрет старца Амвросия, который всей своей жизнью напоминает вам о тех ступенях нравственного совершенствования, которые на самом деле приведут вас к «горе», к источнику истинного счастья и истинной жизни.
Внутри обители, прежде всего, обращает ваше внимание центральный храм, – Введенский собор, который окружен со всех сторон кладбищем пустыни. Храм этот в высокой степени красив, изящен, и, когда в нем совершается всенощное бдение, которое продолжается минимум 5–5,5 часов; когда слышится удивительно стройное в высокой степени своеобразное пение оптинских иноков, создавшее себе громкую известность своими оптинскими напевами; красивое чтение кафизм, канонов, – все это, вместе взятое, заставляет жить душу молящегося совершенно иной жизнью, совершенно другим укладом.
Я знаю по личному опыту, что, пробыв в Оптиной пустыни хотя бы одну неделю и регулярно каждый день посещая некоторые службы (в Оптиной пустыни служба идет с часу ночи до 11 часов вечера почти беспрерывно) – всенощную, литургию, чрезвычайно трудно привыкать потом к службам в наших обыкновенных церквах. Своим сокращением, с своим «борзящимся» чтением и пением (в Оптиной пустыни почти все поют, что в обыкновенных церквах читают; так обыкновенное «Хвалите имя Господне» у всенощной в Оптиной проходит в чтении речитативом между песнопениями особых псалмов) церковная служба в наших городах кажется такой бедной и такой бледной, что долгое время душа молящегося испытывает какую-то, если так можно выразиться, духовную нищету.
Портрет старца Амвросия всей своей жизнью напоминает вам о тех ступенях нравственного совершенствования, которые на самом деле приведут вас…к источнику истинного счастья и истинной жизни
Красиво наблюдать жизнь этой обители во всех, даже в самых обыденных житейских подробностях.
Кончается литургия, и все монахи чинно и стройно направляются в трапезную. Все усаживаются за длинные столы; на средину же, на большое возвышение, выходит один из очередных иноков и, во время всей трапезы, читает жития святых.
Владимирская икона Божией матери. Византия. XII в.
Странное впечатление производит при этой глубокой тишине мерное чтение, во время которого только лишь изредка слышатся шаги разносящих чрезвычайно простые, незатейливые кушанья и стук меняемых тарелок и посуды.
После этого до повечерия, а под праздничные дни до всенощной, наступает в обители полная тишина, и лишь только то тут, то там появляются изредка монахи или около своих келий, или направляясь к монастырскому почтарю за письмами и газетами, или в книжную лавку, или на братское кладбище и т.п.
Но вот заблаговестили к повечерию, и отовсюду потянулись иноки в храм, где совершается служение. И снова льется в открытые окна храмов священное песнопение, которому целым хором вторят находящиеся в пустыни в изобилии «певцы поднебесья». Отовсюду потекли богомольцы, и снова началась своеобразная жизнь обители.
Введенский храм Оптиной пустыни. Здесь почивают святые мощи Преподобных Старцев Амвросия и Нектария. Фото иерея Максима Массалитина
Кончилась служба, из трапезы понесли ужин, еще более скудный, чем обед.
После ужина снова тишина в монастыре; видны только лишь одни богомольцы, направляющиеся или к кладбищу, или на дорожку к скиту…
Следующими выдающимися храмами следует назвать чрезвычайно красивый храм Марии Египетской; вслед за ним храм Казанской Божией Матери.
Есть еще один храм в Оптиной пустыни – храм Владимирской Богоматери. Он представляет собой для мирских людей главный интерес тем, что при этом храме находится келья одного из старцев нашего времени о. Анатолия.
Так как этот старец принимает почти без перерыва и без ограничения времени всех, то этот храм бывает почти всегда открыт и постоянно переполнен народом. Бывает нередко так, что в монастыре полное затишье; не видно даже монахов, а около храма Владимирской Богоматери, где келья старца Анатолия, сидит много народу и ожидает очередного приема.
Но о старце Анатолии, о его деятельности мы скажем, когда будем говорить о старцах.
Братское кладбище
Говоря обо всем, нельзя обойти молчанием братское кладбище пустыни. Я много видел кладбищ, начиная с маленьких сельских кладбищ и кончая крупными столичными кладбищами, но нигде не видел такой характерной особенности, какою отличается кладбище Оптиной пустыни. Помимо памятников над такими великими праведниками, как старец Макарий, старцы Амвросий и Иосиф – для последних теперь сделали один общий памятник, – недавно погребенного старца Варсонофия, это кладбище отличается тем, что на памятниках его, на железных плитах, в сжатых чертах отмечены все характерные особенности добродетелей и служения похороненного. Читая эти надписи, говорит священник Четвериков (автор известного «Жизнеописания Оптинского старца Амвросия»), есть чему научиться, есть о чем задуматься, есть над чем умилиться!
Преподобный Никон Оптинский
Вот, например, рядом с могилою о. Амвросия могила его наставника и предшественника по старчеству иеромонаха Макария (родом из Орловских дворян), надпись на коей гласит, что «он делом и словом учил особенно двум добродетелям – смирению и любви». Рядом с о. Макарием похоронен его предшественник по старчеству о. Леонид (из Карачевских граждан), который «оставил по себе память в сердцах многих, получивших утешение в скорбях своих». У ног этих великих старцев находятся могилы духовных детей о. Макария – Ивана Васильевича и Петра Васильевича Киреевских, столь известных в истории русского просвещения. На памятнике Ивана Васильевича написано: «Премудрость возлюбих и поисках от юности моея. Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст, приидох ко Господу».
«Узрят кончину премудрого и не уразумеют, что усоветове о нем Господь».
Чудная надпись, изображающая весь порядок духовной жизни подвижника, помещена на могиле ученика о. Амвросия, скитоначальника, ие-росхимонаха Анатолия (из духовного звания): «Терпя, потерпех Господа и внял ми, и услыша молитву мою: и возведе мя от зова страстей и от брения тины, и поставь на камени нозе мои, и исправи стопы мои. И вложи во усте песнь нову, пение Богу нашему». В этих словах псалмопевца со всею точностью изображен весь путь духовного возрастания христианина – от первоначального пребывания в тине страстей до совершенного упокоения и утверждения чистым сердцем в Господе!
На могиле схимника Карпа написано: «Схимонах Карп, внимательный подвижник, слепец, из крестьян… весь день проводил в тяжелом послушании, а ночь почти всю в рукоделии и молитве. Кротость, молчание с постоянным самоукорением, приветливое обращение с братиею и непрестанное понуждение себя на все благое были отличительными чертами сего подвижника».
В. Васнецов. «Ангел с лампой».1885–1893
На могиле 22-летнего монаха Гавриила читаем: «В семилетнее пребывание свое в монастыре никого не оскорбил; жил в обители, как странник, -хранил молчание; был послушлив и почтителен ко всем, кроток и благоумилен; имел великое воздержание в пище; к церкви был примерно усерден; во всем открывал свою совесть пред старцем и неуклонно исполнял его советы. Болезнь свою переносил с терпением и благодушием. Скончался вмале, исполни лета долга».
На могиле схимонаха Пахомия читаем: «Скончался 96 лет, а по свидетельству некоторых 106 лет… С самых юных лет до глубокой старости проводил странническую христианскую жизнь по евангельскому слову, не имея, где главы подклонити. В продолжение своей жизни по нескольку раз посетил все русские святые замечательные места, проживая где сколько заблагорассудится. За 6 лет до смерти, ослабевши телесными силами, остался совсем на жительство в Оптиной пустыни, где и окончил тихо дни свои. Был неграмотный, но хорошо знал житие всех святых и твердо помнил дни празднования их. Постоянные молитвы его были: «Богородице Дево, радуйся!» или «Ангел Вопияше Благодатный»… и «Светися, светися, Новый Иерусалиме!» – которые он всегда пел, входя в дома, посещаемые им, и выходя из них.
Имел обычай просить милостыню, но вскоре затем отдавал оную другим неимущим. Говорил очень мало, но слова его оправдывались впоследствии самым делом, через что многие имели доверие и расположение к нему. На нем исполнились псаломские слова: живый в помощи Вышня-го, в крови Бога небесного водворится. На мя упова, и избавлю и…»
Далее следуют столь же выразительные надписи на могилах: иеросхимонахов Пимена, Саввы и других, которых мы не приводим. В них заключается много жизненных уроков как для иноков обители, так и для мирян.
Читаешь их, и страница за страницей раскрываются пред тобою неведомые миру, но сохраненные в назидание братии примеры святой, богоугодной жизни… И не хочется оторваться от этих страниц, не хочется отойти от этих безмолвных наставников.
Больница Источник преподобного Пафнутия
Но человеческая душа ненасытна, она хочет большего и большего. Невольно устремляешься во все стороны от монастыря, чтобы открыть новые источники, новые места, которые еще больше, еще обильнее переполняли бы жаждущую света, неземной формы бытия, изболевшую, переутомленную мирской суетою душу.
И эти попытки не остаются безуспешными.
Вот больница, больничная церковь, больничный сад; и на всем на этом лежит отпечаток особенных христианских взаимоотношений.
Видно, что здесь на больного смотрят не так, как в мирской жизни на страждущего физически человека, а главным образом «на душу больного, на его духовное переживание». Очевидно, здесь на физическую болезнь смотрят, как на один из путей возможного проникновения лучей спасения в человеческую душу. Но все это делается последовательно, естественно, без всякого насилия над человеческой природой. Я бы сказал так: здесь все стоит на страже, в ожидании того момента, когда человеческая душа сама рванется к Господу.
За больницей идут две тропочки, одна в густую чащу леса Оптинской пустыни, а другая вокруг монастырской стены в скит.
Вас тянет на первую: что там интересного, что там нового?
И действительно, там, – где согласились люди постоянно просить Его о всяком деле, Он Сам сказал, что всякую такую просьбу Он исполнит им, «ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их», — в местах этой высокой молитвы на каждом шагу видишь присутствие Господа, и это подтверждается тем, что на каждом шагу здесь решительно все напоминает Его Божественную правду, Его Божественное слово.
Вы идете по вашей дорожке все дальше и дальше. На вас падают лучи заходящего солнца. Красивые, мощные великаны сосны, пяти-шести аршин в обхвате, раскидывают перед вашими ногами самую причудливую, самую переплетенную сеть теней.
Икона святого Пафнутия Боровского, основателя Боровского монастыря
В природе невозмутимая тишина.
Все благоухает какими-то чудными ароматами.
С каким-то невольным благоговением снимаешь фуражку и думаешь: «Господи, да почему же здесь так хорошо; почему так невообразимо благодатно и благотворно на душе? Ведь есть же много на белом свете роскошных местоположений, красивых ландшафтов, – но все это не то. Там всегда, хотя в самом маленьком размере, но чувствуешь в сердце какую-то скорбь, какую-то затаенную тоску, ощущаешь какие-то тяжелые цепи от каторги жизни на своей духовной свободе, на своей «волюшке вольной», – а здесь – ничего. Как новорожденное дитя. Только вот от избытка души так бы и хотелось петь и славить Бога, славить Бога и петь».
М. Нестеров. «Послушник с крестом». Первая четв. XX в.
И как бы в ответ на это раздается дивный благовест к всенощному бдению. Раздался… понесся далеко… далеко… замер каким-то отдаленным эхом и негой своего замирающего отзвука что-то сказал умиленному сердцу.
И вдруг в то же время по всему перелесью раздались какие-то странные, непонятные звуки. Я не знаю, с чем их можно сравнить. Это крик тысячи детей, это скрип и визг какой-то своеобразной исполинской пилы.
Я замер от неожиданности, и долго бы стоял в этом оцепенении, если бы случайно проходивший монах не объяснил мне, что это крик живущих здесь цапель, диких журавлей, гусей и всякой другой птицы, которая, как я сказал уже выше, вследствие запрещения здесь охоты живет спокойно, безмятежно и доверчиво.
– У нас, возлюбленнейший, здесь насильственной смерти нет.
И я понял все в этом чудном благовесте и в этом свободном крике свободных птиц, на жизнь и волю которых не посягает никто.
– Здесь Бог, и здесь нет смерти беззащитным! – невольно шептал я.
Этот лес выводит вас на поразительно красивую дорогу к источнику преподобного Паф-нутия.
Не хочется уходить. Изумительное единение всей природы и чудно настроенной души с этой утопающей в благотворной тишине неземной красотой приковывает, очаровывает всякого, попавшего в сферу ее чудодейственного влияния…
Но вот вы спускаетесь вниз, и перед вами колодец, выкопанный, по преданию, преподобным Пафнутием, игуменом Боровским. Около колодца находится небольшой резервуар, аршин шести длины и аршин трех ширины, в котором вмещается проточная вода из источника, и сюда некоторые из ревностных богомольцев приходят купаться.
И. Крамской. «Русский монах в созерцании»
Вода здесь в самые жаркие дни не поднимается выше +10° .
Только, к крайнему сожалению, почему-то этот колодец и источник находятся в крайне запущенном виде, в особенности сарайчик для раздевальни. Это, конечно, в значительной степени сокращает число желающих воспользоваться благотворными водами, освященными великим подвижником.
А уж отсюда прямая дорога: прямо к ограде пустыни. И та же красота, то же беспредельно высокое настроение.
Именно настроение.
И настроение чрезвычайно глубокое, которое не исчезает, мне кажется, и годами…
Иоанно-Предтеченский скит
Теперь перейдем к знакомству с самым центральным пунктом Оптиной пустыни – с Иоанно-Предтеченским скитом.
Достаточно выйти на эту очаровательную дорожку, которая идет к скиту, чтобы вашу душу охватило какое-то исключительное по своему настроению чувство.
Перед вами развертывается с обеих сторон чудная густая сосновая аллея, и вы сразу чувствуете, что переходите в какой-то совершенно иной мир.
Внутренний вид Предтеченского скита, Оптина пустынь. 1887
Обыкновенно поразительная тишина. Святая тишина в самом точном смысле этого слова. Такой тишины, я уверен, многие не наблюдали нигде.
По обеим сторонам в начале аллеи стройно стоят фруктовые деревья. Если вы приехали во второй половине июля, то ваш взгляд падает на необычайное изобилие яблок и других фруктов.
Если же вы приехали ранней весной, вы идете под сенью какого-то неземного сада, покрытого белым цветом фруктовых деревьев.
Наконец как-то незаметно эта аллея соединяется с просекой обыкновенного леса, обильного стройно вытянувшими свои вершины богатыря-ми-деревьями, которые, как стражи-исполины доброго старого времени, мирно пропускают вас к скиту. То тут, то там в глубоком безмолвии, с каким-то, очевидно, исключительным благоговением, тянутся длинные вереницы богомольцев, направляющихся к старцам.
Сто семьдесят саженей, расстояние между пустынью и скитом, пройти, само собою разумеется, очень скоро. И вы сожалеете, что эта чудная дорога не выросла в 170 верст.
Ангел-хранитель. Икона
Перед вами направо сначала показывается колодезь во имя Амвросия Meдиоланского, куда два раза в день выходят с небольшими глиняными кувшинами из скитских ворот скитонасельники, очевидно, за водой для утреннего и вечернего чая.
Еще несколько шагов, и перед вашими глазами развертываются святые ворота Предтечева скита, по обеим сторонам которых вы видите два домика, с выходящими наружу маленькими крыльцами, в отворенные двери которых, почти беспрерывно то входят, то выходят пришедшие богомольцы.
И у кельи направо на длинной скамейке, которая рядом с входом, а иногда и на ступенях крыльца, сидит большая группа ожидающих очередного входа в келью.
Эти два домика – кельи старцев, куда является свободным доступ снаружи скита только лишь для женщин. Мужчины же входят к старцам через святые ворота, через внутренний вход.
К. Костанди. «Ранняя весна». 1915
Если вы оглянетесь в сторону леса, по направлению от правой кельи, то вы увидите в хорошую, ясную погоду массу самой разнородной публики, которая находится в ожидании очередного входа в кельи. С этой же стороны помещается длинная скамья, на которой в первый свой приезд я на единственном этом месте во всей Оптиной пустыни увидел написанные, очевидно, каким-то местным доморощенным поэтом стихи:
На эту святую обитель Нисходит ангел-хранитель. И по воле небесного Отца, Утешает скорбные сердца.И эти стихи, несмотря на плохо соблюденный размер в них, как нельзя лучше выражают собой роль и значение в человеческой жизни этой великой обители.
Главная масса богомольцев тянет в келью направо.
Такое изобилие народа вблизи правой кельи объясняется тем, что в этой келье на протяжении многих лет кряду помещались два великих старца: Амвросий и Иосиф.
Л.Н. Толстой в Оптиной пустыни
Лучшим подтверждением того, что нахождение под стенами скитской обители так чудно, благотворно, притягательно действует на человеческую душу, может служить также и тот факт, что здесь находил покой и, очевидно, единственное место для отдыха изболевшей, исстрадавшейся души, запутавшейся в сетях самомнения и гордыни, отрицавший Божественного Спасителя мира, Л.Н. Толстой.
Вот что рассказывал мне один из гостинников: «Нередко бывал в нашей обители граф Л.Н. Толстой. В книгах для записи посетителей Оптиной пустыни гостиницы № 1 есть его подписи. Когда был жив старец Иосиф, Толстой довольно часто посещал этого старца, вел с ним продолжительные беседы. Нередко посещал нас граф и так. Не забывал нашей обители. Только уж как-то по особенному. Приедет верхом, отдаст лошадь на гостиницу о. Пахомия, а сам дорогой, мимо этой последней гостиницы, уйдет в лес, за скит, найдет себе там пенек. Сядет на него, да и сидит, не сходя с места по несколько часов, думая какую-то, очевидно, тяжелую думу. Потом берет лошадь и уезжает к себе».
Н. Ге. Портрет Л.Н. Толстого
Этот рассказ гостин-ника, если поставить его в связи с последним посещением Л.Н. Толстого, о котором мы будем говорить ниже, может служить лучшим подтверждением непреодолимой силы того влечения в Оптину пустынь, о котором мы говорим.
В Оптиной пустыни бывали также: великий князь Константин Константинович, М.П. Погодин, Ф.М. Достоевский, Вл.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев, A.C. Хомяков и др. И все они, по их личному свидетельству, выносили это непередаваемое чувство великого влечения к обители.
Старцы
Самым первым старцем – основателем Оптинского старчества, – был отец Леонид, ближайший сотрудник вышеописанного Моисея. И сейчас еще есть люди, которые помнят величественную фигуру этого старца, названного в схиме Львом. Почти постоянно в белой одежде, прикрытой сверху полумантией, с белыми волнистыми волосами, он производил, говорят, неотразимое впечатление.
Когда он поступил в Оптину пустынь, он сразу положил на нее какой-то исключительный, своеобразный отпечаток.
Чрезвычайно простой, искренний, непосредственный человек, крайне чуткий и экспансивный, он сумел соединить в себе в одно и то же время необычайную любовь к страждущему человечеству, ради которого он готов был пойти на крест, в самом точном смысле этого слова, и за которое он часто, будучи свидетелем проходивших перед его глазами неприкрытых покрывалом житейской лжи бед, скорбей и страданий, проливал обильные слезы, приносил Господу горячие молитвы, и в то же время в деле исповедания Христа был молниеносен, горяч до крайности.
Обительские насельники, как только прибыл к ним старец Леонид, всей душою поняли этого великого человека и сплотились вокруг него одной семьей.
Чудную картину, говорят очевидцы, представляла в то время эта форма единения старца с доверявшими ему свою душу обительскими иноками. Все иноки стоят в его келье во время беседы на коленях вокруг него, а он, как добрый пастырь среди своих учеников, выслушивает их откровенную исповедь, умудряет их своим жизненным и духовным опытом.
М. Нестеров. «Святая Русь»
Как всякий истинный светильник не может скрываться под спудом, старец Леонид тотчас же раскинул лучи носимого им света по очень большому радиусу. Благотворное влияние его на иноков сделалось известным всем окружным обителям, и к нему то и дело стали приходить иноки из других монастырей, искавшие духовной поддержки, руководства и совета. Вслед за этим известность о великом старце распространилась и среди мирян; и из городов и соседних селений стали появляться люди всякого звания. Слова и советы старца поражали приходящих своей прозорливостью, своей неземной мудростью; молитвы его приносили желанные результаты, и двери старца не закрывались уже ни перед кем.
Преподобный Лев Оптинский (Леонид Наголкин)
Таким образом, старцем Леонидом было положено начало старчества среди мирян.
Человеческая нужда влекла всех к прославившемуся своим внимательным отношением к человеческой скорби старцу Леониду.
Старец Леонид был человек редкой неподкупности, и, если действительно в уставную особенность Оптиной пустыни по преданию было заложено нелицеприятие, то старец Леонид был одним из наиболее ярких выразителей его.
Были очень часто такие примеры, где старец, провидя в только что вошедшем какой-нибудь тяжелый порок, какой-нибудь великий грех, несмотря на внешнее положение носившего этот порок или грех, обличал его очень сурово.
Были случаи, что он выгонял таких, которые приходили к нему с видимым лицемерием.
Рассказывают такой случай. Недалеко от Оптиной пустыни жил помещик, который хвалился; что стоит ему только взглянуть на о. Леонида, как он сейчас же насквозь увидит его. Вот однажды этот помещик и приехал к старцу. Келья, по обыкновению, была полна народом. Входит в келью. Роста он был очень высокого и чрезвычайно полный. Отец Леонид имел такой обычай: когда хотел произвести на кого-нибудь особенное впечатление, то, загородив глаза рукою, при-ставя ее ко лбу козырьком, как будто рассматривал какой-нибудь предмет на солнце. Так он сделал и при входе этого помещика. Поднял руку к глазам, смотрит и говорит: «Эка остолопина идет! Пришел насквозь увидать грешного Леонида, а сам, шельма, семнадцать лет не был на исповеди и у Святого Причастия». Помещика эти слова так поразили, что он весь затрясся, а после плакал и каялся, что он действительно неверующий грешник; что он действительно семнадцать лет не исповедывался и не причащался Христовых Таин.
Был другой случай: один очень богатый помещик, много благодетельствовавший обители, до глубокой старости жил в незаконной связи со своей крепостной, хотя имел законную жену и взрослых женатых уже сыновей и дочерей. Зная зависимость, до некоторой степени, от него обители, он обратился с просьбой к архимандриту Моисею, чтобы тот попросил у о. Леонида разрешения исповедоваться ему у него.
Таинство исповеди. Икона. Конец XIX в.
Каково же было удивление помещика, когда старец отказал ему в этом. Тогда помещик снова начал усиленно просить архимандрита и других близких к старцу людей. Эти просьбы склонили старца; он согласился, но заявить, что за последствия не ручается. Помещик исповедовался, но старец не допустил его к Святому Причастию. Нетрудно себе представить, что должен был испытывать этот господин, который, как оказывается, был необычайно властным человеком и не понимал по отношению к себе ни противодействия, ни препятствия.
И при всем этом неловкость его положения усугублялась еще тем, что он приехал к старцу со старшей замужней дочерью, которая в то время за эту открытую правду была чрезвычайно благодарна старцу.
Напрасно помещик обращался к настоятелю и к другим лицам о заступничестве – все, зная непреклонность старца, отказали ему в этом. Помещик уехал домой и менее чем через месяц порвал незаконную связь.
Что касается громадного духовного опыта и прозорливости старца Леонида, о них существует очень много рассказов, и как на один, наиболее характерный из них, укажу на следующий.
Однажды, в конце 20-х или 30-х годов XIX столетия, он проездом посетил Софрониеву пустынь. В то время там был известный своею прозорливостью затворник иеросхимонах Феодосий.
Про него рассказывают, что он предсказал войну 1812 года и некоторые другие события. Побеседовав с затворником, о. Леонид спросил его, как он узнает и предсказывает будущее. Затворник объяснил, что Дух Святый является ему в виде голубя и говорит человеческим языком.
В. Васнецов. «Серафимы». 1885–1896
О. Леонид, видя, что это явная бесовская прелесть, начал предостерегать затворника, говоря, что таким явлениям доверять не следует, и к ним должно относиться с особенной осторожностью. Затворник очень обиделся и сказал о. Леониду: «Я думал, что ты, как и все, пришел ко мне, чтобы поучиться и попользоваться от меня, а ты дерзаешь еще меня учить».
О. Леонид удалился от него и, уезжая, предупредил настоятеля пустыни: «Берегите вашего затворника, как бы с ним не случилось чего худого».
И действительно, не успел о. Леонид доехать до Орла, как до него дошел слух, что иеросхимонах Феодосий удавился.
В. Тропинин. «Монах со свечой». 1834
Но лишь только деятельность о. Леонида в Оптиной пустыни стала разрастаться и к нему пошел со всех сторон народ, на него, как и всегда водится, сатана воздвиг жестокое гонение. Кто-то из невежественных монахов ближайшей обители, отождествив откровение помыслов мирянами старцу с исповедью, донес о нем архиерею, и последний воспретил ему принимать мирян. И вот здесь сказалось: какая сила и глубина веры, какая независимость и неподкупность духа, твердость убеждения и именно христианское понимание великих слов апостола: «пребывайте в служении», проявились в этом человеке. Он продолжал неукоснительно принимать мирян; и народ как будто бы еще больше шел к старцу.
В один из таких приемов, протискавшись через огромную толпу народа, пришел к нему настоятель, архимандрит Моисей, и напомнил о запрещении архиерея. Леонид вместо ответа приказал принести привезенного к нему недвижимого калеку, лежащего у дверей кельи, и сказал о. Моисею.
– Посмотрите на него: он живой в аду. Но ему можно помочь; Господь привел его ко мне для искреннего раскаяния, чтобы я мог его обличить и наставить. Могу я его не принять?
Любвеобильный и тоже сострадательный о. Моисей дрогнул перед словами старца и робко проговорил:
– Но ведь преосвященный грозил послать вас под начало.
– Ну так что ж? Хоть в Сибирь меня пошлите, хоть костер разведите, хоть на огонь поставьте – я буду все тот же Леонид. Я к себе никого не зову, а кто приходит ко мне, тех гнать от себя не могу… Не могу презреть вопиющие людские нужды.
В. Гау. Филарет, митрополит Московский. Гравюра, 1837
А когда его упрекало белое духовенство в том, что он занимается не своим делом, он смело говорил:
– Это бы ваше дело. А скажите, как вы исповедуете? Два-три слова скажете, вот и вся исповедь. Вы бы вошли в положение каждого из своих духовных детей. Разобрали бы, что у них на душе. Давали бы им полезные советы, утешали бы их в горе, и не уходили бы они от вас.
Хотели о. Леонида за сопротивление архиерею сослать в Соловки, но для человека, глубоко верующего в Господа Бога и высоко держащего знамя своего служения, для истинного христианина – злобные происки сатаны – все равно, что рычание беззубого льва, потому что Господь всегда стоит на страже около полностью доверившихся Ему. Заступничество Филарета, митрополита Московского, и Филарета, митрополита Киевского, спасло этот великий светильник: его оставили в покое.
И он потух по воле призвавшего его к Себе Творца 11-го октября 1841 года, оплакиваемый тысячами оставленных им сирот.
Известный всей читающей России духовный писатель Е. Поселянин выразил прекрасную мысль, что последовательная лествица трех Оптинских старцев: Леонида, Макария и Амвросия, – представляет собою по мере достигнутой ими духовной высоты, известности и влияния три все выше и выше поднимающиеся ступени.
Второй знаменитый Оптинский старец, иеромонах Макарий, был ближайшим учеником, другом и помощником старца Леонида и, само собой разумеется, тотчас же заместил этого последнего.
Старец Леонид установил, если так можно выразиться, первую точку соприкосновения с миром, лежащим за оградой Оптиной пустыни; первый реальным примером указал всю важность нравственно-воспитательного значения иноческой жизни – для простого народа; истинную задачу служения иночества: спасение своей души спасением душ наших ближних, непрестанным исповедыванием перед людьми Господа Нашего Иисуса Христа и Его великого учения. Он как представитель Русской Православной Церкви, твердо охранял принципы и догматы великого православия. А старец Макарий увеличил эту область общения точкой соприкосновения иночества с русской интеллигенцией.
Будучи человеком для своей эпохи образованным, происходя из хорошего дворянского рода, он читал много духовной литературы, в том числе и переведенной с греческого и славянского языков.
Преподобный Серафим Саровский
И на нем знаменательнее всего оправдался следующий факт.
Если Божественной про-мыслительной волею ниспосылается на Землю носитель великой Боговдохновенной мудрости, искусный влиять на пытливый ум искренно ищущих разрешения духовных проблем жизни, – весть об этом избраннике проникает в сердце именно тех, кто искренно алчет и жаждет правды.
Посмотрите: засветился в чаще непроходимых Тамбовских лесов великий Божий светильник – Серафим, и, несмотря на то, что не было в то время широкой сети телеграфов, а тем более телефонов, да и почта-то была так бедна, так несовершенна, что не была в состоянии, благодаря отсутствию железных дорог, своевременно обслуживать даже центры нашего беспредельного отечества, не говоря о далеких окраинах, а между тем какие нескончаемые волны паломников потекли из самых отдаленных уголков нашего отечества к этому великому подвижнику Христовой любви и смирения.
Точно то же мы видим и в великой возникшей деятельности старца Леонида в Оптиной пустыни: весть об этом посланнике неба разошлась со страшною быстротой среди наших соотечественников, чего теперь не в силах достигнуть самые великие, самые известные ученые, врачи, художники, несмотря на целый ряд многочисленных земных орудий, служащих распространению известности.
И к старцу Макарию потекли люди великого ума, великого искания, и с помощью этих людей о. Макарий создал специальную Оптинскую литературу.
Великое влияние этого старца излилось на искавшую правды, света и добра душу нашего великого писателя Н.В. Гоголя.
Около Макария приютились имена Киреевских, Леонтьева, Погодина, Соловьева, Достоевского, не говоря уже о православном русском духовенстве. И, помимо многочисленных посетителей, у о. Макария была огромная переписка с разными лицами, так что одних писем, напечатанных после его смерти, было шесть томов.
И вот, в сферу деятельности о. Макария, всесторонней деятельности: и устной, и духовно-литературной, в Оптину пустынь, под руководительство его, вступил известный почти всему образованному миру, не только в России, но и за границей, старец Амвросий.
Об этом великом человеке и праведнике нашей эпохи создалась огромная литература, замечательной особенностью которой следует назвать то, что сколько бы ни писали о старце Амвросии книг, они с жадностью читаются все.
В. Перов. Портрет Ф.М. Достоевского. 1872
Старец Амвросий появился в Оптиной пустыни и приковал к себе внимание исключительно интеллигентских кругов в тот момент, когда эта интеллигенция была охвачена проникшей в нее западноевропейской философией, которая все больше покоряла сердца увлекающейся молодежи, и когда на горизонте русской мысли вырастал ужас толстовского движения.
Ни сам старец Амвросий, ни Оптина пустынь, ни Иоанно-Предтеченский скит, ни множество паломников, приходивших к старцу, как к источнику живой воды, – никто из них не знал той великой задачи, того великого дела, которое руками старца закладывал Великий Промыслитель всего живущего в мире – Господь.
Я недавно видел изумительные результаты великого дела, если так можно выразиться, созидающегося и посейчас по воле Божией, на могиле Амвросия.
В. Верещагин. «Святой Григорий проклинает умершего монаха за нарушение обета бессеребрия». 1869
Один только что женившийся молодой человек, правовед, занимающий видное служебное положение, к религии человек настолько безразличный, что, когда его совершенно неверующая жена категорически заявила няне своих трехлетнего Вовочки и 1 S-годичной Ани, что она «никаких глупостей, вроде крестов» на детей надевать не будет, потому что, видите ли, ребенок может крестом и пораниться (?), и уколоться (?!); и что водить она к глупому обряду Причастия своих детей, дабы их не заразить какой-нибудь болезнью, тоже ни за что никогда не будет, – отнесся к этому в высокой степени безразлично. Год назад, совершенно случайно, читал в моем присутствии один господин, бывший у них в гостях, о старце Зосиме из «Братьев Карамазовых». Этот господин, как оказывается, бывал в Оптиной пустыни, и говорил после о том, что хотя в обществе и говорят, – старец Зосима списан Достоевским со старца Амвросия Оптинской пустыни, это не совсем верно, так как Зосима Достоевского ни в характере, ни в способе говорить, совершенно не похож на праведного Амвросия.
Разговор сразу перешел на вопрос о том, кто такой старец Амвросий. Любезный гость рассказал все, что ему было известно об этом великом человеке. Перешли на беседу об Оптиной пустыни, о старцах – вообще. Словом, муж и жена так заинтересовались Оптиной пустынью, старцем Амвросием и другими старцами, что решили первыми свободными днями отправиться на могилку старца Амвросия, и – в настоящее время более религиозной и верующей семьи, как эта юная семья, я не встречал. Как муж, так и жена редкую субботу и воскресенье пропускают посещение церковной службы. Дети регулярно причащаются. Во всех комнатах находятся образа с горящими лампадами, о чем раньше нельзя было и мечтать; и, мало этого, в нынешнем году (1913), в книге только лишь одной монастырской гостиницы я встретил три-четыре фамилии бывших в этой семье людей, тоже не отличавшихся особенной верой.
Старец Амвросий был неизмеримо велик тем, что, во-первых, он человек нашего времени, нашей эпохи. Плоть от плоти нашей, кость от костей наших. Во-вторых, – человек сравнительно развитой. Он окончил семинарию, а затем в ранней молодости был учителем в Липецком духовном училище. Далее, Александр Михайлович Гренков—так звали Амвросия в миру, был человек жизнерадостный, веселый, танцор, душа общества, для которого монастырь был синонимом могилы.
И вдруг этот человек в монастыре!
Вдруг этот человек, самый обычный, такой же, как мы, личной жизнью и примером свидетельствует, что избранная им жизнь есть идеал того счастья, к которому все мы стремимся.
Этот человек делается обладателем целого ряда духовных даров: прозрения, исцеления, дара духовного назидания и т.д., и т.д.
Мало этого, мы знаем, что этот человек в течение первых лет своей молодой жизни был угнетаем целым рядом мучительных, тревожных вопросов.
И вдруг этот человек получил возможность сам разрешать сомнения целой массы людей; сам – исцелять больные, страдающие души; отвечать на самые сложные, самые мучительные вопросы в жизни.
Значит, служение Богу – не фикция, не досуг праздного ума, а что-то реальное, ощутимое?
И многие умы, не только юные, но даже зрелые, задумываются над этим фактом, как над таким, который сразу разрушает все догматы отрицания, сеет еще большие семена сомненья в грубый материализм и еще энергичнее отводит человеческий взор от новых принципов неверия к давно забытой, чистой, невинной, оживляющей человеческую душу и бодрящей жизнь – вере.
Не буду утомлять вашего внимания подробным очерком жизни этого великого человека, а отсылаю к прекрасным трудам Е. Поселянина «Праведник нашего времени, Оптинский старец Амвросий», и протоиерея С. Четверикова «Описание жизни Оптинского старца Амвросия».
Там можно найти много, над чем следует подумать; что может глубоко запасть в человеческую душу и отразить в ней самые благодатные, живительные начала.
Здесь я скажу только лишь то немногое об этом человеке, что мне пришлось услыхать от людей, близко знавших этого великого праведника.
Старец Амвросий совмещал в себе решительно все, что нужно человеку в самом точном смысле этого слова.
Старинная гравюра «Добрый пастырь».Из книги «История Церкви», 1880
Он шел и на скорбный стон простой деревенской женщины с тяжелыми нуждами ее «бабьей» доли. Он шел навстречу и богатому барину, пресыщенному удовольствиями жизни, и с душой, отравленной – чтобы только она молчала, не стонала, не вопила, – ядом широкого разгула пьянства, разврата, картежной игры.
Он шел и навстречу юному идеалисту, который запутался между «древом жизни» и «древом познания добра и зла», и с страшной беспомощностью шел к старцу, рассчитывая увидать чудо и поверовать.
И старец давал ему это чудо: он тихими словами изумительного смирения, великой любви, проникал в ищущую душу молодого человека и открывал ему правду жизни.
Преображение Господне. Фреска. Фото Й. Седмак
Когда старец Амвросий после Макария выступил на самостоятельный подвиг старчества, у него не было минуты, чтобы кто-нибудь не приходил к нему Надо было видеть количество посетителей при о. Амвросии Оптиной пустыни. В гостиницах не хватало мест; не хватало ямщиков для перегона между Оптиной и Калугой, – тогда ездили в Оптину через Калугу. Посетители неделями дожидались десятиминутного разговора старца. И нужно было удивляться, когда успевал этот великий, и в то же время чрезвычайно слабый здоровьем человек удовлетворять всех жаждущих его. А между тем он находил время и для чтения псалмов, часов, акафистов Спасителю и Божьей Матери; затем диктовались письма; и между этим временем шел непрерывный прием посетителей.
В своей переписке старец Амвросий касался решительно всех вопросов, и нужно удивляться той эрудиции, той глубине знания, и, главным образом, знания человеческой души, с которыми он обсуждал и разрешал самые жизненные вопросы.
Старец Амвросий, прямым продолжателем его следует назвать ныне старчествующего о. Анатолия, являл собой тип истинного, полного духовной жизнерадостности христианина-оптимиста.
Истинно верующий в Господа христианин – тот, вера которого совершенно искренно, безо всякой хотя бы малейшей натяжки понуждает его все свои заботы возлагать на Господа, ибо Он печется о нас.
Поэтому он всегда должен быть оптимистом в точном христианском смысле этого слова.
Храм в честь Преображения Господня в Оптиной пустыни. Фото А. Митрофанова
И вот почему старец Амвросий, всегда измученный, осаждаемый просьбами, всегда находившийся в скорбнице человеческих страданий, несмотря на свою болезнь, на свой более чем 70-летний возраст, – всегда сиял радостью, ясностью и обладал той нравственной бодростью, которую вливал в человеческие сердца.
Нужно ли говорить, что этот человек был живой носитель милосердия и что никто из обращающихся к нему за помощью не отходил от него без нее.
Но, помимо своих назиданий, христианской горячности и милосердия, старец привлекал к себе людей чудными дарами прозорливости и исцеления. Причем в последнем случае высокое служение Христову смирению побуждало его очень часто ставить этот дар в такие условия, при которых он вперед лишал возможности приходящего к нему прославить в нем при жизни это великое Божие благословение.
Обыкновенно он делал так: придет к нему какой-нибудь больной, он побеседует с ним, выслушает его скорбь, а потом и направит его или к Тихону Калужскому, или к Серию Преподобному, и уже по дороге туда больной получает исцеление. Хотя в то же время рассказывают немало и таких случаев, где старец оказывал непосредственное исцеление, осеняя больного или крестным знамением или только лишь словами утешения. Но он всегда давал ясно понять исцеленному, что это «не он, не его сила», а сила Всемогущего Бога или Царицы Небесной.
Что касается дара прозорливости, то в этом отношении около старца Амвросия сосредоточены целые анналы мелких и крупных событий.
Чрезвычайно характерные и трогательные эпизоды сообщил нам из этой области ныне благополучно здравствующий архимандрит мужского Боровского Преподобного Пафнутия монастыря о. Венедикт.
О. Венедикт, как мы уже говорили раньше, был в продолжение многих лет письмоводителем старца Амвросия и его ближайшим учеником.
«И вот, говорит он: приходили к батюшке Амвросию ежедневно сотнями письма. Прочитать, просмотреть их все вовремя не было никакой физической возможности. Батюшка начинает беспокоиться и спрашивать, не получено ли было от такого-то письмо. Ну где же упомнить. Тогда он сам подходит к письмам, вынимает письмо и начинает, не читавши его, говорить, что ответить автору этого письма. Распечатываю письмо, читаю, оказывается, действительно, как раз об этом и спрашивают батюшку.
Далее, – батюшка прекрасно знал, какое беспощадное влияние оказывают на человека злые духи и бесы, и он всегда улавливал момент этого влияния на близких ему людей. Особенно это часто приходилось наблюдать вот при каких условиях: сидишь, пишешь, а он тебе диктует. В течение всего времени следишь за мыслью батюшки, вдруг, как это часто бывает, мгновенно, как будто какая-то рука властно выхватывает твою мысль, отводит ее совершенно в другую сторону и переносит ее на совершенно другой предмет, – и в тот же самый момент старец, бывало, бросает в меня носовой платок и говорит: «посмотри, что ты написал», и действительно оказывается я начинал уже писать совершенно не то, что диктовал мне батюшка…»
Чудный дар прозорливости старца Амвросия по своей необычайности проникновения, и по своей, если так можно выразиться, простоте и легкости, можно смело сказать, превзошел все, что до сих пор было известно в этой области.
Нет ни одного человека из посещавших его, который не испытал бы лично на себе это изумительное свойство великого праведника.
С самых первых слов встречи старец без всякого вопрошания, как бы мимоходом, иногда касался таких тайников человеческой души, что сразу завоевывал эту душу и направлял ее к Божественной правде.
Про этого человека в этом отношении смело можно сказать, что он приуготовил свой талант, данный ему Богом, в необычайном изобилии. Он им распоряжался удивительно разумно, и всегда так, что клал им на человеческую душу глубокий след.
М. Нестеров. «Пустынник». 1888–1889
Рассказывают, что приехал к нему один человек, который, стремясь к наживе, очень часто не брезговал дешевым приобретением мелкой фальшивой серебряной монеты и сбытом ее. Старец при первой встрече с этим человеком, заведя разговор о чистоте души и об ее искренности, взял лежавший неподалеку от него старинного чекана четвертак, и сказал: «Искренность отношения к людям все равно, что приносимая Богу в жертву хорошая монета, а лицемерие, все равно, что фальшивая. Вы ведь вот мастер насчет этого, сейчас узнаете, фальшивая вот эта монета или нет ?» — показал он, протягивая посетителю серебряную монету Пришедший был так поражен этим фактом, что упал перед старцем на колени, рыдая, и просил его молиться об избавлении его от этого греха.
Белый ангел. Фреска. Фото П. Марьяновича
Или другой случай: приехал к нему один пожилой человек, который, имея у себя жену и детей, вел чрезвычайно безнравственный образ жизни, и имел одновременно по несколько сожительств с женщинами, всех их обманывая. Старец завел речь о вере в Бога. Говорил убежденно, с большой искренностью и увлечением. Посетитель слушал и недоумевал; человек он был, по своему убеждению, глубоко верующий, – почему же старец так подчеркивал ему в своей беседе ужас и грех неверия; и был как громом поражен, когда вдруг старец как-то особенно ласково, нежно, даже как будто с какою-то робостью в голосе говорит ему: «Истинная вера человека настолько перерождает его душу, что он в своих собственных делах, в своих собственных поступках делается неузнаваемым самому себе. Вот взять хотя бы жену самарянку. До своей встречи с Иисусом она имела пять мужей. А несомненно, после беседы с Божественным Спасителем мира, о Котором она пошла с проповедью по своей стране, она сделалась женою только лишь одного человека». Посетитель понял, к чему клонилась речь старца.
Приезжает с целью испытания старца юноша, студент. Молодой человек, когда-то веровавший в Бога и очень любивший своих родителей, но в последнее время, сделавшись жертвою новых современных теорий, увлекшись какой-то пожилой да вдобавок замужней женщиной, почти совсем отошел, к прискорбию родителей, от церкви и от веры. Лишь только он вошел к старцу, последний, лежавший до этого момента, по случаю болезненного состояния, в постели, вдруг заторопился, встал, пошел навстречу к юноше; порывисто обнял его и сказал: «Как я рад, как я рад увидеть вас!.. Ведь вас многие не любят, многие осуждают, в особенности ваши родители, а ведь они совершенно не знают, что вы очень, очень скоро оставите все свои заблуждения и вернетесь к тому, что так любили, во что веровали».
Высокий феномен прозорливости с необыкновенным чувством любви, тепла и сердечности так повлиял на молодую душу, что юноша разрыдался, как ребенок, и через короткий промежуток времени действительно все бросил, поступил священником и в настоящее время занимает видное в духовном мире положение, как ревностный служитель церкви.
Если бы я начал рассказывать дальше о великой прозорливости старца Амвросия, только то, что слышал я во время своих двух путешествий в Оптину, то и это составило бы довольно солидную книгу.
А какая масса была зарегистрирована случаев чрезвычайно высокого напряжения этого дара, являющегося ответом или на чью-либо великую переживаемую скорбь, или на мысленный призыв помощи старца лиц, находящихся от него на очень далеком расстоянии.
Расскажу два случая; один, слышанный мною от его преосвященства, епископа Трифона, а другой – от одного из помещиков соседнего с Оптиной пустынью имения.
Один, бывший когда-то очень богатый человек, благодаря различным случайностям жизни разорился в самом точном смысле этого слова и переживал один из тех мучительных периодов, которые неизменно следуют за утратой большого состояния. Он должен был поступить на должность, но к некоторым у него не хватало духа самому обращаться, а другие сами отказывали ему в том соображении, что какой может быть работник тот, кто сам был хозяином, да еще богатым. Нужно заметить, что как этот человек, так и его жена были люди очень высокого милосердия, никогда никому и ни в чем не отказывали, и ввиду того обстоятельства, что их дом стоял неподалеку от большой проезжей дороги, они не отказывали ни одному проходившему мимо них страннику, обращавшемуся к ним за уютом и ночлегом.
В. Суриков. Странник-богомолец. Этюд для картины«Боярыня Морозова». 1885
И вот в один из неприятных дождливых осенних вечеров сидит у окна этот несчастный и думает свою тяжелую думу.
Средств нет, места нет, хоть ложись и помирай с голоду. Вдруг смотрит – сворачивает с большой дороги старик, очевидно, странник, и идет прямо к его окну. Так как на улице моросил мелкий дождик, то этот господин отворил окно и говорит ему: «Денег у меня, старичок, нет, и подать тебе нечего, а если хочешь укрыться от дождя, то войди и посиди тут». Старик вошел, уселся напротив хозяина, стал его расспрашивать о разных разностях, и, между прочим, о его делах. Хозяин с грустью рассказал о своем тяжелом переживании; и, когда закончил свой рассказ, странник сказал ему: «Да что ж ты, барин, мед-лишь-то: неподалеку от тебя, всего в каких-нибудь 12 верстах находится такой человек, как старец Амвросий, и ты не съездишь к нему за советом ? Ведь как много людей к нему ездят, и все получают каждый, что ему нужно… Издалека ездят… Человек он с большим знакомством, с большими связями, быстро поможет тебе». И так странник расположил радушного хозяина, что последний начал расспрашивать, как можно ближе пробраться к о. Амвросию, как его увидеть, и решил завтра же утречком выехать на лошади и непременно побывать у старца.
Исцеление Иисусом десяти прокаженных. Фреска
Во время этой беседы к ним в комнату несколько раз заходила жена хозяина. Кончилась эта беседа, странник взглянул в окно и заторопился идти, потому что стало смеркаться. Хозяин не стал задерживать странника. Последний быстро собрался и вышел. Как раз вслед за его уходом вошла жена, и, не видя странника, спросила мужа: куда же он девался. Тот ей сказал, что странник ушел совсем. Она выразила очень большое неудовольствие: «Как же это ты так отпустил человека на ночь глядя, в такую плохую погоду и даже не предложил стакан чая?.. Другим чем не могли обласкать человека, а чаем-mo могли бы напоить и согреть». Помещик, выслушав это, прямо пришел в ужас: как это он не мог догадаться сделать того, что делал постоянно по отношению почти к каждому прохожему. И, предполагая, что странник еще недалеко, так как он только что вышел, выскочил наружу, чтобы вернуть его. Но увы, хотя место перед ним было открытое, как он ни смотрел кругом, старик точно в воду канул. Пришло утро, запряг этот человек лошадку и поехал в Оптину. Приезжает, разыскивает, как указал ему странник, келью старца; ожидает очереди. Входит в келью и глазам не верит: перед ним стоит вчерашний странник. Помещик вскрикнул было в изумлении, но батюшка Амвросий велел ему ни слова не говорить о случившемся, а сам вошел в соседнюю комнату и говорит кому-то: «Ну вот, дорогой мой, я вам самого хорошего управляющего нашел». Потом вернулся к обедневшему богачу с каким-то господином, познакомил их, и через полчаса впадавший было в отчаяние имел прекрасное место.
Другой случай, слышанный мною от одного из соседних с Оптиною пустынью помещиков, следующий.
У одной госпожи в течение многих лет страдал алкоголизмом ее любимый старший брат. Что человек ни перепробовал, к кому ни обращался, ничего не выходило, а между тем у несчастного рушились и здоровье, и средства. В конце концов дело стало так, что лечившие его врачи объявили, что если он не прекратит пить, то у него произойдет паралич сердца, и он погибнет. Бедная женщина потеряла голову и, не зная, что делать, вспомнила, что в Оптиной пустыни есть такой великий и праведный старец, который молитвою все может сделать; зажмурила глаза, и, хотя никогда не видала о. Амвросия, мысленно представила его себе и начала мысленно же просить его о помощи брату. Так как это было около ночи, вскоре после этого она заснула. И видит во сне: подходит к ней старый старичок, она сразу поняла, что это был старец Амвросий, и говорит ей: «Купи в аптеке на четвертак травы черногорки-старонос, мелко изрежь, наполни две столовых ложки; завари в чайнике кипятком на пять чайных чашек; дай полчаса настояться в печке, потом вынь и пусть больной выпьет все пять чашек зараз, в теплом или холодном состоянии, это все равно. Так как трава эта очень горькая, то ее можно пить с сахаром или с медом. После приема может случиться рвота, но этого пугаться не должно, – это значит, что средство подействовало. Если после этого приема будет опять позыв на водку, то прием надо повторить. После этого лечения пропадет аппетит, но и это не беда, тогда только каждый раз перед пищей нужно принимать по 25 капель желудочный эликсир Витте с 10 каплями Гофманскими в рюмке воды».
Оптина пустынь. Храм в честь Марии Египетской
Женщина мгновенно проснулась, записала ночью этот рецепт. Наутро, когда встала, послала в город за травою. Покамест там ездили, искали траву, привезли ее домой, наступил вечер. Не желая упускать золотого времени, сердобольная сестра приготовила лекарство и уже почти на ночь напоила брата. К великому ужасу ее, перед тем, как ложиться спать, поднялась у брата такая рвота, что у бедной женщины, как говорится, опустились руки. И, как это всегда водится, стали в голове блуждать всякие мысли, в роде того, что-де какая я неосторожная, да разве можно доверять разным снам, а вдруг это какой-либо страшный яд. Словом, бедная женщина не могла заснуть всю ночь и заснула только лишь под самое утро. И снова видит этого же самого старичка, который подходит к ней и говорит: «Не бойся, матушка, я тебе говорю, не бойся. Это безвредно, а рвота – это винное гнездо разоряется».
В то время не было всех этих теорий о само-внушаемости, подсознании и тому подобном, – женщина встала успокоенная, и действительно, с этого момента стремление брата к спиртным напиткам, как говорится, как рукой сняло.
Много лет спустя эта женщина отправилась в Оптину пустынь, и каков же был ее нравственный восторг и удовлетворение, когда она увидела старца Амвросия именно таким, каким она его видела во сне.
Очень часто старец Амвросий касался будущего, но все это происходило у него в высокой степени осторожно, деликатно и смиренно, и дышало трогательной верой.
И очень часто наблюдались такие факты, которые подтверждают вышеприведенное иноческое правило не вопрошать об одном и том же по нескольку раз старца. Случалось так, что старец что-либо предукажет вопрошающему по первому разу. Последнему это или не понравится, или неудобно, невыгодно, не подходит с житейской точки зрения, – он начинает снова переспрашивать старца и упрашивать переменить свое решение. Как необычайно добрый, мягкий и кроткий сердцем, старец Амвросий поддавался таким просьбам и изменял свое решение, но… на деле всегда торжествовало его первое указание.
Относительно прозорливости старца Амвросия существует тоже чрезвычайно много записанных фактов, и из них особенно ярки следующие.
В 1875 году юнкер Энгельгардт окончил курс в Михайловском артиллерийском училище и в 1877 году пошел в качестве офицера на войну. Сестра его, Варвара Энгельгардт, жила в Зосимо-вой пустыни, Московской губернии, и здесь получила письмо от товарища брата, сообщавшее ужасную весть о том, что молодой 20-летний ее брат застрелился. В своем горе она кинулась в Оптину и со слезами передавала о. Амвросию не только свою скорбь об утрате брата, но еще более тяготившие ее опасения за его загробную участь. Когда на другой день она пришла к старцу, о. Амвросий встретил ее радостный и сказал ей, что брат ее жив и здоров. На вопрос ее: увидит ли она брата, – старец отвечал, что она узнает о нем лет через десять. Это предсказание исполнилось в точности. Через десять лет она получила из Америки письмо от брата, которой извещал ее, что он жив и здоров, и извинялся, что так долго держал ее в неведении о себе.
Зосимова пустынь. Надвратная колокольня. Фото А. Савина
Другие два случая я слышал от инокинь учрежденной старцем Амвросием Казанско-Амвросиевской Шамординской женской пустыни.
Высокоуважаемая матушка Наталия, урожденная Самбикина, ныне здравствующая, хотя и имела свою старшую сестру, м. Екатерину Самбикину, игуменьею этой обители, но не только не рассчитывала, не думала, но даже и не имела ни малейшего желания поступать в монастырь. Воспитавшись когда-то в богатом доме своих родителей и оставшись после их смерти без средств, она хотя и занималась педагогической деятельностью, но, несмотря на свой тяжелый труд, не имела ни малейшего желания идти вослед сестры. А между тем мать Екатерина, будучи ближайшим другом и ученицей старца Амвросия, очень сокрушалась об этом, а в особенности о том, что молодая Наталия всячески отстраняла от себя возможность повидаться с ее духовным отцом и другом. И однажды в своей скорбной беседе поделилась этим горем с последним. Старец Амвросий успокоил м. Екатерину и сказал, чтобы она не принимала по отношению к своей сестре никаких мер, ибо в октябре месяце она поступит в Шамординскую обитель.
Амвросий Оптинский, основатель Шамординской обители. Икона
Но увы, проходил уже далеко не первый октябрь после этого предсказания старца, а Наталия Алексеевна и не помышляла о монастыре. Наконец так сложились обстоятельства, что ее потянуло к старцу Амвросию. Потянуло мощно, непреодолимо, а тут у ней скончался брат, – самое близкое и дорогое существо для нее, и ей нужна была какая-нибудь нравственная поддержка. Она обратилась к старцу Амвросию, и была вся охвачена красотой этой неземной сущности, этой любви, этого смирения. И вопрос о вступлении в иночество был решен ею бесповоротно, без малейшего давления с чьей-нибудь стороны. Это было ранней весной, когда педагогическая деятельность заканчивается на летние каникулы, и ей казалось, что именно теперь и должно произойти ее поступление в монастырь. Но совершенно неожиданно для нее так сложились обстоятельства, что она вступила в обитель только лишь в октябре месяце, спустя девять лет после предсказания старца.
Распятие Христа. Фреска
Другой, тоже не менее характерный случай прозрения старца, в даль грядущего, сообщенный мне в Шамордине, был следующий.
Известный благотворитель Шамординой пустыни, С.В. Перлов, человек высокообразованный, воспитанный, полный энергии и самых недюжинных способностей, – как человек своего века и к тому же как один из самых крупных коммерсантов Москвы, постоянно вращавшийся в той среде, где бог – золотой телец, а служение ему выражается в личной сметке, предприимчивости и в искусстве вовремя купить и вовремя продать, – чрезвычайно скептически относился к религии – вообще, и веру в Бога принимал только лишь по традициям; хотя, как человек в высокой степени культурный и развитой, он ни на одно мгновение не стеснял в религиозных побуждениях свою супругу, А.Я., эту очень большую женщину, – чрезвычайно религиозного и искренно верующего человека. И вот последняя, высоко ценя духовную природу и качества своего мужа, страшно скорбела душою об его индифферентности к вопросам веры, и очень часто высказывала свою скорбь старцу Амвросию, испрашивая его советов, что нужно предпринять для приведения к Распятому и Воскресшему Иисусу, и к Святой Апостольской церкви своего мужа. Старец успокаивал доброе сердце, полное Христовой любви, женщины и говорил: «Попомни мое слово: С.В. будет нашим лучшим другом».
И действительно, стоит только взглянуть сейчас на эти миллионные здания, которые воздвигнуты покойным С.В. Перловым, в Шамордине, о которых мы будем говорить ниже; стоит припомнить уверения этого маститого деятеля, что с тех пор, как он обратился к Господу, на него посыпалось, как из рога изобилия, чудное Божие благословение: «Что бы я ни предпринимал за это время, что бы ни начинал, все мне давало в десять крат больше выгоды, нежели моим конкурентам», – уверял он пред концом своих дней, – чтобы понять, что слова старца Амвросия были не словами праздного человека, а Боговдохновенного ясновидца.
Кроме архипастырей церкви, о. Амвросия посещали и многие выдающиеся светские лица, искавшие у него указания жизненного пути или ответов на мучившие их вопросы жизни. Был у него в 70-х годах Ф.М. Достоевский, приехавший к нему искать утешения после смерти горячо любимого сына. Старец отнесся к нему с расположением и сказал о нем: «Это кающийся».
Вместе с Ф.М. Достоевским был и Вл.С. Соловьев, о взглядах которого старец, как передают, отозвался неодобрительно. К.Н. Леонтьев жил несколько лет при старце Амвросии и по его благословению принял в Оптиной пустыни монашество.
В 1887 году о. Амвросия посетил Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович, проведший некоторое время с ним в задушевной беседе и после с любовью к нему относившейся.
Несколько раз был у старца граф Л.Н. Толстой.
В первый раз Л.Н. Толстой был у старца вместе с H.H. Страховым в 1874 году; во второй раз пришел пешком в 1881 году в крестьянской одежде со своим конторщиком и сельским учителем, а в третий раз в 1890 году приехал к нему со своею семьей.
Сильное впечатление произвел о. Амвросий на графа Л.Н. Толстого, во второй его приезд.
Свое впечатление от разговора со старцем Толстой передавал так: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко стало и отрадно у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога». Это было сказано гр. Толстым в 1881 г. А в 1890 г., выйдя от старца, он сказал окружающим его лицам: «Ярастроган, я растроган».
Последние дни своей жизни старец Амвросий делил свою деятельность между по-прежне-му приходящим к нему скорбным людом и сози-данием указанной выше женской Шамординской пустыни, о которой мы будем говорить ниже. И, благодаря своему преклонному возрасту, изнурявшей его на протяжении многих лет мучительной болезни, 10-го октября 1891 года он отошел к Тому, Кому так чудно, так славно и так назидательно служил почти с ранней своей молодости, и к нему можно вполне применить прекрасное стихотворение, хотя и написанное на утрату другого лица, но сродного ему и по духу, и по деятельности, – великому старцу в миру – о. Иоанну Кронштадтскому.
…Он был жив, – мы сердцем не робели, Он был жив, – и были мы сильней; Умер он, – и мы осиротели, Умер он, – и ночь еще темней. Ночь темней, – а мы так одиноки В грозном море – слабые пловцы… Миру нужны вещие пророки И с душою детской мудрецы. В злобном вихре беспощадной битвы Мир совсем забыл бы небеса, Если б смолкли праведных молитвы, Прекратились Божьи чудеса. И нисходят в грешный мир святые, И низводят с неба благодать… Подвиг их – целить сердца больные И умы заблудшие спасать. Умер он – молитвенник народный, Умер он – народный иерей, И ненастной ночи мрак холодный Стал еще темней и холодней. Пусть он с нами вечным духом ныне, Но не слышим мы его речей… Не сияет в жизненной пустыне Свет его ласкающих очей. Оросив горячими слезами Мертвый камень гробовой плиты, Шепчем мы дрожащими устами! «Без тебя мы в мире сироты».Н. Кошелев. «Не плачьте, дщери Иерусалимские!» 1899. Церковь Святого Александра Невского на Александровском подворье в Иерусалиме
Московский Кремль, колокольня Ивана Великого. Фото С. Буторина
В заключение я не могу не сказать о том, что праведный старец Амвросий и после своей кончины не оставляет обращающихся к нему
В этом направлении уже есть много случаев, проникающих в печать и живущих в народе.
Старец продолжает свое служение, как и продолжал, и очень многие и по настоящее время посещают могилу великого старца, служа о нем панихиды, как великое благодарение за его незримую помощь.
Как на яркий факт, подтверждающий это, я считаю необходимым указать на следующий в высокой степени интересный случай, бывший лично со мною.
После того как оптинские старцы, как это мы увидим ниже, окончательно воскресили мою душу, и когда я твердо решился покончить со своим нехорошим прошлым, я, с благословения Его Высокопреосвященства Петербургского митрополита Владимира, по указанию старцев решил выступить на открытую проповедь против спиритизма, оккультизма и других знаний, тесно связанных с вызыванием духов, черной магией, и со всякой другой мерзостью, перед лицом Бога Живого, чему я когда-то так долго и ревностно служил. И я решил сделать первое свое выступление с публичной лекцией об Оптиной пустыни. Незаслуженная мною любовь и снисходительность ко мне высокоуважаемого епископа Дмитровского Трифона снабдила меня чудными картинами из его библиотеки об Оптиной пустыни; но мне хотелось, чтобы это мое начинание благословил великий почивший старец Амвросий, каким будет только угодно ему путем.
Я долго молился об этом; долго это было моей заветной мечтою, и, несмотря на то что я в это время находился в Москве, никакого общения ни с Оптиной пустынью, ни со старцами не имел – я тем не менее чувствовал и верил, что это благословение я каким-нибудь путем, но получу.
И моя вера не обманула меня.
Отправившись перед своим отъездом в Петербург, – где я впервые читал эту лекцию, – в Успенский собор испросить незримого благословения своего пути у великих московских святителей, я встретил там дивного христианина, преисполненного великой Христовой любви, ктитора собора, полковника A.B. Пороховщикова. Я его, собственно говоря, знаю давно, да и не знать уважаемого A.B. нельзя. Вечно живой, вечно трудящийся, вечно радующийся благолепию храма, радующийся своим трудам, своим заботам, он для меня, да простит мне это мое публичное признание, является, я думаю, как и для многих, знающих его, тою светлою искоркой на мрачном фоне жизни, которая с Христовой любовью, с Христовым смирением, твердо стоит «в своем служении», и поэтому лишние минуты беседы с таким человеком всегда дороги тем, что они обновляют каждую чуткую, сенситивную натуру. И я всегда если встречал и встречаю его, стараюсь неукоснительно послушать эти полные любви смиренные речи о Христе, о вере, о храмах Божиих, посмотреть на эти кроткие, добрые глаза. Но дальше этого наше знакомство не шло, я даже не знал, где находится квартира A.B. Но на этот раз разговор как-то перешел на святыни, находящиеся вне Успенского собора. Заговорили о восточных святынях и памятниках. И он сказал мне, что у него в квартире находится частица древа Святого Животворящего Креста Господня, подаренная ему во время его пребывания в Иерусалиме иерусалимским патриархом, с его грамотой. Видя на моем лице умиление и восторг по поводу этого сообщения, он, как человек, повторяю, необычайной доброты, тотчас же предложил мне зайти к нему на квартиру и лицезреть эту святыню. Должен признаться, что я в этот день должен был уехать в Петербург, поэтому торопился скорее домой; так что это приглашение несколько смутило меня, и я думал было отклонить его до другого, более удобного времени; но, глядя в эти светлые, полные глубокой веры и добродушия глаза, я не посмел этого сделать и решил хотя бы на минутку зайти к доброму A.B.
Квартирка, скорее келья, A.B., который живет совершенно одиноко, находится в двух шагах от Успенского собора, под колокольней Ивана Великого. Я вошел в небольшую переднюю, снял галоши, пальто, и лишь только вошел во вторую малюсенькую комнатку, оглянулся направо и обомлел от счастья, от восторга и от святого благоговения: предо мною стоял портрет, почти в нормальную величину, старца Амвросия, если не оригинал, то, во всяком случае, прекрасная копия с одного из Болотовских портретов старца. Прекрасные лучистые глаза великого старца с его доброй-доброй неземной улыбкой охватили меня восторгом какого-то поразительного счастья, какой-то необычайной духовной полноты и удовлетворенности. Я понял все, и не мог пересилить себя, опустился на колени перед этим чудным изображением, и, склонивши голову на стоявший под портретом кожаный диван, пролил слезы умиления и благодарности. Когда я тут же все чистосердечно рассказал A.B., мы оба поняли, что старец внял моей просьбе и благословил меня на это мое первое выступление под эгидой не «врага Христа», а «раба Христа».
Этот случай глубоко запечатлелся в моей душе, и этого великого чуда я не могу сравнить ни на одно мгновение по красоте, по полноте того духовного удовлетворения, которого не найдешь ни в каких других областях человеческого знания, не только с теми спиритическими феноменами, которые я наблюдал за долгие годы своей деятельности в этом направлении, а даже со спиритическими феноменами всего мира, от его появления до наших дней; да и не должно сравнивать, ибо это греховно, кощунственно сравнивать Божеское с сатанинским.
Скажу только одно, что сколько я ни читал самых разнообразных лекций в открытых и закрытых собраниях до этого время, в платных и бесплатных, я никогда не имел такого успеха, как с той лекцией. Несмотря на то, что очень многие предсказывали полный неуспех ее, во-первых, потому, что она не имела кричащего названия («Тихие приюты для отдыха страдающей души»), а затем – в ней трактовалось об обителях, пустынях, монахах. – «Ведь это так неинтересно». – Но где я ее ни читал, она проходила всегда при переполненной аудитории, а в некоторых местах ее даже приходилось повторять по два раза.
Тригорский Свято-Преображенский мужской монастырь. Фото В. Зайцева
Другой случай посмертного влияния старца мы видим в следующем эпизоде.
Одна молодая девушка, очень религиозная и серьезная, стремилась всей душой в монастырь. По окончании гимназии, она сделалась учительницей, а сама между тем стала присматриваться и прочитывать всевозможные описания разных женских обителей, но никак не могла остановиться в выборе. Много прочла она очень пространных и интересных описаний монастырей и их основательниц, но все что-то говорило ей, что это – не ее место, что не здесь ей быть, а где? Она не могла дать себе ясного отчета. В 1891 г., перелистывая полученный журнал «Нива», она увидела портрет о. Амвросия Оптинского и очень коротенькую при нем заметку о том, что старец этот скончался в устроенной им Казанской женской общине. Несмотря на то, что изображение старца Амвросия в журнале было довольно плохое, оно поразило молодую девушку. Взгляд его проницательных и вместе бесконечно добрых глаз даже с картинки проник прямо ей в душу, и она тут же почувствовала, что должна быть в обители, основанной этим старцем. В журнальной заметке ни о самом старце, ни об обители ничего особенного сказано не было, но в душе ее уже сложилось твердое решение. Вскоре она тайно от матери, уехала в Оптину пустынь, а оттуда в Шамордино, где и осталась навсегда.
После кончины праведного старца Амвросия его место занял тоже не менее известный среди верующих посетителей Оптиной пустыни его бывший келейник старец Иосиф.
Исследуя довольно подробно и хорошо составленную биографию этого старца, изданную Казанско-Амвросиевскою женскою пустынью, можно без преувеличения сказать об этом подвижнике духа и любви к ближнему, что «весь он был создан для служения Господу».
Икона Божией Матери «Знамение»
Родившись в 1837 году в семье благочестивых, простых, очень умных людей: Ефима Емельяновича и Марии Васильевны Литовкиных, Ваня Литовкин, так звали в миру старца Иосифа, – с самого раннего возраста определился своей нежной, чуткой душой, умевшей особенно быстро схватывать, понимать и чувствовать чужое горе, а затем – таким исключительным благонравием и любовью к Церкви, к Слову Божию, что очень многие замечали на нем особую печать благоволения Божия, а некоторые прямо говорили, что из этого ребенка выйдет что-нибудь «необыкновенное».
Богоявленский женский монастырь. Кострома
Кроме того, еще с самого малого возраста, когда Ване было восемь лет, Божественный Промысел отметил его нижеследующим чудным событием.
Играя однажды с товарищами, он совершенно неожиданно как-то вдруг изменился в лице, поднял голову и руки кверху и без чувств упал на землю. Мальчика подняли, принесли домой, и, когда он пришел в себя, стали расспрашивать о случившемся. Мальчик сказал, что он увидал в воздухе Царицу.
– Да почему же ты думаешь, что видел Царицу? – спросили его.
– Да, потому, что на ней были корона с крестиком.
– Ну, а почему же ты упал?
На это мальчик потупил глаза и сказал: «около нее было такое солнце… такое солнце… я не знаю, не знаю, как сказать»… и заплакал.
Это видение оставило в душе мальчика глубокий след.
После этого он сделался необычайно тих, задумчив, стал уклоняться от детских игр. Взгляд его кротких глаз сделался еще более глубоким, и в его детском сердечке загорелись живая вера и любовь к Царице Небесной.
Когда Ване было четыре года, он потерял отца, а когда ему наступило одиннадцать лет, он утратил и горячо любимую им и горячо любящую его мать.
Вскоре после этого ему, как человеку безо всяких средств, пришлось искать труда; и вот началось мыканье по различным местам. Но это обстоятельство ни капли не испортило характер Ивана; наоборот, он как-то умел своей скромностью, глубокой верой и любовью к Господу, облагораживать сердца всех тех людей, около которых он вращался и у которых он служил. Наконец один из его хозяев настолько обратил на него внимание, и так полюбил его, что хотел выдать за него замуж свою дочь и передать ему все свое дело. Но путь Ивана был уже предрешен. Он отпросился на богомолье и больше не возвращался на старый путь жизни. С котомкой на плечах отправился он на поклонение в Киево-Печерскую лавру; а по пути зашел в Борисовскую женскую пустынь, где у него была монахинею сестра. Здесь он встретился с очень мудрой и известной в то время в этой пустыни старицей, схимонахиней
Алипией, которая долго беседовала с молодым человеком, и затем сказала ему: «Зачем тебе идти в Киев, иди в Оптину к старцам».
Киево-Печерская лавра. Фото С. Камшилина
На следующей же день Иван отправился в Оптину и, само собою разумеется, к светильнику ее – старцу Амвросию. Говорят, что по пути к Оптиной он встретился с двумя монахинями Белевского монастыря, которые ехали туда же, и, как не знающий дороги, обратился к ним с просьбой объяснить ему: так ли он идет в Оптину? Монахини взяли его с собой, на козлы.
Приехав в Оптину, к старцу Амвросию, монахини сказали ему между прочим: «А мы, батюшка, привезли с собой еще брата Ивана». — Называя его в шутку братом, они имели в виду монашеские наклонности Ивана. Старец серьезно посмотрел на них и сказал: «Этот брат Иван пригодится и вам, и нам».
Таким образом великий старец предсказал все будущее молодого человека.
С тех пор Иван остался в Оптиной; затем сделался келейником Амвросия, и, говорят знающие его, что более высокого смирения, более поражающей, изумительной кротости, какие были у старца Иосифа, не видал никто, нигде из его современников.
Не распространяясь о его служении, о его молитвах, достаточно сказать, что о. Иосиф был точным отражением старца Амвросия и по жизни, и по учению, и отличался от последнего только внешнею формою отношения к людям.
В то время о. Амвросий был человек образованный, обладал самым всесторонним умственным развитием; по характеру был живой, общительный. Речь его была, помимо ее благодатной силы, увлекательна яркостью мысли, образностью выражения, легкостью, веселостью, в которой скрывалась глубокая мудрость, как житейская, так и духовная, – Иосиф был чрезвычайно сосредоточен, речь его была сдержанна и дышала только лишь одним святоотеческим учением.
Как монах, он не допускал никаких уступок и компромиссов. Никогда не был особенно ласков, хотя был снисходителен и мягок. С более близкими, преданными ему людьми, он был, пожалуй, даже строг и совершенно непреклонен. Конечно, этот метод помогал ему вырабатывать в руководимых им абсолютную преданность, покорность и смирение.
Старец Иосиф и Л.Н. Толстой
Насколько был мудр и силен таившеюся в нем духовной благодатью старец Иосиф, можно судить по тому, что он имел очень большое влияние на Л.Н. Толстого и в период увлечения последними своими измышлениями неоднократно заставлял задумываться его над своими сильными убедительными доводами.
Во время своих неоднократных путешествий в Оптину Л.Н. беседовал с о. Иосифом часами.
И насколько сильно было влияние этого человека на душу Толстого, можно судить по тому, что последняя перед своей роковой кончиной – которая будучи задрапирована как будто близкими ему людьми, но оказавшимися потом врагами этого запутавшегося искателя правды и закрыта искусственными складками завесы, отделившей большого человека от великого преддверия истины и скрывшей от мира ту, быть может, тяжелую трагедию души, которая, инстинктивно чувствуя последние моменты пребывания на Земле, тяготела к правде, – стремилась к старцу Иосифу.
Симон Ушаков. «Спас нерукотворный». 1677
А что у покойного Л .И. Толстого эти импульсы были, это не подлежит ни малейшему сомнению, за это свидетельствуют беспристрастные рассказы, искренно правдивого гостиника, о. Пахомия, и постоянно пребывающего у ворот скита с внешней их стороны, в течение почти 40 лет, убогого Зиновия.
И вот что повествуют эти два беспристрастных свидетеля:
О. Пахомий. «Л.Н. Толстой остановился в гостинице № 1, у о. Михаила. В то время старец Иосиф был так болен и настолько бессилен, что никого не принимал и почти все время лежал в постели. Толстой, как только приехал в гостиницу, тотчас же отправился к Иосифу. Хотя путь ему через святые ворота и монастырь был более близким, но – боялся ли он после своего отлучения входить в святые ворота, или просто по чему-либо другому, но только он пошел в обход, кругом монастырской стены, по той дороге, которая отделяет мою гостиницу от монастыря. Я совершенно случайно вышел за ворота и стою себе. Вдруг вижу: из-за угла выходит знакомая фигура графа. Идет средним шагом, довольно бодро. Как только он поравнялся со мной, он снял шапку и проговорил: «Здравствуй, брат». Я ему низко поклонился и ответил: «Здравия желаю, ваше сиятельство». Толстой немного было прошел мимо меня, потом вернулся и говорит: «Ты на меня не обиделся, что я тебя назвал братом ?» – Я ему говорю: «Никак нет, ваше сиятельство». – «То-то, а то ведь мы все братья, потому что у нас у всех только лишь один Отец. Поэтому я тебя и назвал братом».
С этими словами граф вошел в лес, по направлению к скиту.
О. Пахомий и Зиновий: «Не знаю, знал Л.Н. Толстой о том, что Иосиф не принимает, болен или нет. Но думаю, что узнал или от о. Михаила, или от кого-нибудь из других монахов, или, может быть, от богомольцев. Быстрыми шагами направлялся он к святым вратам скита, через которые должен был пройти в келью старца Иосифа. Подошел и почти у самых врат мгновенно остановился, как будто разрешая ка-кой-то тревожный, мучительный вопрос. Долго стоял; затем, понурив голову, медленно повернул направо и еще медленнее зашагал обратно. Пройдя пять-шесть шагов, остановился снова, задумался и снова, но уже с меньшей решимостью, вернулся к святым воротам. Но лишь только близко подошел к ним, опять как будто какая-то сила остановила его. Опять долгое размышление. Снова – неохотная поступь по направлению назад. На этот раз ушел еще дальше от скита и опять остановился. Опять тяжелое, более чем первый раз, продолжительное раздумье на этом месте. Опять поворот направо, опять, но с еще меньшей решимостью, направляется Л.Н. Толстой к скитской обители. Еще раз роковая остановка, нерешительная задумчивость, и на этот раз быстрый, энергичный поворот назад и быстрое, чуть не бегом, удаление от скита. И на этот раз навсегда».
– Не попустила Божья Сила великого грешника войти в нашу обитель!.. Серьезно, строго, с благоговейною вдумчивостью и, видимо, с верой, тяжело вздохнувши, закончил это, до боли сердца хватающее задушу, немудрое сказание, безногий, когда-то бывший николаевским солдатом, старый Зиновий; и, благоговейно взглянув на святые ворота скита, по обеим сторонам которых нарисованы во весь рост со строгими лицами первые основатели монашества, первые подвигоположники, пещерники с лопатами в руках, с кирками, как с орудиями своего служения Господу и с крестами, – снял с себя старый засаленный картуз, благоговейно осенился крестным знамением и добавил: «Не попустили, видно, святые угодники».
М. Нестеров. «Л. Н. Толстой на берегу пруда в Ясной Поляне». 1907
– Да! не попал бедняга на истинный путь православия, – вдумчиво и со слезами на глазах закончил это же повествование о. Пахомий, склонив свою седую голову на грудь: видно, так Господу угодно, а я долго скорбел, долго упрекал себя потом, что не догадался в то время пойти с ним. Я бы его довел, я бы добился до старца Иосифа, – но… видно Господь не попустил.
После отца Иосифа, скончавшегося 9 мая 1911 года видное место в старческой деятельности занял скитоначальник отец Варсонофий.
О. Варсонофий был в мире светским, широко образованным человеком. До поступления в монашество состоял на военной службе в чине полковника и нес обязанности старшего адъютанта при штабе Казанского военного округа. Еще не уходя из мира, в очень молодых годах, он пользовался советами и назиданиями о. Амвросия, а по поступлении в Оптино-Введенский монастырь в 1892 году сделался учеником скитоначальника Анатолия и помогал ему в качестве письмоводителя в переписке с его духовными чадами.
О. Варсонофий был человек высокой богословской начитанности.
По внешнему виду он очень напоминал одного из евангелистов.
Все его лицо носило на себе отражение великой думы, высокой воли, недюжинного ума, глубокого чувства и безгранично сильной веры.
Портрет преподобного Варсонофия (Плиханкова),старца Оптиной пустыни. 1913
Но что особенно поражало и приближало к нему – это его глаза. В них таился какой-то глубокий проникновенный свет. Стоило только раз попасть под взгляд о. Варсонофия, чтобы почувствовать на себе всю чистоту и боговдохновенность этого человека.
До вступления на путь старчества о. Вар-сонофий во время японской войны был командирован в Маньчжурию в качестве одного из госпитальных иеромонахов. Здесь о. Варсонофий снискал к себе общую любовь, и по возвращении в обитель он уже выступил на путь старчества, где, в особенности в последние семь-восемь лет, он нес на себе бремя старчества и иночества, отдавая всего себя на служение Господу Богу.
Старчествуя почти одновременно с о. Иосифом, о. Варсонофий отличался даром прозорливости, как и его великие сподвижники.
Последние годы о. Варсонофию пришлось пережить очень много тяжелых минут, как и всякому Божию избраннику, от клеветы, всевозможных хулений, оскорблений. Но, строго следуя законам духовной жизни, о. Варсонофий относился к этому чрезвычайно смиренно и переносил это как один из путей вящего очищения себя перед лицом Бога Живого.
В 1912 году по желанию Св. Синода он был переведен в качестве архимандрита в Старо-Го-лутвенскую обитель, Московской губернии, где также продолжал, помимо несения бремя настоятельства, обязанности старца для мирян, и обязанности руководителя, принятой на себя обители.
С переходом старца в эту последнюю обитель к нему перешло очень много из его почитателей.
Но недолго пришлось поработать на Божьей ниве, на новом месте этому великому подвижнику духа. 1-го апреля 1913 года он после тяжкой болезни отошел в иной мир.
Не знаю, насколько это верно, но мне пришлось услышать после его смерти рассказ о том, что будто бы старец Иосиф в одной из своих бесед сказал о. Варсонофию, что если он по какой-нибудь причине оставит Оптину пустынь и перейдет в другую обитель, то он больше года там не проживет.
И предсказание это исполнилось в точности.
Теперь перейдем к описанию старцев, ныне работающих на Божьей ниве в Оптиной пустыни.
Когда я первый раз прибыл в Оптину пустынь, то, само собою разумеется, центром моего исключительного внимания были старцы.
Если уж старец Герасим произвел на меня такое глубокое впечатление, то, вне всякого сомнения, сила этого впечатления в Оптиной должна была повлиять на меня неотразимо сильнее, и глубже проникнуть в сердце.
И я не ошибся.
Тотчас же по прибытию, как только я узнал о том, что в Оптиной старчествуют три старца: Феодосий (скитоначальник), о. Нектарий и о. Анатолий, я решил прежде всего отправиться к о. Феодосию.
Как я сказал уже выше, прием старцами мужского элемента производится изнутри скита. Я вошел в святые ворота, отворил их, и предо мной открылась чудная картина роскошного, обильного цветами сада, которые доходили своим ростом до полного роста человека, и насыщали воздух таким ароматом, что можно забыть в буквальном смысле слова все окружающее.
Прямо против меня стояла небольшая деревянная, но чрезвычайно своеобразной архитектуры церковь – это храм Предтечева скита, отличительная особенность которого заключается в том, что внутри его все решительно сделано из дерева, и, как говорят, самими монахами. Кроме того, все иконы в церкви не имеют на себе так называемых риз а открыты всей своей живописью.
По обеим сторонам дорожки, от святых ворот, к скитской церкви, в начале ее, на одной стороне, направо – келья о. Нектария, а налево – келья скитоначальника, старца Феодосия. Направившись к последнему, я позвонил. Выходит келейник и просит меня войти. Когда я вошел, передо мною был длинный, очень чистый коридор, увешанный всевозможными текстами из Священного Писания, поучения монахам и приходящим мирянам. Направо была большая комната. Я вошел в нее. Передний угол наполнен образами, налево у стены большой кожаный диван, над ним портреты: большой старца Амвросия, лежащего на кровати, затем Варсонофия, а дальше различных епископов и вообще лиц известных как в Оптиной пустыни, так и в других обителях. Через короткий промежуток времени ко мне вошел старец Феодосий, человек высокого роста, с очень густыми, с большой проседью, волосами, с небольшой бородкой и очень красивыми глубокими вдумчивыми глазами.
Церковь во имя явления Казанской иконы Божией Матери Оптина пустынь
Необходимо заметить, как я сказал раньше, я и здесь, из ложного опасения и считая для себя вопрос о спиритизме уже законченным, приступил к старцу, ничего не говоря о своей деятельности по спиритизму, с вопросами, тесно связанными с моей литературной и лекционной деятельностью.
И здесь я, как и у старца Герасима, снова самолично наблюдал поразительную силу духовного опыта и провидения старцев.
Передо мной был человек огромного духовного опыта и широко образованный. Благословляя меня на работу популяризации христианско-нравственной этики, он преподал мне чрезвычайно много ценных советов; снабдил меня указаниями и назиданиями, которые, как уже я вижу теперь, были так необходимы, так нужны мне.
А когда я предложил ему целый ряд вопросов, касающихся переустроения моей личной жизни, то чувствовалось – по крайней мере, у меня осталось такое впечатление, – что старец какими-то внутренними импульсами проник в мое прошлое, оценил мое настоящее и, преподавая советы для будущего, из чувства деликатности, а быть может, и сожаления, не хочет касаться больных вопросов моей сущности. Преподав мне свое благословение, он предложил мне побывать у старца Нектария.
Я сначала было отказывался от этого; во-первых, из опасения, чтобы не нарушить то впечатление, которое создалось у меня от этой беседы, а во-вторых, опять-таки в силу указанного выше разъяснения преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна, что переспрашивать по два раза старцев об одном и том же, равно как и переходить от одного старца к другому не следует; ибо в первом случае старец, несомненно, говорит по наитию свыше, а во втором примешивается работа рассудка.
Тем более что я из беседы старца Феодосия по его ответам на чрезвычайно сжатые вопросы; на вопросы, в которых хотя я тщательно обходил все, что касается моей бывшей постыдной деятельности, этот широко развитой, озаренный благодатною силою Христа ум дал мне то, что не мог дать простой человек.
И я был умиротворен, поражен и изумлен. Но старец Феодосий как будто даже настаивал на том, чтобы я непременно побывал у старца Нектария.
– Знаете, если вы даже побудете на порожке у этого великого по смирению старца, то и это, кроме Божьего благословения, ничего не дает вам.
Я решил исполнить то, на чем настаивал старец. Перейдя через дорожку, я направился к подъезду старца Нектария. Позвонил. Передо мной тотчас же отворилась дверь. Когда я вошел в коридор, я увидел много мужчин, сидевших и стоявших, очевидно, в ожидании старца.
Необходимо заметить, что в это время был особенно большой наплыв посетителей у старцев, поэтому, как говорится, все было переполнено.
Келейник провел меня в особую комнату, где я сел в ожидании о. Нектария.
Я ожидал очень недолго. Через какие-нибудь 10-15 минут я услыхал, как в передней все зашевелились. Встал и я, приблизился к двери и вижу, как, направляясь ко мне, идет старец, человек очень невысокого роста, в таком клобуке на голове, в каком обыкновенно пишется и рисуется старец Амвросий. Это был старец Нектарий.
Благословивши всех, он подошел ко мне и со словами: «Пожалуйте» ввел меня в свою келью.
Точно такая же обстановка, как и в келье старца Феодосия. Иконы. Портреты. Направо большой старинный развалистый диван, накрытый чехлом. Неподалеку столик, на котором лежат несколько книг духовной литературы. Старец Нектарий усадил меня на диван, а сам сел со мной рядом в кресло.
По виду старцу Нектарию нельзя дать много лет. Небольшая бородка почти не изменила своего природного цвета.
Но, говорят, на самом деле он очень стар и уже переходит за седьмой десяток.
Странное впечатление на посетителей производят глаза старца, в особенности во время беседы. Они у него очень маленькие; вероятно, он страдает большой близорукостью, но вам часто кажется, в особенности когда он сосредоточенно вдумывается, что он как будто впадает в забытье. По крайней мере, таково было мое личное впечатление.
В то время как старец Феодосий вырисовывается в ваших глазах человеком живым, чрезвычайно скоро реагирующим на все ваши личные переживания, – о. Нектарий производит впечатление человека более флегматичного, более спокойного и, если хотите, медлительного.
Так как посещение этого старца послужило окончательным разрешением всех моих переживаний, я постараюсь по возможности точно воспроизвести смысл моей беседы с ним.
– Откуда вы изволили пожаловать к нам? – начал медленно, тихо, спокойно говорить о. Нектарий.
– Из Москвы, дорогой батюшка!
– Из Москвы?..
В это время келейник старца подал ему чай и белый хлеб:
– Не хотите ли со мной выкушать стаканчик чайку? Дай-ка еще стаканчик!.. – обратился он к уходившему келейнику.
Владимирская икона Божией Матери. 1548–1549
Я было начал отказываться, говоря, что ему нужно отдохнуть. Что я не смею нарушать его отдыха. Но батюшка, очевидно, вовсе не имел в виду отпустить меня и со словами: «Ничего, ничего, мы с вами побеседуем», — придвинул ко мне принесенный стакан чая, разломил надвое булку и начал так просто, ровно, спокойно вести со мной беседу, как со своим старым знакомым.
– Ну, как у вас в Москве? – было первым его вопросом.
Я, не зная, что ответить, сказал ему громкую фразу:
– Да, как вам сказать, батюшка; все находимся под взаимным гипнозом.
– Да, да… Ужасное дело этот гипноз. Было время, когда люди страшились этого деяния, бегали от него, а теперь им увлекаются… извлекают из него пользу…
И о. Нектарий в самых популярных выражениях прочитал мне целую лекцию, в самом точном смысле этого слова, о гипнотизме, ни на одно мгновение не отклоняясь от сущности этого учения в его новейших исследованиях.
Если бы я пришел к старцу хотя бы второй раз, и если бы я умышленно сказал ему, что я – спирит и оккультист, что я интересуюсь между прочим и гипнотизмом, я, выслушавши эту речь, мог бы со спокойной душою заключить, что старец так подготовился к этому вопросу, что за эту подготовку не покраснел бы и я, человек вдвое почти моложе его.
– …И ведь вся беда в том, что это знание входит в нашу жизнь под прикрытием как будто могущего дать человечеству огромную пользу… – закончил о. Нектарий.
В это время отворилась дверь, вошел келейник и заявил: «Батюшка, вас очень дожидаются там».
– Хорошо, хорошо, сейчас, – проговорил старец, а затем, немножко помедлив, продолжал, обращаясь лично ко мне:
– А вот еще более ужасное, еще более пагубное для души, да и для тела увлечение – это увлечение спиритизмом…
Если бы в этой келье, где перебывал целый ряд подвижников-старцев Оптиной пустыни, раздался сухой, металлический, знаете – бывает иногда такой в жаркие летние, июньские, грозовые дни, – раскат оглушающего удара грома, он бы не произвел на меня такого впечатления, как эти слова Боговдохновенного старца.
Я почувствовал, как у меня к лицу прилила горячая волна крови, сердце начало страшно усиленными ударами давать знать и голове, и рукам, и ногам, и этому дивану, и, даже кажется, самому старцу, о своем существовании. Я превратился в одно сплошное внимание. Замер от неожиданности. И мой, привыкший к подобного рода экстравагантностям, рассудок, учтя все те физиологические и психологические импульсы, которые мгновенно дали себя знать при первых словах старца, сказал мне: «Слушай, это для тебя».
И действительно, – это было для меня.
Икона Божией Матери с младенцем в Свято-Троицком православном монастыре. Рига
Старец, не открывая глаз, нагнулся ко мне и, поглаживая меня по коленам, тихо-тихо, смиренно проговорил: «Оставь… брось все это. Еще не поздно… иначе можешь погибнуть… мне жаль тебя»…
Когда я пришел в себя, первым моим вопросом к старцу было: что мне делать? Старец тихо встал и говорит:
– На это я тебе скажу то же, что Господь Иисус Христос сказал исцеленному Гадаринскому бесноватому: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
– Иди и борись против того, чему ты работал. Энергично и усиленно, выдергивай те плевелы, которые ты сеял. Против тебя будет много вражды, много зла, много козней сатаны, в особенности из того лагеря, откуда ты ушел, и это вполне понятно и естественно… но ты иди, не бойся… не смущайся… делай свое дело, что бы ни лежало на твоем пути… и да благословит тебя Бог!..
Когда я вышел, к очевидному удовольствию келейника и ожидавших старца посетителей, я уже был другим человеком.
Когда я вышел из скита, когда за мной затворились его святые ворота, я понял, что теперь все, что нужно было для меня, дано мне и поэтому я в этот приезд не был у третьего и самого великого из современных оптинских старцев, старца Анатолия, а направился домой.
* * *
У старца Анатолия я был год спустя.
Старец принимал в своей келье при церкви Владимирской Божией Матери.
Нужно заметить, что старец Анатолий пользуется в настоящее время самой широкой и вполне заслуженной популярностью.
Как я говорил раньше, к нему всегда очень трудно добраться за массой народа, но принимает он, кажется, во всякое время дня, до глубокой полночи.
Так что приходится удивляться, как управляется со своей тяжелой обязанностью этот маленький, тщедушный, Богоугодный старичок.
Отличительной чертой этого поистине Божьего человека служит его изумительно любовное отношение к людям. И, глядя на него, невольно хочется воскликнуть: «Какое это великое вместилище любви!»
Вечно приветливый, постоянно ласковый, изумительно сердечный, готовый, кажется, всего самого себя, всю свою душу, всю свою жизнь отдать тому, кто приходит к нему с той или другой нуждой, с той или другой скорбью.
Очень многим, не исключая меня, при взгляде на этого любвеобильного человека, кажется, что он представляет собою живое олицетворение саровского подвижника.
Та же любовность, та же сердечность, та же задушевность, то же внимание, со страдающим – страдающий, с больным – больной, с ищущим – ищущий, с нуждающимся – нуждающийся.
Не только я, но и очень многие уверяют, что нигде не встречали более сродняющейся и сближающейся с людьми души, как душа этого великого подвижника.
Кому приходилось хоть раз видеть старца Анатолия и беседовать с ним, тот не в состоянии, проезжая мимо Оптиной пустыни, не заглянуть туда, и не повидаться с этим носителем Христовой любви и в этой встрече не почерпнуть како-го-то мощного живительного нектара для жизненной деятельности и борьбы.
– В присутствии о. Анатолия, – говорил нам один из постоянных посетителей Оптиной пустыни, – чувствуешь себя как-то особенно, как будто к тебе возвращается и вся твоя энергия, и все, что было прекрасного в твоей жизни.
И это действительно такой же оптимист христианин, каким был великий оптинский старец Амвросий.
Все в надежде на Господа, все с Господом, и все для Него и Ему.
Около кельи старца Анатолия постоянно стоит целая толпа народа. Кого только не увидите здесь. Здесь и монахини, здесь и священники, здесь и военные, здесь и интеллигентные барыни и мужчины, здесь и учащаяся молодежь, здесь и масса крестьянского люда.
И все с самого раннего утра стоят терпеливо, ожидая всем дорогого, всем нужного, всех утешающего батюшку.
И келейники-то у него какие-то особенные люди, тоже ласковые, добрые, неустанно богомольные, приветливые, желающие всем и каждому угодить, всякого утешить, обласкать. Никогда от них не услышишь ни грубого слова, ни осуждения – поистине ученики, достойные своего учителя.
Когда я приехал к старцу, у него была как всегда масса народу. Здесь я встретил совершенно случайно одного своего доброго знакомого, скорее теософа, чем спирита, в высокой степени милого, честного, симпатичного человека, калужского помещика Е.Д. Б-ского.
Разговорились, оказывается, он иногда посещает этого «святейшего из святых при жизни» старца. Старец Анатолий, помимо слов назидания, привета, любви, очень часто дает посетителям книжечки, которые почти всегда или своим названием, или своим внутренним назиданием отвечают на какой-либо запрос, на какую-либо нужду посетителя, и, присматриваясь к этой раздаче, можно наблюдать феномены провидения старца, в даль грядущего.
Среди никогда не прерывающейся цепи ожидающих приема посетителей всегда идет живой обмен впечатлениями, мыслями по поводу какого-либо предсказания или указания старца.
Иисус Христос. Икона в технике майолики
Вот, направо, вслушиваемся в рассказ одного крестьянина. Рассказчик, очевидно, здешний ямщик.
– Вот всегда обращаюсь к этому дорогому батюшке. Он мне в трудные минуты все равно, что ангел-хранитель, как скажет, так уж точно обрежет. Все правильно, по его так и бывает. Я никогда не забуду такой случай. Отделился я от отца, вышел из дому. Всего в кармане денег 50 руб. Жена, ребятишки, а сам не знаю, куда и голову приклонить. Пошел к эконому здешнего монастыря, леску на срок попросить; обитель-то здешняя, дай им Бог доброго здоровья, все-таки поддерживает нас. Возьму, думаю, у него это леску да кое-как и построюсь. Пришел, но эконом, оказывается, не тут-то было. Что ему попритчилось, Господь его знает. Не могу – да и только. Я было и так, и сяк, ничего не выходит. Ну, знамо дело, пришел домой, говорю жене: «Одно нам теперь бесплатное удовольствие предоставлено: ложись и умирай». Сильно я закручинился, и первым это делом по-нашему, по-дере-венскому, рассчитал пропить все эти деньги; оставить бабу с ребятами в деревне, а самому в Москву – в работники. Но недаром говорят: утро вечера мудренее. Наутро встал, и первая мысль в голову: «Сходи к старцу Анатолию, да и только». Делать нечего, встал, оделся, иду. Прихожу вот так, как сейчас, народу видимо и невидимо. Где, думаю, тут добраться да побеседовать; хоть бы под благословение-то подойти. Только это я подумал, ан глядь, отворяется дверь из кельи и выходит старец Анатолий. Все двинулись к нему под благословение. Протискиваюсь и я. А у него, у старца-то, такой уже обычай, когда он осеняет святым благословением, то он в лобик-то так как будто два раза ударяет и кладет благословение медленно, чинно, так что иногда за это время несколько словечек ему сказать можно. Так я решил сделать и здесь. Он благословляет, а я говорю в это время: погибаю я, батюшка, совсем, хоть умирай. – Что так? – Да вот так и так, говорю, насчет дома. Покаялся ему, что и деньги пропить решил. Ведь сами знаете, если хочешь правильный ответ от старца получить, должен все ему сказать по порядку. Остановился этот старец, как будто задумался, а потом и говорит: не падай духом, через три недели в свой дом войдешь. Еще раз благословил меня, и, верите ли, вышел я от него, как встрепанный. Совсем другим человеком стал. Ожил. Откуда и как это может случиться, что я через три недели в свой дом войду? Я и не раздумывал, а знал, что это непременно будет, потому что старец Анатолий так сказал. Так что же бы вы думали: вечером этого дня нанимает меня седок в Шамордино. Еду через деревню (следует название деревни) и вдруг меня окликает чей-то голос: «Слушай, скажи там своим в деревне, что не хочет ли кто сруб у меня купить… Хороший сруб, отдам за четвертную и деньги в рассрочку».
Понимаете, чудо-то какое?
Конечно, сруб я оставил за собою, а на другой день опять к отцу эконому; тот на этот раз был помягче, согласился. И через три недели на четвертую-то, мы с женой ходили уже благодарить старца Анатолия из своего собственного дома… Вот он какой, старец Анатолий-то!..
И много таких рассказов раздается вокруг святой кельи этого подвижника духа.
Наконец, после долгого ожидания, распахнулась дверь кельи, вышел старец и начал благословлять всех, находившихся здесь. Когда дошла очередь до меня, я со своей спутницей испросил разрешения побеседовать с ним несколько минут. Старец тотчас же принял меня. Мы вошли в большую, светлую комнату, украшенную, конечно, образами, портретами иноков. Старец вступил с нами в беседу.
Он оказывается урожденец Москвы, где у него и сейчас имеются родственники. Я ему рассказал все свое прошлое, деятельность своего последнего времени, переживания. Он благословил меня на дальнейшую работу в том же направлении, а затем преподал очень много удивительно ценных советов и назиданий для будущего. Во-пер-вых, меня поразило то, что все эти советы и назидания его с поразительной точностью совпали с назиданиями и советами других старцев в прошлом году; а затем меня тронула та изумительная любовность, теплота и мягкость в обращении, которых я действительно нигде и никогда не встречал.
Какое-то чудное, неотразимое влияние оказывает он этими своими духовными качествами на человека, прямо не хочется уходить из его кельи; отрываться от упоительного созерцания той духовной красоты, находясь под влиянием которой, мне кажется, можно из самого закоренелого грешника превратиться в хорошего чистого человека.
Каждый его поступок, каждое его движение, каждый его шаг – все как будто говорит само собою за непреодолимое желание его чем-нибудь утешить человека, что-нибудь доставить ему большое, приятное.
Если так можно выразиться, у того старца в Оптиной пустыни преизбыточествует по отношению ко всем одинаковое чувство какой-то материнской любви.
«Заповедь новую даю вам: да любите друг друга»
В желании сделать приятное и мне, старец подарил мне деревянную чашу работы оптинских монахов с весьма знаменательной надписью на ней: «Бог Господь простирает тебе Свою руку, дай Ему свою». Затем дал мне книжек: «Некоторые черты из жизни приснопамятного основателя Алтайской духовной миссии архимандрита Макария Глухарева»; потом: «Учение о благих делах, необходимое для вечного спасения»; далее: «Не осуждать, а молчать труда мало, а пользы много»; «Как живет и работает Государь Император Николай Александрович»; «Молитвы ко Пресвятой Богородице, Нила Сорского».
Эти книги действительно оказались чрезвычайно полезными и безусловно необходимыми именно мне.
После беседы старец помолился с нами Богу, благословил нас, и так закончилось очень ценное для меня знакомство с этим великим человеком.
* * *
Когда я последний раз был в Оптиной пустыни, встретились мне гостивший там и только что обратившийся к Господу бывший раньше большим невером и отрицателем, воспитанный на Марксе, Каутском и пр., молодой инженер В. и одна из провожавших его благочестивых паломниц Оптиной пустыни. Эта паломница выразила ему чудное пожелание: «Желаю вам, В.А., возможно дольше сохранить Оптинское настроение!..»
Лучшего не мог бы пожелать ни одному человеку, посетившему Оптину пустынь.
Протоиерей Сёргий Булгаков. Святая София, Константинополь
Вчера я впервые имел счастье видеть храм Святой Софии. Бог явил мне эту милость, не дал умереть, не увидев Святую Софию, и благодарю за эту милость Бога моего. Я испытал такое неземное блаженство, что в нем – хотя на короткое мгновение – потонули все теперешние скорби и туги, как незначащие. Душе открылась Святая София как нечто абсолютное, непререкаемое и самоочевидное. Из всех ведомых мне доселе дивных храмов это есть Храм безусловный, Храм вселенский. Звучит пасхальная песнь в душе: «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь; се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада и севера и моря и востока чада твоя…» Эта непередаваемая на человеческом языке легкость, ясность, простота, дивная гармония, при которой совершенно исчезает тяжесть – тяжесть купола и стен, это море света, льющегося сверху и владеющего всем этим пространством, замкнутым и свободным, эта грация колонн и красота их мраморных кружев, эта царственность – не роскошь, а именно царственность, – золотых стен и дивного орнамента, – пленяет, умиляет, покоряет, убеждает…
Собор Святой Софии. Стамбул
Появляется чувство внутренней прозрачности, исчезает ограниченность и тяжесть маленького и страждущего «я», нет его, душа исцеляется от него, растекаясь по этим сводам и сама с ними сливаясь. Она становится миром: я в мире и мир во мне. И это чувство таяния глыбы на сердце, потери собственной тяжести, это ощущение крылатости, как птицы в синеве неба, дает не счастье, не радость даже, но блаженство – какого-то окончательного ведения, всего во всем и всего в себе, всяческого всячества, мира в единстве. Это действительно София, актуальное единство мира в Логосе, внутренняя связь всего со всем, это – мир божественных идей, коацо^уогргоС
Это Платон, окрещенный эллинским гением Византии, это – его мир, его горняя область, куда возносятся души для созерцания идей. Языческая София Платона смотрится и постигает себя в христианской Софии, Премудрости Божией, и поистине храм Святой Софии есть художественное, нагляднейшее доказательство и оказательство, явление Святой Софии, софийности мира и космичности Софии. Это и не небо, и не земля, свод небесный над землею. Здесь не Бог и не человек, но сама Божественность, божественный покров над миром. Как правильно было чувство наших предков в этом храме, как правы были они, говоря, что не ведали они, где находятся: на небе или на земле. Они и на самом деле были ни на небе, ни на земле, но между, в св. Софии: это |i£Ta^i3 было философским провидением Платона. И св. София есть последнее, молчаливое откровение в камне греческого гения, завещание векам, которого не могли до конца осознать и богословски выразить сами гаснущие византийцы, и, однако, она жила, как высшее откровение в их душах, зарожденная в эллинстве и явившая себя в христианстве. И не случайно, что здесь, в св. Софии, для Софии и из Софии, складывалась и зазвучала во всей полноте и красоте божественная, софийная симфония православного богослужения. И здесь с новой силой, убедительностью, самоочевидностью понятен неведомый ему самому, полный смысл слов св. Иустина Философа, что Сократ и Платон были христианами до Христа, ибо Платон был пророком Софии в язычестве. Св. София есть платоновское царство идей в камне, – восставшая над хаосом небытия и его победившая, ибо убедившая, идея, актуальное все, все как единое, всеединство. Оно явлено и показано здесь миру. Боже, как свято, как дивно, как неоцененно это явление!
Святая София – это Платон, окрещенный эллинским гением Византии, это – его мир, его горняя область, куда возносятся души для созерцания идей
Входишь… И отовсюду, сверху и снизу, со всех сторон душу наполняет это чувство пространства и свободы, безмерности и ограниченности, не борьба грани – πέραζ – с безгранностью, – άπει ρον, но светлого, радостного согласия: утолен титанизм, укрощено его безысходное буйство, он скрылся в ночь, просветленную днем.
Колонны Святой Софии. Стамбул
Останавливаешься до купола: он впереди. Со стен звучит тихо и певуче это золото, оттеняемое дивным благородным орнаментом: воображение тщится снять и щиты, и закраску, чтобы вернуть былое великолепие, но и уцелевшего довольно: разве Венера Милосская нуждается в исполнении, чтобы явить свою красоту? Стены издают свое золотое звучание. Разве может не быть золотым, не сверкать нетленным, нержавеющим металлом храм, его стены? Тогда для чего и существует золото в мире? Разве могут быть не золотыми, не украшенными драгоценными камнями здания небесного Иерусалима, спустившегося на землю? Это само собою разумеется, и здесь это показано.
Собор Святой Софии. Стамбул. Старинная фотография
Пред глазами колоннады и справа, и слева, говорят, из языческих храмов взяты сюда эти колонны, из капищ в Храм, к новому освящению. Впереди – алтарь, вернее, устремление к алтарю, которое теперь одно лишь наполняет опустевшее святилище. А свод зовет к себе, под себя, еще и еще переживать его небесность. И входишь, становишься под ним, в самой его середине, он тихо и властно объемлет душу и входит в нее…
Запрокидываешь голову, насколько можешь, чтобы глотнуть его полной грудью, напиться его и раствориться в нем, и душа уплывает в его безмерность. Теряется чувство тяжести, телесности и на мгновение летишь, летишь как птица. А затем снова опускаешь голову и изумленно опять смотришь на высящийся алтарь, на боковые колоннады, на галереи хоров с кружевами мрамора, с неумолкающим звучанием золота стен, и снова улетаешь к своду… О, я это знаю, ибо не раз испытывал в жизни блаженство экстаза пред великими созданиями искусства, со-фиевдохновенными творениями, – и всякий раз было это свое, не повторяющееся, – тоже блаженство, но всегда различное, индивидуальное. И здесь – после безысходного рабства, рабства рабам и голоду, самым пустым и мертвящим стихиям мира, которое, мнилось, убило и самую душу, ибо навсегда выжгло на ней клеймо раба, – это свобода в Софии, полет в лазури… Благодарение Софии.
Иисус Христос. Мозаика в церкви Святой Софии. Стамбул
Делаешь шаги к былому алтарю, ныне опустевшему и лишенному своего престола. Здесь мысль невольно несется к прошлому: как было тогда, если и опустошенный храм еще так дивен… Что было здесь, когда Царь и Патриарх со всем синклитом и клиром в златых ризах, в золоте небесного Иерусалима священнодействовали, и храм был наполнен молящимися, и алтарь горел огнями, и курился фимиамом: когда была полнота жизни, а не омертвелое тело! Какой был замысел богодейства, богослужения в этом Храме, не было на земле подобного замысла, как не было и подобной красоты богослужения. Пусть это была роскошь, императорская затея, ненужность или вред для современников, ведь и жена, сотворившая благолепное (χαλόν) дело миропомазания, тоже непрактично творила. Но должна же была ощутительно сверкнуть в мире златая риза Софии. А ныне? Ныне здесь молятся Аллаху, святыня отнята с Христа и отдана лжепророку. И соблазняются о ней сыны человеческие. Однако и теперь здесь молятся Богу и молятся достойно, и достойнее, может быть, тех, кому принадлежал бы ныне Храм… Бог сдвинул светильник и отдал Храм чужому народу, как некогда отдал святыни Первого Храма завоевателям…
Вид на собор Святой Софии. Старинная открытка
А они, между тем, молились, и ничего не было шокирующего в том, чтобы присутствовать при этой молитве, в которой я не мог соединяться с ними, в Храме, зовущем «к единению всех». Но как прекрасна по-своему, как благообразна была эта молитва, как благочинна! Как величественны и строги были их движения, склонения и подъятия, как благородно звучали их восточные напевы молитвословия. Они, пленив Храм, его обарабили, внесли в него свое лицо и свою душу. Они, конечно, и не заметили Храма, они не знают св. Софию, превратив ее, Храм мира, в султанскую мечеть, – детская наивность, которая, однако, длится века. Но они явились благоговейными «местоблюстителями». И их молитва, их благочестие производит чарующее, примиряющее впечатление: «из уст младенцев и сущих совершил ecu хвалу». Они – «младенцы и сущие». Храм отнят от недостойных его и вверен местоблюстителям. И невольно подумалось: очевидно, они достойнее нас, тех, которые так шумно собирались еще недавно «воздвигать крест на св. Софии», чтобы в ней бесчинствовать потом безвкусием своим и рабством своим… Но София этого не допустила, отвергла непрошенных восстановителей и осталась в руках прежних детей… Так лучше…
София есть Храм вселенский и абсолютный, она принадлежит вселенской Церкви и вселенскому человечеству, и она принадлежит вселенскому будущему Церкви. А теперь, пока нет явления вселенской Церкви в ее силе и славе, в век раскола церковного, внешнего и внутреннего, в век распадения и обособления, отнят он у христиан и отдан местоблюстителям. И снова: какая слепота, какая детскость была у нас, когда мы возомнили себя вступавшими в эпоху Софии, когда приготовили уже, говорят, крест в Петрограде, может быть, даже и указ Св. Синода об утверждении креста на Храм… Окровавленными сапожищами вступивши в Софию, завести в ней свои порядки, или пробовать синодальным хором покорить и убедить эти стены. Но в гневе воззрел Господь на дела сынов человеческих и посмеялся над им. Правы пути Твои, Господи! Одно из двух. Или София есть лишь археология, архитектурный памятник с начавшимся уже неизбежным разрушением, и тогда вся эта затея воздвигать крест на ней была только великодержавным честолюбием, – однако, против этого говорит София сама, здесь слышится зов Божий, веление Божие, непреложное обетование, София живет божественной, бессмертной жизнью – София есть потрясающий факт христианского сознания для всех времен. Или София действительно есть то, что она есть, божественный символ, пророчество, знамение.
У старообрядцев есть мудрое, как я вижу теперь, верование, что восстановление креста на Софии (конечно, не циркулярно-завоевательное, но всемирно-историческое) означает конец истории. Если освободить эту мысль об эсхатологического испуга, ее окрашивающего, и выявить скрытое в ней видение, то она означает, что София станет осуществима лишь в полноте христианства, то есть в конце истории, когда явлен будет ее последний и зрелый плод, и сверкнет в мире православное Белое Царство. Ему, а не политическому завоевателю, не «всеславянскому царю» откроются врата Царьграда, и ему дано будет воздвигнуть крест на Софии. И посему история еще не кончена, и рано собрались мы воздвигать крест на Софии.
Мы все еще в «средних веках», в смысле варварства, но идем к новому Средневековью, в смысле грез и вдохновения. Опускается ночь со своими тайнами и с своими звездами, – гряди, ночь! Ибо то не ночь мрака и тьмы, но ночь пред зарею, ночь предвоскресная. Мы еще в истории, и впереди – история, хотя уже и предчувствуем конец, история внутренне не завершилась, она идет своим путем, и мы с нею и в ней. Прочь смутный страх, навеянный тяжелым часом истории, кризисом России и с нею Европы, внемлите гласу св. Софии, ее пророчеству! Она не только в прошлом, но и в будущем, она зов векам и пророчество о них. Да, история здесь внутренне окончится, и станет возможно не от испуга или утомления говорить об «эпилоге истории» – Соловьев рано об этом заговорил, хотя и не рано указал молчаливым жестом на уже рдеющий конец… Есть еще история; она не разрешилась, пока мир не увидел христианской Софии, пока не стала она, хотя на историческое мгновение, победным фактом истории, вот о чем поведали мне вековые и, говорят, уже разрушающиеся и близкие к падению стены. Что, если они падут? Но «церковь не в бревнах, а в ребрах», по выражению старообрядцев. Даже если бы пали священные стены – чего да не будет! – не уйдет из мира явление Софии…
Ангел показывает Юстиниану в видении собор Святой Софии.Фото Herbert Cole
Разумеется, принято считать, что время Софии в прошлом, когда не владели ею неверные, когда был православный царь в Царьграде и около него православный патриарх, и София была царьградским кафедральным собором. В сущности, именно о восстановлении прежнего только и мечтают и мечтали наши родичи, духовно смотря не вперед, а назад, вопреки непреложному закону исторической необратимости. И, однако, до очевидности это – не так: то был «византинизм», принявший себя за вселенское христианство и за христианское царство, но при всем своем безмерном великолепии и своей единственности он не был ни тем, ни другим. И св. София, высшее создание христианского эллинства (как и православный чин церковный), не есть уже византинизм, возвышается над ним как началом, которое, будучи поместным, возвеличило себя до вселенского, есть уже его отрицание. Почему возможна оказалась св. София в Византии? Как могла она строителем иметь Юстиниана, так глубоко в себе отразившего именно византийство? Это – историческая тайна. София пережила византинизм и живет вместе с нами и в нас так же, как живет Платон, хотя нет уже его эллинов. Конечно, было бы делом величайшей слепоты и исторической неблагодарности отделять Софию от породившей ее Византии. Ибо тот же самый эллинский гений, который породил и богословие вселенских соборов, воздвиг над Церковью купол христианской догматики и покорил мир церковного сладостью богослужения. И вне эллинства не мог зазвучать с такой победной чистотой голос Софии, зов вселенского христианства, как не зазвучал он in urbi et orbi, хотя здесь повелительно провозглашен был закон римской власти, отнесенный к вселенской церкви.
Собор Святой Софии. Стамбул. Фото Becks
Однако не вселенская власть утверждает вселенскую Церковь, а вселенская любовь. И когда вдохновенные зодчие Софии впали в надмение византинизма и заветы Софии заменили дряхлым самолюбованием, в это же время вселенские заветы Вечного города переродились в надмение «римского примата», судорожно сжимающего два меча и ими пытающегося покорить мир. И эта двойственная измена Софии, восточная и западная, эта историческая неудача вселенского христианства разразилась над миром потрясающей духовной катастрофой, которую доныне не изжил, но изживает уже мир. Среди исторических развалин, во мгле разрушения, явственно слышатся снова все те же веления, и о том же говорит душе ныне Царьградская София, чудный Храм эллинства.
Иоанн Креститель. Мозаикав соборе Святой Софии. Стамбул.Фото Georges Jansoone
И в этом (если позволено схоластически выразиться) художественном доказательстве бытия Софии, которое и философски дано тоже эллинством, содержится и непререкаемое свидетельство самобытности восточного христианства, от Византии переданного и России. Есть и во вселенской церкви свой восток и свой запад, хотя она их объем лет и совокупляет в единый востокозапад, в «мире Востока и Запада». Небрежением этого двуединства поддерживается схизматический дух, одинаково, как в стремлении к поглощению и ассимилированию, так и в упорном отчуждении. Изменой Софии явилось это расторжение, и пока не осознано это, не пришло время ее восстановления.
Мысль невольно отходит в русскую Византию, в наши русские, домашние, семейные храмы, полные тепла и уюта. И тоже купол над ними, но это купол над домашнею церковью, небо в клети, в доме… Этот купол не есть свод над всею вселенной, о которой говорит св. София, он есть его prius, ему предшествует и в истории его предполагает. Это – изначальная интимность первохристианства, катакомба, монастырь, но это еще не мировая история, не Человечество, а св. София есть это Человечество.
И медленно переходишь с места на место, из точки в точку, причем все в новых переливах и новых перспективах открывается этот свод небесный. Время остановилось, а между тем зовут, надо идти. Атам молятся, припадают, кланяются мусульмане на месте святе, ныне опустелом, у былого св. престола. Как благородны, как величественны лица молящихся, как красивы движения! Нет, не пришло еще время освобождать св. Софию, когда снимаются кресты с русских храмов, пусть там благочестиво молятся местоблюстители. Боже, до чего таинственны пути истории…
Святой Иоанн Златоуст. Мозаика в соборе Святой Софии.Стамбул
Русские славянофилы неизменно относили пророчества о Софии к всеславянскому православному царю: «Пади пред ней, о царь России, – и встань, как всеславянский царь!» Но и этого мало для Софии. Что для космоса Россия? Провинция. Славянство? Этнографическая группа. Но София – всенародна и сверхнародна, она – не национально-местная, но вселенская церковь, все народы зовущая под свой купол. А ее хотели сделать поместною, народною, приходскою церковью, ее, кафедрал мира. София была создана раньше великого церковного раскола и возвращена она может быть христианскому миру, лишь когда последний исцелеет от этой раны. Как не понимали этого славянофилы, что невозможно церковной провинции иметь храмом св. Софию? Заветы христианского царства отданы Востоку, который, однако, не мог преодолеть смешения Царства с Империей и изнемог от этого смешения, но все же неотделимо от него томление о вселенском белом царстве; Западу досталась в удел мечта о вселенском первосвященстве, хотя и его он подменил приматом власти и господства. И ныне, в небывалом еще кризисе христианского мира, по-разному рушились – явно или прикровенно, – оба древние Рима: и первый и второй (и третий, который был лишь вариантом и продолжением второго). Но это не значит, что рушилась Церковь с ее заветами и обетованиями. Восстанет новый истинно третий Roma-Amor, который ответит на все томления. И пусть не будет он так приметен во внешних путях истории, как высились в ней Рим, Византия, Москва. Но раньше конца (впрочем, это и будет концом, как свершением) – должна явиться полнота Церкви. О ней пророчествует св. София, о ней звучит она в сердцах немолчным звоном. И этот звон услышат и придут на него ее избранники…
Собор Святой Софии. Развалины старой базилики, построеннойпри императоре Феодосии II. Стамбул. Фото Georges Jansoone
…Или и это мечтательность? О, как я научился – в эти страшные годы, – и в себе и в других казнить эту сентиментальную мечтательность как роковую слабость, от которой смертельно болеет Россия! Как изощрился мой глаз видеть ее там, где раньше ее не подозревал, как обесценивалось и обезвкушивалось под влиянием этого многое, многое и в русской литературе, и в русском народе, и в себе самом. Как невыносимо сделалось всяческое безответственное славянофильствование! Так что же? Из каменного мешка попав в свободный мир, не выдержал, снова закружилась голова? Опять началась постройка карточных домиков, новых схем? Но «не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». И если бессильно в израненной душе звучит этот голос, но я его слышу. Это – не мое, не смутные мерцания настроений, не «имагинация», это – голос истории, это – превозмогающая сила Церкви… Но зовут. Пора идти…
Павел Муратов. Христианский Рим
1
Мало кто знает христианский Рим. По старой традиции внимание каждого стремящегося в Рим путешественника привлекают почти исключительно классические руины и творения Ренессанса. Лишь случайно и в качестве простого любопытного посещает он во время поездки на Аппиеву дорогу катакомбы Калликса. Из древнейших христианских базилик он видит лишь те, на которые сильнее всего наложили свою печать последующие эпохи, – Латеран, Сан Паоло, Санта Мария Маджоре. Рим первых христиан кажется ему далеким и бледным призраком, рядом с все еще грандиозными развалинами языческого Рима и недавними подвигами Возрождения.
Но как ошибочно это поверхностное впечатление обычного путешественника. У кого есть досуг и охота искать в Риме образы первых веков христианства, тот будет поражен их неисчерпаемым богатством и странной свежестью. Рим действительно был и остается великим христианским городом. Бесчисленные и прекрасные памятники доказывают это. Они опровергают, кроме того, распространенное мнение, что в строгом и подлинном смысле этого слова могут быть названы лишь первые три столетия Рима после новой эры. Чистое и детски простое искусство, встречаемое в катакомбах II и III веков, сменяется в эпоху Константина Великого творческим воображением, более цветистым, замысловатым и грезящим.
Джованни Панини. «Площадь и базилика Санта Мария Маджоре». Рим
Но воображение это остается тем не менее одной из способностей усложнившейся христианской души. И что бы ни говорила история о постепенном воспреобладании формальной стороны нового культа, о мирских наклонностях пап, все же мозаики, которыми эти папы украшали церкви Рима, являются тысячами нитей, связанными с коренными идеями и характерами христиан. На службе у христианской Церкви художник создает здесь новую красоту, новый род искусства. И даже спустя еще несколько столетий, в эпоху мраморных полов, амвонов, пасхальных свечей и затейливых киостро, в эпоху семьи искусных Космати, дело художника остается настоящим христианским делом. Он служит богато украшенному и расцвеченному церковному и монастырскому быту. Христианство романской эпохи как бы стремилось удержать в суровых стенах своих храмов все помыслы человека, весь мир, даже узор и пестроту его хрупких украшений. Накануне проповеди святого Франциска Ассизского христианскому Риму исполнилось тысяча лет.
Мозаика на стене базилики Санта Мария ин Трастевере. Рим. Фото Myrabella
Углубиться в этот тысячелетний мир, скрывающийся где-то в недрах современного Рима, чрезвычайно интересно. Ничто не может наполнить так дни здешней жизни, как эти прогулки по древнейшим римским церквам. Число их велико, и впечатления, внушаемые ими, глубоки и разнообразны. На их стенах можно прочесть всю длинную летопись искусства мозаики – от полуязыческих изображений в Санта Костанца до мозаичных картин современных Джотто в Санта
Мария ин Трастевере. Великолепие таких базилик, как Сан Лоренцо за городскими стенами, чередуется со строгой простотой других, как Санта Сабина на Авентине, или с приветливостью маленьких природных церковок, окруженных благоухающими садами, как Сан Саба. Атриум святой Цецилии за Тибром, длинная лестница, спускающаяся к Сант Аньезе, или превосходно восстановленное внутреннее расположение Санта Мария ин Космедин с особой живостью переносят нас во времена стойкого благочестия и литургических хоров. На Целии Сан Стефано Ротондо до сих пор кажется христианским храмом, только что устроившимся в круглых стенах античного Macellum Magnum. И будто совсем недавно церковь Четырех Мучеников и монастырь при ней поглощены там коричневыми темными массами средневековой крепости.
Очарование тихих часов, проведенных в старых базиликах, в спокойном свете их нефов, перекрытых иногда покривившимися от ветхости, выбеленными потолками, среди вделанных в стены коммеморативных надписей и фрагментов романской скульптуры, увеличивается еще оттого, что большинство этих церквей расположено на городских окраинах или даже вовсе за городом. Их много на Целии, на Авентине, в начале Аппиевой дороги и за стенами Рима – «fuori 1е mura». Во времена Грегоровиуса голос христианского Рима был еще явственно слышен на Via Merulana, соединяющей Санта Мария Маджоре с Латераном. Вся эта улица состояла тогда из монастырских стен, за которыми были видны монастырские сады и кампаниле, перекликавшиеся между собой в час Ave Maria. Теперь Via Merulana застроена сплошь безобразными новыми домами, и подобный же новый квартал успел вырасти даже за Порта Пиа вдоль Номентанской дороги, ведущей к Сант Аньезе.
Фреска (1588) на стене собора Санта Мария ин Трастевере. Фото Torvindus
Лишь у самой этой древней базилики, стоящей над катакомбами, можно вздохнуть свободно и окинуть взглядом широкие пространства Кампаньи. Спускающаяся вниз лестница уводит как бы в другой мир. Небольшой и заботливо содержимый сад глядит в окна церкви, птицы поют там весело, и жемчуга сияют на мозаичных ризах святой Агнесы в алтарной апсиде. И в соседнем храме Святой Констанции все убрано ароматными ветками жасмина, усыпанными крупными белыми цветами. От Сант Аньезе узкая поперечная дорога ведет через Кампанью на Via Salaria, выходя на нее в том месте, где расположены катакомбы святой Присциллы. Они бывают открыты для посетителей однажды в год, 31 декабря. В этот день в них совершается торжественная служба в память погребенных здесь мучеников. Подземные галереи бывают тогда освещены свечами на большом протяжении, и по ним можно ходить без провожатого. Неожиданно на каком-нибудь повороте слышится пение заупокойной мессы, совершаемой в одной из тесных крипт. Толпа молящихся наполняет узкие переходы вокруг, взволнованная и растроганная этим воскресением жизни и света на месте старых могил и во тьме подземелий.
Нечасто удается видеть такие празднества в катакомбах, переносящих нас, точно во сне, в обстановку первых веков христианства. Но и в обычные дни посещение этих необыкновенных кладбищ очищает и облагораживает душу. Никогда свет Рима и синева римского неба не кажутся такими прекрасными, как по выходе из подземного лабиринта с еще зажженными «cerini» в руках – длинными тонкими свечами, оставляющими на пальцах слабое ощущение и нежный запах воска. С тех пор Кампанья в окрестностях Рима как-то странно связывается с представлением о скрывающихся под ней пустотах, о зияющих черных входах в мир небытия, в ночь, поглотившую тлен и прах человечества. Эта земля должна издавать гул, и не раз рабочий на пригородном винограднике, взрывающий ее лопатой, стоит в раздумье над вырытым черепом или мраморным обломком латинской эпитафии. И эта мысль, быть может, усиливает тихую и важную печаль, разлитую в воздухе над вечерними дорогами в окрестностях
Базилика Санта Мария ин Космедин. Рим
Рима. На еще по-античному тихой улице Семи Церквей, которая соединяет Ардеатинскую дорогу с Остийской, видны сквозь широко раскрытые ворота виноградники, поля, загоны для скота, плодовые сады и аллеи эвкалиптов. Возы душистого сена выезжают из ворот, и стоящие в глубине простые здания сохраняют мало измененный в веках первоначальный образ римского поместья. Но в одной из таких деревенских оград заключены обширные катакомбы Домитиллы, и, спускаясь мимо них вечером к уже одетым в лихорадочный туман равнинам у Сан Паоло, нельзя не подумать без легкого содрогания о близости снимаемых здесь каждое лето жатв к великим жатвам, совершенным тут острым серпом времени.
2
Переход от язычества к христианству, воочию видимый в иных римских церквах и катакомбах, всякий раз наводит на размышления об отмеченной им эпохе – самой критической эпохе в истории мира. Главная трагедия человеческой души разыгралась тогда, и еще до сих пор мы переживаем ее затянувшийся эпилог. Эта типическая трагедия человечества много раз бывала повторена в судьбе отдельных людей. Знающий судьбу Уолтера Патера поймет всю важность, которую имели для него «идеи и чувства эпикурейца Мария». Но в этом философском и личном романе Патера изображен как раз постепенный переход к христианству римлянина эпохи Антонинов, выросшего в деревенской вере Нумы Помпилия, восторгавшегося в юности Апулеем, нашедшего выход своему врожденному чувству прекрасного в неокиренаицизме, сделавшегося затем стоиком при дворе Марка Аврелия и, наконец, только внезапной смертью оторванного от слияния с христианской общиной. Марий был наделен всей мудростью и ученостью своего времени, ею не обладали многие тысячи других, совершивших тот же переход. О том положении, в каком застало их христианство, может быть, лучше свидетельствуют их чувства – «чувства» Мария, в которые Патер сумел проникнуть так же глубоко, как и в его «идеи».
«Одной из его постоянных и характеристических черт, – пишет он про своего героя, – было всегда какое-то смутное желание отдыха, желание чьего-то внезапного и облегчающего вмешательства в ту самую жизнь, которая, казалось, доставляла ему наивысшее удовольствие; желание раздвинуть окружавший его горизонт. Это было похоже на побуждение, заставляющее живописца изобразить вид в окно или широко открытую дверь на фоне своей картины. Или еще это походило на тоску по северной прохладе и шелесту плакучей ивы, которую испытывают больные среди бездыханных вечнозеленых лесов юга».
Апулей. Фреска на потолкеЕпископского музея в Трире
Такие чувства делали душу Мария готовой к принятию христианства, и свой рассказ о нем Патер заключает главой «Anima naturaliter Christiana». Имея в памяти эти три слова, звучащие как благороднейшее и торжественное отпущение грехов античного мира, можно понять многое в истории переходного времени. Голубиная кротость, выраженная в лаконизме встречающихся в катакомбах эпитафий, и улыбка, скользящая в символических знаках, не были порождены христианством, но только освобождены им и направлены к цели. Anima naturaliter Christiana – это строй душевных сил и способностей, из которых каждая прочно коренилась в старом язычестве. Без такой связи символика живописи в катакомбах стала бы сухим и безароматным переходом догматов на чужой язык. Но изображенные там Орфей, гении, Эрос и Психея были дороги тем людям не только благодаря догматам Церкви, которые можно было за ними угадывать. Чистая и радостная вера, соединенная с этими легкими, окрыленными фигурками, была вечным достоянием самых простых и природных душ античного мира.
Античные художники чаще всего бывали в ряду этих душ. «Anima naturaliter christiana», – можно сказать про многих из них даже и после того, как сама христианская Церковь начала утрачивать первоначальную чистоту, приобретенную вокруг пригородных цеметериев. Искусство эпохи Константина Великого кажется гораздо более естественно-христианским, чем жизненный строй этого времени. Еще не порванная связь с античным делала художников более христианами, чем были ими деятели тогдашней Церкви и империи, уже готовые навсегда покинуть Рим, подлинную родину христианства. Христианскими и в то же время полными классических воспоминаний являются мозаики мавзолея дочери Константина – Констанции, первые по времени из всех мозаик в церквах Рима.
Святая Агнесса
Сама Констанция, хотя и причисленная к лику святых Западной Церковью, была далека от характеров римских матрон и праведниц, чьи имена до сих пор соединены с основанными ими катакомбами. Скорее, она была первой из тех женщин, которые своими страстями и пороками окрасили впоследствии в драматические цвета придворный быт Византии. Но к этому равнодушны были художники, построившие и украсившие ее мавзолей. Круглая форма его и легкая колоннада, поддерживающая его круглый портик, были взяты ими из античной сокровищницы гармонически законченных, простых и ясных форм.
Мозаики на сводах круговой галереи переросли односложный лепет изображений в катакомбах. С еще большей свободой расцветшее воображение христианских мастеров обратилось теперь к античным образам. Медальон с изображением молодого Христа, напоминающего Диониса классическим поворотом, завитками волос и улыбкой, окружен сценами виноградного сбора. Приземистые сельские человечки срезают лозы, нагружают гроздьями тележки, опирающиеся на пару больших круглых колес, и давят виноградный сок ногами, соединяя, по древнему обычаю, свой труд с ритуальной пляской. «Vendemmia» чередуется с богатым орнаментом. Это то наивное античное богатство, еще далекое от византийской роскоши. Простое накопление предметов, которые любил глаз античного человека, образует его – множество птиц, веток, цветов, рогов изобилия и маленьких летящих гениев. И почти исключительно два цвета во всем, белый и синий, к которым лишь кое-где примешивается желтый цвет – осенний цвет виноградных листьев.
Святая Агнесса
Со странной настойчивостью повторяется мотив «Vendemmia» в других памятниках IV века. Как будто свет осени озарил тогда склонившийся к закату античный мир – последней осени, побудившей его совершить свой последний сбор винограда. Гирлянды из виноградных листьев, гении и маски античной трагедии смешиваются с фигурами святых и «орантами» в таблинуме античного дома, открытого под церковью Санти Джованни де Паоло на Целии. То был дом святых Иоанна и Павла, занимавших важные чины при дворе Констанции и казненных, по преданию, Юлианом Отступником. Посетителю этого подземного храма монах-пассионист показывает теперь с равной готовностью место их мученической кончины и большую фреску, изображающую похищение Прозерпины, коричневато-красные тела античных гениев, населяющих вместе с павлинами и фазанами виноградные сады его стен, и хозяйственные погреба зажиточного римского дома, еще сохранившие врытые в землю амфоры для вина и масла. Почитание святых, воспоминание о мифах и вековые традиции земледельческого труда соединились здесь в естественно христианской религии Рима.
Базилика Сан Джованни э Паоло
Виноградными лозами и танцующими фигурами украшен порфировый саркофаг самой Констанции, перенесенный из ее мавзолея в Ватиканский музей. Другой, еще более замечательный саркофаг этой эпохи находится в некотором небрежении под портиком пригородной базилики Сан Лоренцо. Воображение художников IV века, поглощенное мыслью об осеннем сборе винограда, предстает здесь в полном расцвете и в какой-то необычайной праздничности. Ветвистые старые лозы раскидывают по всему полю рельефа вырезные листья и мириады гроздьев. Многочисленные крылатые дети-гении срывают их и убирают в корзины. Иные уже готовы увезти эти корзины на спинах козлов. Разные живые существа собрались на осенний пир природы. Большие птицы-фениксы слетелись клевать виноград; собаки лают на них; ящерицы бегают по земле и вползают на лозы. Так выражены здесь благородные и совсем античные представления о щедрости природы ко всему живущему на Земле. Но только уже нет полного спокойствия, ясности и легкой прохлады античных рельефов в рельефах этого саркофага. Более сложный их символизм, их двойственность говорят о каком-то новом душевном расколе, о сознании двух отдельных миров. Эти странные птицы с их слишком пышными хвостами – явные гостьи из другого, чем наш, мира, и есть что-то таинственное, даже жуткое, в деле этих детей-гениев, так мало похожих на детей. Собранное ими не остается на земле. Иной мир возьмет себе плоды, произведенные ее долгим античным летом, и земля опустеет.
3
Мозаики римских церквей долго являют зрелище колебаний между классическими традициями и влияниями Византии. Первые преобладают в IV и V веках. Затем наступает длинный период, отмеченный то смещением различных элементов, то полным торжеством Византии. В XII-XIII веках Византия снова уступает место природным силам латинской Италии. Но новая Италия так же явно предпочитала мозаике живопись, как предпочитал ей декоративную лепку Древний Рим. Самыми высокими достижениями в этом искусстве Рим был обязан Византии.
Старейшие после Санта Констанца мозаики в Санта Пуденциана обнаруживают своей сложностью композиции, мелочным раздроблением цвета, стремлением к глубине, к «картинности» и натурализму голов весьма плохое понимание особенностей мозаичного искусства. Римские мозаисты конца IV века явным образом колебались между воспоминаниями об игрушечных александрийских мозаиках и попытками перенести в мозаику приемы живописи, уже начавшей мечтать о монументальности на христианском Востоке. Однако подлинная монументальность появляется в римских мозаиках лишь в VII веке и, разумеется, как дар Византии, пережившей только что эпоху Юстиниана.
Рим достаточно богат примерами искусства этой поры – первого торжества Византии в Риме. Нарумяненная, набеленная и одетая в золото святая Агнеса в апсиде ее церкви на Номентанской дороге могла бы занять место на любой из мозаик Юстиниана и Теодоры. Ее мастер не знал уже никаких колебаний и ни в чем не вышел из пределов строго и точно определенного стиля, конструированного в Константинополе и явившегося в Рим со всем деспотизмом заморской моды.
В оратории Сан Венанцио Латеранского баптистерия крупный растительный узор – зеленые с золотом завитки на синем фоне, – так ясно свидетельствуют о завоевании Рима Востоком, заставляя вспомнить романтические и увлекательные теории Стриговского. Кто, кроме искусных азийцев на службе у Византии, мог исполнить и те ювелирно тонкие мозаики, которые украшали одну капеллу в старой базилике Святого Петра и о которых можно судить по фрагменту в сакристии Санта Мария ин Космедин? Тщательная грация этих изображений была привозным даром для одичавшего и обедневшего Рима первых лет VIII века. Более тонко мыслящее и более тонко украшенное христианство Византии прорезало тогда мрак его долгой борьбы с варварами, его вечных забот о бесхозяйной Италии. Там и сям оно оставило свой след, выложив мозаикой крест и двух святителей в белых одеждах, изумрудную траву и красные маки на фоне багряного золота в заброшенном Сан Стефано Ротондо, убрав драгоценными камнями апсиду Сан Лоренцо, придав монументальное величие даже полуварварс-ким мозаичным фигурам в церкви Святых Косьмы и Дамиана.
Второй прилив византийского влияния в Риме почти совпадает с периодом второго расцвета византийского искусства в IX и X веках, при императорах македонской династии. В Риме этот второй византийский период связан с именем папы Пасхалия I. Мало что знает история об этом папе, но память о нем никогда не исчезнет в Риме, потому что в каких-нибудь семь лет его правления, между 817 и 824 годами, были сооружены и украшены мозаиками Санта Прасседе на Эсквилине, Санта Мария ин Доминика на Целии, Санта Цецилия ин Трастевере и Сан Марко близ нынешней пьяцца Венеция. Историки сообщают, что папа Пасхалий любил греков и греческие обычаи. Монахам святого Василия он отвел во владение монастырь при церкви Санта Прасседе, в которой была погребена его мать «Theodora episcopa». Мозаичный портрет этой святой женщины сохранился там на стенах капеллы Сан Зено, а портреты самого Пасхалия можно видеть в мозаиках Санта Цецилия и Санта Мария ин Домника. Он изображен там преклонившим колена, с головой, окруженной четырехугольным голубым нимбом. Сам папа Пасхалий был, по-видимому, мало похож на святого. Его молодое лицо восточного типа очень красиво, его поза проникнута церемониальной грацией, его одежды тщательно и богато убраны золотом и драгоценными камнями. Такой папа кажется главой элегантного и любившего роскошь двора, стремящегося во всем походить на Константинопольский двор.
Базилика Санта Констанция. Рим. Фото Lalupa
Есть черты придворного, манерного и подчеркнутого стиля во всех пасхалианских мозаиках – в удлиненности пропорций, свойственных их фигурам, в торжественной монотонности их композиций, в намеренной «вескости» их колорита. Сильнейшее живописное впечатление достигается здесь большими и резко распределенными массами белого, синего и красного цвета. Металлический зеленый цвет играет только второстепенную роль, и совсем мало золота отведено тем мозаикам, которые рассчитаны на полное дневное освещение, как, например, мозаики в апсидах. Таким образом, мастера времен Пасхалия I сделали шаг вперед по сравнению с мозаистами VII века, любившими не всегда удачные золотые фоны. В своих глубочайших синих фонах они воскресили красоту мавзолея Галлы Плацидии. Но с каким изумительным художественным тактом умели они применить золото в полумраке небольшой капеллы Сан Зено! Недаром современники называли эту капеллу «hortus paradisi». Вместе с равеннским мавзолеем она является самой высокой точкой, какой только достигало когда-либо искусство мозаики.
Вход в капеллу Сан Зено обведен мозаичной аркой с очень интересными медальонами и украшен мраморной вазой. Надпись над дверью увековечивает имя и дело Пасхалия. Единственное окно освещает маленькое квадратное пространство часовни, перекрытое сводами. Все стены и своды залиты сплошь мозаиками. В центре сводов помещен медальон с прекрасным ликом Христа, поддерживаемый наподобие кариатид четырьмя белыми ангелами. На боковых стенах изображены святые мужи и женщины, красные цветы на золотых стеблях расцветают у их ног. Уже одна эта композиция кажется совершенной, и запоминается навсегда достигнутое здесь благородство типов.
Церковь Санта Мария Антиква, римский форум. Фото Lalupa
Но трудно передать словами все живописное волшебство мозаик Сан Зено, сияющих в слабом свете единственного окна или вспыхивающих золотыми, красными и синими искрами от одной зажженной свечи. Переливы красок, которые производит здесь малый свет, неописуемы. И здесь начинаешь отчетливо понимать, какое великое открытие совершила Византия, соединив искусство мозаики с искусством распределения света. Быть может, благодаря мозаикам распределение света, скорее всего, и сделалось первой заботой церковной архитектуры. Романская архитектура в своем увлечении скульптурой не раз забывала это искусство, но оно с удивительной силой воскресало, хотя и видоизмененным, в готических церквах. Мало кто помнит про этот долг западной готики Византии Востоку. В сумраке таких итальянских церквей, как нижняя церковь в Ассизи или как Сакро Спеко в Субиако, живопись кажется малоуместной, недостаточной, существующей лишь в силу какой-то традиции. Традиция эта явным образом восходит к мозаике. Запад догадался поправить дело цветными стеклами. Италия рассудила иначе: она перешла к совсем светлым церквам и тем открыла широкую дорогу для живописи.
Распятие. Фреска в церкви Санта Мария Антиква. 741–752
Живописи не чуждалась, впрочем, и Византия, хотя она и более очаровывалась мозаикой. Почти полное отсутствие памятников византийской живописи, предшествовавшей веку Палеологов и фрескам Мистры, придает особую ценность тому, что сохранилось в различных римских церквах, в Сан Клементе, в Сан Саба, в Санта Мария Антиква. В живописи, однако, гораздо труднее разобрать, что в ней приходится на долю Византии, а что на долю местных художников. По-видимому, никакие из римских фресок этой эпохи не были чистым созданием Византии и никакие в то же время не были изъяты из круга более или менее сильных византийских влияний. Самыми интересными для нас являются фрески в нижней церкви Святого Климента, папы Римского. Быть может, даже эти фрески Сан Клементе представляют единственный случай узнать некоторые черты той росписи, которой, по свидетельству литературы, были украшены дворцы византийских императоров, но от которой теперь не осталось ни следа.
Мы видим здесь не отдельно стоящие условные фигуры святых, не символические и торжественные образы, но живые сцены, полные движения благочестивые драмы, разыгрываемые при большом числе участников. Это как раз приближается к той «исторической» живописи, которой, по словам летописцев, были украшены приемные залы и частные комнаты константинопольских дворцов. Вернее было бы, судя по литературным источникам и по свидетельству фресок Сан Клементе, назвать эту живопись церемониальной. Были ли авторы фресок греками или учениками греков, жили ли они в X или XI веке – все это для нас несущественно. Церемониальным духом Византии они проникнуты, во всяком случае, очень глубоко.
Житие Алексия, Человека Божия. Фреска в базилике Святого Климента. Конец XI в.
Можно представить себе, глядя на фрески Сан Клементе, какой на самом деле была церемониальность византийской живописи, византийской жизни. Только в словесном изложении дошедших до нас памятников она кажется такой бесконечно утомительной, омертвелой и безрадостной. Легенды о святом Клименте, о святом Алексии, человеке Божием, дали случай художникам Сан Клементе выразить всю праздничность, нарядность, всю ритмическую грацию византийской церемонии. Красота обряда никогда не была лучше понята, чем здесь, и никогда художник не находил для себя более счастливого «случая» в изображении священнических облачений, крестов, хоругвей, симметрично развешанных лампад и летящих кадильниц. Такая обрядность воспитывала чрезвычайно строгое чувство стиля в искусстве и ритма в жизни. Она неизбежно вела к преувеличенной изысканности поз и движений, к манерности, граничащей с жеманством. Персонажи фресок Сан Клементе танцуют, когда двигаются, и танцуют, даже когда стоят на одном месте. Женские фигуры приобретают сладостный изгиб тела, и головы их клонятся так же томно, как на фресках позднего кватроченто.
Базилика Святого Климента. Рим. Фото Dudva
Женственность этого искусства поражает прежде всего, присоединенная в особенности к такой теме, как церковная история и церковная служба. Но церковная служба в Византии давно стала праздником для монотонной и по-восточному замкнутой женской жизни. Было много исторических минут, когда судьба Византии была вся в руках женщин, и иногда эта удивительная страна кажется таким царством женщины, каким не была даже Франция XVIII века. Только женщина могла создать здесь расцвет украшения, расцвет мелких искусств – эмали, резьбы по слоновой кости, миниатюры, – наполнивших византийский дом драгоценностями. Мало что доходило из этих искусств в суровый, мужественный и деревенский Рим раннего Средневековья. Здесь даже немногоцветные фрески Сан Клементе были редкими тепличными растениями, выращенными городской, женственной и дряхлой от колыбели Византией.
4
Воспоминание о старинных церквах Рима соединено также с воспоминанием о мозаичных полах, составленных из разноцветных кусков мрамора, порфира и серпентина. Эти куски образуют несложные геометрические узоры – сочетания кругов, ромбов, квадратов. Получается впечатление пестрых, но гармоничных ковров, раскинутых на всем пространстве базилики. Такие полы очень идут к торжественной колоннаде Санта Мария Маджоре. И даже не столько важно, что они красивы, сколько то, что они нераздельно связаны с глубоким духом римской базилики. Им как-то особенно отзывается сердце, когда, возвратившись в Рим, опять входишь в Сан Клементе, Санта Мария ин Космедин, Санта Мария Арачели.
К.В. Эккерсберг. «Церковь Санта Мария Арачели»
Полы эти принадлежат времени гораздо более позднему, чем те древние базилики, в которых они находятся. Это создание романской эпохи, XII и даже XIII века, и в большинстве случаев дело одной художественной династии, так называемых Космати. На протяжении двух столетий род Космати, к которому как бы приписаны были и их ученики, дал несколько десятков мозаистов, архитекторов, скульпторов, резчиков камня или, как сами они называли себя, «marmorai romani». С их родовым именем связана целая обширная область в итальянском искусстве. И не одни полы принадлежат к ней, но также внутреннее убранство церквей – амвоны, кресла епископов, пасхальные свечи, даже великолепные киостро с затейливыми колонками. Такие базилики, как Сан Лоренцо или Санта Мария ин Космедин, дают хорошее понятие о том порыве к украшению церквей, который привел к трудолюбивой и грандиозной по результатам деятельности Космати.
Космати умели быть отличными архитекторами, что показывает дверь Сан Томмазо ин Фор-мис на Целии с прекрасно нарисованной аркой и мозаичными изображениями белого и черного рабов. Они бывали выдающимися скульпторами, если судить по гробнице кардинала Акваспарта в Арачели. Но прежде всего и больше всего они были marmonarai romani – мастера, посвятившие себя возрождению к новой жизни римского мрамора. Так вдвойне сказывалось их римское происхождение. Руины античного Рима были усеяны тогда обломками драгоценных и прекрасных мраморов. Надо было вырасти среди этих руин и каменных россыпей, чтобы воспитать в себе такую любовь к мрамору, какая отличает Космати. Для них не должен был пропасть ни один из кусков красноватого «giallo antico» или зеленоватого, как морская вода, хрупкого и слоистого циполи-на. Колонны из вишневого порфира и зеленого серпентина, распиленные на круги, составляли центральные диски их обычных узоров.
Базилика Санта Мария Арачели. Рим. Фото Bert Kaufmann
Не только в виде этих обломков перешла к Космати часть античного римского наследия. «Изучение классических римских памятников было первой основой искусства Космати», — говорит Вентури. О том свидетельствуют применяемые ими архитектурные формы и детали. И сам способ их мозаичных работ повторяет античные традиции «opus tesselatum». То была эпоха, когда снова стало что-то открываться людям из, казалось бы, погребенного и забытого античного мира. Явление это можно было наблюдать еще в пизанской архитектуре XII века, известной под именем Проторенессанса. Но едва ли это было на самом деле предвестие Возрождения в том смысле, в каком учит нас понимать это слово кватроченто, – в смысле освобождения душевных сил нового европейского человечества. Искусство Космати, как и скульптура Никколо Пизано, было, скорее, последней живой волной, прокатившейся по все еще не застывшей поверхности древнего мира. Оно было следствием классических воспоминаний, которые где-то глубоко таились в римском христианстве. Античные реминисценции до тех пор были возможны в Риме, пока он оставался христианским Римом.
Космати и подобные им мастера являют, в сущности, зрелище античных ремесленников на службе у христианской Церкви. Одному миру они были обязаны своим трудовым и художественным воспитанием, другому – своим воображением. Они не чуждались язычества и не боялись ставить античные саркофаги с изображением вакхических сцен под навесы своих гробниц, как то можно видеть в Арачели. Но вместе с тем они были насквозь пропитаны понятиями церковными и монастырскими. Витые колонны в Латеранском киостро могли быть придуманы только людьми, слишком часто державшими в руках восковые свечи. Вся работа Космати показывает, какое огромное место в средневековой жизни занимало богослужение. Для человека средних веков церковь была действительно домом, и в нем не должно было отсутствовать даже зло, воплощенное им в виде химер. Химеры постоянно встречаются в искусстве Космати, служа пьедесталом для пасхальных свечей и подножием для епископских кресел и амвонов. Одна эта черта свидетельствует, насколько все изменилось вокруг переживших длинный ряд столетий со времен римских алтарей и раннехристианских саркофагов «marmorai romani».
Беноццо Гоццоли. Святой Антоний Падуанский. Фреска из базилики Санта Мария Арач
Ради интереснейших памятников деятельности Космати следует предпринять поездку в городок Чивита Кастеллана. Паровой трамвай ходит туда из Рима от Понте Маргерита. Дорога проложена по правому берегу Тибра. Она пересекает сначала Кампанью и углубляется затем в холмистую область южной Этрурии. Этими же местами у подошвы горы Сорактэ проходила римская Via Flaminia. До сих пор еще из окна вагона можно видеть между Риньяно и Сант-Орете ее базальтовые черные плиты. Здесь двигались некогда толпы варваров, шедшие на Рим, и видевший это шествие день за днем, год за годом одинокий монах, живший в те времена на вершине Сорактэ, вел свою летопись великого переселения народов.
Фрагмент фрески Пьетро Каваллини в базилике Санта Мария Арачели. Фото Anthony Majanlahti
Зимой какая-то особенная мрачность свойственна холмам и предгорьям Сорактэ, вокруг Чивита Кастеллана. Низко спускающиеся облака придают этой местности что-то зловещее и колдовское. Жившие здесь этруски никогда не были просто жизнерадостным и светлым народом. Их некрополи и остатки их городов до сих пор кажутся обиталищами темных божеств и волшебников. Чивита Кастеллана также представляет собой не очень веселое зрелище. Небольшой город расположен на чрезвычайно высокой скале, обрывающейся со всех сторон совсем отвесными стенами, в которых чернеют отверстия этрусских некрополей. Зеленые речки, питаемые туманами Сорактэ, шумят на дне глубоких оврагов. Никакой растительности нет в городке, только один сплошной коричневый камень. Самое большое здание здесь – замок, много веков служащий тюрьмой. На угловой башне его водружен герб с быком, папской тиарой и апостольскими ключами – герб папы Борджия. Печальный синеющий массив Сорактэ господствует над всеми видами из Чивита Кастеллана.
Но приехавший сюда ради Космати путешественник прежде всего, естественно, стремится к собору. Римские мастера потрудились здесь немало. Отличная архитектура портала и многочисленные разнообразные мозаики его принадлежат им. Удивительные химеры в церковном хоре также сделаны ими, и, может быть, одна из этих химер, грызущая человека, является свидетельством каких-то старинных грехов, терзавших бедных художников, которые оставили над портиком собора свою мозаичную подпись: «Magister Iacobus civis Romanus cum Cosma Hilio Suo carissimo Fecit opus anno domini MCCX». Впрочем, какие грехи могли быть у этих простодушных, добрых и тщательных мастеров! Христианский Рим миновал уже тысячелетие своего существования, а их искусство все еще оставалось делом первобытно-христианской души, живым образом amina naturaliter Christiana.
Бари
Нет ничего более странного, чем два Бари, новое и старое, расположенные совсем рядом, вплотную и, несмотря на то, не имеющие никаких общих черт и даже живущие совершенно отдельною жизнью. Новое Бари молодо, оно насчитывает немногим больше ста лет, начав строиться в короткие и счастливые для юга Италии годы Мюрата. С шестидесятых-семи-десятых годов постройка приняла американский темп, рост города и поныне не остановился. Сейчас это сеть пересекающихся под прямым углом широких улиц, обставленных домами, больше всего похожими на дома народных улиц какого-нибудь нового римского квартала, или средней руки столицы южноамериканского штата, или маленького государства. Очень оживленно, очень торгово, очень житейски обыкновенно, не слишком грязно, и, к счастью, нет никаких особых претензий на пышность, которые так портят кварталы нового Рима и нового Неаполя.
Базилика Святого Николая. Бари
Совсем рядом с этим трудолюбивым и мирно вульгарным городом старое Бари – лабиринт узких переулков, живописнейших дворов, разрушающихся от дряхлостей палаццо, древних лавочек, черных и суровых церковных средневековых стен, арок с облупившимися гербами, веревок с развеваемым морским ветром бельем, витых балконов, увешанных связками желтых тыкв и красных помидоров – романтика, нищета, неописуемая грязь, лохмотья, жизнь семнадцатого века бок о бок с двадцатым.
Рисунок И. Репина. «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных»
Для живописца старое Бари находка, и наш художник, пораженный такой неожиданностью, немедленно находит для себя пищу: расположившихся кружком на соломенных стульях черноволосых женщин, великолепную наружную лестницу, театрально обегающую смрадный двор, гирлянды сушащихся овощей под полно и смело очерченной мраморной аркой. Оставив его, я кружу еще по тупикам и петлям улочек, выхожу к морю над лежащим внизу с этой стороны малым рыбачьим портом. Уже смеркается, и мне хочется успеть зайти в храм Святителя Николая (XI-XIII вв.). Огромная романская базилика, неф ее возвышается высоко над распустившимся для нее ульем старого города – именно неф, корабль, как называется это вполне точно и в русской архитектуре. Внутри совершенная темнота, ни души. Шаркая туфлями, спешит ко мне старый церковный сторож. Его радость при виде меня свидетельствует о не слишком большом наплыве посетителей. Правда ли это? Старик вздыхает и покачивает головой, времена сильно изменились. Он предлагает прийти завтра в храм.
На другое утро я возвращаюсь к Сан Никола. В церкви опять никого. В крипте месса над гробницей Святителя: две-три старухи, коленопреклоненные у отполированных прикосновениями былых посетителей деревянных скамей. В ризнице дежурный священник продает образки и запечатанные воском флаконы с целебным миром. Покупателей, жертвователей нет. Где пилигримы, где русские паломники, где благочестивые славянские люди с того берега Адриатики, где рыбаки, ищущие защиты и помощи у своего святого, заступника путешествующих, и плавающих, и плененных?
Статуя Святого Николая рядом с церковью Святого Николая Чудотворца. Бари. Скульптор В. Клыков
Что это, случайность, обманчивое, неверное впечатление? Не думаю, судьба храма ведь так естественно общая с судьбой старого Бари. Жизнь там – на не имеющих никакого облика улицах нового города, в лавках и конторах, в порту и в префектуре, в редакциях газет, в светских школах, на почте, на центральной станции, в Камера ди Коммерчо. Здесь – только история, только прошлое, уходящее, ушедшее, в сущности, но еще торжественное в своих камнях, песнопениях, верованиях и словах молитв.
Святой Николай Чудотворец
Тем, кто в последние годы говорит о возрождении церкви, можно дать совет выйти из замкнутых интеллектуальных кружков, где слишком легко слагаются те или иные суждения, и поискать впечатлений на самом месте исторических святынь. Народная толпа отхлынула от церковных стен, ушла от них, осела где-то подальше, как ушло новое Бари от старого, как оседает новый Рим где-то совсем независимо от святого Петра. Народ должен жить жизнью нашего времени, той жизнью, которую, когда создавали, не очень его и спрашивали. Его ли вина, что в этой жизни как будто и нет уже места и для святого Петра, и для святого Николая!
Святой Николай – помощник и покровитель рыбака на Адриатических берегах, он заменил Посейдона. Но вот не пройдет много лет, как на тихой глади Адриатики и Ионии застучит мотор. Глаз рыбака перестанет искать ветер по горизонту; живой в дыхании моря парус станет воспоминанием. Еще одна связь человека с природой будет разорвана, еще один миф уступит место цене бензина и числу лошадиных сил. Для тех поколений, которые вырастают ввиду столь явных, столь жизненных механических могуществ, какое значение могут иметь миф о великом морском божестве и легенда о великом христианском святом?
Почти девятьсот лет прошло с того дня, как предприимчивые апулийские мореходы, подражая венецианцам, привезли в Бари мощи святого Николая из Мир Ликийских в то место, где при норманнских королях был сооружен грандиозный храм, образец всех романских соборов Апулии. Девятьсот лет – какая глубина, какой омут истории! И эту глубину ощущаешь так разительно здесь именно оттого, что рядом с лепящимся вокруг храма старым Бари расположилось отдельное, точно отрезанное ножом, новое Бари. Вглядимся же в него с неменьшим вниманием: ведь это тоже история, собственная наша история. По счастью, нам не дано бывает видеть то, что есть, с такой же смелостью, с какой умеем мы видеть то, что было, ибо какая не замутится ясность от взгляда в наше страшное, окаянное время.
Митрополит Вениамин (Федченков). На «Северный Афон». Записки студента – паломника на Валаам
Гпава 1
Валаам. На верхней палубе. Бесплатный комик. Кругом вода. «Пропимшись и заблудимши». Коневец и его «достопримечательности». «Водные» ирмосы. Кронштадтская собака. Земля! Земля! «Владыка здесь». Кладбище и храм. «Падший» послушник и «Святой остров». Никольский скит. Студент-послушник. Всенощная. Обедня и Сердоболь.
Еще зимой несколько человек из нас начали толковать о весеннем путешествии компанией. Иные предлагали прокатиться по Волге, – да карманы у нас были тощи, как фараоновы коровы; другие указывали юг, но «коровы» и здесь помешали. И вот нашли такое место, где удачно соединилось интересное паломничество со средней толщиной карманов, – это Валаам. Каких-нибудь рубля два-три на билет на пароходе, заманчивый путь по реке Неве и Ладожскому озеру-морю, да еще – самое главное – религиозная окраска, – все это было на стороне Валаама, и паломничество было решено. Как только свалим с плеч последний экзамен – дело было в мае, страдном для учащихся, – тотчас на пароход, – толковали мы. В самом деле, после спешных ответов экспромтом собрали мы корзину, кое-чего захватили; и, конечно, по обычной молодой беспечности, позабыли самое главное – хлеб насущный. Но молодежь плохо рассуждает: лишь бы сейчас сыт был, а завтра – что Бог даст.
А. Куинджи. «Ладожское озеро»
Извозчики повезли нас к Валаамской пристани – что на Калашниковской бирже, около церкви Бориса и Глеба. С какой-то верой в интерес-ность будущего, с ожиданием впечатлений от неизвестных еще картин, – мы энергично вскочили на плавучую пристань. Тотчас были куплены билеты, и ими, так сказать, начали путешествие. Уложили свои вещи и опять выскочили на пристань. Попрощались с провожавшим нас товарищем и хотели было спокойно вернуться на пароход, – как вдруг заметили у кассы две унылые физиономии в одеждах богомолок-черни-чек. Отец кассир – валаамский инок – спокойно и решительно заявил, что даром их не повезут. Я подхожу к ним.
– В чем дело?
– Да вот, родимый, на Валаам хотели было пробраться, да денег не хватает!
– Сколько вам нужно?
– Хоть бы с ру-у-блик! – жалобно протянула одна из них. На лицах их написана была и печаль от безденежья, и надежда на помощь, и неуверенность в ней.
Я тотчас обратился к товарищам с предложением помочь, – и через полминуты в руках паломниц был лишний полтинник. Оказалось, что и его было достаточно к имевшейся у них сумме, – так как отец кассир дал им после добавки льготную контрамарку. С какой радостью не пошли, а прямо побежали они по трапу на пароход! Сколько благодарности за один лишь полтинник светилось в их глазах!..
А. Куинджи. «На острове Валааме». 1873
Суетня все усиливалась… Начали готовиться к снятию парохода с якоря. Раздался властный и хладнокровный голос капитана финна, зазвенели где-то электрические звонки, с шумом был вытянут якорь, покрытый гадкими червями, разбухшим зерном и вонючей грязью.
…Раздался второй звонок… Сняли трап. Провожавшие что-то шумели отъезжавшим, делали предостережения, высказывали пожелания счастливого пути… Гам был невообразимый. Раздался третий звонок. Зашумели винты, вспенилась у кормы вода, и пароход – еле заметно – тронулся в путь-дорогу. Почти все сняли фуражки, шляпы и начали креститься на церковь Бориса и Глеба. С пристани тоже крестились и крестили отъезжавших. Не обошлось, конечно, без слез. Две-три женщины утирали платками глаза и нос, махали отъезжавшим… В это время пароход успел развить порядочную силу – и мы поплыли довольно быстро против течения Невы. Было уже часов десять с половиной утра… День выдался замечательно ясный, редкий для северной столицы даже в мае. Дул маленький ветерок, но он бежал за нами и равнялся по быстроте пароходу; поэтому для пассажиров казалось совсем тихо: только небольшие волны говорили, что мы обманываемся.
Тотчас после отхода парохода мы забрались на верхнюю палубу, значившуюся, по объявлению, только для пассажиров первого класса. А мы имели лишь второклассные билеты; да и то, признаться, зря лишь деньги истратили: в третьем – почти все равно. Вместе с нами забрались и третьеклассники – человек пять, и лишь один имел законное право на верхнюю палубу.
Но неравенство финансового положения не препятствовало «зайцам». Один из третьеклассников – несколько подвыпивший, с красной, видимо спившейся физиономией, оказался порядочным остряком, что и выказывал перед верхнепалубной публикой. Видимо, он чувствовал себя здесь полнейшим хозяином.
– Вы чем занимаетесь? – спрашивает наш остряк у собеседника, лукаво щурясь и играя то глазами, то губами, то вдруг насупившись, как отставной философ.
– Торгуем мучными товарами! – отрывисто отвечает тот, видимо недовольный, к тому же психически больной, как оказалось после.
– Татарами? Скажите, пожалуйста?! Почем же с пуда? – перевирает остряк.
– Товарами, а не татарами-с! – в раздражении обрывает больной. – Нужно слушать, а не глазами хлопать!
– Лопать? Да пожалуй, пора и лопать! Шурка! – обращается герой к товарищу, – пойдем лопать!
– Болван!.. – отрезает взбешенный собеседник.
«Болван», ничуть не сконфузившись, на минуту замолкает, чтобы, собравшись с новыми силами, продолжать изводить нервного больного и потешать себя и публику удачными, хотя подчас и глупыми рифмами…
А пароход в это время знай себе бежал вверх.
…Вот плывут мимо нас фабрики, заводы. Вот Невский судостроительный, вот чистенькая карточная фабрика, а там весь в дыму черный Обуховский завод… С левой стороны появились уже леса, луга. Пароход долго просвистал и красиво загнул за угол Невы. Город и пригороды кончились… Картина сразу изменилась: как будто из прокопченного города вас перебросили в поволжскую родную обстановку…
Остряк с товарищами спускался несколько раз вниз и возвращался все веселей. Дело становилось подозрительно. Вдруг, я замечаю, – летит за борт пивная бутылка. Недоумеваю. Через несколько времени в другом конце мелькает в воздухе пустая «сороковка». В это время на палубу вышел один подвыпивший пассажир.
– Понимаешь, Шурка, – говорил он своему товарищу, – какая штука? Монах внизу говорит: покажите свою корзинку. Я ему развязал. Ну, известно, водки уж не нашел. Я ему и говорю: а ну-ка, отец, завяжи теперича, я развязывал, тебе завязывать. И что же? Понимаешь? Завязал! Гмм! Я ему там и говорю: завяжи-ка! Ну и ни слова, значит, не говоря, – завязал! Вот, братец ты мой, как!
И довольный своим ухарством и мнимой победой, он торжественно закурил папиросу.
Ладожское озеро. Валаамский монастырь. Фото Einar Erici, 1930
Оказалось, что на пароходе всячески преследуется вино, вероятно, из опасения за самих же пассажиров. Если же у кого найдут неиспользованные еще бутылки, – то конфискуют до обратного возвращения в Санкт-Петербург. Но обычно это не удается. Втихомолку, украдкой выпивается драгоценная влага, а ненужная посуда летит за борт, провожаемая благодарным взглядом.
…А пароход все шумит винтами. Вот проехали и Невские небольшие пороги, отличающиеся от обычного течения лишь большей быстротой да незначительным уклоном воды, видимым для простого глаза. Затем – Екатерининский дворец и около него прозаический кирпичный завод. Еще дальше – Потемкинская дача на чудном местоположении… Недалеко уже и Шлиссельбург.
Шлиссельбург. Соборный комплекс. Фото В. Муратова
Мы решили подумать об обеде. Желудки давали себя знать. А с собой ничего не взяли. Пришлось заказывать какую-то селянку, покупать белого хлеба и прочее. Все это страшно дорого.
Около двух часов дня мы опять вышли на палубу. Еще немного, и перед нами Шлиссельбург. К нашему пароходу подъехал таможенный чиновник и вскоре отъехал. Мы двинулись дальше. Вот вам и Ладожское озеро.
Пароход выбежал на водяной простор, и передо мной впервые открылась картина озера-моря. Впереди и справа от парохода разливалось безбрежное пространство. На краю горизонта небо нагнулось до воды и как бы прильнуло для того, чтобы напиться. Слева же и позади были видны берега, покрытые сплошным лесом. И до самого Валаама оставалась та же картина – лишь сзади Шлиссельбург, берега исчезли из виду, – и с трех сторон мы видели только одну воду. Время было очень тихое, по озеру бежали только небольшие волны – по-морскому «рябь», – то обгоняя друг друга, то сливаясь в один гребень, то снова шаловливо разбегаясь. Такая чудная погода бывает на озере не всегда. Ближе к осени, да и летом не редкость, на нем поднимаются сильные ветры, а иногда расходятся и страшные бури. А качка-то почти обычное явление. Но все это случается к осени, а мы ехали в мае. Зато у нас было другое, хотя и очень маленькое неудобство. Из Санкт-Петербурга мы выехали в жаркую погоду, но на озере было еще очень холодно. Дело в том, что там долго не тает лед, – вследствие глубины вода нагревается плохо северным солнышком. И тут-то мы узнали пословицу – «жар костей не ломит», – теплые шинели-то вот как пригодились бы. А один студент – кажется, технолог, вероятно, несостоятельный, – ехал на Валаам в одной лишь тужурке. Можно было полагать, как было ему холодно! Впрочем, нужда мучит, но и учит; около дымовой железной трубы огромного размера стоял деревянный диван; от трубы сильно несло пеплом, но и грело; студент и лег на этот диван, и не раз сладко засыпал.
…Налюбовавшись «вдосталь» видом Ладожского озера, мы взяли книжки. У меня было «Доб-ротолюбие». Читали вслух кое-что. Поэтому на палубе – все на верхней пока, – образовалась вокруг нас группа. Когда мы перестали читать, один из слушателей попросил у меня книгу и убежал с ней вниз.
За ним вскоре последовал и я. На нижних палубах большей частью были простачки: крестьяне, мещане, мастеровые, немного купцов; преобладали мужчины – женщин было немного, – и то все более постоянные богомолки.
Коневский монастырь. Фото В. Муратова
Между прочим, после внимательного наблюдения меня поразило следующее обстоятельство.
Почти половина из пассажиров либо сизым носом, либо краснотой лица, либо истрепанной кожей и синяками под глазами, или проще запахом, выдавали свое неравнодушное отношение к патриотической влаге. Я невольно задал себе вопрос: пьянство и богомолье? Где тут связь? Думаю, уж не на заработки ли куда едут? В недоумении обращаюсь с вопросом к одному трезвому молодому парню с симпатичным открытым лицом.
– Почему это пьяных много или спившихся?
– Да они на Валаам едут тоже.
Видно, я сделал глупо-недоумевающую физиономию, ибо собеседник улыбнулся моей неопытности, а потом пояснил:
– Это постоянно здесь. Кто пропимшись, кто заблудимши, – не осилят себя дома-то; ну и едут на Валаам выдерживаться. А там у них уж строго. Поживет эдак с недельку, закрепнет и опять за работу. Я тоже вот везу одного знакомого сапожника: совсем спился с кругу. Жена его и попросила меня захватить с собой; дала ему на дорогу бутылку, другую обещала отдать мне. Он поверил. Выпил дорогой свою бутылку, стал приставать ко мне; а жена-то лишь успокаивала его, обманывала, чтобы он согласился ехать. Я ему так и сказал. Уж он ее! Уж он ее! Говорит: убью, приеду. Пошумит, перестанет. Проспится.
Собеседник указал мне на своего протеже. Сапожник, оказывается, как запьянствовал в рабочем фартуке и в грязной рубахе, так в этом костюме и ехал «выдерживаться». После на Валааме я видел его совершенно здоровым, с осмысленным взором, спокойным лицом и все в том же рабочем фартуке.
…А пароход бежит и бежит. Картина все та же; только изредка попадается встречный пароход, или где-нибудь вдали сбоку покажутся паруса и потом постепенно скрываются за выпуклостью воды.
Солнышко начало уже склоняться книзу. Мы напились чаю, – хорошо хоть свой захватили с сахаром. Публике уже начала ожидать остров.
В самом деле, скоро на горизонте впереди парохода показалась синяя полоска. Она все росла и росла, затем начали показываться определенные очертания берегов. Перед нами всплыл Ко-невец. Было около восьми часов. Пароход плавно обогнул мель и подошел к пристани. Публика должна была вся уйти на берег и переночевать в монастырских гостиницах. Только один «первоклассник» остался в своей каюте на пароходе, который почти тотчас же ушел на стоянку куда-то к берегу материка, лежавшего верстах в семи от острова.
Мы направились в гостиницы. Почти всех богомольцев разместили в общие номера человек на десять-пятнадцать, а нам – трем студентам и еще кое-кому из «белой кости» отвели отдельные небольшие комнаты человека на два-три. Самая заурядная обстановка. Чистое белье на кроватях – наш пароход почти впервые после зимнего перерыва вез посетителей. А может быть, и всегда чисто бывает? Мы расположились. На столе стояли чистые приборы; это подало нам мысль напиться первым делом чаю. Скоро к нам вошел отец гостинник и по нашей просьбе принес кипящий самовар, десяток яиц, две бутылки молока, черного хлеба и гречневой каши, оставшейся после иноческого ужина. Всему этому наши проголодавшиеся желудки оказали достойную честь. А потом мы решили поискать и духовной пищи. В это время входит в наш номер монах – как узнали после, иеродиакон.
– Христос воскресе! – приветствует он нас за дверью по иноческому правилу: это еще было до Вознесения.
– Воистину воскресе! – отвечаем мы в тон ему.
– Не пожертвуете ли на монастырь для записи покойников на вечное поминание, живым на здоровье?
– Нет, батюшка! Где нам?
…Молчание.
– А что у вас нет ли старой газеты, прочитанной? Какие новости-то там у вас в миру? Здесь мы ничего ведь не слышим.
– К сожалению, батюшка, не захватили. А вы вот скажите нам, что бы нам тут посмотреть?
Отец иродиакон словоохотливо разъяснил нам и достопримечательности, и путь к ним.
Н.Кошелев. Голова Христа. Вторая половина XIX века
Прежде всего мы направились в храм. Там уже пели стихиры «на хвалитех». В храме был приятный полумрак. Налево от входа стояла рака с мощами преподобного Арсения Коневецкого. Молящихся было немного: вдоль стен стояли немногочисленные иноки, в середине храма – приехавшие богомольцы. Меня привлекло к себе пение. На левом клиросе пели, по-видимому, близко к столповому распеву, – но неаккуратно, грубо и крикливо. Наоборот, на правом клиросе подделывались под «мирское» пение: старались петь чуть слышно, с затягиванием, с крещендо.
Мне это не понравилось. Ну, я еще понимаю, что подобная искусственность допустима в миру для изнеженного уха светского человека. Но в монастыре должны быть только молитва и никаких заигрываний с сентиментальностью стоящих в храме…
Коневский Рождество-Богородичный монастырь. Фото Antti Bilund
Всенощная окончилась. После нее мы отправились гулять по острову и осматривать «достопримечательности». Зашли в Казанский скит в полуверсте от монастыря. Было тихо и совсем почти темно. Одна-две свечечки слабо мерцали в темном храмике, придавая ему таинственный полумрак. Но скоро застучали шаги, перед нами появился инок. При входе на столике были разложены кипарисовые крестики, четки, круглые камни, естественно – обточенные водой, с картинками религиозного и совсем светского содержания. Мы спросили дорогу к Конь-камню, я купил себе на память о Коневце крестик. Пошли дальше. Было уже около одиннадцати часов, но северная белая майская ночь позволяла еще видеть почти все. Природа острова произвела на нас самое мирное впечатление, точно нас перенесли в лесную среднерусскую губернию. Небольшие холмы, неглубокие долины, в общем же ровная местность, покрытая обычным смешанным лесом, – вот вам и все.
Н. Кошелев. «Сошествие во ад». 1900. Церковь Святого Александра Невского на Александровском подворье в Иерусалиме
Впереди показался огонек. Оказалось, это была малюсенькая часовенка, построенная на знаменитом Конь-камне, от которого получил свое название и сам остров. По мнению ученых, этот камень один из оставшихся валунов ледникового периода, а может быть, – свидетель катастрофы всемирного потопа, выбросившего его сюда. Огромной величины, этот камень поражал прежде воображение язычников, перегонявших с материка своих коней на остров для корма; чтобы умилостивить богов, темные люди приносили здесь, по преданию, жертвоприношения, дабы воображаемый владыка острова сохранил скотину А хранить-то было, собственно, не от чего: здесь нет ни одного опасного хищного животного. Впоследствии на этом месте возникло христианское богослужение.
Помолившись в часовенке, мы направились к озеру, лежавшему в нескольких шагах от камня. Перед нашими взорами открылась чудная картина. Берег образовал здесь изгибом бухту. Волны сюда уже не докатывались. Тишина стояла полная. На воде ни малейшего движения. Как раз перед нами догорала еще вечерняя заря. Ее блед-но-кровавый блеск отражался в воде и окрашивал ее в чудный цвет. Сзади над двухсаженным обрывом стояли заснувшие сосны. Казалось, все погрузилось в глубокую-глубокую думу. Мы до того восхищены были этой картиной и заворожены молчанием, что от восторга начали дерзко разрывать заколдованную тишину громкими криками и ауканьями.
Было уже двенадцать часов. Шли напрямик по темному лесу, но опасаться здесь было некого: ни зверь не нападет, ни лютый человек не встретится. Подходя к монастырю, мы обратили свое внимание на какой-то шум, все усиливавшийся. Скоро мы догадались, что это прибой… В самом деле, скоро это стало совершенно ясно для слуха, – и мы очутились около берега.
Ветра ничуть не было; но озеро, взволнованное за день, не хотело успокоиться, и как малое дитя долго еще после обиды надувает губы, и озеро все катило и катило тихие гладкие волны. Они с шумом растекались по песчаному берегу – а иногда с треском разбивались мелким серебром. После той мирной картины шум волн взбудоражил нас. И мы затянули ирмосы «о воде». «Воды древле манием Боже-э-ственным». «Моря чермную пучину невлажными стопа-а-ами», – прерывает меня товарищ. Я свое, он свое, – а волны аккомпанируют нам своим шумом.
– Ребята, пожалуй, пора уж и спать.
Посмотрели на часы. Стрелки показывали час ночи. Уже стало рассветать, небо начало белеть, кое-где перекликались ранние пташки. Мы пошли в свой номер и заснули как убитые, свежим детским сном. Хотели было встать к обедне в половине пятого, – но даже и благовеста не слышали, проснулись в шесть. Едва поспели к молебну. Иноки скоро пели: «Преподобие отче наш Арсение, моли Бога о нас». В этом «наш» мне послышалась новость, вполне понятная.
Приложившись к раке и местной чудотворной иконе Божией Матери, держащей на руках Младенца с двумя белыми голубями, мы вернулись в номер, выпили еще молока, затем направились к пристани, куда уже подходил отдохнувший пароход. Было часов семь с половиной утра. День снова был роскошный. Тишина и тепло. Волны наконец-то почти утихомирились. Пароход медленно отошел от пристани, и перед нами снова раскинулась знакомая картина безбрежного пространства. Я отправился на нижнюю третьеклассную палубу. Богомольцы пили свой чай (кипяток дают здесь бесплатно). Шли разговоры между знакомыми кучками.
Гостиница Коневецкого монастыря. Фото Antti Bilund
Вот группа: два старика-богомольца, средней руки бойкий купец, два-три мастеровых, какой-то мелкий молодой чиновник.
– Это – первое, значит, средствие, – рассказывает один старик, – ежели, значит, к примеру, укусит те собака, то ты возьми, добудь клок евонной шерсти промеж лопаток, сожги его и засыпь, как рукой снимет!
– Не может быть! – попытался неуверенно возразить я.
– Мне ли ты говоришь? – отвечает убежденно рассказчик. – Я вот…
– Это уж верно! – безапелляционно утверждает купец, прерывая старика. – Я сам ведь не раз лечился. Доктора ничего не помогали, засыплешь шерстью, на другой день – ничего!
– Я вот, к примеру, – снова начинает старик, – в Кронштадте ходил по дворам, – одна, проклятая, и укуси меня, значит, за голеняжку. Я сейчас к куфарке, так мол и так, – добудь ради Христа, шерсти евонной промеж лопаток. Ну, она, спасибо ей, добыла. Я приложил к ноге…
– Ну что же? Скоро зажила рана-то?
– Не-е-т! Вот уж недели три, как все нарывает, – наступить больно.
Ворота Валаамского монастыря. Фото Einar Erici, 1930
Старик действительно хромал немного.
– Так как же ты говоришь?
– Да, значит, потому шерсти-то мало было, жечь нечего, я так и приложил ее сырую.
Конечно, грязная шерсть плохой бинт, и долго еще проболит, видно. Бедный темный старик. А попробуй-ка разуверить!..
– А зачем ты в Кронштадт-то попал?
– В Кронштадт-то? Кстати! У меня племянник ни за что ни про что в Сибирь угодил.
– Как так? – в один голос спрашиваем мы, всегда жадные до уголовных новостей.
– Жена его – шлюха – погубила! Сама-то разошлась с ним, а за кого хотела выходить замуж, закон, значит, не дозволял. Ну, вот они и решили известь сначала племянника. Стоял он, к примеру, часовым у казенного гамазея; они ночью и крадутся; чтобы, значит, он погнался за ворами, – а ее сожитель сломает печать у замка. Ну, Александра (имя племянника) услышал, – ползет кто-то, окликнул до трех раз и выстрелил в энто место и угоди, как раз, значит, по ногам жене-то. Энта как заорет: – убил, кормильцы, убил! Не выдержал Александра, жалко стало жену: – любил он ее, подлянку! Побежал к ней, а сожитель-то сломай в энтот самый момент печать-то. Ну и пошел под суд.
Я как, значит, узнал про суд-то, к Плевакину бросился в Москву.
– Зачем же это ты к нему? Разве он доступный для вашего брата-то? – спрашивает голос из группы.
– Плевакин-то? Он, братец ты мой, простой.
– Да ведь все равно племянника твоего уже никто не выгородил бы. Виноват он, хоть и любил и жалел жену.
– Ну нет! Плевакин, значит, он, кого захочет, невиноватого виноватым сделает, черного белым покажет. Он оправдал бы Александру! – уверенно твердил старик. – Только я маненько запоздал к нему. Племянник двенадцать дней уже был сослан в Сибирь.
И. Шишкин. «Вид на остров Валаам». 1860
Слушатели сочувственно нахмурились: и жалко было доброго солдата, и помиловать по закону нельзя… Молчание…
– А в Кронштадт как же ты попал? – спросил последовательный собеседник.
– Ну из Москвы дай, мол, поеду в Питер, не сделаю ли там чего? Да и к батюшке Ивану Кронштадтскому собирался давно съездить. Вот и попал туда; прожился, стал побираться. Собака-то и укуси, значит, за самую голенятку.
В другой группе шли речи про будущий неурожай хлебов, про засуху. В третьей говорили о богомольях.
Утомленный вчерашней прогулкой, с тяжелой головой от четырехчасового сна, я решил проспать до Валаама и отправился в каюту второго класса.
Около двенадцати часов вбегает ко мне один из товарищей, начинает энергично будить.
– Слышишь? Вставай скорей! Валаам!
Последнее слово, как электрический ток, сбрасывает меня с дивана. Я бегу на верхнюю палубу. Перед глазами в версте от парохода – Валаам.
Первое впечатление было смутное, как и всегда при беглом взгляде на новый предмет. Глаза как-то разбегаются, мысль не в состоянии сосредоточиться на одной стороне предмета; получается что-то бесформенное, бесцветное. В те десять минут, пока мы не остановились у пристани, я только одно вынес – это лесистость острова. После, когда мы изъездили и исходили Валаам по разным направлениям, это внешнее впечатление от острова определилось вполне.
Остров Валаам (остров Ваала или Белеса, языческого бога), точнее – целая группа, сорок островов, – представляет из себя ряд гранитных скал большей или меньшей величины, поднимающихся из глубины озера.
Гранитная почва острова придает ему какой-то суровый серьезный тон: здесь сентиментальностям и нежностям нет места, – заявляет природа.
Но между тем, сколько своеобразной прелести в этих диких суровых местах!
Вот, например, Святой остров, расположенный к северо-востоку от главного острова Валаамского архипелага. Гранитная отвесная скала сажен в десять-пятнадцать высоты круто обрывается в озеро. Смотреть вниз – так голова кружится, дух замирает! А внизу шумят несмолкающие волны; они то будто нежно обнимают утесы, то, как дикие звери, в ярости бросаются на скалу, но в бессилии с шумом и диким шипеньем летят назад, разбиваясь в тысячи серебристых брызг.
Но суровость дикой природы смягчается замечательным покровом: повсюду острова покрыты лесом, который здесь не трогают. Тут больше северных хвойных деревьев, и лишь изредка попадается березка, дубок, осина. А иногда между деревьями блеснет просвет, и перед вами зеленая порядочной величины лужайка. Есть даже поле, на котором, впрочем, никогда не дозревают хлеба.
И невольно припомнишь слова Аксакова: «Лес и вода – краса природы». Прибавьте к этому еще утесы, заливы, бухты, и вы можете составить себе приблизительное представление о богатстве природы Валаама.
В. Суриков. «Искушение Христа». 1872
Особенно ярко встает передо мной одна картина… Остров святого Иоанна Предтечи. Мы с одним послушником, братом В., сидим на гранитном камне у самой воды. Впереди – безбрежное пространство. Едва заметный ветерок. Солнышко опускается уже к облачному горизонту, немного пригревая нас. У самых наших ног журчат тихие волны, точно жалуясь нам на вечную и бесплодную свою деятельность. И лишь изредка девятая волна запротестует слишком громко и сердито разобьется со злости о камни, обдав наши ноги брызгами. А потом опять и опять жалобное журчанье. А наверху над нашими головами стоят сосны, шепчась о чем-то с ветром, точно опасаясь за покой старцев-схимников. Да и действительно, здесь неудобно шуметь, как захочется, – неделикатно. И все это до того мирно действует на душу, что просто погружаешься в какое-то забвение, какой-то сладкий мир разливается по всему существу, не хочется даже говорить. А волны и шепот сосен все убаюкивают и убаюкивают душу утомленного в миру всяческой суетой человека.
Коневский монастырь. Скит. Фото В. Муратова
Умиротворяют усталого от подвигов духовных и телесных инока!
И только мраморный крест-памятник, ярко выделяющийся над нашими головами среди зеленого леса, зовет человека вверх, прочь от духовной спячки, влечет инока после отдыха к новому и новому труду.
Не забыть мне этой картины и испытанных впечатлений. Подобной грандиозной красоты я не видел еще нигде!..
А пока мы с вами, читатель, забежали вперед в рассказе, – пароход обогнул остров и вошел в ровный, точно искусственно высеченный залив. При входе в него мы встретили еще плавающие льдины, жалкие остатки зимы. Перед нами предстал тотчас же собор с высокой колокольней.
На самом верху горы, окруженный лесом, освещенный майским солнцем, белый собор манил к себе взоры подъезжавших богомольцев.
Вот мы и у пристани. На берегу стоит толпа иноков и мирян. Мы собрали вещи и пошли вперед к гостинице вслед за другими богомольцами. По дороге нас догнала лошадь с телегой, нагруженной корзинами и мешками паломников. Мы тоже бросили туда свои пожитки. Затем проскакали три, четыре пролетки; это ехали либо начальствующие здесь иноки, либо богомольцы познатнее, либо старенькие и больные посетители. После узнали, что для немощных это все бесплатно.
Перед нами обширнейшая гостиница; но мы в нее не пошли, а отправились прямо в собор, так как услышали, что там служит епископ Сергий, ректор нашей академии. Когда мы вбежали в монастырский двор, то перед нами открылась торжественная картина. Иноки во главе с епископом попарно шли из храма в столовую. Нам велели встать в последние ряды и тоже идти с ними, чему мы охотно подчинились.
Пропели предобеденную молитву и шумно расселись за столы. Братья-послушники подавали одно блюдо за другим, предваряя словами: «Христос воскресе!» Мы отвечали: «Воистину воскресе» и начинали истреблять поданное. Впрочем, сначала-то, после питерских блюд валаамская пища не очень-то пришлась по вкусу; но потом привыкли, ничего: больше все рыбное, иногда молочное.
Потрапезовав, мы тотчас выбежали и протолкались к владыке; получили благословение и вместе с ним отправились в «царские комнаты» – ничего особенного, впрочем, кроме портретов царственных особ, не представляющие.
Там владыке вместе с нами предложен был чай. И еще здесь мое внимание привлек к себе тот особенный дух, который витает в этих иноческих стенах. Все – по чину, благообразно. Сначала подали чай владыке, затем отцу наместнику (игумен в то время еще не был избран после умершего отца Виталия), после него – отцу казначею и так далее. «Какое местничество!» – подумает мирской человек, – и глубоко ошибется. Различие коренное: в миру каждый хочет быть выше других и крепко отстаивает свое место; здесь, наоборот, всякий рад уступить свое высшее место низшим, но те сами не согласятся, чувствуя свою немощь и почитая «всяко начальство и всяку власть» «не за страх, а за совесть». Здесь свободное подчинение, христианская дисциплина, а там, в местничестве, обычный закон мира сего, по которому «князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими» (Мф. 20, 25). Эта дисциплина, проявившаяся в таком незначительном факте, сказалась не только здесь, перед лицом владыки, но во всем строе иноческой жизни, как ясно было всякому богомольцу. Всяк при своем деле, всяк под началом у старшего и без воли и благословения последнего никто не имеет права сделать ни шага. Таков, по крайней мере, основной характер монастырского общежития, как мы увидим дальше. Конечно, исключения везде бывают, но своей редкостью они лишь более подчеркивают правило.
Другая черта, прямо поразившая меня, была какая-то безыскусственность и любовная простота. У нас обычно в миру хозяева стараются занять гостя, за отсутствием общих тем несут всякую чепуху. И свежему человеку становится тоскливо и пусто от этой ветреной болтовни. Здесь говорят, что нужно; допускают, конечно, и шутки, но вполне уместные и естественные. Поэтому не чувствовалось особенной неловкости, когда приходилось даже и молчать, хотя мы были совсем еще незнакомы.
Смоленский скит. Валаам
Напившись чаю, мы решили все вместе отправиться осматривать монастырь. Но перед отходом местные Фотографы-иноки попросили благословения у владыки снять его, на что тот, понятно, согласился. А затем и мы целой группой, человек в десять, вышли за монастырские стены.
Солнышко ярко светило с небосклона. Было тихо. Кругом лес, под ногами – довольно низко под обрывом – залив; на нем «Валаам» и еще два парохода: «Сергий» – игуменский и «Николай» – рабочий.
Прежде всего мы отправились на кладбище, где хоронились только, кажется, схимники и манатейные монахи; послушники же, рясофорные и светские погребались в другом месте, в версте от монастыря.
Направо от входа внимание богомольца останавливает крайняя надгробная плита со следующей надписью под крестом:
На сем месте тело погребено, В 1371 году земле оно предано, Магнуса Шведского короля, Который святое крещение восприя, При крещении Григорием наречен. В Швеции он в 1336 году рожден. В 1360-м году на престол он возведен. Великую силу имея и оною ополчен, Двоекратно на России воевал, И о прекращении войны клятву давал, Но преступив клятву паки вооружился, Тогда в свирепых волнах погрузился, В Ладожском озере войско его осталось И вооруженного флота знаков не оказалось; Сам он на корабельной доске носился, Три дни и три нощи Богом хранился, От потопления был избавлен, Волнами ко брегу сего монастыря управлен, Иноками взят и в обитель внесен, Православным крещением просвещен. Потом вместо царския диадимы Облечен в монахи, удостоился схимы, Пожив три дни здесь, скончался, Быв в короне и схимою увенчался.Под стихами высечен обычный череп с костями.
– Шведы, – поясняет один инок, – оспаривают этот факт и показывают у себя могилу Магнуса.
Не будучи историком, автор этих строк не может ни подтвердить, ни отрицать подлинности написанного. Где-то мне пришлось читать опровержение, но оно показалось недостаточным. Возражать по существу нельзя: факт этот был возможен, недаром же предания являются. Но, впрочем, особенно на этом не настаиваю, потому что Валааму гробница Магнуса ни придает ничего особо важного, ни отнимает у него. Копий ломать не из-за чего! Валаам ценен сам по себе.
Читая надписи, мы обратили внимание на количество лет усопших иноков: то 75, то 80, то 90. Обычная же доброзрелая старость, по пророку «70 лет, аще же в силах семьдесят». А здесь – выше сил. И при таких наглядных фактах находятся люди, которые стараются возражать против постов, аскетизма, будто подрывающих, медленно убивающих организм. Если бы все «скоромники» доживали хоть до 70 лет!
Н. Кошелев. «Прободение ребра Иисуса воином». 1900-е гг. Церковь Святого Александра Невского на Александровском подворье в Иерусалиме
Забывают они, что «не одним хлебом жив будет человек, но и словом Божиим», – жив – не только духовно, но и телесно.
Есть еще несколько интересных надписей.
Схимонах Киприан.
Из закоренелых раскольников, утвержденный в православии чудесными знамениями.
20 мая 1798 года, 80 лет от рождения.
Или:
Монах Авраамий.
Ревностно потрудившийся в послушаниях и в обители источавший по кончине и при отпевании ток живой чистой крови.
Кое-где написаны простенькие стихи, вроде следующих:
Схимонах Авраамий. Все в мире презирая, Он Господу служил, И славу неба предвкушая, Здесь телом от трудов почил. Коротко и ясно!Осмотрев кладбище, мы направились снова в ограду монастыря. Владыка пошел в братскую больницу посетить немощных, а мы в это время прошли в летний верхний этаж собора. Громадной величины храм производил внушительное и вместе с тем легкое впечатление. Довольно много было золота, блестевшего от боковых лучей солнца; но всего более мне понравилась живопись. Нижний храм производит совсем иное впечатление; но о нем в свое время. Здесь же бросалась в глаза яркость и светлый тон красок. Розовый, голубой, красный, синий и редко коричневый – цвета икон и стен придают храму положительно бодрящий, веселый, жизнерадостный тон. Высота купола и арок и обилие света чудно дополняли это впечатление. И невольно я себя спросил: зачем монахам эта светлая жизнерадостность? Но ответ явился тотчас же. Ведь христианство – не только одна печаль и сокрушение о грехах, – но и радостная жизнь в Боге, «неизреченный свет» и непрекращающееся веселие, как утверждают по опыту христианские подвижники-мистики. Правда, на эту последнюю сторону радости, оптимизма в последнее время начали указывать даже чересчур уж неумеренно, вооружаясь против какого-то будто ложного аскетизма. Горячее всех возмущался известный В.В. Розанов, взывая как-то в «Новом Времени»: почему это у христиан Пасха продолжается всего лишь одну неделю, а пост тянется 40 дней? Почему все наше христианство черное, а не белое? Почему христианство Страстная Пятница, а не Светлое Воскресение?
Ф. Васильев. «Около церкви. Валаам». 1867
Милый – если только не фальшиво наивный, – Василий Васильевич! Я спрошу вас: почему это большинству христиан нравятся дни Страстной седмицы больше, чем Пасхальная неделя? Почему это горько-покаянное «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» влечет сердца верующих? Да уж очень просто: совесть-то у нас нечиста! Если же у вас, жизнерадостный Василий Васильевич, совесть покойна, если, как «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8), то «радуйтесь и веселитесь» (Мф. 5, 12), – но нам, грешным, оставьте уж плач и сетование, мы здесь находим себе тихую, печальную радость и скорбное утешение. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5, 4); утешатся не только там, за гробом, но еще и здесь, даже в самом плаче будут утешаться. «Блаженны нищие духом» (Мф. 5, 3), опять все скорбные, смиренные, уничижающие себя мытари, потому что им принадлежит «Царствие Небесное» (Мф. 5, 3); а «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).
В. Васнецов. »Спасительв терновом венце». 1906
Слезы – и радость! Смирение – и дерзновение перед Богом! Все это, Василий Васильевич, – вместе бывает. Таков обычный ход внутреннего обновления человека «в мужа совершенного» (Еф. 4, 13).
Но, конечно, бывают моменты, когда плакать неуместно, да сердце и не хочет плакать.
«Почто мира с милостивными слезами, о ученицы, растворяете?» – вещал мироносицам блиставший во гробе Ангел, – ведь «Спас-то воскресе» из мертвых: теперь «рыдания время преста, не плачите!» – поется в каждую воскресную всенощную. Но ведь до этого воскресения нужно прожить шесть дней. До Пасхи – нужно жить целый год. Да и то не все могут радоваться по-на-стоящему; потому что не все дожили до воскресения своей души. Для этого нужны нам долгий пост духовный, сетование о своей нечистоте нужно; Страстную неделю внутри себя пережить, перестрадать, – тогда и загорится светлая заря христианского богообщения. А вы, Василий Васильевич, рекомендуете после угарной, опьяняющей Масленицы да прямо опять Пасху ликовать! Не выйдет, поверьте, не выйдет ничего: совесть-то, того… грязновата у нас! И рад бы в рай, да руки коротки! И вот это вполне понимают иноки, эти истинные христиане, – поэтому они большую часть года проводят в нижнем скромном храме, а летом веселят свои сердца описанной красотой, и благодарят Бога, утешающего смиренных и утружденных.
Вот какие мысли и чувства возбудил во мне вид Валаамского храма. Да простит мне читатель это отступление.
Один из провожавших иноков разъяснил, что почти весь этот храм с его архитектурой, живописью сделан трудами Валаамской братии, поэтому он совсем родной для них.
Владимирский скит. Валаам
Между прочим, наше внимание привлекли к себе две картины – иконы. На одной из них, нарисованной по трем стенам лестницы, ведущей с верхнего этажа в нижний, изображены лики русских святых, начиная, кажется, от святого Владимира и до последних дней. И замечательно: все иноки, простые миряне и князья.
– Знатных-то и богатых, да белых священников совсем почему-то мало! – замечает один из приезжих богомольцев.
Это замечание брошено вскользь, но оно имеет, кажется, глубокий смысл. В нынешний век почти все, и интеллигентные миряне, и белое духовенство, вооружаются против иночества. Правда, много, много темных сторон здесь. Но ведь это обычное явление: где сильнее свет, там гуще тени, больше козней врага; где выше подвиг, там возможнее – падение. Но заключать из-за темных сторон о ненормальности всего монашества неосновательно. Ненормальности, искажения нужно преследовать, – дурные листья и сучья обрезать, но рубить само дерево, когда на нем были и листья и плоды, жестоко и глубоко несправедливо.
Скажут, что в монашестве больше негодных листьев. Бог им судья! Нужно стараться строже принимать в монашество и вообще улучшать это дело Христово. Но не забывайте, что большинство святых – иноки или мирские аскеты, такие же монахи. Тесен путь в Царствие Божие, но иного нет! И вот рассматриваемая картина наглядно показывает и говорит зрителю: строгие судьи! Не рубите дерево! Посмотрите, сколько оно принесло зрелых для Господа плодов! Не рвите розу из-за того, что на ней есть и шипы! Вглядитесь в подвижнические лики: есть ли среди святых Божьих жившие широко, пользовавшиеся удобствами и удовольствиями? Да, православные, тесен путь и узки врата, ведущие в Царствие Небесное!
Вот что подсказывает эта картина. Другая сторона обращает внимание одной мелочью. Грешница с низко наклоненной головой, окруженная фарисеями и книжниками, готовыми уже удрать под давлением мучающей совести; Христос сидит и чертит перстом на песке, а что именно – в Евангелии не говорится. Художник, желая заполнить этот пробел, по простоте своей рисует на латинском языке слова Господа: qui vestrum sine peccato.., то есть кто из вас без греха, тот, и т.д., понятно, почему взяты эти слова, но зачем латинский язык? Видно, художник знал его в гимназии, а может, и в семинарии и хотел выразить идею неизвестности и непонятности написанного.
Осмотрев храм, мы пошли на колокольню, откуда открывался чудный вид. К сожалению, в этот раз нельзя было взобраться на самый верх ее, где находилась подзорная труба.
Когда затем сошли вниз, то обратили внимание и на внешнюю сторону собора. Храм напоминает своей архитектурой византийский стиль – очень красивый; колокольня же – в русском стиле, причем она производит немного странное впечатление: сначала идет ровно, ровно – и вдруг круто сужается и неожиданно кончается острым шпилем. Говорят, что по плану предполагался еще целый этаж, но игумен не благословил; может быть, денег не хватило, – а может быть, считал это лишней роскошью! Бог его знает!
В это время владыке сказали, что все готово для отправления на Святой остров. Мы пошли пешком к пристани, а владыке и отцу наместнику подали лошадей.
У пристани нас ждал чистенький игуменский пароходик «Сергий», названный в честь святого Сергия Валаамского. Мы уселись. Из машинного отделения вышли иноки – машинист и кочегар – получить у владыки благословение. И пароход легко отошел от пристани.
По пути я разговорился с некоторыми иноками, ехавшими с нами. Между прочим, один молодой послушник почему-то сильно понравился мне. Как мирянин, я недоумевал, как можно было жить в монастыре, да еще в глухом скиту молодому, полному жизни и сил юноше, и, не утерпев, задал этот вопрос. Но ответ был очень прост.
Сергий и Герман Валаамски
Скромно, как дитя, и смиренно, он ответил мне искренне: «Был я приказчиком… Дело молодое… неразумное… Я начал падать… — краска стыда от сознания своей слабости залила щеки молодого послушника. – В миру не удержаться. Вот я и решил пожить недельки две на Валааме. .. Да вот уж восьмой месяц пошел, все не хочется уезжать отсюда. Может быть, ныне летом ворочусь опять в Петербург».
Столько было здесь смирения, кротости и простоты, что перед этим «падшим» юношей мало стоили внешне чистые праведники. Глядя на этот живой пример, понимаешь немного, почему Христос любил иногда явных грешников гораздо уж больше, чем законнически праведных фарисеев: хоть они и падали, но зато основное-то настроение у них было наиболее благодарное для очищения – покаяние, уничижение, смирение, – тянули к себе дары Бога, Который, по слову Писания, «смиренным дает благодать». При своей грязи они жаждали чистого Света больше, чем мнимо праведные книжники. И Христос к ним шел, ценя не внешние подвиги или падения, а внутреннюю подкладку духа. Вспомните картину блудницы, омывающей слезами ноги Спасителя, и хозяина вечери – Симона фарисея! Ясно, куда клонится твое сердце, читатель. И поймешь, почему нельзя судить людей по внешности, если не видишь самого нутра их.
А. Бида. «Блудница омывает ноги Иисуса». 1874
Не знаю, где-то теперь знакомый послушник? В тихой ли пристани Святого острова? Или опять
в «житейском море, воздвигаемом греховными бурями»? Спаси его, Господи!
…Пока мы беседуем с вами, пароход совсем почти подошел к цели. Здесь уже ждали владыку. Высадившись, мы стали взбираться вверх по крутой лестнице. И вот тут-то открылась та чудная панорама, которую я описывал раньше. Право, читатель, из-за одного этого стоило съездить на Валаам. Слов нет выразить красоту! Может быть, это потому, что я ничего, кроме тамбовских полей и лесов, не видел?! Не знаю, но одно утверждаю, что я вместе со всеми был в восторге!
Здесь мы посетили церковь, в которой, между прочим, почти все сделано было из дерева, за исключением разве потира. На пороге владыку встретил с крестом иеромонах отец N. Напряженные черты лица, показывавшие самособранность и бодрствование духа, сразу говорили уму и сердцу, что он вполне усвоил принцип «тесного пути узких врат». После один из иноков рассказывал мне, что этот иеромонах летом ездит по благословению высшего начальства и по приглашению одного кронштадтского батюшки служить вместо последнего. Но он и в миру умеет жить по-иночески: совершенно одиноко, не прося даже и прислуги, сам себе и готовит, и смотрит за домом, и отправляет требы.
Из церкви сходили в пещеру святого Александра Свирского, высеченную, а вероятнее, естественно образовавшуюся в гранитной скале. Места– только для молитвы. В пещере тихо-тихо мерцала свечечка и наводила тени по темным скалистым стенам.
Невдалеке от церкви на солнечном припеке разведен был садик; около него выкопанная кем-то давно – пустая могила, видно, для напоминания о смерти. Напротив садика стоял столбик из местного мрамора. На нем были устроены солнечные часы, а под ними высечены следующие поучительные стихи:
Размышление у солнечных часов Время мчится вперед; час за часом идет непреложно. И вернуть, что прошло, никому ни за что невозможно. Береги каждый час: их немного у нас для скитанья. И клади на часы вместо гирь на весы покаянье. Приближает всех нас каждый пройденный час ближе к гробу. Помня этот удел, накопляй добрых дел понемногу И отбрось суету, не стремись ко греху так беспечно, Но в юдоли земной обновися душой к жизни вечной.(Орфографию сохраняю по подлиннику).
Мне эти стихи кажутся чрезвычайно музыкальными, не говоря уже о содержании, почему я и вношу их в свои записки.
Так как здесь очень уж красива была природа, то следовавшие с нами Фотографы сняли всех присутствовавших группой, после чего мы снова сели на пароход и отправились в Ильинский скит, лежавший почти рядом. Та же чудная природа, тот же прием, такие же иноки. Дорогой один из стареньких монахов этого скита обратился ко мне с вопросом:
– Ну что? Как там о войне-то пишут?
Что общего между мечом и кукулем – монашеским головным убором? Ан, видно, и христианство не уничтожает патриотизма, любви к страдающей родине. Правда, на последних ступенях совершенства везде – одно солнышко, везде – Господь, везде отечество, по словам Василия Великого. Но до тех пор, несомненно, лучше быть истинным патриотом, чем равнодушным космополитом-интернационалистом. Читал я этим летом книгу Льва Толстого на немецком языке о любви к отечеству, где чувство патриотизма он старается объяснить путем искусственного взбудораживания прессой, богослужениями, манифестациями и прочее. Спрашивается – кто разжигает это чувство у старца-монаха? Право, удивляешься, как Толстой может писать такие вещи, которые, пожалуй, еще были бы по плечу гимназисту, да и то из первых четырех классов.
Святой Александр Свирский.Икона XVI в.
Я ответил на вопрос инока, что знал:
– Пока еще неизвестно. Вот все ждем важных событий. А генералы у нас теперь решительные, что Линевич, что Рожественский! Смерти не боятся!
Это было как раз в несчастнейший день 14 мая – день «Цусимы». Было уже около пяти часов. Нужно было возвращаться в монастырь ко всенощной. Мы спустились вниз к пароходу и поплыли обратно к острову Валааму в собственном смысле.
Между прочим, когда мы вступали на берег Ильинского скита, а также при прощании с ним, иноки и мы с ними давали друг другу «ликование». Оба здоровающихся или прощающихся снимают кукули и кланяются, почти прикасаясь друг к другу щеками, сначала, кажется, левыми, потом правыми. После и мы с товарищами приучились творить ликование, хотя все ошибались: начинали не с левой, а с правой. На первых порах было как-то чудно, ну а потом привыкли, – все равно, что и к мирскому рукопожатию.
На обратном пути и затем в монастыре я беседовал с одним послушником, братом С. Сын богатых родителей, образованный и выдающийся пианист, студент университета и вольнослушатель академии, – он все-таки едет на Валаам в послушники. По-видимому, у него всего много: и богатства, и образования, и эстетики; а, однако, человек ясно чувствует, что тут не все, чего-то еще более важного не хватает, – нет одухотворяющего начала. Религия дает этот свет. И если ум развивают в храмах науки, чрево насыщают в приличных сему органу местах, иногда – шикарнейших ресторанах, то и для духа есть тоже свои храмы, свои кивоты с манной, где Бог как бы осязается и вкушается. Это – хорошие, истинно христианские монастыри, каков среди прочих и Валаам. И вот брат С. едет в этот религиозный университет, чтобы набраться мудрости духовной, «единой на потребу».
– Какую-то дряблость стал в себе замечать я ныне зимой, – рассказывает он. – На Валааме я был уже не раз; поживешь этак с месяц и уедешь домой с окрепшими и освеженными силами. Теперь вот я живу здесь уже три месяца.
– Чем вы здесь занимались? Какое послушание несли?
– Сначала меня обрядили вот в эти черные одежды, дали мне сапоги – «бахилы», шапочку, – а потом послали на кухню быть черным помощником у повара: чистить картофель, рыбу и прочее…
Представляю я себе, каково было нежным тонким пальцам, привыкшим бегать по шредеровским клавишам, оперировать ножом над чешуей и иглами рыбы и грязным картофелем!
– Потом я был благословлен разносить пищу братии за столы. А весной меня перевели в сад чернорабочим: окапывать фруктовые деревья и кусты, удобрять почву навозом, поливать.
– И каково же вам чувствуется при такой… грязной работе?
– Да что же? – тихо, задумчиво и кротко отвечает брат С. – Очень хорошо! Чистый воздух, физический труд, спокойствие души, чего же еще больше?.. А не хотите ли посмотреть на нашу келью?
В. Суриков. «Монах»
Я согласился, и мы пошли… Очень маленькая – аршина в четыре шириной, и шесть-семь длиной, – комната была весьма скудно обставлена. Две кровати – для двух послушников, стол, два, кажется, табурета, икона в переднем углу и печь в противоположном, – вот и все. И такая убогость после, вероятно, изящной квартиры! На полке около икон стояло пять книг из Валаамской библиотеки, взятых братом С., – творения епископа Игнатия Брянчанинова и еще что-то.
– Читаете?
– Нет, почти некогда за работой. Разве что с полчаса или час выберешь свободный, да и то не всегда.
– А кто рядом с вами живет? В соседней комнате?
– Это наш «хозяин», то есть заведующий садом и нами – двумя послушниками. Без воли его мы ничего не смеем делать…
– Долго еще думаете пробыть здесь?
– На днях возвращаюсь домой; а то уж и здесь начинаю чувствовать усталость, вялость!
И вполне понятно: ведь иноческая жизнь, да еще в таком строгом монастыре – нелегкая вещь, особенно брату С.
Гефсиманский скит на Валааме. Фото 1930 года
Как-то он теперь себя чувствует?
Пока мы с ним беседовали, от отца наместника прибежал послушник, приглашая к обеду меня и брата С.
Обед был роскошный. Супы, рыба во всех видах и родах, мороженое и еще что-то, – все это нес Валаам от всего сердца успевшему помолиться владыке. После трапезы подошел под святительское благословение сам виновник ее – еще молодой безусый юноша.
– Ваше Преосвященство! Это – наш повар; тоже получил высшее образование, – рекомендовал его отец наместник.
Дело в том, что этот юноша раньше был в по-варенках у известного петербургского ресторатора Палкина.
Было уже восемь с половиной вечера. Заблаговестили ко всенощной: была суббота. Служили в нижнем этаже. Низкие своды потолков, темные лики святых иноков по стенам, позолота на красном фоне, все это в противоположность верхнему этажу придавал ему серьезный, строгий аскетический тон. Черные мантии и рясы иноков, этих добрых воинов Христовых, дополняли внешнее впечатление особенно в полумраке всенощного богослужения. Как новый человек, я внимательно вслушивался и всматривался во все происходящее. И признаться, на первый раз валаамское пение почти не произвело на меня впечатления, если только не сказать больше. Не совсем стройное, с параллельными октавами басов и теноров, а иногда даже с параллельными квинтами, не соблюдающее ни forte, ни piano, как в мирских храмах, своеобразное, неуловимое с первого раза, – пение иноков не особенно понравилось моему сердцу. И я теперь вот что думаю, кроме указанных сейчас особенностей, главная причина заключалась во мне самом: я так привык в миру к искусственному «партесному» пению в итальянском стиле, что не мог сразу освоиться с простотой и строгостью валаамских напевов! Да прибавьте еще к этому, что я страшно хотел спать, так что не раз даже забывался во время всенощной.
И так сладко было после разочароваться в первом впечатлении! Но об этом после, в свое время.
Сергий и Герман Валаамские. Икона из Валаамского монастыря. XIX в.
Между прочим, несколько странно было видеть, как во время чтения кафизм, седальнов,
Пролога иноки садились; причем, так как мест готовых для всех не хватало, то стоявшие в середине послушники присаживались прямо на пол, кто по-татарски, кто на одну ногу Как будто поняв мою мысль, один из иноков во время одного сиденья заметил мне:
– Иные мирские-то соблазняются этим.
А собственно, это замечательно мудро сделано: служба долгая, внутреннее напряжение у молящихся иноков сильное, – а тут вдруг, как раз почти в средине всенощной можно отдохнуть; и это не только терпится, как будто что-то дурное, хотя и неизбежное, но законно разрешается, благословляется, чтобы не смущать совесть немощных братьев. Дальше о субботнем богослужении я не буду писать, так как большую часть второй половины поддался сонной немощи. Окончилось богослужение около двенадцати часов ночи. Мы с товарищами пришли в гостиницу, спросили себе номер и моментально заснули, утомленные путешествием и массой впечатлений.
Не успели мы, казалось мне, как следует отдаться в объятия Морфея, как вдруг раздался трескучий звонок, приглашавший вставать желающих идти к ранней обедне. Было половина пятого утра. Со страшной неохотой мы поднялись; а идти нужно было, так как владыка последний раз присутствовал у богослужения, после которого должен был ехать в Сердоболь… Пока мы собирались, ударил колокол, будя спящие воды, леса, людей и птиц…
За обедней пели иноки-«любители», так как постоянный хор поет лишь позднюю службу. Человек пять – без всяких гармонизаций и «пре-сладкого трегласия» или четырегласия хвалили Бога в один тон, в октаву. Цель была не услаждать себя музыкой, а молить; для этого же совершенным или простым христианам не требуется «пар-тесов», нужно лишь горячее, молящее Бога сердце. Конечно, хор для владыки мог бы раз-то и спеть, по благословению отца наместника; но Преосвященному хотелось не сверхпрограммного, а обычного строя их жизни. Простояв обедню, владыка приложился к мощам святых Сергия и Германа, чудотворцев Валаамских, иноки отслужили молебен со словами «отцы наши». Епископ попросил у них молитв о себе и вышел из храма. Скоро мы направились к знакомому пароходику – «Сергию». Проводить архипастыря собралось множество иноков, кои могуче запели Валаамское веселое «Светися». Нас владыка благословил провожать его на пароходе до Сердоболя, чему мы были весьма рады.
На монастырской колокольне затрезвонили, и пароход двинулся от пристани, сопровождаемый пением и напутствиями.
А затем и мы запели величание Валаамским чудотворцам и святителю Николаю.
Святой Николай Чудотворец.Икона из монастыря Святой Екатерины, XIII в.
Озеро было почти совсем гладкое.
…За беседой и под шумок винтов мы и не заметили, как впереди показались гранитные, почти голые берега Финляндии, изрезанные множеством заливов и бухт… А вскоре выплыл из-за гор и Сердоболь – уездный город Выборгской губернии. Финское название его собственно Sartavalan. Но русский человек, желая перевести это непонятное ему «сартавалан», переделал на Сардабалан, а потом – по сходству звуков – на Сердоболь, то есть самое русское слово… Вспоминается мне одна такая же метаморфоза: «нейтралитет» наши мужчины выговаривают как «нетроньитет»…
С парохода мы отправились на Валаамское подворье (между прочим, через это подворье можно пробраться на Валаам зимой, когда станет лед), а оттуда – на вокзал. Там причт и прихожане встретили своего епископа пением каких-то финских кантат… Поезд двинулся… Мы отплыли обратно на Валаам…
Гпава 2
Больше стихир! – Гипнотизация вечерних молитв. – На «самый постный» остров. – Монах-воин. – Земной ангел. – «Не в седине лишь мудрость». – «Домой». - « Рухольная ». – Будущий валаамлянин и черниговец. – Монах-прапорщик. -Жизнерадостный подвижник. – Валаамское пение.
Прибыв на остров, мы, прежде всего, решили поближе познакомиться с ним и отправились на прогулку. Погода была чудная… Мы набрались стольких впечатлений, что не хотелось возвращаться в монастырь, но время близилось к вечерне. Мы вернулись в свой номерок. Чистенький, высокий, он производил веселое впечатление. По стенам стояло три койки с чистейшим бельем, мягким тюфяком, хорошим одеялом и подушкой. Скоро нам подали самовар и молоко, и мы с аппетитом съели все, благодаря Бога и братию, бесплатно ссужавшую нас и квартирой, и пищей, и кипятком, и молоком! И мне тотчас же приходит на мысль сравнение с другим монастырем, где за все нужно платить и платить. Имя его пусть не произносится! Да и мало ли таких? Ведь бесплатных-то, как Валаам, один-два и обчелся! И как это стало не похоже на древнюю гостеприимность и благотворительность святых обителей!
Скоро заблаговестили к вечерне, и мы отправились в храм. Он уже был полон иноков и богомольцев. Девятый час уже начался. Чтец произносил слова раздельно, проникновенно. Потом последовала вечерня. Запели стихиры… В этот раз я почувствовал какое-то приятное движение в сердце. Напевы валаамские звучали уже знакомо. Но особенную благодарность я принес в этот раз канонарху. Произнесет он строфу-то тако истово и отчетливо, – прямо вложит в сердце; слушатель только что воспримет мысль, как хор подхватит слова песни и положит их на своеобразную музыку. Богомольцу остается только умиляться. Как сейчас, вижу одного высокого старика – паломника из Черниговской губернии. Когда запели стихиры с канонархом (регентом), он подался всем корпусом вперед, склонил правое ухо к пикам, соединившимся в середине храма, раскрыл несколько рот, напряженно остановил глаза! Так и чувствовалось, что он всем нутром своим, как жаждущая сама-рянка, ловил слова и пение и складывал их в своем сердце. И горько, вероятно, встали в его памяти родные картины халатности русской, когда какой-нибудь псаломщик гудит себе что-то под нос, спеша скорее отделаться от неприятной обязанности. И стоит наш «богоносец»-крестьянин, словно чужой в своем-то родном приходском храме. Да еще вопрос: поют ли у него на родине стихиры? Правда, есть еще истинные христиане, не преклонявшие колен перед тем, «что скажет княгиня Марья Алексеевна?» – поют еще, хоть как-нибудь, в сельских убогих церквах. Но вы уже почти никогда не услышите стихир ни «на Господи воззвах», ни «на стиховнех», ни «хвалитных» в городе. Все это слишком просто и неинтересно для избалованного уха горожанина. Им нужны «Ныне отпущаеши», громогласные с бесчисленными «славит, славит».
Спасо-Преображенский собор Валаамского мужского монастыря
Поистине «не ведают, что творят!» Я уверен, что против стихир может вооружаться лишь тот, кому нет дела до молитвы, какой-нибудь полуверующий регент и псаломщик, – или же не ведающий всей их глубины и содержательности благочестивый служитель Церкви. А сколько от этого теряется!.. Церковь наша круглый год питает молящихся не однообразным духовным «меню», а богатейшим столом! Ведь что ни неделя, то новая идея, новое воспоминание, новые мысли и чувства: то являются перед нашими взорами, ударяющий себя в грудь мытарь, наряду с высоко закинутой головой фарисея, то мудрые пять дев, заготовившие духовное масло для Небесного Жениха, то расслабленный, тридцать восемь лет лежавший в ожидании исцеления, то самарянка, беседовавшая с «пророком», большем Иакова. И сколько психологии в этих стихирах, сколько содержания, религиозных восторгов! Слышали ли вы, православный читатель, пришедшую сейчас мне на память стихиру о расслабленном: «При овчей купели человек», – просто какой-то человек может быть, и мы с вами – духовные расслабленные, лежащие в немощи и, «увидев Спаса, мимо идущего, возопили». Вообразите, как жалобно и мучительно вопил тридцать восемь лет страдавший больной: «человека не имам, да егда возмутится вода, ввержет мя в ню: егда же прихожду, ин предваряет мя» – по-прежнему – «немощствуяй лежу»… Больной с робкой надеждой смотрит в лицо Целителя… «И абие», – тотчас же! – «умилосердився Спас и глаголаше: тебе ради», – не вообще ради человечества, а ради каждого из нас в отдельности, «человек быв, – тебе ради в плоть облекохся», и ты еще «глаголеши: человека не имам!.. – дело очень просто: возьми с верой одр твой и ходи!» Ну как же не воскликнуть после этого, поднимающего наш дух, стиха: «вся Тебе, Господи, возможна, вся послушествуют ти, вся повинуются Тебе!» – Ты уж и нас спаси, яко Благ и Человеколюбец!
Петер фон Корнелиус. «Притча о десяти девах». 1813
– Когда я услышал впервые эту стихиру, случайно из любопытства зайдя в храм единоверцев, – рассказывает мне один студент университета, князь У., – то прямо был поражен содержанием ее. Какую-то веру в себя, во всемогущество Милосердого Спаса, вдохнула она в меня, точно электричеством зарядила мою душу! С тех пор во мне точно все перевернулось. Так и хотелось сказать какой-нибудь горе: воздвигнись и верзися низу!
И действительно, сколько надежды, веры вливают слова Христа в расслабленную страстями и сомнениями нашу душу! Каких еще нужно христианину опор, когда ради него Сам Господь в плоть облекся! Бери каждый из нас одр и с несомненной верой иди вперед!
Опять же вспомните стихиры Кресту Христову… Право, ведь в них самая-то соль каждого богослужения и заключается. Ектении, «Свете Тихий» и прочие постоянные части – это как бы рамки, которые еженедельно наполняются новым и новым содержанием. А мы и знать его не хотим.
Пусть желающие проверить сходят хоть в единоверческие храмы, что ли, а еще лучше, если съездят на Валаам. И поймут они тогда, почему наголодавшийся духовно старик-черниговец жадно впитывал содержание стихир. А пели в то время о самарянке, у которой просил «воды пити» Тот, Кто «одевает небо облаки», с которой беседовала Сама Нескверная Чистота, хотя иудеи старались даже обходить страну Самаринскую, боясь оскверниться. Не так же ли бывает и с нашей грязной душой? Проходят мимо нее священники и левиты, а Господь очищает ее от страстей и вселяется в ней.
На меня пение стихир произвело такое же почти впечатление, как и на старика: я ведь тоже собственно в первый раз слушал их со вниманием. И с тех пор ничего я так не любил слушать, а потом и сам петь на клиросе, как стихиры, подобны, самогласны. Никакие Бортнянские, Архангельские, Панченки – со своими «сочинениями», «концертами» не могли идти даже в сравнение.
Своеобразные валаамские напевы тоже заслуживают всяческого внимания. Но о них я скажу после, потому что в этот раз я не мог еще освоиться с ними достаточно.
После вечерни началось повечерие и «вечерние правила»; и непосредственно затем – ужин. Было уже часов восемь с половиной. Подкрепленные трапезой иноки и богомольцы были приглашены немногими ударами колокола снова в церковь для молитв перед отходом ко сну.
Дж. Тиссо. «Молитва Господня». 1886–1896
Внимание нового человека обращают на себя два обстоятельства этих молитв. Во-первых, в середине их творится двести поклонов. Очередной чтец произносит известную молитву Иисусову, после которой кладется всеми поклон, от Пасхи до Пятидесятницы поясной, а постом, кажется, – земной. Так двадцать раз… А затем наступает полнейшая тишина. В это время молящиеся творят ту же молитву молча, с одними лишь крестами. И так торжественна и глубоко таинственна бывает эта тишина, что невольно сосредоточиваешься умом в сердце своем.
Один из товарищей даже смутился.
– Это – возмутительно! Это какая-то гипнотизация! – раздраженно говорил он.
В. Васнецов. «Единородный сын». 1885–1896
Но гипнотизацией молчание казалось лишь для него, а иноки в это время ближе соединялись духом с Тем, Который обещал прийти в чистые сердца и обитель сотворить в них. И каждому настоящему молитвеннику вполне понятно, что истинная беседа с Богом не в словах и крестах, а «в духе и истине» (Ин. 4, 24). Поклоны же и сочиненные молитвословия нужны лишь на первых порах для духовных младенцев.
Другой особенностью было прощание иноков. Очередной иеромонах после всего сходит с амвона вниз и пониженно глухим голосом испрашивает у всех предстоящих молитв и прощения за вольные и невольные грехи. А затем к нему подходят сначала иеромонахи, целуясь в руку, а за ними остальные иноки и, наконец, миряне, получая благословение. Такова христианская истинно братская, смиренно-любовная жизнь.
Между прочими выделяется среди молящихся очередной схимник, стоящий возле чтеца и своим присутствием напоминающий иночествующим о конечной ступени их жизни.
Приложившись, опять же по чину, к раке святых мощей, все расходятся спать. Уже десять часов…
Так кончился второй день нашего богомолья.
16 мая, понедельник. В этот раз мы уж выспались как следует, – часов с девять. И, напившись чаю, отправились к обедне. Привыкнув с детства петь на клиросе, я и здесь пошел на левый лик, где меня очень радушно приняли. Во время пения «Тебе поем» оба лика сходятся вместе на середине храма. Я тоже не отстал от них; и странно было видеть среди черных мантий, ряс и подрясников студенческую тужурку со светлыми пуговицами. Поэтому я решил попросить у отца наместника послушническую одежду, чтобы не смущаться самому и не смущать молящихся своим видом.
После обедни направились вместе с иноками в трапезную. Вопреки ожиданиям, мы увидели за столом постную пищу, так как монастырь добровольно соблюдал пост и в понедельник.
За обедом один из наших товарищей решил уехать на пароходе обратно в Санкт-Петербург, так как, по его словам, дома беспокоились и ждали, – тем более, что он написал письмо о времени своего приезда. Как мы его ни отговаривали, чем уж ни соблазняли, – все было напрасно. Ждать же нового рейса «Валаама» нужно было ровно неделю. Мы видели, что наш товарищ насилует себя, оставляет остров с надломом, хотя и с напускной хладнокровностью. Когда после мы рассказали ему о многом таком, чего он не мог увидеть в два-три дня, то он сильно жалел, что переломил себя против желания. Но уже было поздно… В час он сел на пароход, предварительно простившись с отцом наместником, – и грустный-грустный тронулся в путь. Пароход скрылся из виду за лесистым углом острова…
Мы же пошли к лодке, ожидавшей нас около пристани. С благословения отца наместника нам разрешено было посетить остров святого Иоанна Предтечи, побеседовать там со старцем-схимни-ком отцом Никитой. Я говорю «с благословения», потому что туда женщин не пускают никогда, а мужчин лишь с разрешения, да и то немногих, дабы не нарушать молитвенного покоя старцев-подвижников. В проводники и руководители отец наместник дал нам иеродиакона отца 3. Спокойный, основательный, с большим уже запасом святоотеческих знаний и вообще с крепким здравым умом, с настойчивой и сильной, даже властной, волей, – он неуклонно работает над собой, подвигаясь по лестнице духовных добродетелей. Правда, путь его еще далек, но дорогу он нашел верную. Спаси его, Господи! Его-то и благословили нам в проводники.
В качестве гребцов даны были отец А. и брат М.
Когда мы взошли в лодку, то я обратился к отцу А. с просьбой дать мне весло.
Глядя на его широкую русскую бороду, простое открытое лицо и большие кисти рук, я был уверен, что это инок из крестьян какой-нибудь Тверской губернии. Но скоро выяснилось, что он не простой смертный. Отец А. прежде был, оказывается, офицером. И не раз приезжал гостить на Валаам, пока, наконец, с благословения родителей не остался здесь совсем. Коротко и просто. И теперь он чувствует себя так, как чувствуют почти все иноки: доволен всем и благодарит Бога.
А. Бида. И сказал Иисус: «Это ныне пришло спасение дому сему». 1858–1883
Брат М., как послушник, старался вести себя незаметно: усердно работал веслами и скромно молчал при старших иноках.
И вот впятером в две пары весел мы отправились к «Иоанну Предтече» – верст за пять, вероятно, если не больше. Но этих верст мы совсем не видели. Прогулка на лодке по заливам, причудливо извивающимся, зеленые леса вокруг, теплое солнышко, почти полная тишина за лесом, – все это было так приятно! При этом нас почти всю дорогу развлекали «дикие» птицы, разнообразных пород утки. Собственно, они здесь такие же «дикие», как, например, голуби в селе: подъедешь к какому-нибудь чернышу или водяной курице, они перелетят на другое место или вынырнут саженях в двадцати от прежнего. Это объясняется тем, что здесь мяса, конечно, не употребляют, стрелять не стреляют, – и птицы благоденствуют себе, не боясь этих черных людей. Только иногда какой-нибудь финн воровски охотится за дичью, но за этим на Валааме следят.
А. Гине. «Остров Валаам»
В такой прекрасной обстановке и двадцать верст проедешь незаметно. Гребли попеременно. Пришлось как-то проезжать под низким узким мостиком.
– Кабы не зацепить? – говорит один из нас.
– Ничего, с Богом!
– Ну-ка, брат М., понатужься посильней раз, другой, да и пускайте весла, – наставляет отец 3., сидя за рулем.
Мы взмахнули веслами.
Еще – раз!.. Еще – раз! Ну, будет! – Мы выпустили весла из рук. Лодка подходила к мостику.
– Во имя Святой Троицы, – закончил отец 3., твердо и верно держа руль. Лодка выскочила из-под моста. Мы снова взялись за весла.
– А вот здесь Никонова пустынь, – сказал кто-то из иноков, – разве заехать?
Мы, конечно, согласились. У лодки остался брат М., все остальные стали подниматься на верх острова по очень крутой горе. На самом верху был построен храмик очень красивой архитектуры, к сожалению, еще незаконченный. В притворе стояло несколько икон. Под одной из них была подпись такого содержания: «Святой Андрей Первозванный в бытность свою на сем острове молился Богу и водрузил каменный крест со своими учениками». Насколько справедливо это предание, судить не берусь. Профессор Голу-бинский отрицает даже факт посещения апостолом Андреем Киева, а тем более уж Валаама, ссылаясь на то, что Киев лежал не на пути апостола. Но не менее авторитетные люди говорят, что апостолы при проповеди руководствовались не только прямотой и краткостью пути, но и Духом Святым, и желанием распространить христианство как можно больше и дальше, хотя бы для этого нужно было делать сто крюков по пути. И кто знает, о чем говорит и эта надпись: благочестивом ли желании Валаама связать себя непосредственно с Христовыми учениками, или же о действительно бывшем факте?
Наскоро осмотрев пустынь, мы поплыли к «Иоанну Предтече», который скоро и показался перед нашими взорами. Привязав лодку к при-станьке, мы сначала пошли осматривать островок. Затем направились к кельям. На дороге перед нами среди леса вдруг выросла черная избушка. Стены ее были оклеены какой-то черной, вроде вара или асфальта, массой. Около нее встретил нас какой-то человек в пиджаке и картузе. Но это был не хозяин кельи, а временно проживавший в ней, спасавший душу какой-то купец. Владелец же кельи, как тотчас же мы узнали, был офицером, а потом пошел в послушники на Валаам, отдав ему, кажется, около 10 ООО руб. Сам же построил себе эту черную келью и проводил здесь время в богослужении, подвигах и молитве.
– Может быть, внутрь войдем? – предложил отец 3.
Мы вошли. И, о удивление! Келья и внутри была также совершенно черной. Свет, падавший из небольших окошек, да к тому же еще закрытых от солнца лесом, – совсем уж почти уничтожался в черных стенах, так что едва можно было разобрать что-нибудь.
Жутко стало на душе от такого мрака, и сердце больно сжалось от сострадания к подвизавшемуся здесь, – сострадания, ему, конечно, не нужного.
Жалко-то собственно было себя, а по себе судим обычно и о других: от сердца исходят помышления всякие… В то время, то есть 16 мая, брат К., хозяин кельи, был на Дальнем Востоке, в действующей армии, откуда писал письма на родной ему Валаам, старцу Никите. Вот они – подвижники и воины: святой Феодор Страти-лат, Иоанн Воин, Александр Невский, брат К. и другие. Видно, война мирится с христианством, со святостью!
С тяжелым чувством мы поспешили расстаться с кельей и ее сторожем купцом-послушником, попросившем нас «простить» его «грешного, окаянного». Видно было, что какая-то тяжелая ноша висит у него над сердцем!
– Вот как спасаются: по влечению созидают свою духовную храмину, – сказал дорогой отец 3. И говорят, брат К. удостаивается великих озарений, несмотря на молодость.
Вдали показались другие кельи, расположенные друг от друга «на вержение камня, по древнему уставу», как объяснил нам отец 3.
Андрей Рублев. «Андрей Первозванный». 1408
Мы втроем: я, товарищ и отец иеродиакон, направились к келье отца Никиты, а остальные, кажется, пошли в другие кельи – к знакомым. На стук и зов отца 3. никто не отвечал нам. Мы, опечаленные, хотели было уж возвратиться к лодке, думая, что старцу не угодно принять нас, но отцу 3. пришла мысль поглядеть отца Никиту у озера, раскинувшегося у нас внизу под самыми ногами… Действительно, старец оказался там: он мыл там что-то.
В. Васнецов. «Князь Александр Невский». 1885–1896
– Отец Никита! – воскликнул наш провожатый. – Иди, принимай гостей!
Признаться, я как-то боялся различных схимников, прозорливцев, подвижников. С одной стороны, хотелось посмотреть и поговорить с ними, а с другой – совесть-то, загрязненная, храбрая при падениях и трусливая при расплате, дрожала, как осенний лист перед грозой. А ну как станет обличать вслух?! Ну что же? – говорил другой голос. – Умел кататься, умей и саночки возить!.. – Но это было плохое утешение. И воображение рисовало мне строжайшее аскетическое лицо со сжатыми губами, сердитые пронзительные глаза, блестевшие из-под густых насупившихся бровей, глубокие складки у носа, глухой правосудный голос…
Каково же было мое приятнейшее разочарование, когда снизу послышался такой добродушный, смиренный голос, что воображаемая картина почти тотчас же стушевалась.
– Сейчас, сейчас, – долетели до нас тихие ласковые слова, – вот поднимусь по лесенке.
– Может быть, мы лучше сойдем туда к вам? – предложил я.
– Нет, я сейчас выйду, – отвечал отец Никита, шагая медленными старческими ногами по крутой и длинной лестнице.
И вот он около нас… Только один взгляд его, и последние остатки трусости растаяли, как утренний иней под теплым солнышком. Такая ласковость, теплота и добродушие, короче – христианская любовь светилась в каждой морщинке лица отца Никиты и лучистых невинных голубых глазах, что я сразу был без оружия побежден.
– Вот вымыл себе халат, высушил его и опять надел, – сказал он, указывая на свою белую верхнюю одежду. Присаживайтесь-ка! – все так же тихо, ласково, старчески добродушно пригласил нас отец Никита, оглядываясь на скамейку.
Мы сели, познакомились, объяснили, где мы учимся, как попали на Валаам и к нему в гости.
– Ты бы, отец Никита, сказал чего-нибудь нам в назидание, – попросил отец 3.
– Да что же я вам скажу? Вы и без меня все знаете, что и я – да еще и больше.
– Ну-у! – протянули мы в один голос, возражая на это. – Мы что? Если и знаем малость, то только умом; а вы опытно переживаете здесь все. Это совсем иное дело.
– Кто его знает? Трудишься вот трудишься помаленьку, а угодны ли Богу-то твои труды? Ну, а все же благодарение Ему, Создателю, и за это.
– Да как же так? Ведь вы подвизаетесь же? Значит, должны надеяться на милость Божью, на угодность перед Ним.
– То правда! Все-таки нужно надеяться на Его милосердие; ну а ручаться вот и не можешь: угоден ты Богу или нет? Ну а все равно благодари, знай, Господа. Сделал – благодари! Получил милость от Бога – опять благодари. Скорбь ли нашла, не выходит твое дело – не падай духом, опять благодари. Видно, уж это для нас же лучше: Господь-то Промыслитель знает, что творит. Он и скорби посылает, для нас же лучше. Ну, благодари и радуйся!
И все лицо его радостное, кроткое, благодатное, светилось тихим умилением. Явно было, что духовная радость и благодарение Бога за все, – как пишет и апостол Павел (1 Сол. 5, 16, 18), —основное настроение у отца Никиты. А такое состояние показывает высокую степень духовного роста, это говорит уже о муже, достигшем меры возраста исполнения Христова, – насколько это возможно на Земле.
И сколько раз после отец Никита говорил мне с товарищем о терпении скорбей и о благодарении Бога. Тогда мне казалось это простым общим местом. Но потом я понял, что недаром предупреждал меня старец о скорбях! Да и мало ли еще впереди-то?!
Время было «чайное». Отец Никита пригласил нас в трапезную отпить чайку. По дороге товарищ сказал ему:
– Вот как-то нервничаешь, раздражаешься на людей и сердишься на них!
– А ты старайся не гневаться… Смиряй себя, а главное – молись за обижающего, и сам будешь любить его, и он тебя будет любить. Вот и все тут.
Святой Иоанн Воин. Оружейная палата Московского Кремля. 1710-е годы
Мы подошли к трапезной. Там уже, оказывается, приготовлен был чай и прибавление к нему. Но пусть не думает читатель, что это было печенье или сласти, – поданы были соленые огурцы и черный хлеб, и предложены были нашему вниманию перед чаем. После мы все шутили, что пили чай с солеными огурцами.
Этот скит считается на Валааме «самым постным». Действительно, здесь скоромного ничего не видят в течение всего года, А собственно «постные» дни отличаются от «скоромных» лишь сравнительно большим воздержанием: в них вся пища готовится даже без постного масла, которое бывает в остальные дни. А однако, ни отец Никита, ни брат В., о котором будет речь ниже, ни другие живущие здесь иноки не худее остальной Валаамской братии, и не худее нас. Скажу больше – некоторые из них отличаются свежим и розовым цветом лица. И припомнишь невольно пример Даниила и трех отроков, питавшихся лишь овощами, а сделавшихся здоровее и красивее всех. Отец Никита по-прежнему просто и ласково, как добрая старая нянюшка, угощал нас, чем был богат. Добыли даже откуда-то крендельков местного вкусного изделия.
Церковь в Гефсиманском скиту. Валаам
После чая, около пяти часов вечера, мы отправились ко всенощной. Только провожавшие нас иноки возвратились домой, а мы, по любезному приглашению «хозяина» скита и отца Никиты, остались ночевать здесь. У всенощной мы стали помогать в чтении и пении канонарху, псаломщику и певчему, все в одном лице, – брату В. Во время чтения, кажется, акафиста или еще чего-то, я не мог разыскать требуемой мне вещи и довольно шумно стал перелистывать книгу, читая в то же время положенное наизусть. За такое небрежение один из схимников, отец А., подошел ко мне и круто оговорил:
– Чего ты роешься?
А когда мы вышли из церкви после всенощной, то он же, улыбаясь, сказал:
– Ишь! Не монахи, а читаете и поете здорово-то! – И простодушный схимник с довольной улыбкой посмотрел на наши лица.
Времени было около семи часов. Спать было еще рано. Кто-то из нас предложил покататься на лодке. Спросили благословения у «хозяина», отца И. и отца Никиты, – те согласились, хозяин снабдил нас даже биноклем. И мы вчетвером, два студента и два послушника, побежали по горе к лодке.
Еще во время всенощной мое внимание привлек брат В., поэтому теперь я старался сблизиться с ним. И еще раз убедился, что есть праведники на Земле, что из-за них Господь не карает грешный и развратный Содом.
Сын портного из Вятской губернии, он после смерти своего отца направил свой путь, куда влекло его чистое, еще отроческое сердце: пришел на Валаам, а его сестра поселилась где-то в другом монастыре.
И вот уже несколько лет он подвизается здесь в послушниках. Последнее время он живет под руководством отца Никиты; и как же он ценит его! как любит своего «старца» – авву! Строгость в пище, одиночество, – все это ничто перед духовным водительством аввы.
– Боюсь только, – говорит брат В., – ну-ка он скоро помрет?! Что тогда буду делать?
– Воля Господня, – говорю я.
– Так, конечно. Но только уж старцев-то хороших ныне мало, – с грустью продолжает брат В., – светильников духовных трудно отыскать!
– Еще поживет отец Никита-то, Бог даст, – успокаиваю я его. – Он еще ничего, крепок на вид-то.
И столько было любви в речах брата В., столько было в нем кротости и смирения, готовности служить всем и каждому. Всем он старался уступить, если только это было нужно и можно.
Но когда дело касалось чего-то важного, то он скромно и в то же время решительно заявлял о своем мнении.
Особенно ярко отражалось все это на его ясном лице и глазах. Каждая черточка в нем говорила вам, что он весь – услуга, весь – внимание, весь – желание уступить. И вспоминаешь слова Премудрого: не в седине лишь мудрость и не числом лет она исчисляется.
Мне и на другой день и потом еще раза два приходилось с ним беседовать, – и это чудное впечатление лишь более укреплялось. После я заметил, что у него есть ахиллесова пята, это – способность раздражаться; но он против нее-то и борется, напрягая свои силы, налагая печать молчания на уста, когда это нужно, и верно, думаю я, молясь в это время.
Часовня Валаамского монастыря. Фото И. Борсученко
За три встречи с ним мы о многом переговорили. Между прочим, я как-то спрашиваю его:
– У Немировича-Данченко в его «Крестьянском царстве» я прочитал, что будто на Валааме – два течения, борющихся между собой: одно созерцательное, другое – практическое; и будто последнее начинает брать верх; схимничество будто не в моде уж?
Он немного подумал и сказал:
– Конечно, есть и такие, то есть практические, как вы сказали. Но только они не имеют собственно силы-то, – это все больше среди молодых монахов, которые не совсем отвыкли от мира. А «старцы» все, конечно, правильного образа мыслей. И схимничество у нас в почете, это считается идеалом для всякого. Но, конечно, ведь нельзя же, вы сами понимаете, чтобы все сразу сделались аскетами, созерцателями; эта пища не всем по зубам, тверда еще для нас, моло-дых-то. Поэтому большинство иноков благословлены заниматься работой; а потом постепенно их освобождают от трудов для молитвы; наконец, некоторые надевают и схиму. Я не замечаю, чтобы была борьба двух течений. Бывают, правда, случаи, но это уж отступление.
Впоследствии я и сам убедился в правоте его взгляда, в ясности светлого и здравого ума.
Такое внутреннее богатство это плод долгого подвига и чистого сердца, а также и святоотеческих знаний, которых у брата В. уже много. На полке я видел у него, между прочим, такого глубочайшего православного мистика, как святой Симеон Новый Богослов, и других.
Итак, мы у лодки. Наступил уж вечер, но северные зори – светлые. Мы отправились вокруг острова Иоанна Предтечи. На воде было тихо, но гладкие «волнышки», по выражению одного из нас, как в люльке качали лодку. Где-то послышалось частое пыхтение парохода; мы стали смотреть в бинокль и, наконец, едва разглядели его, к удивлению нашему верстах в десяти-двенадцати от нас: было очень тихо, звуки далеко неслись по гладкой поверхности.
Обогнув свой остров, мы пристали к другому – Порфирьевскому. Так называется он потому, что здесь некогда жил инок Порфирий. Как-то ему захотелось идти в монастырь, а отец игумен раньше еще не благословил его на это, потому что вода покрылась тонким льдом.
Инок не послушался и скрылся в водной гробнице. Поучительная история иноческого непослушания.
Симеон Новый Богослов
Вытащив лодку на берег, мы побежали вверх.
Гора была очень крута; мы запыхались страшно.
На самом верху остановились. Весь остров был покрыт девственным лесом. Внизу под деревьями было уже темно, но бояться было некого.
Мы стали шаловливо бегать. Под ногами все было покрыто мхом, лежавшим здесь, может быть, уже целые столетия. Иногда наступаешь на какую-то подушку, а под ней оказывается камень. Или вдруг проваливается нога, и вас обдает облаком гнилой древесной пыли. Набегавшись, мы сошли к берегу и сели здесь над небольшим обрывом. Кто-то из нас предложил попеть, – и вот окрестность острова, на который давно уже не ступала нога человеческая, огласился звуками: «Кто тебе-не-э-у-у-бла-жит, Пре-э-свя-я та-а-а-я Де-э-э-э-э-э э-во?» обиходного распева, – пением ирмосов «о воде» и тому подобного… Кругом становились все темней и темней… Небо заволоклось тучами, хотя в воздухе было еще сухо, тепло и тихо… Часы показывали около одиннадцати ночи. Мы сели в лодку и сокращенным путем вернулись в свой скит. Нам указали флигель для сна, и мы, утомленные, скоро заснули. Было половина двенадцатого. Расставаясь с послушниками, мы попросили разбудить нас завтра за несколько минут до обедни.
Б. Кустодиев. «На приеме»
17 мая, вторник. В половине пятого часа к нам стал стучаться в двери один инок: «Христос воскресе!» – тук, тук, тук! Молчание… «Христос воскресе!»… и опять – то же. И много раз пришлось ему повторять слова и стук, пока, наконец, я вскочил и ответил: «Воистину воскресе!» Кое-как умывшись, мы пошли в храм; там уже были все иночествующие. Началось «ликование» «по чину». А затем зачитали часы. Отец Никита стоял за клиросом. И не раз, смотря на него, я видел, как он стоял с опущенной головой и с закрытыми глазами, внимая совершавшемуся, «молясь Богу духом», без крестов.
Кончилась литургия. Мы вышли наружу. Шел мелкий «осенний» дождь.
– Ах! жалко, погода-то скверная! – сказал один из иноков. – Работать на огороде нельзя будет.
Но в это время выходил из церкви отец Никита; кажется, он и не слышал этих слов брата.
– Слава Тебе, Господи! – тихо произнес старец, смотря на небо и осеняя себя крестом. – Ишь, вот Господь благодати послал: теперь ведь мужичкам-то дождь вот как нужен!
И как это было непохоже на предыдущую мысль: там – о себе, и здесь – о других, там – недовольство, здесь – благодарение. И опять вспомнил я слова отца Никиты: и в скорбях благодарите Господа. Напились чаю, кажется, опять с огурцами, и решили возвратиться на Валаам. Но шел порядочный дождь, а на нас была легкая обувь и летние тужурки. Братия наделила нас сапогами – «бахилами» и грубыми армяками, не боящимися дождя. Мы стали прощаться со скитниками. Отец Никита в заключение еще сказал нам, чтобы мы прощали друг другу обиды. Когда я указал на пример Христа, изгонявшего торговцев из храма, то он ответил:
– Тут тайна Божественная! Объяснить вам я не умею, но только Господь ясно ведь учит в других местах о ланитах, об одежде.
Несомненно, чтобы понять все дела и поступки Христа, мало одного человеческого рассудка, – нужно, по Апостолу, иметь «ум Христов» (1 Кор. 2, 16). А его мы не имели, следовательно, и разъяснять нашему плотскому уму было трудно и даже невозможно.
Поблагодарив всех за гостеприимство и любовь, мы в сопровождении брата В. отправились к пристаньке, откуда брат П. перевез нас на берег острова Валаам, а идти нам до монастыря нужно было верст пять.
По пути мы проходили мимо Большого скита. Здесь живет, между прочим, отец А., старец схимник, пользующийся известностью среди братии за свои подвиги и духовную жизнь. Нас, конечно, влекло к нему любопытство, а товарищ приходился ему земляком по губернии. Входим в его келью. Нас встречает «сурьезный» старец… Мы получили благословение и не знали, что говорить. Я отрекомендовал товарища как земляка старца. Отец А. сухо спросил его о чем-то; затем наступило опять неловкое молчание… Мы поспешили проститься…
Отец А. пригласил приходить еще. Такой сухостью мы были наказаны за свое пустое любопытство, за праздное желание искушать старцев. После товарищ ходил к отцу А. еще раз и вернулся от него удовлетворенный.
А. Бида. «Изгнание торговцев из храма». 1885
Наконец показался и монастырь. Мы стащили с себя одежду и обувь и передали ее брату В. Не хотелось расставаться с ним; но иначе было нельзя. На прощанье он предложил в знак памяти и любви связать мне четки. Я поблагодарил, обещая в свою очередь сделать что-нибудь подобное. При этом мы договорились с ним обмениваться хоть изредка письмами, что и делаем теперь.
Иноки шли уже в трапезную к обеду. Мы последовали их благому примеру.
За обедом решили обратиться к отцу наместнику за благословением получить монашеские подрясники и колпачки; тот благословил, и вот мы в сопровождении того же отца 3. направились в «рухольную». Так называлось помещение, где хранилась одежда, обувь и прочая «рухлядь». Здесь нас вырядили в «бахилы», приноровили подрясники и дали на голову куколь, или просто колпачок, формой – как скуфейка… И мы увидели себя в странном образе… Придя в номер, не раз осматривались в зеркале… Ничего, оказалось недурно. В такой уже одежде мы пошли с отцом 3. в монастырскую библиотеку. Много там интересного, но описывать не стану; всякий может посмотреть и сам. Здесь мы получили несколько книг для чтения. Из библиотеки отец 3. повел нас в ризницу, которой он заведовал в качестве помощника. Ризница оказалась не очень богата – не то, что, например, в Сергиево-Троиц-кой лавре или в Саровской обители, – где, по словам одного инока, находится до пятисот перемен. Может быть, и неправда?..
…Затем мы вернулись в свой номер.
С этого дня – то есть 17 мая, у нас начинается уже регулярная, сравнительно спокойная жизнь до самого отъезда, то есть до 28 числа. Постоянное присутствие на службах, прогулки, знакомство с жизнью монастыря, дорога в трапезную из гостиницы и обратно, – вот в сущности рамки нашего обычного дня. Но новые впечатления все росли и росли.
И. Репин. «Христос с чашей». 1894
Когда я подошел к храму на звон вечернего колокола, то меня встретил какой-то рыжебородый крестьянин, бесхитростный верующий мужичок, с чистой совестью, хотя и с небольшим умом. Мир со страстями и злом не нравился этой простой и чистой душе – и вот она начинает искать себе успокоения за стенами суетной жизни, в монастырях. Но к стыду нашего иночества, на широкой «святой» Руси немало и грешных обителей, которые должны бы разливать свет вокруг. И такого простеца, как мой знакомец, конечно, обижали в таких обителях; он ссориться не желал, а по совету одного старца отправился на Валаам. И вот здесь, встретившись со мной и принимая за монаха, обратился с просьбой вразумить его, как бы попасть ему в число братии… Я обещал узнать. Мне велели направить его к отцу наместнику. После я узнал, что он отправлен на какую-то черную работу, самую подходящую для его мозолистых рук, по его словам. И теперь он работает, конечно, доволен своим положением и благодарит Господа, тихо и незаметно для посторонних совершая свой путь спасения. А как много таких простецов среди Валаамской братии!
М. Клодт. «Вид на острове Валааме»
На ступеньках паперти сидел задумчиво тот самый черниговец-старичок, который жадно ловил пение.
– Как поживаешь? – спросил я у него, присаживаясь рядом, в ожидании начала вечерни.
– Слава Богу, ничего. Только вот скучно. – В его выговоре слышался малоросс.
– Почему же это?
– Да вон другие-то все работают, а мне делать нечего, не дают, говорят, что ты, мол, старичок, тебе отдыхать нужно. А каково без работы-то? Ну и скучно. Завтра буду просить чего-нибудь, хоть дрова, что ли, таскать…
На колокольне затрезвонили, и мы пошли в храм.
Чтобы понять старика, нужно принять во внимание следующий замечательный обычай валаамской жизни.
Все приезжающие на богомолье содержатся за монастырский счет, во всем. В благодарность за это все стараются чем-нибудь отплатить. Конечно, тут дело свободы, а особенно для интеллигентных, не привыкших к черной работе, паломников. Но обычно почти все что-нибудь да делают. Это имеет громадное нравственное значение. Как я уже упоминал, многие едут на Валаам лечиться духом. И это лекарство они находят в богослужении, во всей обстановке монастыря, но остается, конечно, свободное время. И если его не заполнять трудом, то многие начали бы тосковать, подобно черниговцу, и вместо лекарства лишь ослабели бы душой еще больше. Поэтому, как во всем строе Валаама, так, в частности, и у богомольцев, труд имеет громадное значение. Одни, например, носят дрова с баржи на остров, другие отправляются на конюшню, сапожника посылают в сапожную мастерскую, портного в «рухольную». Я, как с детства стоявший на клиросе, отправился петь. При таком времяпрепровождении естественно забываются все пороки и страсти. Известно, что мать всех пороков – лень, вот ее-то прежде всего и гонят на Валааме.
Христос Вседержитель. Мозаика. Собор Чефалу. Италия
Не менее важное значение для иночествующих и особенно для нездоровых паломников имеет преследование валаамским уставом вина и табака. Не говоря уже о братии, посторонние посетители не имеют права курить здесь; разве только украдкой где-нибудь в лесу. Да и то, если узнают, то попросят оставить остров с первым же отходящим пароходом или высадят на какой-нибудь глухой скит для воздержания.
Вот такая строгая дисциплина и служит причиной того, что сюда едут безвольные люди, чтобы «выдержаться». И вся обстановка так приспособлена здесь, как ни в одной душевнолечебной клинике: молитва, труд, воздержание, нравственная атмосфера вокруг и наконец говение, исповедь и причащение – вот те средства, какими лечит приезжающих Валаам. И вылечивает.
…За вечерней трапезой – вернусь опять к повествованию, – я увидел трех «светских» студентов. При сложившемся воззрении на большинство из них, как на неверующих, мне несколько странно было видеть их здесь. Зачем они приезжали, я не узнавал; но товарищ познакомился с одним из них. Оказалось, что он, кажется, сын священника, по своим взглядам «разошелся с отцом», университеты закрыты, ехать домой он не хочет, ну и решил провести на Валааме недельку-другую: благо, что бесплатно. После один из гостинников отзывался о студентах неодобрительно: «Спят много, едят, как и все, а в церковь не ходят; спрашиваю их, зачем же они прибыли на Валаам? Говорят: приехали посмотреть остров».
Понятно, если люди приехали с такими целями, то, что же хорошего они могли вынести? Кроме крестов и поклонов да черных подрясников они едва ли что видели. Действительно, когда мы возвращались обратно с Валаама, тот же студент жаловался товарищу, что ему «Валаам не понравился: одна только внешность!» Право, как-то обидно становится за огульные речи человека, не бывшего даже в церкви, не знакомого почти ни с одним иноком!
18 мая, среда. В половине третьего раздался знакомый уже теперь трескучий звонок: будили желающих идти к утрене. Ох, как же не хотелось вставать после четырехчасового сна. Бывало, проспишь часов семь-восемь, а тут с белой зореньки подымайся. Дай, мол, еще минут пяток полежу. И, уступая своей чувственности, опять закрываешь глаза. Но в душе пробуждается совесть и начинает упрекать за безволие. Тогда крестишься сонной рукой и сдергиваешь одеяло. И почти все дни – до отъезда – не хотелось вставать так рано; но замечалось, что чем дальше, тем вставать становится легче: образовалась, значит, постепенно привычка.
Братия тоже являлась в это время к молитве в храм. Но так как одни из них должны были работать весь день, то им делалось такое послабление: вставать так рано они должны были лишь три раза в неделю, кажется; – причем стояли только до кафизм; а после них – то есть часа в четыре утра уходили соснуть с часик или полтора по кельям. И затем, после чая, часов в шесть, а зимой – в семь принимались каждый за свой труд. В остальные дни они спали до пяти часов, – то есть семь часов в сутки, – вполне достаточно. Ну а старцы – так те присутствовали на всех богослужениях; зато они были свободнее днем и могли по желанию поддержать бренную плоть часом-двумя сна среди дня. Опять сколько мудрости и здесь: ведь молитва, настоящая молитва – самое трудное дело; поэтому устав приучает к ней иноков постепенно, чтобы не убить охоты излишней неразумной и непосильной ревностью. Ну а для старцев молитва делается естественной пищей.
В валаамской церкви
После обедни мы решили соснуть часика два-три, то есть с пяти до восьми, и таким образом дополнить ночной отдых. Так мы поступали все время; прибавляя в крайнем случае иногда еще часик после обеда. После этого отдыха пили чай, отправлялись к поздней обедне, а после – в трапезу. Вечером, часов в шесть с половиной, нас звал колокол к вечерне, и после ужина к «молитвам на сон грядущим». На эти молитвы собиралась почти вся братия, уже ежедневно. Так проходил обычный день. Следовательно, у нас оставалось свободное время лишь после обеда до вечерни, – то есть часов с двенадцати до шести вечера. Им-то мы и пользовались для наблюдений над жизнью иноков и наслаждения чудными видами. В этот раз, то есть во вторник, мы отправились к «новому кладбищу», находящемуся за монастырем, в версте от него. Туда вела прекраснейшая, ровная искусственная аллея из лиственниц. Когда мы отошли с по л версты, то случайно оглянулись назад: аллея упиралась в лесок, а над ним замечательно красиво поднимались главы собора. Если будете, читатель, на Валааме, то непременно полюбуйтесь. На новом кладбище были простые кресты, а под ними круглые, обточенные волнами голыши, на которых написано было имя умершего, год и число, а иногда и стих из Писания, редко – стихотвореньице.
Распятие на кресте. Фреска
Между прочим, там находится избушка одного подвижника, жившего еще в начале девятнадцатого столетия. Как гласит надпись на надгробном памятнике, к нему приезжал император Александр I. Вот уж подлинно избушка на курьих ножках, раньше не было даже дверей, и подвижник общался с «миром», – то есть с остальным Валаамом, через узенькое оконце.
Часа в четыре мы вернулись в монастырь и отправились в гости к отцу А. – бывшему прапорщику, который давно уже звал нас к себе. Обстановка у него была не совсем уж простая: под ногами на всем полу маленькой кельи красивая подстилка, цветы, ковер на стене за койкой, изящный самоварчик. На столе лежали местные крендели, коробка монпансье и блюдечко с халвой, очевидно, приготовленные для нас. Конечно, все это было не строго-монашески; по общежительному уставу иноки не имеют права приобретать никакой собственности. Но на Валааме такой строгости нет. И мне думается, что это разумно делается. Ведь среди тысячи братии различные люди-то: одни совершенно бессребреники и нищелюбцы, другие имеют какие-нибудь мелочи. Всякий предоставлен отчасти своей свободной воле, хотя основной-то закон – это общинная жизнь, заключенная в известных рамках, ниже которой не должны уже спускаться иночествующие.
А в данном случае угощение было поставлено ради мирской слабости и сластолюбия нашего… Да, собственно говоря, по этим мелочам нельзя судить о человеке. Но мысль уж наша как-то невольно привыкает критиковать «всех и вся», указывать брату сучки и не замечать в своих глазах бревен. Так было и здесь. Хотя сласти и были поставлены, но хозяин до них, кажется, совсем не дотронулся, а мы оказали им полную честь с товарищем. Но получили достойную оценку: над столом висела в рамке выписка из святого Ефрема Сирина: «Не осуждай, и ты сделаешь милость себе самому», – приблизительно так гласит она, то есть, не в бровь, а прямо нам в глаз! – как говорит пословица.
Между прочим, в беседе отец А. сказал:
– Нас ведь (то есть образованных, интеллигентных) здесь не особо чествуют. Все равно, что крестьянин, что дворянин.
Поистине несть «варвар и скиф», но все равны во Христе.
– Здесь смотрят не на ум, а на духовную жизнь, – пояснил отец А.
Разумеется, это вполне понятно; так и должно быть. До нас владыкой был посвящен один простой инок в иеродиакона; он едва разбирает ектении, но зато отличается смирением, послушанием, любовью, – как говорили нам.
– А читать-то научится; это всякий ныне может. Нет, ты поди, потрудись «гля Бога» («гля» выговаривается вместо «для»), послушания пройди, как следует. Это – другое дело!
Вполне резонное рассуждение.
Поблагодарив отца А. за угощение и привет, мы по его совету направились в живописную мастерскую. Там работало несколько молодых послушников, неизвестных для будущих потомков, потому что под своими произведениями они вместо своих фамилий смиренно все пишут: «Трудами валаамских иноков», – как это делается и в гранитной, и других мастерских.
Случайно здесь повстречался нам знакомый иеромонах, отец В-й. Небольшого роста, со здоровым розовым лицом, с густой черной бородой и красивыми волосами, с закрученными даже немного усами, юркий, живой, говорливый остряк, – он при первой встрече, как-то раньше еще, произвел на меня совсем неприятное впечатление. Ничего аскетического, казалось мне, нет у этого краснощекого шутника; особенно меня смущали его завинченные усы. Но Промысл Божий устроил так, что я скоро, к счастью своему, разочаровался в своем первом впечатлении. Когда мы были еще в скиту Иоанна Златоуста, то он получил от отца наместника благословение совершить здесь всенощную и обедню. С первых же звуков его возгласов и особенно при чтении акафиста я увидел у него такое неподдельное и горячее чувство искренне молящегося, что был сбит с толку. Затем на улице и за чаем он шутил при отце Никите; но шутки были все такие невинные, чистые. Однако я не был еще вполне разубежден. И вот Господь свел нас в живописной. Получив у него благословение, мы спросили: куда бы еще сходить?
– А вы были в Фотографной?
– Нет.
– А в водопроводном отделении? А в гранильной? А в позолотной?
Оказывается, мы нигде еще не были. Он тотчас же предложил свои услуги проводника, а нам оставалось лишь благодарить. С недоверием относился я к его предложениям, но в них дышала только чистая любовь и обычная для валаамских иноков готовность всячески служить ближним. Я совсем уж был обезоружен.
И вот мы начинаем осматривать валаамские заведения… Много везде интересного, но еще интереснее и важнее сами иноки… Соль-то монастыря «не в бревнах, а в ребрах», как говорит сектантская пословица, то есть во внутренней, а не во внешней жизни.
В заключение путешествия мы приглашены были отцом В. в золотную мастерскую, которой заведует он сам. Отпуская затем нас от себя, он подарил нам на память по иконе.
…Уже заблаговестили к вечерне. Мы вошли в храм: я – на клирос, товарищ – в толпу молящихся.
Пением валаамским я был уже теперь прямо очарован: нет, это «очарован» как-то мало для него – я был от него в каком-то напряженно-благоговейном восторге.
По существу своему валаамские напевы – северно-русская переработка древнего большого знаменного распева. Но так как он поется здесь уже целые столетия, то сделался для иноков родным, и старые монахи любят «свое» пение до ревности. Иногда случится, что на правом или левом клиросе запоют «партесное» по-мирскому, – как выражаются валаамцы про разных Бахметьевых, Львовых, Архангельских и т.д. «Старцы» тотчас поднимают против этого недовольный ропот, и вещь снимается с репертуара. Нынешний игумен, отец П., как я слышал, велел запереть все «партеса» и петь только валаамским распевом. В отце П. сказывается, очевидно, дух знаменитого предшественника – отца Дамаскина, твердого и энергичного администратора и в то же время великого подвижника. Живой идеал для валаамского и всякого иного игумена! Теперешний отец игумен был еще современником отца Дамаскина, следовательно, помнит этот чудный образ, почему и в пении блюдет его валаамские традиции.
И действительно, всякая чуткая религиозная душа, не имея никакого теоретического музыкального образования, не зная ни мелодии, ни гармонии, ни контрапунктов и прочих мудреностей, сразу почует, что такое наше «мирское» пение и валаамские напевы.
Прежде всего в них слушатель не найдет никаких нежностей, никакой слащавости, – нет тут хроматических каденций, красивых диссонансов; молящийся не развлекается всей этой шелухой; здесь – простота и строгость, и в то же время ка-кая-то захватывающая душу могучая, своеобразная красота! Напевы валаамские до того оригинально-содержательны, что нередко приходишь в религиозный восторг. И представьте, я говорю не про «Херувимские» или «Милость мира» или концерты – которых, кстати, там и духу нет, – то есть не про то, в чем обычно полагают всю красоту наши хоры и слушатели, а про обычное, простое гласовое пение! Я разумею пение стихир, «самогласнов», «подобное» и т. п. Как бы вам, читатель, передать то богатство, какое я слышал на Валааме. Не похоже ли это будет на то, как бы крестьянину рассказывать об устрицах или слепому о зайце? Скажу одно: я ничего так не любил на Валааме, как слушать и петь «гласовые» распевы. Бывало, сойдутся на середине храма два хора, человек в пятьдесят, голоса все могучие, особенно басы, – и понесутся к небу одушевленные, именно живые «сплотившиеся» звуки простых, строгих и могучих напевов! Не наблюдают здесь никаких piano и forte, – а свободно, дерзновенно славят Бога.
Андрей Рублев. «Троица». 1410
К этому еще прибавьте канонарха: скажет он сначала фразу-то, ее немного поймешь, а потом вдруг подхватит могучий хор, и мысль как картина рисуется перед твоими глазами. Как сейчас слышу разговор Христа с самарянкой: «Даждь ми воду пи-и-ти», просит «Одеваяй небо обла-а-ки» у «жены, самаряныни су-у-щей».
Не могу не упомянуть с благодарностью об отчетливости и благоговейно-проникновенном произношении обоих канонархов: здесь уже не скрадут слова, точно вложат их тебе самому в рот. Мне же весьма нравился также тот иноческий чин, или по-мирскому – церемония, что ли, какая строго соблюдалась канонархами, иеродиаконами, иеромонахами, певчими и другими служителями храма, когда они проходили мимо иконостаса. Подойдет это канонарх к иконе Спасителя – поясной поклон, против Царских дверей – поклон, иконе Божией Матери – тоже, и затем – лику опять поясной поклон. А затем уж зачитывает стихиру. И таково все это благоговейно-чинно. Право, у нас в миру смеялись бы над этим наши извращенные сердца; но здесь все было так серьезно и уместно, что стыдно было бы даже улыбки.
И вообще, как во всем монастыре, так особенно в храме, везде чуялась дисциплина, чин, порядок!
Главное же самое – отчего и пение, и чтение, и внешняя обрядовая сторона получали такой религиозно-благоговейный характер, – заключалось в духе молитвы. Сюда приходили не за тем, чтобы понежить ухо изящными мелодиями, не за тем, чтобы лишь успокоить, замазать совесть мыслью: я-де был (и только) в церкви; а шли только для единодушной молитвы. Посмотрите, как стоят здесь иноки: прямой напряженный стан, ноги не отставят уж, сжатые губы, вдумчивый взгляд или даже закрытые глаза, энергично сжатые для истового креста персты, низкие поклоны, – ведь все это, в силу связи внешнего с внутренним, души с телом, несомненно говорит о самособранности и напряженной молитве иноков. Дух ее веет в храме ощутительно ясно: оттого-то все получает здесь одухотворенность, религиозную энергию.
Правда, нужно сказать по совести, что такой одуховленности больше среди молящихся иноков, чем в певчих; но ведь это так понятно. Как уже приходилось говорить, настоящая молитва – самое трудное дело, она – плод долгого подвига и внутренней чистоты; а между тем, певчие должны лишь обладать голосом, поэтому есть здесь молоденькие тенора, не старые еще басы, которым до высоты-то еще далеко. Да прибавьте к этому еще, что приходится петь постоянно, волей-неволей нести это труднейшее послушание. И у певчего образуется усталость; он из одушевленного хвалителя может превратиться в простую трубу, а хор – в говорящий орган. Ведь, собственно, так и бывает в мирских церквах, где певчие и особенно регент больше или даже исключительно следят за «исполнением» вещи, а не за содержанием ее. Знаю это по горькому опыту. Но валаамские иноки и здесь выделяются: если не всегда, то нередко, особенно при совместном пении, почти все воодушевляются, как бы наэлектризовываются. А иные, хотя это и трудно, и на клиросе так же самособранны, как и простые молящиеся. Это уже подвижники.
Глава 3
Подвижник-комик и аскет. – Любовь старика и ссора студентов. – Много ли нужно молиться ? – Прощальные визиты. – Еще о старце Никите и брате В. – «Тяжелый дух». -«Не тянет ли в мир ?» – Разлука. – Интервью.
19 мая, четверг… После обедни хоронили одинокого схимника – лет, кажется, восьмидесяти. Говорят, ходил чуть не до последнего часа и умирать не думал, даже еще шутил пред концом-то. Упокой, Господи, душу его!
После обедни мы испросили у отца наместника благословение бесплатно сняться в монастырской Фотографии в иноческой одежде и перед отъездом получили карточки на всегдашнюю память о чудном богомолье.
Затем отправились в баню. Дисциплина чувствовалась и здесь. Над кранами для воды прибита была дощечка с такой приблизительно надписью: «По благословению отца игумена воду зря не тратить». Как это мило! Или еще где-нибудь, глядишь, написано: «По благословению игумена дверь за собой затворять». Или: «Вход посторонним запрещается». И все «по благословению игумена»! Замечательная черта иноческого общежития! Сами же они выбирают себе настоятеля, значит, будто, начало здесь конституционное, но это лишь при выборе, а затем все свободно и охотно отдают себя в полную зависимость от него. Без его воли шагу ступить никто, собственно, не должен. Бывший игумен отец Ионафан во время своего послушания взял у одного паломника просфору в подарок без благословения. После совесть его смутила, пошел он к отцу Дамаскину – и тот велел Ионафану возвратить просфору обратно, прочитав ему при этом поучение о громадном значении послушания даже в мелочах. Так соединяется здесь конституция и монархия.
«Старцы» имеют здесь власть, но и они все – послушники игумена. Замечательно, что такое соединение власти старцев с самодержавием игумена характерный признак славянских монастырей даже на Афоне. Как только из строгого общежития, киновии, они обращаются в идиоритмы, то есть своежительные монастыри с буржуазнореспубликанским характером, – то тотчас же падает монастырь. И, наоборот, с восстановлением киновии поднимается и жизнь монастыря. Ясный пример этого представляет наш тамошний известный монастырь святого Пантелеймона, также сербский – Хиландар, болгарский – Зограф и другие. Греческие идиоритмы отличаются распущенностью. И вспоминаются мне слова одного ученого афонского богомольца: многому бы «мир» мог поучиться у людей «не от мира сего». Особенно характерно и важно для нас, русских граждан, теперь знать, что славянские монастыри процветают при строгом самодержавии игумена и непосредственной связи его со «старцами». Таков и устав их.
Вернусь к рассказу. Напившись после бани чаю, мы пошли гулять. Погода была опять чудная. На дороге встретили нашего водителя, отца 3. Он повел нас туда, где мы еще не были.
Колокольня и главный храм монастыря Святого Пантелеимона. Афон. Фото В. Кривцова
Пройдя мимо недоконченного брошенного дока, мы направились сначала к смоляному и спиртовому заводу. Нас встретил «хозяин» его, брат М., здоровый, плотный, с розовым полным и почти безусым лицом, лет двадцати семи.
– Как поживаешь, брат М.? – спрашивает его отец 3., познакомив его с нами.
– Да слава Богу! Только вот все хвораю, – смеясь, ответил он.
Глядя на свежее лицо и крепость тела, я не поверил его шутливому тону, что и высказал.
Б. Кустодиев. «Монахиня». 1920
Но он, опять смеясь, старался серьезно подтверждать то, что «он больной – нутром». Но видно болезнь не сильно отзывалась на брате М., потому что он по просьбе отца 3. живо стал показывать нам все на своем заводе, толково разъясняя механизм дела, пересыпая речь веселыми остротами и улыбаясь нам самым сердечным и искренним образом.
Отсюда мы пошли к отцу Е. на известковый завод. Около последнего наворочено было несколько тысяч пудов местного серого и белого мрамора.
Самое простое типичное великорусское лицо с открытыми веселыми глазами, с широкой бородой.
– Мы к тебе в гости, отец Е. Вот ученые люди хотят поработать у тебя, – шутил отец 3.
Он поздоровался с нами и сейчас же сунул нам в руку тачку с большим камнем, которую он вез.
– А ну-ка! Читать-то мастера, небось, а вот покушайте нашей науки, – с предобродушнейшей улыбкой скороговоркой сказал отец Е.
Я взялся за тачку, но скоро она сползла у меня с дощатой дорожки. Попробовал также товарищ, и тоже неудачно.
– Нет! Видно, дело мастера боится. Вот она, наша наука-то! Ну, бросим ее, тачку-то. Пойдем, я вам покажу свой университет.
И он повел нас к своему сараю, объясняя выделывание известки, причем оказалось, что эта работа чрезвычайно вредная для легких и горла; едкая пыль иногда вызывает даже кровохаркание. Но отец Е. и не думал уходить отсюда на другую работу.
– Таскать камни – это самое дело по нам; быть дьячком, дьяконом, – это не нашего ума дела: я арихметику произошел простую. Знай себе камушки потаскиваю, с благословения Господнева и игуменского. Больше нам ничего и не надоть, стало быть.
– Разве нам тульского подать? – предложил отец Е. чаю. Мы отказались.
– Лучше поговорим, – сказал отец 3.
– Поговорим? Ну нехай поговорим. О чем же мы поговорим? Сказку разве вам рассказать?
– Расскажи.
И он нам передал какую-то сказку о лисе, сове и зайцах.
– У нас котелок-то тоже работает маленько, немножко-то есть ума, – ответил отец E., стуча себя пальцем по лбу. – Отец Гавриил (игумен бывший) недаром ведь говаривал: «Ты у меня человек образованный: на три манера говорить можешь».
Отец Е. знал русский, финский и корейский языки. И вот в таком духе он потешал нас с полчаса или больше.
Андрей Рублев. «Святитель Григорий Богослов». 1408 г. Иконостас Успенского собора во Владимире
Ты, читатель, может быть, осудишь его? Напрасно. Мне кажется он необыкновенно чистым. Прежде всего это человек такого незлобивого сердца, как ягненок; самолюбия у него днем с огнем не найдешь. Наоборот, смирения, вменения себя ни во что почти – сколько хочешь; работает он не лениво, как наемник, а усердно, как свободный сын из послушания, и трудится с любовью, без малейшего ропота. Что же касается его шутливого и веселого характера, то это лишь внешняя оболочка своеобразной души, это – индивидуальная, как говорят, черта, которую иноческая дисциплина не стирает и не желает стирать, так как никакой индивидуализм в известных пределах не препятствует спасению.
Святой Макарий Египетский, неоспоримый уже знаток человеческой души, вот что пишет на вопрос: «Приявший в себя Божественную силу и изменившийся отчасти остается ли в своем естестве ?»
«Чтобы и после благодати испытываема была воля, к чему она склонна и с чем согласна, естество оставляется таким же; и человеку суровому оставляется его суровость, а легкому – его легкость. Бывает же и то, что иной невежда разумом возрождается духовно, преобразуется в мудрого и известными делаются ему сокровенные тайны, а по естеству он невежда. Иной, по естеству будучи суровым, предает волю свою богочестию и приемлет его Бог, а естество пребывает в своей суровости, но Бог благоволит о нем. Иной добронравен, скромен, добр, посвящает себя Богу, и приемлет его Господь».
Так свободно относится благодать Божья к индивидуальным чертам людей.
То же самое, но – ближе к отцу E., пишет и Григорий Богослов:
«Не в числе последних (иноков) и Феогний. Стоя на земле, касается он небесных престолов; он ласков, сладкоречив, на цветущем лице его всегда видно сияние благорасположенного духа» (т. IV, 280). Не правда ли, вместо «Феогний» можно поставить «отец E.», и дело не изменится по существу.
Притом таким веселым характером этот инок приносит немалую пользу Валааму.
– Случается, что иной молоденький послушник затоскует по «миру», – ну мы его сейчас к отц у E., – замечает при нем же отец 3. Поживет здесь недельку-другую, поработает усердно, а главное – насмеется вдосталь, натешится с отцом E., – и возвращается опять в монастырь.
– Это мы можем, – подтверждает валаамский комик, оставаясь верным себе и в этом случае.
Мы распростились с этим оригинальным подвижником и пошли к кожевенному заводу.
– Простите за празднословие, – смиренно и просто донеслось нам вслед.
Разумеется, мы сейчас же поделились друг с другом своими впечатлениями.
– Да, он веселый, – закончил отец 3. – Шуточками спасется.
«Шуточками спасется», то есть так выразительно сказано! – Действительно, шутя, без особых подвигов, даже смеясь, отец Е. спасется.
А вот и кожевенный завод.
«Хозяин» его – отец В. Полная внешняя, а отчасти и внутренняя противоположность отцу Е. Тот – широкий, плотный, а отец В. худенький, тщедушный. У того борода лопатой, этот почти совсем без растительности; у того – вечно смеющееся подвижное лицо, у этого – сдержанное, спокойно-серьезное. Тот – говорлив, этот молчалив, лишь изредка скажет что-нибудь нужное; тот кроме «Господи, помилуй», по его же словам, ничего не знает. Отец В., по свидетельству нашего проводника, «из святых отцов все знает», отчего является хорошим «старцем-руководителем» для своих духовных чад. Но при этих довольно заметных особенностях оба они в существенном сходны. Оба любят трудиться не за страх, а за совесть, оба смиренны, оба чисты душой. Такой тоже праведник, – говорил нам после отец 3., – уж никого не обидит. Помощник у него человек раздражительный: иногда оскорбит его, и сам же начнет ссориться, а отец В. просит у него прощения. Ударь его в ланиту, подставит другую. Да притом молитвенник какой: редкий по нынешним временам! И духовного опыта много, и знаний – тоже, поэтому многие ходят к нему за советами.
По нашей просьбе отец В. показал нам все свое дело. Начав с самой чистой работы, уже окончательной выделки кож, он в заключение привел нас в грязное и вонючее отделение, где происходила первая самая неприятная и трудная, но в то же время главная, обработка материала.
– Здесь вот – самое важное дело, – тихо заметил отец В. – Черновая работа всегда ведь бывает самой трудной и самой важной, – наставительно произнес он.
Поблагодарив за все, мы простились с ним и зашли мимоходом в Никольский скит. Здесь за левым клиросом в футляре стояла деревянная статуя святителя Николая Чудотворца. Между прочим, после узнал, что один из паломников соблазнился этим: не православно. Но, во-первых, статуя обычно затворена; затем в скиту никого почти не бывает, кроме монахов, да она и не приравнивается к иконам.
Оттуда мы уже направились в монастырь к вечерне. Здесь от одного певчего я услышал ужаснейшую весть о разгроме нашего флота. Сердце защемило. Мысль остановилась. Молитва не шла на ум.
Вечером за трапезой прислуживавший за нашим столом брат спросил: «Кто говельщики здесь? Идите за постный стол».
Мы пошли по его указанию. Действительно, стол был слишком постный: горячее без масла и сухая каша, хлеб и квас. Так мы говели пятницу.
Никольский монастырь на острове Валаам
20 мая, пятница… День прошел без особенных впечатлений… Вечером исповедовались у монастырского духовника и отправились без ужина спать. Но в это время в номер вошел один старичок богомолец, которому я обещал написать листочек для «заздравной» и «упокойной» просфор.
– Вот крышки-то от поминальника у меня остались, а бумагу выронил где-то, – с горечью жаловался нам потерпевший.
Я взял бумаги, вшил ее в крышки – поминальник вышел на славу. Затем славянским шрифтом я записал туда несколько десятков имен. И старик так был доволен, что не знал, как и благодарить меня, какими добродетелями наделить, каких мне имен надавать. Просто неловко стало. На другой день он даже принес просфору мне «за труд». Все это было совершенно искренно, – и за какой же пустяк! О, как мало нужно, чтобы удовлетворить православного крестьянина! А ныне хронические забастовки, требования, «им же несть конца», дали одно, подавай и другое. Это ясно говорит, что исчезает из русского рабочего христианский дух. Юридический запад с его культурой совсем заедает совесть православного человека.
Когда ушел этот богомолец, мы с товарищем, как бы в противоположность мирному и кроткому тону старика, завязали острый разговор по поводу личной и общей исповеди. И вот я замечаю, что наша беседа снова принимает острый характер. Я говорю «снова», потому что и прежде не раз уже между нами затевались горячие бесплодные споры, только раздражавшие нас, не раз уже мы чувствовали какую-то тяжесть на душе. В данном случае такое отношение как-то выразилось еще ярче. Мы положительно нервничали оба. Я давно уже стал замечать это за собой и с трудом иногда сдерживал злое слово, которое готово бывало сорваться. Но иногда это не удавалось, и между нами не раз пробегали черные тени. То же, кажется, чувствовал и товарищ и также, вероятно, боролся. Но все же нам до самого отъезда не удалось установить любовные и кроткие отношения. Я понял, что одно дело говорить о любви, смирении, снисхождении, воздержании, а другое – осуществлять. Трудно жить по-христиански. Несомненно, враг употребляет все средства, чтобы посеять вражду между людьми; ведь это его главное дело. И на Валааме, не без его содействия, были наши размолвки, хотя мы и сами не менее виноваты были. Когда беседа наша зашла уж слишком далеко, то я замолчал и лег спать… Теперь припоминаю я слова, сказанные обоим нам старцем отцом Никитой: «Не гневайтесь, прощайте обижающим. Молитесь за них, и вы будете их любить, и они вас будут любить». Как будто предвидел старец, что мы будем гневаться друг на друга. Так исполнились, следовательно, и эти слова его.
Путей ко спасению много, много путей, ведущих к общению с Богом…
21 мая, суббота. За ранней обедней мы вместе с другими богомольцами сподобились причаститься Святых Таин. Между прочим, когда служивший иеромонах в последний раз вынес Святые Дары, я хотел положить земной поклон, но стоявший рядом инок удержал меня, говоря:
– Не кланяйся Святой Чаше: теперь ты сам носишь в себе Христа.
После обедни, напившись чаю, мы легли спать, так как ночью спали всего лишь часа два-три.
…Когда проснулись, то, оказалось, прозевали обед. Но благодаря отцу наместнику нам позволили подкрепиться и телесной пищей.
После этого мы пошли к пристани, куда в это время подходил уже «Валаам» с новыми богомольцами из Санкт-Петербурга. Перед ними повторились те же картины, какие испытали сами и видели мы ровно неделю тому назад…
Вечером мы случайно разговорились с одним братом, прислуживавшим в гостинице. Он жаловался нам, что слишком много им работы; жаловался или, лучше, скорбел – не потому, что ему трудно, нет, а потому, что за этой суетой остается мало времени для молитвы.
Собственно говоря, он и прав, и не прав, – как думается мне.
«Монастырь, по моему мнению, — коротко и точно определяет его святой Григорий Богослов, – есть учреждение, которое имеет целью спасение». Следовательно, и «монах – тот, кто живет для Бога и притом для Него Единого» (т. V, 285). Но «путей ко спасению много, много путей, ведущих к общению с Богом» (VI, 39). «Чему же отдаешь предпочтение, – спрашивает тот же святой отец, – деятельной или созерцательной жизни? В созерцании могут упражняться совершенные, а в деятельности – многие. Правда, то и другое и хорошо, и вожделенно; но ты к чему способен, к тому и простирайся особенно» (V, 169). Но, разумеется, совершенных не много; обычный же путь таков: «Соблюдай заповеди и не выступай из повелений. Ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию. Трудись телом для души» (он же 11,142).
С этой точки зрения понятно, почему на Валааме большинство иноков заняты преимущественно трудом на общую пользу и только постепенно им дают свободу для молитвы. Ибо иначе можно было бы надорваться душой и вместо пользы получить неисправимый вред: свобода – оружие обоюдоострое. И сама жизнь показывает всю необходимость такого закона. Все эти и прочие тоже трудятся и трудом спасаются. Здесь место – любви, смирению, послушанию. Если даже не хватает времени для молитвы, то и это не вменится иноку в грех: «послушание паче поста и молитвы». Но душа жаждет, конечно, «небесной пищи».
Валаамский устав отводит довольно порядочное место молитве, предоставляя здесь много свободе иноков. Кто хочет, тот может найти время. Не знаю твердо, почему не хватало времени для беседовавшего с нами инока? Не от себя ли самого? Я, например, видел, как один же из гостинников ежедневно посещал утреню и пел за ранней обедней. Но, может быть, он был свободней почему-либо? Ответить не могу; поэтому лучше поверю скорби брата-гостинника. Тем более что подобное я услышал на другой день и от брата В.
А. Бида. «Молящийся Иисус». 1874
По его мнению, нужно бы увеличить «молитву» для всей братии; теперь же будто слишком много отвлекаются работой. Я на это скажу, пожалуй, несколько иное: для брата В., для гостинника, может быть, и нужно бы увеличить «молитву»; но они судят по себе, – а ведь люди-то различны. Одно нужно всегда помнить, что «дело молитвы», истинной молитвы, «совершаемой надлежащим образом, – выше всякой добродетели», по авторитетному опыту святого Макария Египетского. Потому что «все добродетели одна на другой держатся и взаимно связаны между собой и как бы в некой священной духовной цепи одна от другой зависят: молитва от любви, любовь от радости, радость от кротости, кротость от смирения, смирение от служения, служение от упования, упование от веры, вера от послушания, послушание от простоты». Следовательно, «если не будут украшать нас смиренномудрие, простота и благость, то никакой не принесет нам пользы молитвенная наружность». Поэтому очевидный вывод будет такой: «тем, которые по духовному младенчеству не могут вполне посвятить себя любви духовной, – то есть любви к Богу, – надлежит принять на себя служение братьям с благоговением, с верою и со страхом Божьим и служить, как Божьей заповеди и как делу духовному» (379, 349, 376).
Так определенно и принципиально решается у святых отцов вопрос о сравнительном достоинстве созерцательной и деятельной жизни монастырей, – вопрос, столько нашумевший года два тому назад и теперь снова вытаскиваемый из архива на сцену жизни противниками «черного клобука». Как известно, сначала все шумели: почему это наше монашество придерживается аскетически-созерцательного идеала? Пусть оно выходит в жизнь, работает среди мира, устраивает у себя богадельни, больницы, школы и прочее! Теперь слышится другое: зачем монашество, это воинство не от мира сего, овладело миром? Зачем они, отрекшиеся от своей воли, господствуют над другими? Зачем, надев клобук безбрачия, они вершат законы о браке, ничего в них не понимая? Ваше место не здесь, ваше место в пустыне, в диких лесах, вдали от «презираемого вами на словах и любимого на деле мира»!
Как это непоследовательно. А непоследовательно оттого, что и тогда, и теперь рассуждали неверно с принципиальной точки зрения, увлекались через край. Вооружаясь против явных недостатков монашеской жизни, судьи сами пересаливали всегда в противоположную сторону. Правда, в монастырях немало плохих иноков, недостойных носить даже мирского христианского звания; конечно, лучше было, если бы они хоть за больными, что ли, ухаживали. Но зачем притягивать к этому делу всех тех, которые идут в монастырь для духовной жизни, – и особенно тех старцев-молитвенников, которые успокаиваются уже в общении с Богом? Это крайность. Равным образом – может быть, иные монахи слишком переусердствовали в любви к миру и деятельности в нем; – но зачем же гнать в пустыни всех? Ведь большинству из них, хотя далеко еще до Антониев, Феодосиев и Сергиев, блаженствовавших о Господе в глуши, но уже нет любви и привязанности к этому суетному миру. Куда же их-то вы денете?
Поэтому самый естественный из этих крайностей выход навязывается сам собой: против ненормальностей монашества – а их немало, – нужно бороться всеми силами, кому дорого оно. Нужно строже относиться к желанию принять ангельский образ, назначать испытания, отдавать их под руководство опытных старцев, в монастырях вводить строгую дисциплину, сокращать удобства и т.п. Особенно строже нужно относиться к ученому монашеству, где много соблазнов, увлечений. Как-то отец Никита говорил: – вот вашим студентам-монахам годик-другой вперед на Валааме пожить, послушание пройти.
Все это совершенно верно. Но зачем же гнать всех иноков в пустыню, или привязывать к деятельности в мире против воли? Пусть всякий ищет себе свое место. Пусть «одни идут тою, а другие другою стезею, какую кому указывает природа, только бы всякий вступил на тесный путь; не всем равно приятна одна снедь, и христианам – приличен не один образ жизни» (Григорий Богослов. IV, 226). Лишь бы осуществлялся закон любви и смирения, образом которых был Сам Господь Иисус Христос, чему учит сплошь все Евангелие!
Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость»
Поэтому, – скажу теперь брату-гостиннику, – да не смущается сердце его: общение с приезжими богомольцами больше, чем другое какое послушание, дает возможность проявить христианскую смиренную любовь. И это будет молитвой Богу, служением Слову. А когда придет время, Господь укажет иной путь…
22 мая, воскресенье. Завтра нужно было уезжать в Санкт-Петербург. Поэтому мы решили начать еще ныне прощальные визиты наиболее дорогим людям и еще раз полюбоваться самыми красивыми местами. По благословению отца наместника мы на лодке отправились опять на остров Иоанна Предтечи в сопровождении двух послушников. Опять одна за другой открывались перед нашими взорами знакомые уже нам картины чудной панорамы. Впрочем, путь был несколько иной: мы заехали на монастырскую ферму, где было до полусотни отличных коров, питавших молоком своим братию. И здесь же, рядом, находилось помещение для искусственного разведения хорошей рыбы. Все это мы осмотрели, выпили по стакану молока и двинулись далее к Коневскому скиту. Опять – какая чудная природа! Но уже напоминающая больше родные мирные картины. Недалеко от церкви находится прудик, где разведено много рыбы. Богомольцы, приезжая сюда для прогулки и осмотра скита, бросают в воду хлеб и до того приучили рыбу, что при приближении людей окуни целыми стаями приплывают к мостику.
Наскоро осмотрев все это, мы отплыли к месту назначения. На островке нас уже ждал брат В. Я тотчас подхватил его под руку, и мы пошли гулять по всему острову. Беседа потекла живо и интересно. Мы чувствовали, что стали родными по духу. Нагулявшись, отправились к отцу Никите. Его келья была «заперта», то есть к двери приставлен небольшой кол, что на скитском языке должно было обозначать: обитателя нет дома. Но брат В., зная характер и привычки отца Никиты, начал стучаться, потому что иногда старец, не желая, чтобы его тревожили, нарочно «запирается». Кто знает, может быть, в этот раз он не хотел принять нас, а скорей всего, его действительно не было дома.
Несколько опечаленные, мы направились к келье, где жил брат В. с двумя другими послушниками. Там готов уже был чай с «ситным» (то есть белым хлебом). За столом мы разговорились о церковном обиходном пении, достали ноты и начали распевать под открытым небом при теплых лучах солнышка, прорезывавшихся через иглы сосен.
Затем брат В. скрылся в хижину и воротился оттуда с двумя свертками. Это оказались четки, которые он нам обещал сплести на память.
– Знаете, я хотел было из деревянных шишечек сделать вам; да они стучат и отвлекают от молитвы, а эти лучше, – ведь для Бога, а не для игрушки – четки-то: тише-то и лучше.
Трудно было не согласиться с этими смиренными и верными словами.
Я ему подарил в ответ Новый Завет, а он еще дал мне искусный деревянный вечный календарь
После чаепития мы снова отправились гулять… Хорошее время!.. Между тем близилась вечерня; нужно было идти к храму.
Около паперти нас встретил отец Никита. Та же ласковость, теплота, благодатное сияние радости на лице! Заговорили о монашестве, о трудностях его. Он согласился, но потом добавил:
– Нам-то здесь что? Кругом Господь нас обнес водой, народу мало: летом-то еще вот приезжают, а зимой занесет нас снегом, поднимутся вьюги; пароходы ходить перестанут: тишь да гладь, да Божья благодать. Спокойно… только ветер в трубе воет… подпевает… – Он задумчиво остановился.
– А вот в миру монашество – иное дело. Кругом соблазны. Враг везде подстерегает… А ведь нужно же и там кому-нибудь быть… Ну что ж, что трудно? Зато если кто блюдет себя, тот наследует прямо мученический венец. А мы что?..
Часовня на Конь-камне. Остров Коневец. Ладожское озеро. Фото А. Аничковой
То же самое я слышал и от другого инока.
– Ну, конечно, беречься нужно крепко: плоть немощна, а враг силен и бодр. Главное, нужно беречь уши и глаза, – падать-то меньше пришлось бы. Ну уж если упал, то вставай. Согрешил помыслом – очистись. Все мы слабы. Нужно только не робеть: упал, не тоскуй особо и не тужи через край, а вставай, поднимайся выше. Опять сорвался – карабкайся еще выше. Мы ведь не ангелы – без падений-то не обойдешься. Только и падения самые обращай себе на пользу.
«Часто падение, – припоминаются мне слова святого Григория Богослова, – поднимало с земли на высоту, а возвращение низлагало на землю» (V, 68). «Не робей слишком плоти, как будто она по природе своей неукротима» (там же, 69).
Какой светлый бодрящий голос. «Вся могу о укрепляющем мя Иисусе» (Фп. 4,13).
Нам пора была уже возвращаться на Валаам. Отец Никита проводил нас до ограды, трижды перецеловался, и мы с горечью в сердце расстались с этим мирным и радостным земным ангелом. И до сих пор его образ озаряет мои воспоминания и путь кротким сиянием… Побольше бы таких старцев!
Затем мы простились с хозяином скита, отцом H.; тоже – добрый воин Христов. Смиренный, деятельный, услужливый, сердечный – карел, он оставил в нас симпатичнейшее впечатление.
Подошли к пристаньке. Сняли лодку, расцеловались с грустью с братом В. и отчалили… Поехали по новому пути: вокруг острова по самому озеру. Было сравнительно тихо, но мягкие волны катились, как всегда, и точно в люльке качали нас. Мы то опускались вниз, то поднимались на гребень волны, попадая иногда веслом в пустое пространство.
Прогулка была великолепнейшая, но бочка меду отравлялась ложкой дегтя; разлука с полюбившимися людьми сосала сердце… Мы не раз оглядывались на пристаньку, где все еще стоял брат В. Но скоро лодка загнула за угол и «Иоанн Предтеча» скрылся из глаз. Когда-то еще придется побыть здесь?!.
Наконец, мы поворотили в залив и были снова в монастыре. Там уже шла вечерня. Я поспешил на клирос…
После трапезы мы очень долго гуляли в последний раз по Валааму с отцом 3. Много было поднято вопросов. Зашла речь и о «двух течениях».
Из этой беседы для меня выяснилось, почему Немирович обвинял Валаам в борьбе двух направлений.
Остров Коневец. Пристань. Фото А. Аничковой
Дело в том, что до половины XIX века монастырь находился в запущенном состоянии; когда же во главе его стали опытные кормчие, то началось и внешнее «строение», и подъем иноческого духа. Результатом первого явилась организованная община; плодом второго был рост подвижничества. Эти два направления шли параллельно почти до конца столетия. К этому времени «строение», собственно, закончилось; и оставалось обратиться более к внутреннему иноческому деланию. Но строительные идеи жили еще по инерции, иногда даже увлекаясь несколько в крайность. Но понятно само собой, что эти увлечения не могли продолжаться большое время. Скоро «старцы» поняли свое положение, и началась некоторая реакция против крайностей внешнего практического направления; монастырь был поставлен в надлежащие границы своего специального делания. Но и до сих пор в некоторых иноках, преимущественно молодых, остались следы того направления, что вполне понятно и извинительно. Соль же Валаама – за внутреннее делание. В частности, теперешний отец игумен стоит на спасительной средине, ближе к духовному деланию, хотя не забывает и о внешнем «строении», сколько требуют обстоятельства.
Немирович же попал в период, когда сильно было внешнее строительство, которым он и увлекся. Теперь ему приходится разочароваться, что монастырь поворачивает в непонятную и бесцельную для него сторону духовного делания. Православный же человек лишь радуется этому.
23 мая, понедельник. Нужно было собираться к отъезду. Мы отправились в «рухольную»; там совлекли с нас послушнические одежды, и мы снова – студенты. Затем отправились в библиотеку сдавать книги.
Библиотекарь, отец И., опытный старец, «духовный» человек, тихо спрашивает нас:
– Как вам понравился Немирович? – книгу которого «Крестьянское Царство» мы брали для чтения.
Конечно, ответ был отрицательный.
– Да, тяжелый в ней дух, – подтвердил отец Иосиф; – только и видят здесь одно дурное; так что она – вроде иронии.
Конечно, это была чистая правда, а мне особенно понравилось характерное выражение – «тяжелый дух». Действительно, когда я читал эту книгу, на сердце буквально наваливалась какая-то тяжесть, находила тоска. Один раз, возмущенный несправедливостью автора, я просто вышел из себя. Такая была досада. Потом стал анализировать причины своего раздражения и увидел, что не стоило портить крови: очень уж неосновательно было. Но «тяжелый дух» все-таки возникал всякий раз, когда снова начинал читать книгу. Что бы вы испытали, читатель, если несправедливо стали бы бранить мать вашу? Ведь тяжелый дух стал бы давить вас, и вы или ушли бы от таких речей, или чем-нибудь ответили. Ну и мне также не хотелось читать этого автора.
Затем от отца библиотекаря мы направились прощаться к отцу наместнику. Он подарил нам – как, кажется, и всем вообще паломникам, – по книжечке о Валааме и иконке святых Сергия и Германа и предложил чаю. От нас же он получил только заздравную просфору и искреннюю благодарность. Сидя у него, мы увидели, какое труднейшее послушание берет на себя настоятель: то инок, то богомолец, то работник, то начальствующие монастырские лица постоянно отрывали его от нас. Поистине оправдывается слово Спасителя ученикам: «Кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою» (Мф. 20, 26). И поймешь, почему бывали случаи, когда все старцы отказывались от игуменского жезла, так что приходилось принимать его молодому иноку. Дай, Господи, отцу игумену сил верно пасти словесное стадо!
После обедни мы пошли с прощальным визитом к отцу В. У него готов был чай с лимоном, кажется, и кренделями. За самоваром снова затеяли разговор о монашестве. Отец В. высказал интересные мысли.
– Не тянет ли в мир? – задали мы ему очень нескромный вопрос.
– Нет! – живо и уверенно сказал он.
– Но ведь трудно же бороться с собой?
– Как вам сказать? Пожалуй, было и не особенно трудно. Пришел я сюда лет двадцати восьми. Заставили меня работать целыми сутками. Да еще попал я к хорошему старцу, отцу Никите. Бывало, задаст он нам «пятисотницу», – то есть прочитать пятьсот раз молитву Иисусову, – ну и читаешь ее весь день. Счет-то потеряешь за делом, а думаешь, что все не дочитал еще. Вот и работаешь весь денек с молитвой. После вечернего правила-то придешь в келью и заснешь замертво. Где тут соблазнам и мыслям каким-нибудь?.. А вот теперь сделали меня самостоятельным хозяином позолотной-то мастерской, дали свободу; ну и хуже стало, – трудней бороться-то с собой; сам себе владыка, иной раз без дела; ну, понятно, соблазны стали увеличиваться.
Икона преподобного Назария Валаамского. Фото иерея Максима Массалитина
– Ну а все-таки в мир не хочется возвращаться? Ну хоть во сне, что ли, иногда вообразите себя там?
– Не-е-т! Наоборот: один раз увидел во сне, будто я оставил Валаам и воротился в мир, так вот какая тоска поднялась, что измучился… Просыпаюсь и вижу себя в келье; и так-то уж обрадовался, что это был сон; ну, слава Богу! – вздохнул я свободно.
И все это он передавал без малейшей рисовки, просто и скромно. Я теперь окончательно перешел на его сторону. Что же касается его жизнерадостности, то, кроме писанного об отце E., вспоминаю еще одно место из Григория Богослова: «Все они (иноки) – служители Всемогущего Бога, и каждый из них совершен на особом пути благочестия» (IV, 281).
Во время этого визита в келью вошел отец 3., приглашая нас к себе. Мы с любовью распрощались с отцом В. и отправились к нашему проводнику. Здесь снова был предложен чай, уже третий по счету. Таков уж обычай установился на святой Руси: встречать ли, или провожать, всегда гудит гостеприимно самоварчик. Отказываться было неловко. В это время в келью вошел ризничий отец И. – тоже хороший валаамлянин, теперь вызванный в Благовещенск «строить» монастырь. Он подарил нам по яблоку: чем богат, тем был и рад потешить нас.
Надавав нам благих пожеланий, они наконец отпустили нас. Да уже было время. До отхода парохода оставалось с полчаса. Мы захватили уложенные раньше вещи и пошли к пристани. Там служили напутственный молебен перед часовенкой святых валаамских чудотворцев. Мы присоединились к певчим в последний раз. После молебна подошли к кресту, около лежала тарелка для добровольных пожертвований. Я за все те неисчислимые блага, которые собрал на Валааме, положил всего лишь… гривенник…
По трапу народ уже впускали на пароход. Нас пропустили бесплатно. Дело в том, что если какой-либо богомолец, прожив на Валааме, потрудится на пользу монастыря, то его везут домой даром. А я тоже трудился в пении…
Загудел третий свисток. Трап сняли. Пароход двинулся. Я в это время успел собрать человек пять певцов, и мы вплоть до выхода в открытое озеро пели величания и тропари. Из народа, стоявшего с открытыми головами, кое-кто подтягивал и все молились… Пароход завернул за угол, и монастырь скрылся. Когда мы ехали мимо острова святого Иоанна Предтечи, то я в бинокль все всматривался, – не видно ли было где брата В.; но ничего не разглядел. После, из письма его я узнал, что он выходил; но тоже не разобрал меня.
Пароход бежал быстро. Валаам все удалялся. Скоро на горизонте была лишь синяя полоска. Потом все исчезло. Сзади, спереди и с левого боку было безбрежное пространство…
Так кончилось валаамское житье. На сердце стало тоскливо-тоскливо! Оно заныло, точно кого-то потеряло… Было около двух часов с лишним, а часам к пяти мы были на Коневце.
Переночевав в гостинице, мы отправились часам к восьми утра на пароход. Скоро он тронулся. Шел дождь, начавшийся еще с вечера, поэтому мы сидели в каюте. Но часам к десяти стало теплее, над озером поднялся страшный туман, затем выглянуло солнышко, тучи поредели, и наступила опять хорошая погода. Мы снова выползли на «первоклассную» верхнюю палубу. Там уже сидело несколько человек «из простых».
Воскресенский скит. Валаам. Фото И. Борсученко
Скоро я затеял с соседями разговор. Один из них был кучер, красивый и скромный мужчина, Феодор Иванович, другой – рабочий.
Я поднял вопрос о Валааме, потому что у меня явилась мысль: не односторонни ли мои впечатления о нем? Не видел ли я одну лишь показную сторону? И вот захотелось проверить себя мнениями других, людей непосредственных и откровенных. И каково же было приятно чувствовать, когда все оказались согласны со мной. Все были чрезвычайно довольны Валаамом.
– Ну, что же вам, собственно, больше понравилось?
– Вот хорошо, что службы у них часто, почти постоянно; поют хорошо.
– А ведь братия понравилась?
– Да, уж настоящий монастырь, не так, как другие. Очень они уж приветливы, незнакомый человек я, а они все делают и услуживают. Спрашиваю раз я об одном предмете какого-то монаха; он говорит: «Я не знаю; пойду сейчас справлюсь»; и пошел. Хорошие!
– А природа-то на Валааме какая! – говорю я.
– Уж на что лучше! Красивая! – …Немного помолчали.
– Да… – задумчиво произнес рабочий, – на всю жизнь запомнится это богомолье!
Как видите, и им понравилась служба, пение, братия и природа, – и служба прежде всего! Это знаменательно.
Феодор Иванович молчал все, лишь поддакиваниями и взорами соглашаясь с нами. После я расспросил его, как он попал на Валаам.
– Свихнулся с кругу! – как-то деликатно начал он: – Стал зашибать, сначала понемногу, а потом рублей пятьдесят пропил. С места прогнали. Я все не унимаюсь. То ты в гости пойдешь, то к тебе придут. Ну и трудно удержаться. Вот и думаю, дай, мол, на Валаам поеду; авось, там выдержусь. И поехал.
– Как же ты себя теперь чувствуешь?
– Теперь совсем хорошо. Пить больше не буду. Найду место: трезвому-то враз дадут. Буду опять служить.
От его речей дышало спокойствием и верой в свои силы. Так подействовал Валаам…
На диване около дымовой трубы сидели две женщины и, конечно, уж разговаривали без умолку. Удивляюсь всегда этой способности их; мужчины иной раз молчат, не находя общих тем; женщины же точно их заведут – говорят без умолку. Речь шла о мощах. Говорили о Сергии и Германе, о Сергии Радонежском, о киевских печерских угодниках. Наконец дело дошло до Иерусалима.
– Одна моя знакомая говорила мне, что в Еру-салиме лежат мощи Господни. Как есть, живые и пеленой покрыты.
Рабочий недоверчиво посмотрел на рассказчицу, потом стал неуверенно возражать ей, что Иисус Христос воскрес с телом. При сем оглянулся на меня, ища поддержки. Я, разумеется, подтвердил его слова.
Ну, уж не знаю. А так что моя знакомая говорила: лежат, как живые, и пеленой покрыты. – Но авторитет ее был уже сорван: ей не верили.
…Пароход подходил к Шлиссельбургу. Здесь озеро, стесненное берегами, быстро и могуче выливает свои излишки в Неву. От большого напора воды образуется перекрестное течение. Наша знакомая вспомнила при этом, почему здесь вода крестом течет.
– Так что Петр Великий поехал один раз по озеру: поднялась буря. Он осерчал на озеро-то и хлестнул кнутом крест-накрест по воде; с той самой поры крест так и остался.
Остров Валаам
И такой верой в эту легенду дышало от рассказчицы, что так и хотелось воскликнуть: о, святая простота!
После этих речей я сошел вниз; здесь пришлось выслушать одну грубую и резкую брань «попам». Оратор был, видимо, из босяков.
– У попов самые лихие собаки. Один раз чуть не съели. Сами-то говорят проповеди, а собак знай себе заводят, чтобы нищие не заходили.
И его лживым грубостям долго еще не видно было конца. Я возразил против такого огульного обвинения; но этим лишь подлил масла в огонь. Он еще больше разошелся и стал браниться, поддерживаемый сочувствием пяти-шести молодых людей, всегда готовых поострить насчет ближнего, а особенно – относительно духовенства. Здесь всякое пятно темнее – всякое лыко в строку пишется. Я счел за лучшее отойти.
В другой группе шла почему-то речь о кладбищах.
– Завсегда первого покойника нужно хоронить арестанта; потому как разбойник первый вошел в Царство Небесное, прямо с креста; так, значит, и нам нужно поступать.
О, sancta simplicitas!.. О мудрость богословская!
Скоро показался Петербург… А вот и пристань… Здесь нас встретила таможенная стража; наскоро осмотрели наши корзинки, не привезли ли мы чего запрещенного из-за границы: ведь Валаам относится к Финляндии.
Затем наняли извозчика и снова были в своей академии. Это было уже 24 мая.
Так окончилось наше двенадцатидневное паломничество. Вполне можно сказать: как мало прожито, как много пережито!
Леонид Зуров. Обитель. Псково-Печерский монастырь
Полукруглые монастырские ворота, прохлада свода, а потом сразу солнце и тишина, особенно поразительная после рыбного базара, торгующих мужиков, крика продающих мятные пряники и легонькие кресты торговок. Ветер шевелит сухой бурьян на стене. В заветрии припекает, голуби любовно шумят, говорят, целуются и воркуют на воротной башне. На деревянных мостках боевых стен кружится, топчется, раздув свой зоб, около маленькой чистенькой голубки молодой, видно, справляющий свою первую весну голубок. А на сырой земле, у дорожки сидят, распевают и кланяются монастырские нищие, разложив драные шапки, мешки.
Сидят на солнцепеке под крепостной стеной. На одном из них солдатские драные штаны, а чтобы ноги не простыли, сзади толсто подбито ватой. Размочаленные лапти, бороды, кружки.
Шапка положена на землю, голова лохмата, вытек глаз, щека опустилась. Кланяются тут же и Лазаря тянут, как в Свягогорском монастыре при Александре Сергеевиче Пушкине, бабы-побирухи, толстые от рваных полушубков и кацавей.
Ах, родители родные!
Ах, кормильцы вы, православные!
Помяни, Господи, рабов ваших,
Рабов-то, родителей, во Царствии Небесном.
И батюшек родных!
А и матушек родных!
Ай да помяни, Господи, дедок и бабок,
Помяни, Господи, во Царствии Небесном.
А над нищими на Святых вратах под кокошником образ Успения, а вокруг него по стене славянская надпись:
«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род, Освященный храме и раю словесный…»
* * *
Нищая горбунья. Пристальные глаза.
– Он чисто сказал: твоя судьба принадлежит Царице Небесной. Так и пришлось: родители жили в разврате, с братьями я в ссоре. Помаялась, помаялась и ушла.
Трудно спускаться деду по обледенелому скату. Треух острием, борода седа, в руке жестяная банка для супа, а в другой – палка с крюком. Зипун рваный подпоясан по-мужицки ниже пояса сыромятным ремнем. Идет на монастырскую кухню за супом.
Путь нищих, богомольцев, крестьян и царей.
Князь Курбский до измены своей, будучи Юрьевским воеводой, часто наезжал в монастырь.
Псково-Печерский монастырь. Михайловский собор
Вел поучительные беседы с игуменом Корнилием и старцем Васьяном Муромцевым. Вот как начинал он послания:
«В пречестную обитель Пречистыя Богородицы Печерского монастыря, господину старцу Васьяну Ондрей Курбъской радоватися…»
Церковь Николы Ратного. Фото С.А. Гаврилова
Сохранилось письмецо его, посланное кому-то после измены.
«Вымите Бога ради, положено писание под печью, страха ради смертнаго, а писано в Пече-ры, одно в стобцех, а другое в тетраях, а положено под печью в избушке в моей, в малой, писано дело государское. И вы то отошлите любо к государю, а любо ко Пречистой в Печеры».
В монастырь он писал и будучи в бегах, с неизвестной дороги, и не имея от иноков помощи, слал старцу Васьяну эмигрантские упреки, жалуясь о том, что посылал к игумену и к Васьяну человека своего бить челом (очевидно, из-за рубежа) «о потребных животу», и по недостоинству своему от них «презрен бых», а вины своей явной не видит.
Вот тогда, в те годы, воздвигалась прекрасная церковь Николы Ратного над Святыми вратами, которой любовался Рерих, о которой в «Истории русского искусства» писал академик Игорь Грабарь, которую мне пришлось в 1935 году реставрировать с артелью мастеров каменного дела, с рыжебородыми старообрядцами из посада Черного, что на озере великом Чудском. А строителем ее был воевода Заболоцкой, взявший немецкую Нарву. Это перед ним отворились замковые ворота, опустился подъемный мост, и ливонские парламентеры направились сдаваться к нему, царскому воеводе. Это он позволил осажденным выйти из Нарвы, взяв с собой все, что они будут в состоянии увезти, это он именем царя Иоанна великодушно обещал покидавшим замок охрану, которая будет их оберегать при прохождении через весь русский лагерь. Те не верили и боялись. Тогда он приказал подать ему воды и, умывшись, приложился к образу и сказал, что исполнит свое обещание. Стоя на холме при зареве пожара, он смотрел, как началось шествие ливонцев через опустошенный, выгоревший, разбитый ядрами город. В Печерском монастыре потом он принял постриг и в Успенских пещерах погребен как смиренный инок Пафнутий.
В те далекие времена, когда горела Ливония, в боровом овраге хоронился бревенчатый монастырек, а около него лепились срубленные как баньки кельи. Селиться в порубежных местах было страшно. Не раз враги жгли церкви, а братию высекали. Это во время Ливонской войны на подаяния и жертвы уходивших в бой ратных людей иноки возвели каменные церкви, башни и стены, и около обители родился посад, а на посаде дворец на приезд царя Иоанна и храм Сорока Мучеников, глава крыта чешуей, на деревянной звонничке два колокола зазвонных, два прибойных да клепало железное, – тогда тут раскинулся торг, двор гостиный, важня и избы пушкарей, стрельцов, беглецов из-за ливонского рубежа, просящих старцев и вдов, калек, разоренных после воинских осад мужиков – слепых, озябших в литовский приход, помороженных и увечных.
Строилась стрелецкая церковь во имя Николы Ратного в тот год, когда воевал за монастырским рубежом князь Василий Серебряный, и зимой в Великий пост приходили литовские люди; строилась она в ту весну, когда, изменив царю, изменил народу князь Андрей Курбский, чтобы в рядах литовской рати прийти на Русь воевать – ведь он видел потом, литовский конный князь и боярин, как пылали подожженные литовскими татарами русские села. Вот тогда, в те ратные годы, свершена бысть церковь каменная в Печерстем монастыре на острожных воротах во имя Николы Ратна – в одной руке у чудотворца Детинец, а в другой – оберегающий рубежи меч.
С. Виноградов. «Колокольни и купола Успенского собора Псково-Печерского монастыря». 1928
Царь Иван Васильевич с братом Юрием из Новгорода заезжал в Псков в декабре 1547 года, а оттуда в Печеры. Пожаловал царь обитель золотом, жемчугами. В древних синодиках я нашел записи: «Государь царь и великий князь Иван Васильевич всеарусш веле поминать си князей и боляр 75 душ, а память по ним творить в 30 день июня». Также приказал царь поминать имена опальных людей, которые побиты – с присными их – «и сноху, и его матерь, и жену, и детей, и татарина, и брата его». И в Озерецком на заказе от Москвы побитых и намедни побитых пскович… И людей с Нова Града. И баб новоградских. И тех, что в коломенских селах от Григория Ловчикова побиты, трех по руки отсеченных. В Голубине оугле побитых от Малюты Скуратова.
Башня Печерского монастыря. Фото Athanasius Soter
Много потом пережил монастырь. Выдержал осаду Батория, удары венгерских пушек, штурм Кетлера и Тизенгаузена; набеги воров, лисовчи-ков и пана Хоткевича.
Обитые кованым железом ворота хранят вмятые углубления от шведских пуль, следы от ударов секирами.
Это голова стрелецкий Григорий Захарьев сын Вельяшев со своими ребятами оборонял монастырь в марте 1656 года. Бой начался в седьмом часу утра. Бились сначала за монастырем и не дали посада зажечь, в четырехчасовом бою отстояли государеву пороховую и свинцовую казну, но вражеских сил было много, и Григория со стрельцами от монастыря отогнали, и городовые Святые ворота враги начали высекать, и он, Григорий, прося у Всемилостивого Бога, у Пречис-тыя Богородицы и у московских чудотворцев помощи, шведов от монастыря отбил и языков поймал. В этом бою бился явственно и на том бою убит пятисотный дьячок Васька Самсонов; знаменщик головы стрелецкого Федотько Петров бился явственно и в том бою был ранен шпагой; Шишкина ранили из мушкета; Коновницын Иван убил двух шведских мужиков, и атаман Василий Евстафьев мужика убил. Утром погнали шведов к Новгородку, где они соединились с графом Магнусом де ла Гарди, но Данила Беклемишев с рейтарским полком и четырьмя сотнями псковичей при деревне Мегузице графа Магнуса помощью московских и псковских чудотворцев побил и дальше погнал.
Государь Петр, отправляясь в 1697 году в Европу, в Печерском монастыре захватил себе на дорожку муки и псковских ржаных сухарей по 25 четвертей, а в июле 1701 года опять показался тут и у ворот своими руками заложил батарею, обнес обитель рвом и валом с пятью бастионами и за плохую работу высек на валах подполковника Шеншина.
* * *
Хорошо по утрам. Тень, прохлада, выбеленные до голубизны своды, вырастающая из этой голубизны звонница. Еще держится в монастырском овраге мороз, еще слышен звон ручья под тонким, за ночь образовавшимся льдом, а за монастырем, на полях, уже полное солнце, разошлась черная дорожная грязь, и рыжая лохматая крестьянская кобылка как-то по-весеннему неловко тянет за собой сани, что скрипят полозьями по обнажившейся местами земле.
Ручей бежит по оврагу, то в солнце, то в синей снежной тени, и воздух, захваченный течением воды, бежит под тонким льдом гроздьями, пузырями.
* * *
– Да, звон здесь красивый, – говорит, вынимая из веревочного стремени ногу и относя за звонницу канат, что приводит в движение колокольное коромысло, полуслепой худой и высокий звонарь, с выбившимися из-под острой шапки полуседыми кудрями.
Я слушаю, как широкая у земли, но устремленная к небу легчайшей стрелой большая звонница, вся, от креста до подошвы, гудит от разливающейся по ней волнами дрожи.
– Этот, большой полиелейный, – показывает старик, – лучше он всех. Второй-то – неважный, звук носовой, наподобие того, как человек в нос говорит. Повседневный – тоже хороший звук, сиповатый – маленькая пленочка отлетела меди, он и дает слегка сиповатость. А звонцы, что в пролетах висят, – очень приятные звуки, разного времени и разных царей, в разное время даривали – тут и Ивана Грозного, и ливонские пленные, есть немчины – вон тот русским князем с Феллина из замка немецкого прислан в подарок, он с серебром; и Годуновские, и Петровские есть, зверьками, – разных времен, случалось, жертвовали цари, и бояре, и простой народ копейку давал. А полный трезвон если сделать, то впятером надо звонить – двум с земли, а трем ребятам на ризницу, значит, надо забраться.
Звонница Псково-Печерского монастыря. Фото С.А. Гаврилова
Вместе с ним я поднимаюсь по деревянной лестнице внутрь звонницы, где в малой древней, упраздненной сто лет назад сводчатой церкви он и живет с слепым, тишайшим вторым звонарем и пушистым котом, где натоплено, сыро и душно, как в бане.
– Стены-то в толщину без малого три аршина, – говорит он. – Приходится топить усиленно, часто. Дикий камень сырость дает, и притом сырость вредную. Переспав тут, другой встанет прямо с шальной головой. В его ведении находятся и часы с колоколами и перечасиями, заключенные в бревенчатый сруб, стоящий на звонничном плече. От железных механизмов и зубчатых колес спускаются в пролет бочки с камнями. За ежедневный завод этих часов звонари получают тройную порцию монастырского хлеба.
– Завод с треском, – показывая мне механизм, говорит он, – надо вздохнуть как следует, чтобы их завести. Они немного идут полегче, когда мороз-то спадает. Вот скоро будут бить. Мы достоим до ударов. Колокола вообще приятного звука. Их раньше при монастыре в земле лили: роется яма, сплав расплавляют, серебро льется, когда сплав застывает медный, а если раньше влить серебро в медь, то оно и сгореть может. Эти маленькие, – показал он, – переборы. Тоненький звучок. Большие-то правильно висят, а вот младшие перепутали. Украли три колокольчика во время разрухи. Полный часовой бой был красивый, а теперь они вразбивку висят. В прежнее время наблюдение было в порядке. А тут само собой все постепенно на упадок пошло. Вот были во Пскове в Вознесенском монастыре колокола единые и торжественные. Повесь в ту партию не тот колокол, как борона будет он боронить особым ведь гулом.
И. Горюшкин-Сорокопудов. «Из века в век». 1910
– Вы поживите, поживите у нас, – говорит мне разметающий дорожку Лаврентий, а штаны у него бархатные, широкие, он старенький, сухенький, жилистый, горячеглазый, из-под остренькой чистой камилавки заплетенная полуседая косенка торчит.
* * *
Ангел изображен на звоннице раскинувшим черные крылья. Левой рукой указывает на башенные часы, в правой держит испещренный письменами развернутый свиток.
Взирай с прилежанием, тленный человече, Како век твой проходит и смерть недалече. Готовися на всяк час, рыдай со слезами, Яко смерть тя восхитит с твоими делами. Ангел твой хранитель тебе извествует, Краткость жизни твоея перстом показует. Текут времена и лета во мгновение ока, Солнце скоро шествует к западу с востока. Содержай меч мщения во своей деснице. Увещает тя всегда и глаголет еще. Убойся сего меча, отселе покайся, Да не посечет тебе, зело ужасайся. Придите, людие, в вере-просвещении, Грядите во святой храм кротцы и смиренниц.* * *
А в покоях у владыки благодушие, хорошо вымыты крашеные полы, ровно лежат цветные дорожки. В солнечной угловой комнате на полу свалены книги. Четьи-Минеи, рукописи восемнадцатого века, оставшиеся от прежних владык, а среди них, переплетенные в деревянные, обтянутые черной потрескавшейся кожей переплеты с медными на сыромятных ремешках застежками и жучками, служебники с изумительными заставками, расцвеченными золотом, прозеленью и киноварью. Тогда в одном из рукописных сборников я нашел древний вариант «Слова о погибели Русской Земли», а среди переписанных книг – служебник времен вечевых с молитвами о посадниках псковских и новгородских степенных, о соборе Святой Троицы и Святой Софии и о всех людях псковичах – книгу Мисю-реву – государева дьяка, что при Иване Третьем, когда принаровские мужики возводили башни Ивангорода, опекал монастырь. Мисюрь Мунейхин, который переписывался с философами и звездочетами, кому старец из захороненного в смолистом бору у берега Псковского озера Елизарова монастыря написал знаменитое послание о Третьем Риме.
Успенский пещерный храм и ризница Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Фото Г. Михалишиной
Здесь лежали большие, разбухшие, закапанные воском синодики с именами князей, бояр и воевавших Ливонию ратных людей и рукописная тетрадь голубоватой бумаги, в которой гусиными перьями было вписано, как, когда и почему надо совершать крестные ходы, в память каких боев и осад они утверждены, на каких местах крови, у каких проломов и башен надо служить литии; тут лежали и книги времен Алексея Михайловича, писанные на рыцарской бумаге с водяными знаками, – я рассматривал на солнечный свет страницы и видел головы кнехтов, папские ключи, короны, вставших друг против друга единорогов, головы шутов в колпаках с бубенцами. Я читал испещренные рыжеватыми и уже выгоревшими чернилами страницы – описание боевых мостов, башен, церквей, колоколов, медоварен и квасоварен, пушечного наряда, перечисление сложенных под Никольской церковью в оружейной палатке пик, луков, колчанов и лат, корыт с нарубленным свинцом, затинных пищалей; и монастырский каменный город оживал, и древняя жизнь, с которой я оказался таинственно связан, расцветая, раскрывалась предо мной. И когда я вышел на вольное солнце, то уже по-иному чувствовал и видел выдержавшую осаду обитель, закованный в боевые стены монашеский, крестьянский и воинский стан.
Вход в пещеры. Фото И. Левкович
* * *
Целые дни я занят – осматриваю колокольни, стены, башни, старые погреба и всюду делаю радостные находки. Вот заброшенная на чердак шитая шелками древняя воинская хоругвь цвета увядающих розовых листьев; вот большая икона времен Алексея Михайловича с тонким рисунком башен, с бревенчатыми кельями, квасоварнями, золотыми, как пшеничный колос, главами, с малыми колокольчиками на большой и малой звонницах, заброшенная, покрытая слоем известкового голубиного помета, который для истории русского зодчества рисунок неизвестного иконописца и сохранил. Владыка мне доверил ключи от Никольской церкви, а из стрелецкой церкви Николы Ратна проржавевшая железная дверь ведет через темную, с замурованными бойницами, острожную башню с прогнившим полом на крепостную стену, где еще чудом сохранились деревянные мосты, с которых оборонявшие обитель иноки и стрельцы когда-то били по польским ворам и шведским рейтарам из затинных пищалей.
Мосты ведут к сторожевой башне, что господствует над Святыми воротами. Я радуюсь солнцу, ветру, как ребенок. Меня уже полонило древнее очарование; свободно и легко я живу в тех веках. Я открываю малую дверь, пугаю голубей, которые с незапамятных времен живут в этой башне, ибо и настил, и перекрещивающиеся балки покрыты столь толстым пометом, что от него тут тесно, душно, тепло. Здесь много голубиных гнезд, здесь веками справляют свою любовь голубиные пары, самки кладут по два яичка. Отсюда делают вылет окрепшие молодые птенцы. По узенькой лестнице я поднимаюсь наверх, вылезаю через люк на обнесенное перилами стрелецкое дозорное место. Воля-то какая на весеннем ветру! Отсюда виден весь окруженный то поднимающимися на холмы, то спускающимися в овраг ручья Каменца стенами, прорастающий словно с озерного дна дубовыми ветвями и куполами монастырский каменный город, отсюда виден пригород и поля, дорога, ведущая в голубые боры на Ливонию, боевая дорога походов. Здесь раньше была сторожевая вышка носивших лазоревый кафтан монастырских стрельцов. Здесь, как всегда, настороже дует весенний ветер, принося запах воли, талого снега, наполненных предвесенней горечью, оживающих далеких лесов. Здесь хорошо и крепко думается.
Ансамбль Псково-Печерского монастыря. Фото И. Левкович
И я вижу: строят каменный город. Огановище. Мужицкие сани. Валуны свозят с окрестных полей, плиты обозами везут из Изборска. Дымят костры. Рати идут на Литву. В далекие боры утекает усеянная курганами, политая кровью дорога, уходит туда, где в борах, закрывая славянский путь к Варяжскому морю, стоит передовой немецкий форпост, выдвинутое немцами при движении на восток волчье гнездо, Новый городок ливонский – замок Нейгаузен. Там теперь высятся развалины над рекой Пимжей, поросшие елями провалившиеся сводчатые погреба, но на уцелевшей башне еще сохранились выложенные рыцарями в рыжем кирпиче белые орденские кресты. В Иванов день эстонская молодежь на развалинах зажигает костры, плетет венки и поет яновы песни. Весной там все бело от чистого цвета разросшейся на немецком пепле черемухи. Там на блестящем, черном, только что вспаханном поле я видел с гимназистом Васей Титовым выпаханные крестьянским плугом желтые ливонские черепа. На русской стороне, на холме, на котором стояли разбившие замок пушки Адашева и князя Серебряного, где был боевой русский стан, ранней весной я отдыхал с моим молодым печерским помощником Васей Титовым. Мы сидели на пнях, а потом пили сладкую соковицу, что заливала подсеченные эстонскими пастухами деревья, по очереди прижимаясь губами к белой шелушистой коре, пили сладкий, прохладный, рожденный древней землей березовый сок, и над нами вились, желая к сладкой бересте поскорее прильнуть, осы и пчелы. Потом Вася, знавший сетский язык, помогал мне расспрашивать столетнюю сетку в белом кафтане, и она, рассказывая, высохшей рукой показывала нам, где стояли обозы Грозного, мужики пекли хлеб, где павших на рати похоронили; со слов стариков она нам рассказала о том, как из новгородчины приходили русские женщины плакать на эти могилы. Тогда Вася на вспаханном поле нашел каменное ядро, помню, как он очищал его от влажной, перемешанной с пеплом земли и звал меня идти ночевать к нему в деревню Воронки-но, что недалеко от Мегузиц, под которыми стрелецкий голова разбил графа Магнуса де л а Гарди, звал, соблазняя крупной подснежной клюквой, которой были осыпаны его родные болота, но времени у нас было мало, и мы, присев у избы чудинки, с наслаждением похлебав деревянными ложками принесенной с погреба холодной простокваши, плотно заправившись ржаным свежим хлебом, отправились в Тайловский бор.
Печоры, Лазаревская церковь. Фото Ludushka
* * *
Тут в порубежных борах с незапамятных времен висели пчелиные борта. Еще псковское вече и изборяне брали с жившей в борах чуди, установленную Ярославом Мудрым, медовую дань. Ливонцы с мечом и католической проповедью, дойдя до реки Пимжи и построив Нейгаузен, захватили большую часть заросшего медоносным вереском бора, из-за которого особенно яростная началась у них война с изборянами и псковичами. Это потом уже немцы, установив по реке Пимже границу, чтобы обеспечить себя от набегов, стали платить псковичам ежегодную дань – пять пудов меду собору Живоначальной. Осенью 1557 года, вспомнив медовую дань Ярослава и расширив требования, выбивая незваных гостей, двинул Грозный войска на Ливонию.
* * *
С монастырских, побитых венгерскими, польскими и шведскими ядрами стен, под дующим с Руси ветром, я часами любовался широкой далью и глаз не мог отвести от утекающих в снежные поля дорог, любовался великим русским небом с медленно тающими облаками, широким и печальным снежным раздольем, синеющими по горизонту лесами. От ветра, грусти, любви, от приливающих чувств влажными становились глаза, и все было для меня родным и понятным, словно сердце всегда жило здесь и я со всеми отошедшими жил по-сыновьи.
* * *
Как ежи лежат леса по холмам. Снега блестят, нейгаузские леса в голубоватом весеннем тумане. На крепостной стене припекает. Целый день слышен гул голосов долго не разъезжающегося великопостного стана. В монастырском саду побелены яблони: розовыми кажутся их стволы, а в садовых ямах лежит снег, как белое кружево. Он сползает с пологих крыш монастырских конюшен. Утром ручьи чуть слышно начинают звенеть, а к обеду, Боже мой, всюду веселый говор и петухи шалеют от света.
Весна, весна красная. Сияющее небо, запах лесов и земли. Промороженный за зиму камень стен и церквей начинает на солнце дышать, а вдали теплые избы посада.
Молодой инок на Святой горе под вечер, когда солнце уже опускалось, слушая шум посада, тихо мне говорил:
– Плакал я, когда постригали, ведь молодой, старому-то ничего, жизнь прожил. В одной рубахе, и подрясничек накинут. Владыка на амвоне, а монахи встречают, поют. Нужно лечь на пол ничком – распинаться. А я в одной рубашке. И монахи черными ризами меня закрывают.
Печоры, Успенский собор. Фото Ludushka
Розовела звонница, искристым золотом излучаясь, дрожали под горою кресты.
– Вот весной тяжело, – продолжал он, – взойдешь на Святую гору, а вдали всюду по раздолью песни поют. Сирень цветет, от березы запах. Так-то грустно на сердце. Хорошо, если выйдешь вдвоем, с другом поговоришь, а одному тяжело.
– Ох, сильно журчит весной поток.
* * *
Стоял светел месяц перед красным солнышком — Стоял князь молодой перед родным батюшкой. «Мой родной батюшка, прости и благослови, В путь дорожку отпусти, хлебом-солью надели. Ко суду Божью итти — страшным-страшненько. На крутой крылец итти — скоры ножки ломятся, У злата венца стоять — сердце ужахнется».Так напевала мне в богадельне старуха Мария Вторушина, вдова рыбака, что с пятнадцати лет ходила с дружиной на ловлю, умела править парусом и грести.
К. Лебедев. «Царь Иван Грозный просит игумена Корнилия благословить его в монахи». 1898
Напевала со слезами в бревенчатой нищей избе, в которой было светло от тающего на улице снега, напевала, вспоминая молодость, золотые слова городищенской свадьбы.
На лугу кони попущены, Шелковыми путами попутаны, Не едят кони зеленой травы, Что не пьют кони холодной воды, Они слышат путь-дороженьку. По дороженьке не пыль пылит, Во цистом поле не дым дымит, Там не царь с царем соезжаются, Соезжается Иван, соезжается Васильевич Со своим веселым поездом, Со своей белой лебедушкой, С Катериною со Лаврентьевной. Уплыли, уплыли серые гуси, на море уплыли, Увезли, увезли нашу похвальную, увезли, Увезли, увезли молодую без даров, через десять городов. Во Божью церковь свели, русу косу расплели, На шесть прядок разняли, вкруг головки убняли и своею назвали. Помаленьку, бояре, с горы спущайтеся. У нас горы крутые, у вас кони добрые, Не поткнулся бы конь вороной, Не свалился бы князь молодой.* * *
– Тут, сынок, – сказал дед, – кругом были глухие леса, звероловцы ходили. Это потом к монастырю люди стали переселяться. Избенки монашеские были бревенчатые, луковые окна изнутри дощечками задвигались. Окон было мало, зато свет был дорог. Милый, – бедные были. Другой монах мешок летом носил на плечах. Все были трудники. И игумен косил и пахал. Церкви справляли – сами хломали топором. Вот как было! Ну, и скоро прославились. Издалеча начал народ приходить. А трудно было найти. Блуждали, спрашивали – где тут пещеры, монастырь называется. А кругом – чистый лес. Пни, дубы, лешие, яблони. Только на Пачковке жил бобылек. Мельница была у него, и припор воду держал. А этот ручей был пнями завален. Не монастырь, а овраг. Боже, Боже! До монастыря только в Тайлове жительство было.
– И вот, сынок, старики рассказывали, Царица Небесная бором тайловским шла, искала приюта. Шла Царица Небесная, хотела остановиться в Тайлове, да петуны стали петь. Не понравилось
Матери Божьей. Там было строение, петуны стали петь, а Ей слышно. Вот здесь, в Печерах, Ей уподобилось.
– Да, – помолчав, сказал он, – вот Матерь Божья в Тайлове хотела остановиться, на круче, да ушла дальше.
– А потом звероловцу на дубу Ее икона явилась. Охотник ходил. Нашел овраг в деревах, весь ветрами завален. Слышит, ангелы поют, видит, дерево-дуб, и на дубу ему икона открылась.
– И вот, матери-отцы говорили: молитесь Царице Небесной, не будет ни мора, ни глада. В Ильин день была холера. Помогла.
– Вот, детки мои, в военное время так Она спасала, так Она покрывала. Шла, заступница, и все за Ней с плачем. И-и, вой какой был.
– А во время боев наши старики в монастырских печерах спасались. Мужики отбивались, а у баб там печурки были нарыты. В монастыре столько народу набилось, – и стон, и крик, и от голода помирали, и от давки. Где икона, там проломанная стена, там много народу положено. На стене бились – топорами тогда мужики отрубались.
– А когда Корнилий ограду наносил, то народ нанимал и была обозначена цена – двадцать пять алтын. С Изборска возили плиту, а деньги были кучей нарыты здесь, где Спаситель в проходе… Вот какая бывала святость, – другой полу денег награбит, а выйдет за ворота, все двадцать пять алтын. Кто накладет камней много, а сам на худой лошаденке – все лошади легче. А другой накладет совсем мало, так лошади совсем тяжело – воротись назад и побольше возьми. Хороший мужик так по сенному возу возил. Вот преподобный Корнилий! Матерь Божья строила и преподобный Корнилий.
Печоры. Церковь Николы Ратного. Икона. Фото Ludushka
– Милый, без этой стены пропал бы народ. Выбили бы всех, полонили.
– А скоро, сынок, опять будет война, – сказал потом он. – Антихрист на Россию пойдет.
– Пойдет антихрист, будет народы к себе преклонять, к перстам печати прикладывать. Дай крови печать. Вот наберет всюду войско и начнет битву во Пскове. Никола Угодник выедет и Илья Пророк. В Троицком соборе лежат святые князья, и те тогда встанут. Гавриил, и Тимофей, и Олек-сандра Невский встанут за нашу землю. Загрузится тогда река Великая войском. Погоди, – говорил дед Оленин, – скоро на разливе огненные кони заржут. Понесутся, полетят с захода огненные птицы, дубовые носы, полетят огненные кони, народ все туманный.
Церковь Пресвятой Богородицы Успения вырезана на горе, алтарь – на летний восход солнца. И за алтарем погребены отошедших братии телеса – игумнов, строителей, трудников и богомольцев. В больших братских пещерах кладена печерская братия – несть числа.
А по Святой горе, на церквах, над алтарем, пещерами, когда-то рос лес, возвещая о жизни, роща березовая, яблони, дубы и рябины.
* * *
Вечер. Лампада мерцает под воротными сводами. Дубы и яблони растут на Святой горе, а под деревьями и под главами Успения – братские усыпальницы, дубовые колоды, истлевшая парча, кости, гробы, дух древнего несмрадного тления – песок в глубине пещер закопчен свечами и везде на стенах – спящие комары. И под Лазаревской церковью под землею скудельница.
А под куполами Успения громадные, сложенные из хвороста, нанесенного сюда галками, гнезда. Здесь странно ночью при мерцании восковых свечей – песок буграми, стропила, балки. Шатрами над головой вздымаются полые, мохнатые от гнезд, перекрещенные сосновыми брусьями, утвержденные на столбах купола. Обитая железом церковная крыта вросла в древний дуб, из песка торчат обросшие мхом валуны, бревна упираются в землю, а церковь там, глубоко под землей.
* * *
В пещерах, у мест упокоения ратных, вставлены керамиды. Они облиты зеленой глазурью, украшены крестами и травами, иные тронуты воском и киноварью.
Печоры. Собор Михаила Архангела. Фото Ludushka
Широко горела восковая свеча. Опыли руки. Я читал имена государевых бояр, воевод, псковских гостей, детей боярских, привезенных в дубовых колодах с бранного поля, положенных в Дом Пречистой, в Печерах, убиенных на царской службе, на рати, от немец ливонских, павших на рубеже – имена ближних стольников и ратных людей из Пскова, Москвы, Полоцка, Ржева, Торопца, Новгорода и Шелонской пятины. Погибших в сече под Колыванью, под Юрьевым, на вылазках и на осадах. Павших в Смутное время во Пскове в ми-роносицкую вылазку. Проливших кровь за Свейским рубежом. Скончавшихся за рекою Самарою, в Конских водах, на службе в Крымском походе. Жизнь свою положивших под Нов-Городком Ливонским Нейгаузеном и на Печерской земле.
Вот могила:
Петр Степанов Пушкин – убиен от безбожных немец под Ельмано в 7083 году, а неподалеку от него в те же времена положен и раб Божий Иван Петрович Мусорской.
Вот где роды их сошлись.
Псково-Печерский монастырь.Надгробная керамида в пещере.XVI в.
Сырость, промозглый хлад. Сперва с живого морозца кажется, что спокойно, тепло, но постепенно, по мере того как время идет, начинает прохватывать одежду и тело пещерный холод, отнимая животную теплоту, ничего не давая взамен – здесь все глухо, переход за переходом, улицы подземные расходятся направо-налево, в крепкие песчаные стены вмурованы блестящие поливою доски с выпуклыми славянскими датами и письменами, с перечислением имен, городов, ровно и бестрепетно горит свеча, под землею нет времени, глух человеческий голос. Видно дыхание. У владыки побледневшее со сверкающими глазами лицо. Он протянул руку в оставленное в замурованной стене окошечко, и свет упал на груды дубовых колод, сосновых гробов, взгроможденных до сводов. Это старая братская усыпальница, – в колодах безымянные иноки лежат с кирпичом под черепом, а в пещерных улицах – власти земные. И их память хранят по иконописному сработанные в монастыре, завитые славянским плетением и церковными главами керамиды, закрывающие узкие, ископанные в красном песчанике норы, в которые вдвинуты привезенные с бранного поля гробы.
Ансамбль Псково-Печерского монастыря. Фото Ludushka
А по выходе из пещерной сырости на морозную волю ветер с запахом подмерзшего снега охватывает и внезапно пьянит, над головой разверзается небо, и живая чистота его, не зная предела, властно и великолепно течет.
У владыки стол давно уже накрыт, и на нем для гостя поставлена и водочка в графине, и черничное вино, и натертая редька, и соленые грузди, и прекрасно зажаренный, пойманный в Псковском озере жирный лещ. Мы ужинаем. Вася Титов, прислуживавший тогда нам печерский гимназист, живший как келейнику владыки в покоях, широколицый и веселый, слушал нашу беседу. Помню, как он, оживленный, провожал меня до крыльца, уславливаясь об утреннем походе на Куничину ropy. Думал ли я, что этот деревенский мальчик, помогавший мне осматривать монастырские чердаки, побывавший со мною весной под Нейгаузеном, через несколько лет будет драться в этих лесах против немцев в рядах партизан. Я помню, как его бабка, угощая меня в деревне Воронкино, кроила крупными ломтями хлеб, прижав каравай к старушечьей тощей груди. Вася Титов. Он, раненый, был взят немцами в плен и как советский партизан ими расстрелян. Бледный, простоволосый, советский лейтенант Василий Титов мужественно встретил смерть, стоя под наведенными на него дулами немецких винтовок.
В тот вечер кругом все было мирно, да и кто мог поверить тогда, что через несколько лет запылают села и города, что на юге Франции я встречу пригнанных немцами прямо из Гатчины советских военнопленных из-под Новгорода, Нарвы и Пскова, которые по вечерам, забегая ко мне слушать московское радио, расскажут о боях на Волхове, на Великой. Разве можно поверить, что на Монт Сен-Валерьен немцами будет расстрелян Борис Дикой, с которым мы собирали под Печерами старинные вышивки и под Лезгами ночью, смеясь, купались в Абдехе, а разрывом немецкой бомбы в Белграде будет убита участница наших экспедиционных работ Ирина Окунева, доктор Карлова университета, что с мешком за плечами бродила по дорогам Изборского края.
Монастырь давно спит. Небо удивительной чистоты, но блеск звезд уже смягчен весною. Подмораживает. Бледно светят главы пещерного храма. Юродивый, стоя посреди двора на снегу, крестится на собор, на вершины деревьев, небо, звезды, а потом внезапно падает, кладет земной поклон. Снова заносит крестное знамение, смотрит на свои крепко сложенные персты, словно заколдовывая их своей тайной взволнованной силой и снова крестится и падает на колени, вернее, не на колени, а по-старинному – руками вперед, челом в снег. Кругом никого нет, монастырь замер, братия спит, спят звонари.
Псково-Печерский монастырь. Фото Н. Денисовой
Вот ударил часовой колокол – какая древность, какой великой торжественности и печали падает звук и, падая, не умирает, а медленно стекает с колокольных краев, мягко расходясь, заполняя закрытый крепостными стенами овраг. Потом мелкие колокола неторопливо бьют перечасие. И в монастырской тишине, во сне и покое церквей и пещерных могил вздымаются громадные деревья, простирающие к свету звезд свои чистые голые ветви. Как незыблем ночной воздух, как таинственно и чудно на монастырских полях. Там крепко спят деревни, и пустынная дорога ведет к Новому городку, к Нейгаузену, та дорога, по которой проходили псковские войска, шел Грозный. Это было недавно, думал я, глядя на небо, не изменившееся с тех пор, ибо то же небо стояло над вершинами сосновых боров, когда тут не было ни монастыря, ни человека и только лесные деревья падали в излюбленный зверями овраг, где протекали воды малого, но светлого ручья Каменца, где у подножья дерев видны были песчаные осыпи с темными впадинами пещер, когда-то вымытых древними подземными реками.
Иван Шмелев. Троице-Сергиева лавра
Под Троицей
Троица совсем близко. Встречные говорят:
– Вон на горку подняться – как на ладоньке вся Троица!
Невесело так плетутся: домой-то идти не хочется. Мы-то идем на радость, а они уж отрадовались, побывали-повидали, и от этакой благодати – опять в мурью. Что же, пожили три денька, святостью подышали, надо и другим дать место. Сидят под елками – крестики, пояски разбирают, хлебца от преподобного вкушают – ломтем на дорожку благословил. На ребятках новые крестики надеты, на розовых тесемках, серебрецом белеют.
Спрашиваем: ну как… хорошо у Троицы, народу много? Уж так-то, говорят, хорошо… и надо бы быть лучше, да некуда. А какие поблаголепней, из духовного, причитают:
– Уж так-то благоуветливо, так-то все чинноблагоподатливо да сладкогласно… не ушел бы! А народу – полным-полнехонько.
– Да вы, – говорят, – не тревожьтесь, про всех достанет. А чуть нестача какая – похлебочки ли, кашки, благословит отец настоятель в медном горшке варить, что от преподобного остался, – черпай-неочерпаемо!
Радостная во мне тревога. Троица сейчас… какая она, Троица? Золотая и вся в цветах? Будто дремучий бор, и болыиая-болыиая церковь, и над ней, на облачке, золотая икона – Троица. Спрашиваю у Горкина, а он только и говорит: «А вот увидишь».
Троице-Сергиева лавра. Фото Jean & Nathalie
Погода разгулялась, синее небо видно. Воздух после дождя благоуханный, свежий. От мокрого можжевельника пахнет душистым ладаном. Домна Панферовна говорит – в Ерусалиме словно кипарисовым духом пахнет. Там кипарис – древо черное, мохнатое, как наша можжевелка, только выше домов растет. Иконки на нем пишут, кресты из него режут, гробики для святых изготовляют. А у нас духовное дерево можжевелка, под иконы да под покойников стелют.
Веселые луговинки полны цветов – самая-то пора расцвета, июнь месяц. В мокрой траве, на солнце, золотятся крупные бубенцы, никлые от дождя, пушистые, потрясешь над ухом – брызгают-звенят. Стоят по лесным лужайкам, как тонкие восковые свечки, ночнушки-любки, будто дымком курятся, ладанный аромат от них. И ромашки, и колокольчики… А в Вифании, говорят, ромашки… прямо в ладонь ромашки!..
Анюта ползает по лужкам в росе, так и хватает любки. Кричит, за травой не видно:
– Эти, бабушка, какие в любовь присушивают, в запазушку кладут-то?
А Домна Панферовна грозится:
– Я тебя, мокрохвостая, присушу!
Не время рвать-то, Троица сейчас, за горкой. Кривая все на лужки воротит. И Горкин нет-нет, да остановится, подышит:
– Ведь это что ж такое… какое же растворение! Прямо не надышишься… природа-то Господня. Все тут исхожено преподобным, огляжено. На всех-то лужках стоял, для обители место избирал.
Федя говорит, как преподобный, отроком когда был, лошадку потерял-искал, а ему старец святой явился и указал: «Вон пасется твоя лошадка!» – и просвиркой благословил. Антипушка и говорит:
– Ишь, с лошадкой тоже хозяйствовал, не гнушался.
– Как можно гнушаться, – говорит Горкин радостно, – он и с топориком трудился, плотничал, как и мы вот. Поставит мужичку клеть там, сенцы ли – денег нипочем не возьмет! «Дай, – скажет, – хлебца кусочек, огрызочков каких лишних, сухих… с меня и будет». Бедных как облегчал, сердешный был. С того все и почитают, за труды-молитвы да за смирение. Ну до чего ж хорошо-то, Господи!..
Федя идет босой, сапоги за спиной, на палочке. Совсем обезножил, говорит. И скучный. И сапоги у него разладились – подметки с дождя, что ли, отлетели. Поутру в Хотькове Горкину говорил, что у Троицы сапоги покупать придется, босого-то к архимандриту, пожалуй, не допустят – в послушники проситься. Горкин и пошутил:
– А ну-ка скажет архимандрит – ай сапоги-то пропил?
А Домна Панферовна и говорит тут:
– С чего ты это по сапогам соскучился? Ай есть кому на тебя смотреть, пощеголять перед кем?
А это она – потом уж сама сказала – над Федей пошутила, что внучке старушкиной земляничку все набирал. Вот он и заскучал от утра, что сапоги-то, не миновать, надо покупать. А старушка с молодкой в Хотькове поотстали, иеромонах там взялся отчитывать над внучкой, для поправки. За дорогу-то попривыкли к ним, очень они приятные, ну, и скучно. Смотрит на лужок Федя и говорит:
– Эх, поставить бы тут келейку да жить!
А Домна Панферовна ему, в шутку:
– Вот и спасайся, и сапог лаковых не надо. А поодаль еще кому поставишь, земляничку будешь носить, ради души спасения.
С. Коровин. «К Троице»
Федя даже остановился и сапоги уронил.
– Грех вам, Домна Панферовна, – говорит, – так про меня думать. Я как сестрице братец… а вы мысли мои смущаете.
А она на язык вострая:
– Нонче сестрица, а завтра – в глазах от нее пестрится! Я тебя от греха отвела, бабушке пошептала, чтоб отстали. И кралечка-то заглядываться стала… на твои сапоги!
Горкин тут рассердился, что не по этому месту такие разговоры неподобные, и скажи:
– Это ты в свахах в Москве ходила и набралась слов, нехорошо.
Эрнст Лисснер. «Троице-Сергиева лавра». 1907
И стали ссориться. Антипушка и говорит, что отощали мы от пощенья, на одних сухариках другой день, вот и расстроились. А на Домну Панферовну бес накатил, кричит на Антипушку:
– Ты еще тут встреваешь! На меня командиров нет!.. Я сто дней на одних сухариках была, как в Ерусалим ходила… и в Хотькове от грибной похлебки отказалась, не как другие… во святые-то просятся!
Горкин ей говорит, что тут во святые никто не просится, а это уж как Господь соизволит… и что и он от похлебки отказался, а копченой селедки в уголку не грыз, как люди спать полегли.
Ну, тут Домна Панферовна и приутихла.
– И нечего спориться, – Горкин-то говорит,
– кто может – тот и вместит, в Писаниях так сказано. А поговеем, Господь сподобит, в «блинных» у Троицы заправимся, теперь недолго.
И все мы повеселели, и Федя даже. Мы с Анютой рвем для Кривой цветочки, и она тоже рада, помаргивает – жует. А то бросит жевать и дремлет, висят на губе цветочки. А то присядем и слушаем, как тихо, пчелки только жужжат-жужжат. Шишечка упадет, кукушка покукует – послушает. И вот будто далеко… звон?
– Благовестят, никак… слыхал? – прислушивается Горкин и крестится. – А ведь это у Троицы, к «Достойно» звонят… горкой-то приглушает?.. У Троицы. Самый ее звон, хороший такой, важный…
Нет, только кукушку слышно, голосок ей дождем обмыло – такая гулкая. А будто и звон?.. За горкой сейчас откроется.
Федя уже на горке, крестится…
– Троицу увидал?
Я взбегаю и вижу… Троица? Блеск, голубое небо, и в этом блеске, в голубизне, высокая розовая колокольня с сияющей золотой верхушкой! Верхушка дрожит от блеска, словно там льется золото. Дальше – боры темнеют. Ровный, сонный как будто, звон.
Я слышу за собой тяжелое дыхание, вздохи. Горкин, без картуза, торопливо взбирается, весь мокрый, падает на колени, шепчет:
– Троица… матушка… дошли… сподобил Господь…
Потирает у сердца, крестится, с дрожью вжимая пальцы. Я спрашиваю его, где Троица? Его голова трясется, блестит от поту; надавка от картуза на лбу кажется темной ниткой.
– Крестись, голубок, – говорит он устало, слабо, – вон Троица-то наша…
Колокольня у Гефсиманского Черниговского скита в Сергиевым посаде. Фото John Pruess
Я крещусь на розовую колокольню, на блистающую верхушку с крестиком, маленьким, как на мне, на вспыхивающие пониже искры. Я вижу синие куполки, розовые стены, зеленые колпачки башенок, домики, сады… Дальше – боры темнеют.
Все вздыхают и ахают – Господи, красота какая! Все поминают Троицу. А я не вижу, где Троица. Эта колокольня – Троица? блистающая ее верхушка?
Я спрашиваю: да где же Троица?! Горкин не слышит, крестится. Антипушка говорит:
– Да вон она, вся тут и есть Троица!
Я тяну Горкина за рукав. Он утирает слезы, прихватывает меня, радуется, плачет и говорит-шепчет:
– Дошли мы с тобой до Троицы, соколик… довел Господь. Троица… вон она… все тут и Троица, округ колокольни-то, за стенами… владение большое, самая лавра-Троица. Во-он, гляди… от колокольни-то в левой руке-то будет, одна главка золотенька… самая Троица тут Живоначальная наша… соборик самый, мощи там преподобного Сергия Радонежского, его соборик. А поправей колокольни, повыше-то соборика, главки сини… это собор Успенья. А это – Посад, домики-то под лаврой… Сергиев Посад зовется. А звон-то, звон-то какой, касатик… покойный, важный… Ах, красота Господня!..
Я слышу ровный, сонный как будто, звон.
Подбегает мальчик с оладушком, кричит нам:
– Папаша вас зовет в гости!., на дачу! – и убежал.
Какой папаша? Смотрим – а это от Спаса-в-Наливках дьякон, со всей своей оравой. Машет красным платком из елок, кричит, как в трубу, зычно-зычно:
– Эй, наши, замоскворецкие! В гости ко мне, на дачу!..
Надо бы торопиться, а отказаться никак нельзя: знакомый человек, а главное – что лицо духовное. Смотрим – сидят под елками, как цыганы, и костерок дымится, и телега, огромная, как барка. И всякое изобилие закусок, и квас бутылочный, и даже самоварчик! Отец дьякон – веселый, красный, из бани словно, в летнем подряснике нараспашку, волосы копной, и на нем ребятишки виснут, жуют оладушки. Девочки все в веночках, сидят при матери. Дьяконица такая ласковая, дает мне оладушек с вареньем, велит девочкам угощать меня. Так у них хорошо, богато, белорыбицей и земляникой пахнет, жарятся грибы на сковородке – сами набрали по дороге, и жареный лещ на сахарной бумаге. Дьякон рассказывает, что это сами поймали в Уче – с пушкинским батюшкой по старой памяти бредешком прошлись. Лошадь у них белая, тяжелая, ломовая, у булочника для богомолья взяли. Едут уж третий день, с прохладцей, в лесу ночуют, хоть и страшно разбойников. А на случай и лом в телеге.
М. Нестеров. «Юность Сергия».1891
Дьякон всех приглашает закусить, предлагает «лютой перцовки», от живота – всегда уж прихватывает в дорогу, от холеры, но Горкин покорно благодарит:
– Говеем, отец дьякон… никак нельзя-с!
И ни лещика, ничего. Дьякон жмет-трясет Горкина, смеется:
– A-а, подстароста святой… прежде отца дьякона в рай хочешь? Вре-ешь!
И показывает за елки:
– Вон грешники-то самые отчаянные, как их пораскидало… любимые-то твои! Ну-ка, пробери их, Панкратыч. В Пушкине мужики за песнопения так заугощали. На телегах помчали, а тут и свалили, я уж позадержал. А то прямо к Троице везти хотели, из уважения.
А это наши васильевские певчие в елках спят, кто куда головой, под Мытищами их видали: Лом-шаков и Батырин с Костиковым. Дьякон шутит:
– На тропарях, на ирмосах так и катятся всю дорогу, в рай прямо угодят!
Дьяконица все головой качает и отнимает у дьякона графинчик:
– Сам-то не угоди!
Пожалели мы их, поохали. Конечно, не нам судить, а все-таки бы посдержаться надо. Ломша-чок только-только из больницы выписался – прямо у смерти вырвался. Дьякон Горкину белорыбицы в рот сует, кричит:
– Нипочем без угощенья не отпущу!
Уж дьяконица его смирила:
– Да отец… да народ ведь смотрит! да постыдись!..
Только бы уйти впору, а она расспрашивает, не случилось ли чего в дороге: вон, говорят, у Рахманова щепетилыцик купца зарезал, и место они видали, трава замята, лавочник говорил. Ну, мы ей рассказали, что это неправда все, а в Посаде один зарезался. А она все боялась, как в лесу-то заночевали, да дождик еще пошел. Дьякон-то хоть и очень сильный, а спит как мертвый: за ноги уволокут – и не услышит. И что же еще, оказывается. Говорит: двух воров в Яузе парень один топил, лаковые сапоги с сонного с него сняли… ну, нагнал, отбил сапоги, а их в Яузу покидал, насилу выплыли. Народ по дороге говорил – видали сами.
Ну, мы ей рассказали, как было дело, что это самый вот этот Федя богохульников в речке наказал, а лаковые сапоги расслабному пареньку пожертвовал. Дьяконица стала его хвалить, стала им любоваться, а Федя ни словечка не выговорит. Дьякон его расцеловал, сказал:
– Быть тебе великим подвижником!
Будто печать на лице такая, как у подвижников.
А тут и певчие пробудились, узнали нас, ухватились за Горкина и не отпускают: выпей да выпей с ними!
– Ты, – говорят, – самый наш драгоценный, тебе цены нет… выпьем все за твое здоровье, да за отца дьякона, да за матушку дьяконицу и тебе любимое пропоем: «Ныне отпущаеши раба Твоего»… и тогда отпустим!
Никак не вырвешься. И отец дьякон за Горкина уцепился, на колени к себе голову его прижал – не отпускает. Дьяконица уж за нас вступилась, заплакала, а за ней девочки в веночках заплакали.
– Что же это такое… погибать мне с детьми-то здесь?!
Ну, стали мы ее утешать. Горкин уж листик белорыбицы за щеку положил, съел будто, и перцовки для виду отпил – зубы прополоскал и выплюнул. Очень они обрадовались и спели нам «Ныне отпущаеши». И так-то трогательно, что у всех у нас слезы стали, отец дьякон разрыдался. И много народу плакало из богомольцев, и даже копеечек наклали. А которые самые убогие – им отец дьякон сухариков отпускал по горсти, «из бедного запасца»: целый мешок на телеге был у него, для нищих. Хотели еще свежими грибками угощать и самовар ставить – насилу-то вырвались мы от них, чтобы от греха подальше.
Н. Дубовский. «В Троице-Сергиевой лавре». 1917
Горкин и говорит, как вырвались да отошли подальше:
– Ах, хороший человек отец дьякон, душа-че-ловек. Знаю его, ни одного-то нищего не пропустит, последнее отдаст. Ну, тут, на воздухе, отдыхает, маленько разрешает… да Господь простит.
А Домна Панферовна стала говорить: как же это так, лицо духовное, да еще и на богомолье, – напротив Горкину А Горкин ей объясняет, через чего бывает спасение: грех не в уста, а из уст!
– Грех – это осудить человека, не разобрамши. И Христос с грешниками пировал, не отказывал. А дьякон богадельню при церкви завел, мясника Лощенова подбил на доброе дело. И певчие люди хорошие… а утешение-то какое, народ-то как плакал, радовался! Прости Ты им, Господи. А мы не судьи. Ты вон и женский пол, а на Рождестве как наклюкалась… я те не в осуду говорю, а к примеру.
Сказал от души, а он-то уж тут как тут.
Домна Панферовна закипела и давай, давай все припоминать, что было. То да то, да это, да вот как на свадьбе гробовщика Базыкина, годов пятнадцать тому, кого-то с лестницы волокли… Горкин задрожал было на нее так руками, потом затряс головой и закрылся, не видеть чтобы. И так его жалко стало, и Домна Панферовна стала махать и плакаться, и богомольцы стали подходить. И тут Федя заплакал и упал на коленки перед нами – и всех тут перепугал. Говорит, в слезах:
– Это от меня пошел грех, я вас смутил-рас-строил… земляничку собирал, с того и разговор был давеча… а у меня греха в мыслях не было… простите меня, грешного, а то тяжело мне!
И – бух! – Горкину в ноги. Стали его подымать, а он и показывает рукой вперед:
– Вот какой пример жизни!..
Глядим – а меж лесочками, как раз где белая дорога идет, колокольня-Троица стоит, наполовину видно, будто в лесу игрушка. И говорит Федя:
– Вот, перед преподобным, простите меня, грешного!
Так это нас растрогало, как чудо! Будто из лесу-то сам преподобный на нас глядит, Троица-то его. И стали все тут креститься на колоколенку, и просить прощения у всех, и в ноги друг дружке кланяться, перед говеньем. А тут еще богомольцы поодаль были. Узнали потом, почему мы друг дружке кланялись, и говорят:
– Правильные вы, глядеть на вас радостно. А то думалось, как парень-то упал, – вора, никак, поймали, старичка, что ли, обокрал, босой-то, ишь как прощения просит! А вы вон какие правильные.
М. Нестеров. «Прп. Сергий Радонежский»
Позадержались так-то, а Кривая пошла себе, насилу-то мы ее догнали.
А тут уж и Посад виден, и лавра вся открывается, со всеми куполами и стенами. А на розовой колокольне и столбики стали обозначаться, и колокола в пролетах. И не купол на колокольне, а большая золотая чаша, и течет в нее будто золото от креста, и видно уже часы и стрелки. И городом уж запахло, дымком от кузниц.
Свято-Троицкая Сергиева лавра. Фото В. Лопатина
Горкин говорит: сейчас первым делом Аксенова надо разыскать, свой дом у него в Посаде – Трифоныч Юрцов на записке записал, игрушечное заведение у него, все его тут знают, из старины. У него и пристанем по знакомству, строение у него богатое, Кривую есть где поставить, и от лавры недалеко. А главное – человек редкостный, раздушевный.
Идем по белой дороге, домики уж пошли, в садочках, и огороды с канавами, стали извозчики попадаться и подводы. Извозчики особенные, не в пролетках, а троицкие, широкие, с пристяжкой. Едет возчик, везет лубяные короба. Спрашиваем:
– Дом Аксенова в какой стороне будет?
А возчик на нас смеется:
– Ну, счастливы вы… я от Аксенова как раз!
Спрашивает еще, какого нам Аксенова, двое их: игрушечника Аксенова или сундучника? Сказали мы. Оказывается, в коробах-то у него игрушки, везет в Москву. Показывает нам, как поближе. Такая во мне радость: и Троица, и игрушки, и там-то мы будем жить!
А колокольня все вырастает, вырастает, яснеет. Видно уже на черных часах время, указывает золотая стрелка. И вот мы слышим, как начинают играть часы – грустными переливами, два раза.
К вечерням и добрались как раз.
У Троицы на Посаде
Прощай, дорожка… пошла на лавру и дальше, на города, борами. Мы – в Посаде, у преподобного. Ходим по тихим улочкам, разыскиваем игрушечника Аксенова, где пристать. Торопиться надо – меня на гостиницу отвести, папашеньке передать с рук на руки, Горкину надо в баню сходить помыться после дороги, перед причастием, да преподобному поклониться , к мощам приложиться, да к Черниговской, к старцу Варнаве сбегать поисповедаться, да всенощную захватить в соборе, а тут путного слова не добьешься, одни мальчишки. Спрашиваем про Аксенова, а они к овражку куда-то посылают, на бугорок, где-то за третьей улицей. А мы измучились, затощали, с утра в рот ничего не брали, жара опять… Домна Панферовна сунулась попросить напиться, а на нее из ворот собака – и ни души. И возчик-то путем не сказал, а – ступайте и спрашивайте Аксенова, всякий его укажет! А вся-кого-то и нет. Стучим в ворота – не отзываются. А где-то варенье варят, из сада пахнет – клубничное варенье, и будто теплыми просфорами или пирогами? Где-то люди имеются. Горкин говорит – час-то глухой: в баню, гляди, ушли, суббота нынче; а которые, пообедавши, спят еще, да и жарко, в домах, в холодке, хоронятся. Самая-то кипень у лавры, а тут затишье, Посад, жизнь тут правильная, житейская, торопиться некуда, не Москва.
Улицы в мягкой травке, у крылечек «просвирки» и лопухи, по заборам высокая крапива – как в деревне. Дощатые переходы заросли по щелям шелковкой, такой-то густой и свежей, будто и никто не ходит. Домики все веселые, как дачки, – зеленые, голубые; в окошках цветут гераньки и фуксии и стоят зеленые четверти с настоем из прошлогодних ягод; занавески везде кисейные, висят клетки с чижами и канарейками, и все скворечники на березах. А то старая развалюшка попадется, окна доской зашиты. А то каменный, облупленный весь, трава на крыше. Сады глухие, с гвоздями на заборах, чтобы не лазили яблоки воровать; видно зеленые яблочки и вишни. Высоко змей стоит, поблескивает на солнце, слышно – трещит трещоткой. И отовсюду видно розоватую колокольню-Троицу: то за садом покажется, то из-за крыши смотрит – гуляет с нами. Взглянешь – и сразу весело, будто сегодня праздник. Всегда тут праздник, словно Он здесь живет.
Анюта устала, хнычет:
– Все животики, бабушка, подвело… в харче-венку бы какую!..
А Домна Панферовна ее пихает: вызвалась – и иди! И Федя беспокоится. В лесу-то разошелся, а тут, на Посаде, и заробел:
– Ну как я босой – да в хороший дом? Только я вас свяжу, в странноприимную пойду лучше.
Ноги у него в ссадинах, сапоги уж не налезают, да и нечему налезать, подметки отлетели. А мне к Аксенову хочется, к игрушкам. И Антипушка говорит – надо уж добиваться, Трифоныч-то хвалил: и обласкает, и Кривую хорошо поставим, и за добришко-то не тревожиться, не покрадут в знакомом месте. Горкин уж и не говорит ничего, устал. Прошли какую-то улицу, вот Домна Панферовна села на травку у забора и сипит – горло у ней засохло:
– Как хотите, еще квартал пройдем… не найдем – на гостиницу мы с Анюткой, за сорок копеек хорошую комнату дадут.
В. Васнецов. «Сергий Радонежский»
Посидели минутку, Горкин и говорит:
– Ладно, последний квартал пройдем, не найдем – на гостиницу все пойдем, не будем уж разбиваться… а Кривую на постоялый, а может, и монахи куда поставят.
Слышим из окошка – кукушка на часах три прокуковала. Стали в окошко выкликивать – никого, чижик только стучит по клетке, чисто все померли. Через домик, видим – старик из ворот вышел, самоварчик вытряхивает в канавку. Спрашиваем его, а он ничего не слышит, вовсе глухой. В ухо ему кричим: где тут Аксенов проживает? А он ничего не понимает, шамкает: «Мы овсом не торгуем». И ушел с самоварчиком.
Глядим – стоит у окошка девочка за цветами, выглядывает на нас, светленькая, как ангельчик, и быстро так коску заплетает. Подходим, а она испугалась, что ли, и спряталась. Горкин стал ее вызывать:
– Барышня, касаточка… и где тут игрушечник Аксенов, пристать нам надо… пожалуйста, скажите, сделайте милость!..
Схоронилась и не показывается. Постояли – пошли. Только отошли – кто-то нас окликает, да строго так. Глядим – из того же окошка высунулся растерзанный какой-то, в халате, толстый, глазами не глядит, сердитый такой, и у него тарелка красной смородины:
– Это зачем вам Аксенова?
Говорим: так и так, а он смородину ест, ветки на нас кидает, и все похрипывает: ага, ага. Стал доискиваться: да кто мы такие, да где в Москве проживаем, да много ли ден идем… да, небось, говорит, жарко было идти… да что ж это у вас лошадь-то без глаза, да и тележонка какая ненадежная, где вы только такую разыскали?.. Горкин его просит: сделайте нам такое одолжение, скажите уж поскорей, мы пойдем уж, а он на окошке присел, и все расспрашивает и расспрашивает, и смородину ест.
– Да вам, – спрашивает, – какого Аксенова, большого или маленького?
Колокольня Троице-Сергиевой лавры. Фото Massimilianogalardi
И стал нам объяснять, что есть тут маленький Аксенов – этот троицкие сундучки работает и разную мелкую игрушку, а больше сундучки со звоночками, хорошие сундучки, потому его и зовут сундучником. А то есть большой Аксенов, который настоящий игрушечник… он и роста большого, и богатый, сравнить нельзя его с маленьким Аксеновым… даже и в Сибирь игрушки загоняет, внук у него этим делом орудует, а сам он духовным делом больше занимается, ихнего прихода староста, уважаемый… но только он богомольцев не пускает, с этого не живет, и не слыхано даже про него такое, и даже думать невозможно!
– Вы, – говорит, – что-то путаете… вам, верно, сундучник нужен, подумайте хорошенько!..
Увидал нас с Анютой и смородинки по веточке выкинул. Мы ему говорим, что и мы тоже люди не последние, не Христа ради, а по знакомству, сродственник Аксенова нас послал. Горкин ему еще объяснил, что и мы тоже старосты церковные, из богатого прихода, от Казанской, и свои дома есть…
– А большие дома? – спрашивает. – До той стороны будет?
Нет никакой силы разговаривать. Горкин ему про Трифоныча сказал – Аксенов, мол, нашему Трифонычу сродни и Трифоныч у нас лавочку снимает, да второпях-то улицу нам не записал на бумажку, а сказал – Аксенова там все знают, игрушечника, а не сундучника!
– Очень, – говорит, – всем нам обрадуется, так Трифоныч сказал. К нему даже каждый праздник Саня-послушник, Трифоныча внук, из лавры в гости приходит.
Тот смородину доел, повздыхал на нас и показывает на Федю:
– И босой этот тоже с вами в гости к Аксенову? И Осман-паша тоже с вами?
– Какой Осман-паша? – спрашивает его Горкин, совсем непонятный разговор стал.
– А вот турка-то эта толстая, очень на Осман-пашу похожа… у меня и портрет есть, могу вам показать.
И стал смеяться, на всю-то улицу. А это он про Домну Панферовну, что у ней голова полотенцем была замотана, от жары. Мы тоже засмеялись, очень она похожа на Осман-пашу: мы его хорошо все знали. А она ему: «Сам ты Осман-паша!» Ну, он ничего, не обиделся, даже пожалел нас, какие мы неприглядные, как цыгане.
– Жалко мне вас, – говорит, – и хочу вас остеречь… ох, боюсь, путаете вы Аксеновых! И может быть вам через то неприятность. Он хоть и душевный старик, а может сильно обидеться, что к нему на постой, как к постояльщику. Ступайте-ка вы лучше к сундучнику, верней будет. Ну, как угодно, только про меня не сказывайте, а то он и на меня обидится, будто я ему на смех это. Направо сейчас, за пожарным двором, что против церкви, дом увидите каменный, белый, в тупичке. Только лучше бы вам к сундучнику!..
Только отошли, Домна Панферовна обернулась, а тот глядит.
– Делать-то тебе нечего, шелапут! – и плюнула.
А он ей опять: «Турка! Осман-паша!» Горкин уж побранил ее: скандалить сюда пришли, что ли! За угол свернули, а тут баба лестницу на парадном моет, на Федю с тряпки выхлестнула. Стала ахать, просить прощения. Узнала, чего ищем, стала жалеть:
– Вам бы к тетке моей лучше пойтить… у овражка хибарочка неподалечку, и дешево с вас возьмет, и успокоит вас, и спать мягко, и блинками накормит… А Аксенов – богач, нипочем не пустит к себе, и думать нечего! Махонький есть Аксенов, сундучник… он тоже не пускает, а есть у него сестра, вроде как блаженная… ну, она нищих принимает, баньку старую приспособила, ради Христа пускает… а вы на нищих-то словно не похожи.
Совсем она нас расстроила. Стало нам думаться: не про маленького ли Аксенова Трифоныч говорил? Ну, сейчас недалеко, спросим, пожарную каланчу видать.
Идем, Анюта и визжит – в щелку в заборе смотрит:
– Лошадок-то, лошадок… матушки!., полон-то двор лошадок!., серенькие все, красивенькие!..
В. Перов. «К Троице-Сергию».1870
Стали смотреть – и ахнули: лошадками двор заставлен! Стоят рядками, на солнышке, серенькие все, в яблочках… игрушечные лошадки, а как живые, будто шевелятся, все блестят! И на травке, и на досках, и под навесом, и большие, и маленькие, рядками, на зеленых дощечках, на белых колесиках, даже в глазах рябит, не видано никогда.
Одни на солнышке подсыхают, а другие – словно ободранные, буренькие, и их накрашивают. Старичок с мальчишками на корточках сидят и красят, яблочки и сбруйку выписывают… один мальчишка хвостики им вправляет, другой – с ведерком, красные ноздри делает. И так празднично во дворе, так заманчиво пахнет новенькими лошадками – острой краской, и чем-то еще, и клеем, и… чем-то таким веселым, не оторвешься от радости. Я тяну Горкина:
– Горкин, милый, ради Христа… зайдем посмотреть, новенькую купи, пожалуйста… Горкин!..
Он согласен зайти. Может быть, говорит, тут-то и есть Аксенов, надо бы поспросить. Входим, а старичок сердитый, кричит на нас: чего мы тут не видали? И тут же смиловался, сказал, что это только подмастерская Аксенова, а главная там, при доме, и склад там главный… а работают на Аксенова по всему уезду, и человек он хороший, мудрый, умней его на Посаде не найдется, а только он богомольцев не пускает, не слыхано. Погладили мы лошадок, приценились, да отсюда не продают. Вытащил меня Горкин за руку, а в глазах у меня лошадки, живые, серенькие, такая радость! И все веселые стали от лошадок.
Духовная семинария Троице-Сергиевой лавры. Фото А. Зеленко
Вышли опять на улицу – и перед нами прямо опять колокольня-Троица, с сияющей золотой верхушкой, словно там льется золото.
Приходим на площадь, к пожарной каланче, против высокой церкви. Сидят на сухом навозе богомольцы, пьют у бассейна воду, закусывают хлебцем. Сидит в холодочке будочник, грызет подсолнушки. Указал нам на тупичок, только поостерег – не входите в ворота, а то собаки. Велел еще: в звонок подайте, не шибко только: не любит сам, чтобы звонили громко.
Приходим в тупичок, а дальше и ходу нет. Смотрим – хороший дом, с фигурчатой штукатуркой, окна большие, светлые, бемского стекла, зеркальные, в Москве на редкость; ворота с каменными столбами, филенчатые, отменные. Горкин уж сам замечательный филенщик, и то порадовался: «Сработано-то как чисто!» И стало нам тут сомнительно, у ворот, что-то напутал Трифоныч! Сразу видно, что мильонщики тут живут, как же к ним стукнешься. А добиваться надо.
Н. Кошелев. «Снятие с креста». 1899. Церковь СвятогоАлександра Невского на Александровском подворье в Иерусалиме
Ищем звонка, а тут сами ворота и отворяются, в белом фартуке дворник стоит, и выезжает на шарабане молодчик на рысаке, на сером в яблоках. Живая красота, рысак-то! И при нем красный узелок: в баню, пожалуй, едет. Крикнул на нас:
– Вам тут чего, кого?..
А Кривая ему как раз поперек дороги. Крикнул на нас опять:
– Принять лошадь!.. Мало вам места там!..
Дворник кинулся на Кривую – заворотить, а Горкин ему:
– Постой, не твоя лошадка, руки-то посдержи… сами примем!
А молодчик свое кричит:
– Да вы что ж тут это, в наш тупичок заехали да еще грубиянить?!. Вся наша улица тут! Я вас сейчас в квартал отправлю!..
А Горкин Кривую повернул и говорит… ничего, не испугался молодчика:
– Тут, сударь, не пожар, чего же вы так кричите? Позвольте, нам спросить про одно дело надо, и мы пойдем, – и сказал, чего нам требуется.
Молодчик на нас прищурился, будто не видит нас:
– Знать не знаю никакого Трифоныча, с чего вы взяли! И родни никакой в Москве, и богомольцев никаких не пускаем… в своем вы уме?!
Так на нас накричал, словно бы генерал-губернатор.
– Сам князь Долгоруков так не кричит, – Горкин ему сказал, – вы уж нас не пугайте, а то мы ужасно как испугаемся!..
А тот шмякнул по рысаку вожжами и покатил, пыль только. Ну, будто плюнул. И вдруг, слышим, за воротами неспешный такой голос:
– Что вам угодно тут, милые… от кого вы?
Троице-Сергиева лавра. Трапезная. Фото Michelle.leonard
Смотрим – стоит в воротах высокий старик, сухощавый, с длинной бородой, как у святых бывает, в летнем картузе и в белой поддевочке, как и Горкин, и руки за спиной под поддевочкой, поигрывает поддевочкой, как и Горкин любит. Даже милыми нас назвал, приветливо так. И чего-то посмеивается, пожалуй, наш разговор-то слышал.
– Московские, видать, вы, бывалые, – и все посмеивается.
Выслушал спокойно, хорошо, ласково усмехнулся и говорит:
– Надо принять во внимание… это вы маленько ошиблись, милые. Мы богомольцев не пускаем, и родни в Москве у нас нету… а вам, надо принять во внимание, на троюродного братца моего, пожалуй, указали. У него, слыхал я, есть в Москве кто-то дальний, переяславский наш… к нему ступайте. Вот, через овражек, речка будет… там спросите на Нижней улице.
Горкин благодарит его за обходчивость, кланяется так уважительно…
– Уж простите, – говорит, – ваше степенство, за беспокойство…
– Ничего, ничего, милые, – говорит, – это надо принять во внимание, бывает, ничего.
И все на нашу Кривую смотрит. Заворачиваем ее, а он и говорит:
– А старая у вас лошадка, только на богомолье ездить.
Такой-то обходительный, спокойный. И все прибавляет поговорочку: «надо принять во внимание». Очень у него рассудительно выходит, приятно слушать. Горкин так с уважением к нему, опять просит извинить за беспокойство, а он вдруг и говорит, скоро так:
– А постойте-ка, надо принять во внимание… тележка?., откуда у вас такая?.. Дайте-ка поглядеть, любитель я, надо принять во внимание…
Ну, совсем у него разговор, как у Горкина. Ласково так, рассудительно, и так же поокивает, как Горкин. И глаз тоже щурит и чуть подмаргивает. Горкин с радостью просит: «Пожалуйста, поглядите… очень рады, что по душе вам тележка наша, позапылилась только». Рассказывает ему, что тележка эта старинная. «От его дедушки тележка, – на меня ему показал, а он на тележку смотрит, – и даже раньше, и все на тележку радуются-дивятся, и такой теперь нет нигде, и никто не видывал». А старик ходит вокруг тележки, за грядки трогает, колупает, оглядывает и так, и эдак, проворно так – торопится, что ли, отпустить нас.
– Да-да, так-так… надо принять во внимание… да, тележка… хорошая тележка, старинная…
Передок, задок оглядел, потрогал. Бегает уж вокруг тележки, не говорит, пальцы перебирает, будто моет, а сам на тележку все. И Горкин ему нахваливает – резьба, мол, хорошая какая, тонкая.
– Да, – говорит, – тележка, надо принять… работка редкостная!..
Присел, дуги стал оглядывать, «подушки»…
– Так-так… принять во внимание… – пальцами так по грядке, и все головой качает-подергивает, за бороду потягивает, – так-так… чудеса Господни…
Вскинул так головой на Горкина, заморгал и смотрит куда-то вверх.
– А вот что скажи, милый человек, – говорит Горкину, и голос у него тише стал, будто и говорить уж трудно, и задыхается, – почему это такое – эта вот грядка чисто сработана, а эта словно другой руки? Узорчики одинаки, а где, по-твоему, милый человек, рисуночек потончей, помягчей, а?
А тут стали любопытные подходить от площади. Старик и кричит дворнику:
– Ворота за нами запирай!
– А вы, милые, – нам-то говорит, – пройдемте со мной во двор, заворачивайте лошадку!..
И побежал во двор. А нам торопиться надо. Горкин с Антипушкой пошептался: «Старик-то, будто не все у него дома… никак, хочет нас запереть?» Что тут делать! А старик выбежал опять к воротам, торопит нас, сам завернул Кривую, машет, зовет, ни слова не говорит. Пошли мы за ним, и страшно тут всем нам стало, как ворота-то заперли.
– Ничего-ничего, милые, успеете, – говорит старик, – надо принять во внимание… минутку пообождите.
И полез под тележку, под задние колеса! Не успели мы опомниться, а он уж и вылезает, совсем красный, не может передохнуть.
– Та-ак… так-так… надо принять… во внимание…
И руки потирает. И показывает опять на грядки:
– А разноручная будто работка… что, верно?..
И все головой мотает. Горкин пригляделся, да и говорит, чтобы поскорей уж отделаться:
– Справедливо изволите говорить: та грядка почище разузорена, порисунчатей будет, поскладней, неприглядней… обои хороши, а та почище.
Стоим мы и дожидаемся, что же теперь с нами сделают. Ворота заперты, собаки лежат лохматые, а которые на цепи ходят. Двор громадный, и сад за ним. И большие навесы все, и лубяные короба горой, а под навесами молодцы серых лошадок и еще что-то в бумагу заворачивают и в короба кладут. И пить нам смерть хочется, а старик бегает вокруг тележки и все покашливает. Поглядел на дугу, руками так вот всплеснул и говорит Горкину:
– А знаешь, что я те, милый человек, скажу… надо принять во внимание?..
Горкин просит его:
– Скажите уж поскорей, извините… очень нам торопиться надо, и ребятишки не кормлены, и…
А старик повернулся и стал креститься на розовую колокольню-Троицу: и сюда она смотрит, стоит как раз на пролете между двором и садом.
Эль Греко. «Христос-спаситель»
– Вот что. Сам преподобный вас-то ко мне привел! Господи, чудны дела Твоя!..
А мы ничего не понимаем, просим нас отпустить скорей. Он и говорит, строго будто:
– Это еще неизвестно, пойдете ли вы и куда пойдете… надо принять во внимание! Как фамилия вашему хозяину, чья тележка? Та-ак. А как к нему эта тележка попала?
Горкин говорит:
– Давно это, я у них за сорок годов живу, а она и до меня была, и до хозяина была, его папаше от дедушки досталась… дедушка папашеньки вот его, – на меня показал, – к хохлам на ней ездил, красным товаром торговал.
– А посудой деревянной не торговал?., ложками, плошками, вальками, чашками, а?
Горкин говорит – слыхал так, что и деревянной посудой торговали они… имя ихнее старинное, дом у них до француза еще был и теперь стоит. Тут старик – хвать его за плечо, погнул к земле и под тележку подтаскивает:
– Ну так гляди, чего там мечено… разумеешь?
Тут и все мы полезли под тележку, и старик с нами туда забрался, ерзает, будто маленький, по траве и пальцем на задней «подушке» тычет. А там, в черном кружочке, выжжено: «А».
– Что это, – говорит, – тут мечено: «А»?
– «А», – Горкин говорит.
– Вот это, – говорит, – я самый-то и есть, «А»-то… надо принять во внимание! И папаша мой тут – Аксенов! Наша тележка!..
Вылезли мы из-под тележки. Старик красным платком утирается, плачет словно, смотрит на Горкина и молчит. И Горкин молчит и тоже утирается. И все молчим. «Что же он теперь с нами сделает, – думаю я, – отнимет у нас тележку?» И еще думаю: «Кто-то у него украл тележку и она к нам попала?»
И потом говорит старик:
– Да-а… надо принять во внимание… дела Твоя, Господи!
И Горкин тоже, за ним:
– Да-а… Да что ж это такое, ваше степенство, выходит?
– Господь! – говорит старик. – Радость вы мне принесли, милые… вот что. А внук-то мой давеча с вами так обошелся… не объезжен еще, горяч! Батюшкина тележка! Он эту сторону в узор резал, а я ту. Мне тогда, пожалуй, и двадцати годов не было, вот когда. И мету я прожигал, и клеймило цело, старинное наше, когда еще мы посуду резали-промышляли. Хором-то этих в помине не было. В сарайчике жили… не чай, а водичку пили! Ну, об этом мы потом потолкуем, а вот что… Вас сам преподобный ко мне привел, я вас не отпущу. У меня погостите… сделайте мне такое одолжение, уважьте!..
Прямо как чудо совершилось.
Стоим и молчим. И Горкин смотрит на тележку и тоже как будто плачет. Стал говорить, а у него голос обрывается, совсем-то слабый, как когда мне про грех рассказывал:
– Сущую правду изволили сказать, ваше степенство, что преподобный это, – и показывает на колокольню-Троицу. – Теперь и я уж вижу, дела Господни. Вот оно что… от преподобного такая красота вышла, к преподобному и воротилась, и нас привела. На выезде ведь мы возчика вашего повстречали, счастливыми нас назвал, как спросили его про вас, не знамши!
Троице-Сергиева лавра. Открытка. Между 1890 и 1905
Путались как, искамши… и отводило нас сколько, а на ваше место пришли… привело! Преподобный и вас, и нас обрадовать пожелал… видно, теперь воочию. Ну мог ли подумать, а?! И тележку-то я из хлама выкатил, в ум вот вошло… сколько, может, годов стояла, и забыли уж про нее… А вот дождалась… старого хозяина увидала!.. И покорнейше вас благодарим, не смеем отказаться, только хозяину надо доложить, на гостинице он.
– Ка-ак, и сам хозяин здесь?! – спрашивает старик.
– На денек верхом прискакал… будто так вот и надо было!
– Так я, – говорит, – хотел бы очень с ними познакомиться. Передайте им – прошу, мол, их ко мне завтра после обедни чайку попить и пирожка откушать. Просит, мол, Аксенов. Мы и поговорим. А у меня в саду беседка большая, вам там покойно будет, будете мои гости. Господи, и надо же так случиться!..
И все на тележку смотрит. И мы смотрим. Стоит и все оглаживает грядки и головой качает.
Прямо как чудо совершилось.
У преподобного
Так все и говорят – чудо живое совершилось. Как же не чудо-то! Все бродили – игрушечника Аксенова искали, и все-то нас пугали, что не пускает Аксенов богомольцев, и уж погнали нас от Аксенова, а тут-то и обернулось, признал Аксенов тележку, будто она его работы, и что привел ее преподобный домой, к хозяину, а она у нас век стояла! И теперь мы аксеновские гости, в райском саду, в беседке. И как-то неловко даже, словно мы сами напросились. Домна Панферовна корит Федю:
– Босой… со стыда за тебя сгоришь!
А Федя сидит под кустиком, ноги прячет. Антипушка за Кривую тревожится:
– Самовласть какая… забрал вон лошадку нашу! «Молитесь, – говорит, – отдыхайте, а мой кучер за ней уходит». А она чужому нипочем не дастся, не станет ни пить, ни есть. Надо ему сказать это, Аксенову-то.
Черниговский скит в Сергиевом Посаде. Фото В. Сазонова
Горкин его успокаивает: ничего, обойдется, скажем. И тележку опорожнить велел, будто уж и его она… чисто мы в плен попали!
А Домна Панферовна пуще еще накаливает: залетели вороны не в свои хоромы, попали под начал, из чужих теперь рук смотри… порядки строгие, ворота на запоре, сказывайся, как отлучиться занадобится… а случись за нуждой сходить – собачищи страшенные, дворника зови проводить, страмота какая… чистая кабала!
Горкин ее утихомиривает:
– Хоть не скандаль-то, скандалыцица… барышня хозяйская еще услышит, под березкой вон!..
Ну, маленько стеснительно, понятно… в чужом-то месте свои порядки, а надо покоряться: сам преподобный привел, худого не должно быть… в сад-то какой попали, в райский!..
Сад… и конца не видно. Лужки, березки, цветы, дорожки красным песком усыпаны, зеленые везде скамейки, на грядках малина краснеет, смородина, крыжовник… так и горит на солнце, шиповнику сколько хочешь, да все махровый… и вишни, и яблони, и сливы… ну чего только душа желает. А на лужку, под березой, сидит красивая барышня, вся расшитая по рисункам и в бусах с лентами, все-то на нас поглядывает. Беседка – совсем и не беседка, а будто дачка. Стекла все разноцветные, наличники и подзоры самой затейливой работы, из березы, под светлый лак, звездочками и шашечками, коньками и петушками, хитрыми завитушками, солнышками и рябью… резное, тонкое. Горкин так и сказал:
– Не беседка, а песенка!
Стоим – любуемся. А тут Аксенов из-за кустов, словно на наши мысли:
– Не стесняйтесь, милые, располагайтесь. Самоварчик – когда хотите, харчики с моего стола… а ходить – ходите через калитку, садом, в заборе там, в бузине, прямо на улицу, отпереть скажу… мальчишка тут при вас будет. Лавки широкие, сенца постелят… будете как у себя дома.
Позвал барышню из-под березы, показывает на нас, ласково так:
– Ты уж, Манюша, понаблюдай… довольны чтобы были, люди они хорошие. А это, – нам говорит, – внучка моя, хозяйка у меня, надо принять во внимание… она вас ублаготворит. Живите, сколько поживется, с Господом. Сам преподобный их к нам привел, Манюша… я тебе расскажу потом.
А тут Домна Панферовна, про Федю:
– Не подумайте чего, батюшка, – босой-то он… он хороших родителей, а это он для спасения души так, расслабленному одному лаковые сапоги отдал. А у них в Москве большое бараночное дело и дом богатый…
М. Нестеров. «Труды Сергия Радонежского»
Ни с того ни с сего. Федя под куст забился, а Аксенов поулыбался только.
– Я, – говорит, – матушка, и не думаю ничего.
Погладил нас с Анютой по головке и велел барышне по малинке нам сорвать.
– А помыться вам – колодец вон за беседкой. Поосвежитесь после пути-то, закусите… мальчишку сейчас пришлю.
И пошел. И стало нам всем тут радостно. Домна Панферовна стала тут барышне говорить, какие мы такие и какие у нас дома в Москве. А та нарвала пригоршню красной смородины, потчует:
– Пожалуйста, не стесняйтесь, кушайте… и сами сколько хотите рвите.
А тут мальчишка, шустрый такой, кричит:
– А вот и Савка, прислуживать вам… хозяин заправиться велел! А на ужин будет вам лапша с грибами.
Принес кувшин сухарного квасу со льда, чашку соленых огурцов в капусте и ковригу хлеба, только из печи вынули. А барышня велела, чтобы моченых яблоков нам еще, для прохлаждения. Прямо как в рай попали!
Учтивая такая, все краснеет и книжкой машет, зубками ее теребит и все-то говорит:
– Будьте, пожалуйста, как дома… не стесняйтесь.
Повела нас в беседку и давай нам штучки показывать на полках – овечек, коровок, бабу с коромыслом, пастуха, зайчиков, странников-бого-мольцев… все из дерева резано. Рассказывает нам, что это дедушка и прадедушка ее резали, и это у них – как память, гостям показывают, из старых лет. А в доме еще лучше… там лошадка с тележкой у них под стеклом стоит и еще мужик сено косит, и у них даже от царя грамота висит в золотой рамке, что очень понравились игрушки, когда-то прадедушка царю поднес. Горкин хвалит, какая работа чистая, – он и сам вырезать умеет, а барышня очень рада, все с полок поснимала – и медведиков, и волков, и кузнеца с мужиком, и лисичку… да как спохватится!..
– Ах, да что это я… устали вы, и вам ко всенощной скоро надо!..
И пошла под березку – книжку свою читать. А мы – за квас да за огурцы.
Глазам не верится, куда же это мы попали! Сад через стекла – разноцветный: и синий, и золотой, и розовый, и алый… и так-то радостно на душе, словно мы в рай попали. И высокая колокол ьня-Троица смотрит из-за берез. Красота такая!.. Воистину сам преподобный сюда привел.
Горкин ведет меня на гостиницу, к отцу. Скоро ко всенощной ударят, а ему еще в баню надо, перед говеньем. На нем теперь синий казакинчик и новые сапоги, козловые; и на мне все новенькое – к преподобному обшмыгой-то не годится.
Я устал, сажусь у столбушков на краю оврага, начинаю плакать. В овраге дымят сарайчики, «блинные» там на речке, пахнет блинками с луком, жареной рыбкой, кашничками… Лежат богомольцы в лопухах, сходят в овраг по лесенкам, переобувают лапотки, сушат портянки и онучи на крапиве. Повыше, за оврагом, розовые стены лавры, синие купола, высокая колокольня-Троица – туманится и дрожит сквозь слезы. Горкин уговаривает меня не супротивничать, а я не хочу идти, кричу, что заманил он меня на богомолье и мучает… нет ни бора, ни келейки.
– Какой я отрезанный ломоть… какой?..
Он и сердится, и смеется, садится под лопухи ко мне и уговаривает, что радоваться надо, а не плакать: преподобный на нас глядит. Богомольцы спрашивают, чего это паренек плачет – ножки, что ль, поотбил? Советуют постегать крапив-кой – пооттянет. Горкин сердится на меня, кричит:
– Чего ты со мной мудруешь?! По рукам, по ногам связал!..
Я цепляюсь за столбушек, никуда не хочу идти. Им хорошо, будут ходить артелью, а Саня-заика, послушник, все им будет показывать… как у грешника сучок и бревно в глазу, и к Черниговской все пойдут, и в пещерки, и гробок преподобного будут точить зубами, и где просвирки пекут, и какую-то рухлядную и квасную покажет им Саня-послушник, и в райском саду будут прохлаждаться… а меня – на гостиницу!..
– В шутку я тебе – отрезанный, мол, ты ломоть теперь, а ты кобенишься!– говорит Горкин, размазывая мне слезы пальцем.– А чего расстраиваться!.. Будешь с сестрицами да с мамашенькой на колясках по богомолью ездить, а мы своей артелью, пешочком с мешочком… Небось, приехала мамашенька, ждет тебя в гостинице. От родных грех отказываться… как так – не пойду?..
Я цепляюсь за столбушек, не хочу в гостиницу. К папашеньке хочу… а он завтра в Москву ускачет, а меня будут муштровать, и не видать мне лошадок сереньких, и с Горкиным не отпустят…
Он сердится, топает на меня:
– Да что ж ты меня связал-то!.. В баню мне надо, а ты меня канителишь? Ну, коли так… сиди в лопухах, слепые тя подхватят!..
Хочет меня покинуть. Я упрашиваю его – не покидай, выпроси, ради Христа, отпустили бы меня вместе ходить по богомолью… тогда пойду. Он обещается, показывает на «блинные» в овражке и сулится завтра сводить туда – каш-ничков и блинков поесть.
Колокольня. Троице-Сергиева лавра. Сергиев посад. Фото А. Зеленко
– Только не мудруй, выпрошу. Всю дорогу хорошо шел, радовался я на тебя… а тут – на вон! Это тебя он смущает, от святого отводит.
Глаза у меня наплаканы, все глядят. Катят со звоном тройки и парами, везут со станции богомольцев, пылят на нас. Я прошу, чтобы нанял извозчика, очень устали ножки. Он на меня кричит:
– Да ты что, сдурел?! Вон она, гостиница, отсюда видно… и извозчика тебе нанимай?.. Улицу не пройдешь? Всю дорогу шел – ничего, а тут!.. Вон преподобный глядит, как ты кобенишься…
Смотрит на нас высокая колокольня-Троица. Я покорно иду за Горкиным. Жара, пыль, ноги едва идут. Вот широкая площадь, белое здание гостиницы. Все подкатывают со звоном троицкие извозчики. А мы еще плетемся – такая большая площадь. Мужики с кнутьями кричат нам:
– В Вифанию-то свезу!.. К Черниговской прикажете, купцы?..
Лошади нам мотают головами, позванивают золотыми глухарями. От колясок чудесно пахнет – колесной мазью и кожами, деревней. Девчонки суют нам тарелки с земляникой, кошелки грибов березовых. Старичок гостиник, в белом подряснике и камилавке, ласково говорит, что у преподобного плакать грех, и велит молодчику с полотенцем проводить нас «в золотые покои», где верховой из Москвы остановился.
Мы идем по широкой чугунной лестнице. Прохладно, пахнет монастырем – постными щами, хлебом, угольками. Кричат из коридора: «Когда же самоварчик-то?» Снуют по лестнице богомольцы, щелкают у дверей ключами, спрашивают нашего молодчика: «Всенощная-то когда у вас?» У высокой двери молодчик говорит шепотом:
– Не велели будить ко всенощной, устамши очень.
Входим на цыпочках. Комната золотая, бархатная. На круглом столе перед диваном заглохший самовар, белорыбица на бумажке, земляника, зеленые огурчики. Пахнет жарой, земляникой и чем-то знакомым, милым. Вижу в углу, у двери, наше кавказское седло – это от него так пахнет, серебряную нагайку на окошке, крахмальную рубашку, упавшую с кресла рукавами, с крупными золотыми запонками и голубыми на них буквами, узнаю запах флердоранжа. Отец спит в другой комнате, за ширмой, под простыней; видно черную от загара шею и пятку, которую щекочут мухи. Слышно его дыхание. Горкин сажает меня на бархатное кресло и велит сидеть тихо-тихо, а проснется папашенька – сказать, что, мол, Горкин в баню пошел перед говеньем, а после всенощной забежит и обо всем доложит.
– Поешь вот рыбки с огурчиком, заправься… хочешь – на диванчике подремли, а я пошел. Тихо смотри сиди.
Я сижу и глотаю слезы. Под окном гремят бубенцы, выкрикивают извозчики. По белым занавескам проходят волны от ветерка, и показывается розовая башня, когда отдувает занавеску. С золотой стены глядит на меня строгий архиерей в белом клобуке, словно говорит: «Тихо смотри сиди!» Вижу на картинке розовую лавру, узнаю колокольню-Троицу. Вижу еще, в елках, высокую и узкую келейку с куполком, срубленную из бревнышек, окошечко под крышей, и в нем преподобный Сергий в золотом венчике. Руки его сложены в ладошки, и полоса золотого света, похожая на новенькую доску, протягивается к нему от маленького Бога в небе, и в ней множество белых птиц. Я смотрю и смотрю на эту небесную дорогу, в глазах мерцает…
– В Вифанию-то свезу!..
Я вздрагиваю и просыпаюсь. На меня смотрит архиерей: «Тихо смотри сиди!» Кто-то идет по коридору, напевает:
При-шедше на за-а-а-пад со-олнца…Солнышко уползает с занавесок. Хлопают двери в коридоре, защелкивают ключи – ко всенощной уходят. Кто-то кричит за дверью: «Чайку-то уж после всенощной всласть попьем!» Мне хочется чайку, а самовар холодный. Заглядываю к отцу за ширмы – он крепко спит на спине, не слышит, как ползают мухи по глазам. Смотрю в окно.
А. Кившенко. «Оборона Троице-Сергиевой лавры». 1884
Большая площадь золотится от косого солнца, которое уже ушло за лавру. Над стенами – розово-белыми – синие пузатые купола с золотыми звездами и великая колокольня-Троица. Видны на ней колонки, и кудерьки, и золотая чаша, в которую льется от креста золото. На черном кружке часов прыгает золотая стрелка. В ворота с башней проходят богомольцы и монахи. Играют и перебоями бьют часы – шесть часов.
А отец спит и спит.
В зеркале над диваном вижу… щека у меня вытянулась книзу и раздулась и будто у меня… два носа. Подхожу ближе и начинаю себя разглядывать. Да, и вот – будто у меня четыре глаза, если вот так глядеться… а вот расплющилось, какая-то лягушачья морда. Вижу – архиерей грозится, и отхожу от зеркала. Ем белорыбицу и землянику… и опять белорыбицу, и огурцы, и сахар. Считаю рассыпанные на столе серебряные деньги, складываю их в столбик, как всегда делает отец. Липнут-надо-едают мухи. Извозчики под окном начинают бешено кричать:
– Ваш степенство, меня рядили… в скит-то свезу! В Вифанию прикажите, на резвых!.. К Черниговской кого за полтинник?..
Заглядываю к отцу. Рука его свесилась с кровати. Тикают золотые часы на тумбочке. Ложусь на диван и плачу в зеленую душную обивку. Будто клопами пахнет?.. Вижу – у самых глаз сидят за тесьмой обивки, большие, бурые… Вскакиваю, сажусь, смотрю на келейку, на небесную светлую дорогу…
Внутренность Троицкого собора. Иллюстрация к книге «Путеводитель из Москвы в Троице-Сергиеву лавру», 1856.
Кто-то тихо берет меня… знаю, кто. Стискиваю за шею и плачу в горячее плечо. Отец спрашивает: «Чего это ты разрюмился?» Но я плачу теперь от радости. Он подносит меня к окну, отмахивает занавеску на кольчиках, спрашивает: «Ну как, хороша наша Троица?» Дает бархатный кошелечек с вышитой бисером картинкой – Троицей. В кошелечке много серебреца – «на троицкие игрушки!» Хвалит меня: «А здорово загорел, нос даже облупился!», спрашивает про Горкина. Говорю, что после всенощной забежит – доложит, а сейчас пошел в баню, а потом исповедоваться будет. Отец смеется:
– Вот это так богомол, не нам чета! Ну, рассказывай, что видал.
Я рассказываю про райский сад, про сереньких лошадок, про игрушечника Аксенова, что велит он нам жить в беседке, а тележку забрал себе. Отец не верит:
– Это что же, во сне тебе?..
Я говорю, что правда. Аксенов в гости его зовет. Он смеется:
– Ну, болтай, болтушка… знаю тебя, выдумщика! Принимается одеваться и напевает свое любимое:
– Кресту-у Твое-му-у… поклоняемся, Влады-ы-ко-о-о…
Ударяют ко всенощной. Я вздрагиваю от благовеста, словно вкатился в комнату гулкий, тяжелый шар. Дрожит у меня в груди, дребезжит ложечка в стакане. Словно и ветерок от звона, пузырит занавеску, радостный холодок, вечерний. Важный, мягкий, особенный звон Троицы.
Лавра светится по краям, кажется легкой-лег-кой, из розовой с золотцем бумаги: солнце горит за ней. Монах поднимает на ворота розовый огонек – лампаду. Тянутся через площадь богомольцы, крестятся у Святых ворот.
Отец говорит, что сейчас приложит меня к мощам, завтра оставит с Горкиным.
– Он тебе все покажет.
Мамаша не приедет, прихворнула, а его ждут дела. Он опрыскивает любимым флердоранжем свежий, тугой платок, привезенный в верховой сумочке, дает мне его понюхать, ухватывая за нос, как всегда делает, и, прищелкивая сочно языком, весело говорит:
– Сейчас теплых просфор возьмем, с кагорчиком угощу тебя. А на ужин… закажем мы с тобой монастырскую солянку, троицкую! Такой уж не подадут нигде.
Он ведет меня через площадь к лавре.
Розовые ее стены кажутся теперь выше, синие купола – огромными. Толсто набиты на них звезды. Я смотрю на стены и радостно-затаенно думаю: что-то за ними, там?.. Бор… и высокая келейка, с оконцем под куполком? Спрашиваю: увидим келейку? Отец говорит: увидим, у каждого там монаха келья. На нем верховые сапоги, ловкая шапочка-верховка, все на него любуются. Богомолки называют его молодчиком.
Перед Святыми воротами сидят в два ряда калеки-убогие, тянутся деревянными чашками навстречу и на разные голоса канючат:
– Христа ради… православные, благодетели… кормильцы… для пропитания души-тела… роди-телев-сродников… Сергия преподобного… со Пресвятый Троицы…
Мы идем между черными, иссохшими руками, между падающими в ноги лохматыми головами, которые ерзают по навозу у наших ног, и бросаем в чашки копеечки. Я со страхом вижу вывернутые кровяные веки, оловянные бельма на глазах, провалившиеся носы, ввернутые винтом под щеки, култышки, язвы, желтые волдыри, сухие ножки, как палочки… И впереди, далеко, к самым Святым воротам, – машут и машут чашками, тянутся к нам руками, падают головами в ноги. Пахнет черными корками, чем-то кислым.
Троице-Сергиева лавра. Фото Artsen
В Святых воротах сумрак и холодок, а дальше слепит от света: за колокольней – солнце, глядит в пролет, и виден черный огромный колокол, будто висит на солнце. От благовеста-гула дрожит земля. Я вижу церкви – белые, голубые, розовые – на широком просторе, в звоне. И все, кажется мне, звонят. Ясно светят кресты на небе, сквозные, легкие. Реют ласточки и стрижи. Сидят на булыжной площади богомольцы, жуют монастырский хлеб. Служки в белом куда-то несут ковриги, придерживая сверху подбородком: ковриг по шесть. Хочется есть, кружится голова от хлебного духа теплого: где-то пекарня близко. Отец говорит, что тепленького потом прихватим, а сейчас приложиться надо, пока еще не тесно. Важно идут широкие монахи, мотают четками в рукавах, веет за ними ладаном.
Я высматриваю-ищу – где же келейка с куполком и елки? Отец не знает, какая такая келейка. Спрашиваю про грешника.
– Какого такого грешника?
– Да бревно у него в глазу… Горкин мне говорил.
– Ну, у Горкина и надо дознаваться, он по этому делу дока.
Направо – большой собор, с синими куполами с толстыми золотыми звездами. Из цветника тянет свежестью – белые служки обильно поливают клумбы, пахнет тонко петуньями, резедой. Слышно даже сквозь благовест, как остро кричат стрижи.
Великая колокольня-Троица – надо мной. Смотрю, запрокинув голову, – креста не видно! Падает с неба звон, кружится голова от гула, дрожит земля.
Народу больше. Толкают меня мешками, чайниками, трут армяками щеки. В давке нечем уже дышать. Трогает кто-то за картузик и говорит знакомо:
– Наш словно паренек-то, знакомый… шли надысь-то!..
Я узнаю старушку с красавочкой-молодкой, у которой на шее бусинки. Она – Параша? – ласково смотрит на меня, хочет что-то сказать как будто, но отец берет на руки, а то задавят. Под высокой сенью светится золотой крест над чашей, бьет из креста вода; из чаши черпают воду кружками на цепи. Я кричу:
– Из креста вода!.. Чудо тут!..
Я хочу рассказать про чудо, но отец даже и не смотрит, говорит – после, а то не продерешься. Я сижу на его плече, оглядываюсь на крест под сенью. Там все черпают кружками, бьет из креста вода.
У маленькой белой церкви, с золотой кровлей и одинокой главкой, такая давка, что не пройдешь. Кричат страшные голоса:
– Не напирайте, ради Христа-а… задавите!., ой, дышать нечем… полегше, не напирайте!..
А народ все больше напирает, колышется. Отец говорит мне, что это самая Троица, Троицкий собор, преподобного Сергия мощи тут. Говорят кругом:
– Господи, и с детьми еще тут… куды еще тут с детьми! Мужчину вон задавили, выволокли без памяти… куды ж с детьми?!
А сзади все больше давят, тискают, выкрикивают, вздыхают, плачутся:
– Ох, родимые… поотпустите, не передохнешь… дыхнуть хоть разок дайте… душу на покаяние…
Сцепляются мешками и чайниками, плачут дети. Идет высокий монах в мантии, благословляет, махает четками:
– Расступитесь, дорогу дайте!..
Перед ним расступаются легко, откуда только берется место! Монах проходит, благословляя, вытягивая из толпы застрявшую сзади мантию. Отец проносит меня за ним.
Часовня над источников со святой водой. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры. Фото В. Поповой
В церкви темно и душно. Слышно из темноты знакомое – Горкин, бывало, пел:
Изведи из темницы ду-шу мо-ю-у!..
Словно из-под земли поют. Плачут протяжно дети. Мерцает позолота и серебро, проглядывают святые лики, пылают пучки свечей. По высоким столбам, которые кажутся мне стенами, зо-лотятся-мерцают венчики. В узенькие оконца верха падают светлые полоски, и в них клубится голубоватый ладан. Хочется мне туда, на волю, на железную перекладинку, к голубку: там голубки летают, сверкают крыльями. Я показываю отцу:
– Голубки живут… это святые голубки, Святой Дух?
Отец вздыхает, подкидывает меня, меняя руку. Говорит все, вздыхая: «Ну, попали мы с тобой в кашу… дышать нечем». На лбу у него капельки. Я гляжу на его хохол, весь мокрый, на капельки, как они обрываются, а за ними вздуваются другие, сталкиваются друг с дружкой, делаются большими и отрываются, падают на плечо. Белое его плечо все мокрое, потемнело. Он закидывает голову назад, широко разевает рот, обмахивается платочком. На черной его шее надулись жилы, и на них капельки. Подо мной – головы и платки, куда-то ползут, ползут, тянут с собой и нас. Все вздыхают и молятся: «Батюшка преподобный, угодник Божий… родимый, помоги!..»
Кричит подо мной баба, я вижу ее запавшие, кричащие на меня глаза:
– Ой, пустите… не продохну… девка-то обмерла!..
Ее голова, в черном платке с желтыми мушками, проваливается куда-то, а вместо нее вылезает рыжая чья-то голова. Кричит за нами:
– Бабу задавили!.. Православные, подайтесь!..
Мне душно, от духоты и страха кружится голова. Пахнет нагретым флердоранжем, отец машет на меня платочком, но ветерка не слышно. Лицо у него тревожное, голос хриплый:
– Ну, потерпи, голубчик, вот подойдем сейчас…
Я вижу разные огоньки – пунцовые, голубые, розовые, зеленые… тихие огоньки лампад. Не шелохнутся, как сонные. Над ними золотые цепи. Под серебряной сенью висят они, повыше и пониже, будто на небе звездочки. Мощи тут преподобного – под ними. Высокий, худой монах в складчатой мантии, которая вся струится-переливается в огоньках свечей, недвижно стоит у возглавия, где светится золотая Троица. Я вижу что-то большое, золотое, похожее на плащаницу – или высокий стол, весь окованный золотом, в нем… накрыто розовой пеленой. Отец приклоняет меня и шепчет: «В главку целуй». Мне страшно. Бледный палец высокого монаха, с черными горошинами четок, указывает мне прошитый крестик из сетчатой золотой парчи на розовом покрове. Я целую, чувствуя губами твердое что-то, сладковато пахнущее миром. Я знаю, что здесь преподобный Сергий, великий угодник Божий.
Сергий Радонежский.Фото Д. Калиновского
Мы сидим у длинного розового дома на скамейке. Мне дают пить из кружки чего-то кисленького и мочат голову. Отец отирается платком, машет и на себя, и на меня, говорит – едва переводит дух, чуть не упал со мной у мощей, такая давка. Говорят: сколько-то обмерло в соборе, водой уж отливали. Здесь прохладно, пахнет политыми цветами, сырой травой. Мимо проходят богомольцы, спрашивают, где тут просвирки-то продают. Говорят: «Вон, за уголок завернуть». И правда: теплыми просфорами пахнет. Вижу на уголке розового дома железную синюю дощечку; на ней нарисована розовая просвирка, такая вкусная. Из-за угла выходят с узелками, просвирки видно. Молодой монашек, в белом подряснике с черным кожаным поясом, дает мне теплую просфору и спрашивает, нагибаясь ко мне:
–Н-не у-у.. .знал м-меня? А я Са-саня… Юрцов!
Я сразу узнаю: это Саня-заика, послушник, нашего Трифоныча внучек. Лицо у него такое доброе, в золотухе все; бледные губы выпячиваются трубочкой и дрожат, когда он силится говорить. Он зовет нас в квасную, там его послушание:
– Ка-ка… каваску… на-шего… ммо… мона-стыр-ского, отведайте.
И Федя с нами на лавочке. Он в новых сапогах, в руке у него просвирка, но он не ест – только что исповедовался, нельзя. Рассказывает, что были с Горкиным у Черниговской, у батюшки-отца Варнавы исповедовались… а Горкин теперь в соборе, выстоит до конца. Что-то печален он, все головой качает. Говорит еще, что Домна Панферовна сама по себе с Анютой, а Антипушка с Горкиным, и ему надо опять в собор. Саня-послушник говорит отцу:
– Ка-ка… васку-то… мо-мо…настырского…
Ведет нас в квасную, под большой дом. Там прохладно, пахнет душистой мятой и сладким квасом. Маленький старичок – отец квасник – радушно потчует нас «игуменским», из железного ковшика, и дает по большому ломтю теплого еще хлеба, пахнущего как будто пряником. Говорит: «Заходите завтра, сладким-сыченым угощу». Мы едим хлеб и смотрим, как Саня с другим монашком помешивают веселками в низких кадках – разводят квас. И будто в церкви: висят на стене широкие иконы, горят лампады. Квас здесь особенный, троицкий, священный, благословленный, отец квасник крестит и кадки, и веселки, когда разводят, и когда затирают – крестит. Оттого-то и пахнет пряником. Отец спрашивает, доволен ли он Саней. Квасник говорит:
– Ничего, трудится во славу Божию… такой ретивый, на досточке спит, ночью встает молиться, поклончики бьет.
Велит Трифонычу снести поклончик, хорошо его знает, как же:
– Земляки с Трифонычем мы, с Переяславля… у меня и торговлишка была, квасом вот торговал. А теперь вот какая у меня закваска… Господа Бога ради, для братии и всех православных христиан.
Церковь преподобного Сергия с Трапезной палатой Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 1686–1692. Фото akk_rus
Такой он ласковый старичок, так он весь светится – словно уж он святой. Отец говорит:
– Душа радуется смотреть на вас… откуда вы такие беретесь?
А старичок смеется:
– А Господь затирает… такой уж квасок творит. Да только мы квасок-то неважный, ки-ислый-кис-лый… нам до первого сорту далеко.
Оба они смеются, а я не понимаю: какой квасок?..
Отец говорит:
– Плохие мы с тобой молельщики, на гостиницу пойдем лучше.
Несет меня мимо колокольни. Она звонит теперь легким, веселым перезвоном.
За Святыми воротами все так же сидят и жалобно просят нищие. Извозчики у гостиницы предлагают свезти в Вифанию, к Черниговской. Гостинник ласково нам пеняет:
– Что ж маловато помолились? Ну ничего, с маленького не взыщет преподобный. Сейчас я самоварчик скажу.
В золотых покоях душно и вязко пахнет согревшейся земляникой и чем-то таким милым… Отец дает мне в стаканчике черного сладкого вина с кипятком – кагорчика. Это вино – церковное, и его всегда пьют с просвиркой. От кагорчика пробегает во мне горячей струйкой, мне теперь хорошо, спокойно, и я жадно глотаю душистую, теплую просфору. За окнами еще свет. Перезванивают в стемневшей лавре, вздуваются занавески от ветерка.
Я просыпаюсь от голосов. Горит свечка. Отец и Горкин сидят за самоваром. Отец уговаривает:
– Чаю-то хоть бы выпил, затощаешь!
Горкин отказывается: причащаться завтра, никак нельзя. Рассказывает, как хорошо я шел, уж так-то он мной доволен, и не сказать. Говорит про тележку и про Аксенова: прямо чудо живое совершилось. Отец смеется:
– Все с вами чудеса! Думал – завтра после ранней обедни выехать, пора горячая, дела не ждут, а теперь эта канитель – к Аксенову!
Горкин упрашивает остаться, внимание надо бы оказать: уж шибко почтенный человек Аксенов, в обиду ему будет.
– Не знаю, не слыхал… Аксенов? – говорит отец. – Как же это тележка-то его к нам попала? Дедушку, говоришь, знал… Странно, никогда что-то не слыхал. И впрямь преподобный словно привел.
Горкин вдумчиво говорит:
– Мы-то вот все так – все мы знаем! А выходит вон…
И начинает чего-то плакать. Отец спрашивает – да что такое?
– С радости, недостоин я… – в слезах, в платочек, срывающимся голосом говорит Горкин. – Исповедался у батюшки-отца Варнавы… Стал ему про свои грехи сказывать… и про тот мой грех, про Гришу-то… как понуждал его высоты-то не бояться. А он, светленький, поглядел на меня, поулыбался так хорошо… и говорит, ласково так:
– Ах ты, голубь мой сизокрылый! – епитра-хилькой накрыл и отпустил. – Почаще, – говорит,
– радовать приходи, почаще приходи…
– Это к чему ж будет-то – почаще? Не в монастырь ли уж указание дает?..
– А понравился ты ему, вот что, – говорит отец. – Да ты и без монастыря преподобный, только что в казакинчике.
Надвратная церковь Рождества Иоанна Предтечи. Фото С. Дапкуса
Горкин отмахивается. Лицо у него светлое-светлое, как у отца квасника, и глаза в лучиках – такие у святых бывают. «Если бы ему золотой венчик, – думаю я, – и поставить в окошко под куполок… и святую небесную дорогу?»
– А Федю нашего не благословил батюшка-отец Варнава в монастырь вступать. А как же, все хотел, в дороге нам открылся – хочу в монахи! Пошел у старца совета попросить, благословиться… а батюшка Варнава потрепал его по щеке и говорит: «Такой румянистый-краснощекой – да к нам, к просвирникам… баранки лучше пеки с детятками! Когда, может, и меня, сынок, угостишь». И не благословил. «С детятками», – говорит! Значит, уж ему открыто. Ему и Домна-то Панферовна все смеялась, земляничкой молодку все угощал.
Беседуют они долго. Уходя, Горкин целует меня в маковку и шепчет на ухо:
– А ведь верно ты угадал, простил грех-то мой!
Он такой радостный, как в Светлый день. Пахнет от него банькой, ладаном, свечками. Говорит, что теперь все посмотрим, и к батюшке-отцу Варнаве благословиться сходим, и Фавор-гору в Вифании увидим, и сапожки преподобного, и гробик. Понятно, и грешника поглядим, бревно-то в глазу… и Страшный Суд…
Я спрашиваю его про келейку.
– Картинку тебе куплю, вот такую, – показывает он на стенку, – и будет у тебя келейка. Осчастливил тебя папашенька, у преподобного подышал с нами святостью.
Отец говорит – шутит словно и будто грустно:
– Горка ты, Горка! Помнишь… делов-то пуды, а она – туды? Ну вот, из «пудов»-то и выдрался на денек.
– И хорошо, Господа надо благодарить. А кто чего знает, – говорит Горкин задумчиво, – все под Богом.
Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде
В комнате темно. Я не сплю. Перебился сон, ворочаюсь с боку на бок. Перед глазами – лавра, разноцветные огоньки. Должно быть, все уже спят, не хлопают двери в коридоре. Под окнами переступают по камню лошади, сонно встряхивают глухими бубенцами. Грустными переливами играют часы на колокольне. Занавески отдернуты, и в комнату повевает ветерком. Мне видно небо с мерцающими звездами. Смотрю на них и, может быть, в первый раз в жизни думаю: что же там?.. Приподнимаюсь на подушке, заглядываю ниже: светится огонек, совсем не такой, как звезды, не мерцает. Это в розовой башне на уголку, я знаю. Кто-нибудь молится? Смотрю на огонек, на звезды и опять думаю, усыпающей уже мыслью: кто там?..
У Троицы
Слышится мне впросонках прыгающий трезвон, будто звонят на Пасху Открываю глаза – и вижу зеленую картинку: елки, келейки и преподобный Сергий, в золотом венчике, подает толстому медведю хлебец. У Троицы я, и это Троица так звонит, и оттого такой свет от неба, радостно-голубой и чистый. Утренний ветерок колышет занавеску, и вижу я розовую башню с зеленым верхом. Вся она в солнце, слепит окошками.
– Проспал обедню-то, – говорит Горкин из другой комнаты, – а я уж и приобщался, поздравь меня!
– Душе на спасение!– кричу я.
Он подходит, целует меня и поправляет:
– Телу на здравие, душе на спасение – вот как надо!
Он в крахмальной рубашке и в жилетке с серебряной цепочкой, такой парадный. Пахнет он него праздником – кагорчиком, просвиркой и особенным мылом, из какой-то «травы-зари», архиерейским, которым он умывается только в Пасху и в Рождество, кто-то ему принес с Афона. Я спрашиваю:
– Ты зарей умылся?
– А как же, – говорит, – я нонче приобщался, великий день.
Говорит: в лавру сейчас пойдем, папашенька вот вернется, он Кавказку пошел взглянуть; молебен отслужим преподобному, позднюю отстоим, а там папашенька к Аксенову побывает и в Москву поскачет, а мы при себе останемся – поглядим все, не торопясь. Рассказывает мне, как ходили к Черниговской, к утрени поспели, по зорьке три версты прошли – и не видали, а служба была подземная, в припещерной церкви, и служил сам батюшка-отец Варнава.
– Сказал батюшке про тебя… хороший, мол, богомолыцик ты, дотошный до святости. «Приведи его, – говорит, – погляжу». Не скажет понапрасну… душеньку, может, твою чует. Да опять мне: «Непременно приведи!» Вот как.
Я рад, и немного страшно, что чует душеньку. Спрашиваю: он святой?
– Как те сказать… Святой – это после кончины открывается. Начнут стекаться, панихидки служить, и пойдет в народе разговор, что, мол, святой, чудеса исцеления пойдут. Архиереи скажут: «Много народу почитает, надо образ ему писать и службу править». Ну, мощи и открываются, для прославления. Так народ тоже не заставишь за святого-то почитать, а когда сами уж учувствуют, по совести. Вот Сергий преподобный… весь народ его почитает, угодник Божий! Стало быть, заслужил… прознал хорошо народ, сам прознал, совесть ему сказала. А батюшка Варнава – подвижник-прозорливец, всех утешает… не такой, как мы, грешные, а превысокой жизни. Стечение-то к нему какое… Завтра вот и пойдем, за радостью.
М. Нестеров. «Юность Преподобного Сергия». 1897
Приходит отец, велит поскорее собираться – у гостиницы ждут все наши. Сердится, почему Горкин ни сайки, ни белорыбицы не поел, ветром его шатает. Горкин просит: уж не невольте, с просвиркой тепл отцы выпил, а после поздней обедни и разговеется.
– Живым во святые хочешь?– шутит отец и дает ему большую просфору со Святой Троицей на вскрышке. – Вынул вот за твое здоровье.
Горкин целует просфору и потом целуется с отцом три раза, словно они христосуются. Отец смеется на мою новую рубашку, вышитую большими петухами по рукавам и вороту: «Эк тебя расписали!» – и велит примочить вихры. Я приглаживаюсь у зеркала, стоя на бархатном диване, и смеюсь, как у меня вытянулось ухо, а Горкин с двумя будто головами, и все смеемся. Извозчики весело кричат: «В Вифанию-то на свеженьких!., к Черниговской прикажите!» – нас будто приглашают. И розовая утренняя лавра весело блестит крестами. Отец рад, что махнул с нами к Троице:
– Так отдохнул… давно так не отдыхал, как здесь.
– Как же можно, Сергей Иваныч… нигде так духовно не отдохнешь, как во святой обители, – говорит Горкин и взмахивает руками, словно летит на крыльях. – Духовное облегчение… как можно! Да вот… как вчера заслабел! а после исповеди и про ногу свою забыл, чисто вот на крыл ах летел! А это мне батюшка Варнава так сподобил… пошутил будто: «Молитовкой подгоняйся, и про ногу свою забудешь». И забыл! И спал-то не боле часу, а и спать не хочется… душа-то воспаряется!..
У гостиницы, в холодке, поджидают наши богомольцы, праздничные, нарядные. Домна Панферовна – не узнать: похожа на толстую купчиху, в шелковой белой шали с бахромками и в косынке из кружевцов, и платье у ней сиреневое, широкое. Сидит – помахивает платочком. И Антипушка вырядился: пикейный на нем пиджак с большими пуговицами, будто из перламутра, и сапоги наваксены – совсем старичок из лавки, а не Антипушка. И Федя щеголем, в крахмальном даже воротничке, в котором ему, должно быть, тесно – все-то он вертит шеей и надувается, новые сапоги горят. На Анюте кисейное розовое платье, на шейке черная бархотка с золотеньким медальончиком – бабушка подарила! – на руках белые митенки, которые она стягивает, и надевает, и опять снимает, и все оглядывает себя. Намазала волосы помадой, даже на лоб течет. Я спрашиваю: что у нее? Зуб болит… морщится-то? Она мне шепчет:
– Новые полусапожки жгут, мочи нет… бабушке только не скажи, а то рассердится, велит скинуть.
Извозчики тащат к своим коляскам, суют медные бляхи – порядиться. С грибами и земляникой бабы и девчонки, упрашивают купить. Суд-нышко из соломы на земле, с подберезничками и подосиновичками. Гостинник с послушником сваливают грибы в корзину. Домна Панферовна вздыхает:
– Ах, лисичек бы я взяла, пожарить… смерть, как люблю.
Да теперь некогда, в лавру сейчас идем. Лисичек и Горкин съел бы: жареных нет вкусней! Ну да в блинных закажем и лисичек.
Троица Новозаветная. Икона, середина XVII в.
Уже благовестят к поздней. Валит народ из лавры, валит и в лавру, в воротах давка. В убогом ряду отчаянный крик и драка. Кто-то бросил целую горсть – «на всех!» – и все возятся по земле, пыль летит. Лежит на спине старушка, лаптями сучит, а через нее рыжий лезет, цапает с земли денежку. Мотается головой в ноги лохматый нищий, плачет, что не досталось. Кто жалеет, а кто кричит:
– Вот бы водой-то их, чисто собаки скучились!..
Грех такой – и у самых святых ворот! Подкатывается какой-то на утюгах, широкий, головастый, скрипит-рычит:
– Сорок годов без ног, третий день маковой росинки не было!..
Раздутое лицо, красное, как огонь, борода черная-расчерная, жесткая, будто прутья, глаза – как угли. Горкин сердито машет:
– Господь с тобой… от тебя, как от кабака… стыда нету!..
Говорят кругом:
– Этот известен, ноги пропил! Мошенства много, а убогому и не попадет ничего.
Н. Рерих. «Сергий Строитель». 1940
Поют слепцы, смотрят свинцовыми глазами в солнце, блестят на высоких лбах. Поют про Лазаря. Мы слушаем и даем пятак. Пролаз-мальчишка дразнит слепцов стишком:
Ла-зарь ты, Ла-зарь, Слепой, лупогла-зай, Отдай мои де-ньги, Четыре копей-ки!..Жалуются кругом, что слепцам только и подают, а у главного старика вон – «лысина во всю плешь-то!» – каменный дом в деревне. Старик слышит и говорит:
– Был, да послезавтра сгорел!
Кричат убогие на слепцов:
– Тянут-поют, а опосля пиво в садочке пьют!
А народ дает и дает копейки. Горкин дает особо, «за стих», и говорит, что не нам судить, а обманутая копейка – и кошель, и душу прожгет – воротится. Подаем слабому старичку, который сидит в сторонке: выгнали его из убогого ряда сильные, богатые.
В Святых воротах, с угодниками, заходим в монастырскую лавку, купить из святостей.
Блестят по стенам иконки, в фольге и в ризах. Под стеклами на прилавке насыпаны серебряные и золотые крестики и образочки – больно смотреть от блеска. Висят четки и пояски с молитвой, большие кипарисовые кресты и складни, и пахнет приятно-кисло – священным кипарисом. Стоят в грудках посошки из можжевелки, с выжженными по ним полосками и мазками. Я вижу священные картинки: «Видение птиц», «Труды преподобного Сергия», «Страшный Суд». Все покупают крестики, образочки и пояски с молитвой – положим для освящения на мощи. Отец покупает мне образ Святыя Троицы, в серебряной ризе, и говорит:
– Это тебе мое благословение будет.
Я не совсем это понимаю – благословение… для чего? Горкин мне говорит, что великое это дело…
– Отца-матери благословение – опора, без нее ни шагу… как можно! Будешь на него молиться, папеньку вспомянешь – помолишься.
Покупаем еще колечки с молитвой, серебряные, с синей и голубой прокладочкой, по которой светятся буковки-молитвы: «Преподобие отче Сергие, моли Бога о нас». Покупаем костяные и кипарисовые крестики, с панорамкой лавры, и «жития».
Красивый чернобровый монах с румяными щеками выкладывает пухлыми белыми руками редкости на стекло: крестики из коралла, ложки точеные, из кипариса, с благословляющей ручкой, с написанной на горбушке лаврой; поминанья кожаные и бархатные с крестиками из золотца на вскрышке, бархатные мешочки для просвирок, ларчики из березы, крестовые цепочки, салфеточные кольца с молитвой, вышитые подушечки – сердечком, молитвеннички, браслетки с крестиками, нагрудные образки в бархате… всякие редкостные штучки. Говорит мягко-мягко, молитвенным голоском, напевно:
– На память о лавре Сергия преподобного… приобретите для обиходца вашего, что позрится… мальчику ложечку с вилочкой возьмите, благословение святой обители, для телесного укрепления… висячий кармашек для платочка, носик утирать, синелью вышит…
Не хочется уходить от святостей.
М. Нестеров. «Всадники». Эпизод из истории осады Троице-Сергиевой лавры. 1932
Отец покупает Горкину складень из кипариса– Святая Троица, Черниговская и преподобный Сергий. Горкин всплескивает: «Цена-то… четыре рубли серебром!» И Антипушке покупает образок преподобного на финифти. И Анюте с Домной Панферовной – серебряное колечко и сумочку для просвирок. А Феде – картинку «Труды преподобного Сергия в хлебной».
– В бараночной у себя повесишь – слаще баранки будут!
И еще покупает, многое – всем домашним.
– Маслица благовонного возьмите, освященного, в сосудцах с образом преподобного, от немощей, – выкладывает монах из-под прилавка зеленоватые пузыречки с маслом.
Спас Вседержитель. Мозаика. VI в. Церковь Сан Аполлинаре Нуово. Италия
Пахнет священно кипарисом, и красками, и новенькими книжками в тонких цветных обложках, и можжевелкой пахнет – дремучим бором – от груды высыпанных точеных рюмочек, баульчиков, кубариков и грибков, от крошечных ведерок, от бирюлек…
– Ерусалимского ладанцу возьмите, покурите в горнице для ароматов…
Монах укладывает все в корзину, на которой выплетены кресты. Все потом заберем, на выходе.
Еще прохладно, пахнет из садиков цветами. От колокольни-Троицы сильный свет – видится все мне в розовом: кресты, подрагивающие блеском, церковки, главки, стены, блистающие стекла. И воздух кажется розовым, и призывающий звон, и небо. Или это теперь мне видится… розовый свет от лавры… розовый свет далекого? Розовая на мне рубашка, розоватый пиджак отца… просфора на железной вывеске, розовато-пшеничная – на розовом длинном доме, на просфорной; чистые длинные столы, вытертые до блеска белыми рукавами служек, груды пышных просфор на них, золотистых и розовато-бледных… белые узелки, в белых платочках девушки… вереницы гусиных перьев, которыми пишут на исподцах за упокой и за здравие, шорох и шелест их, теплый и пряный воздух, веющий от душистых квашней в просфорной… Все и доныне вижу, слышу и чувствую. Розовые сучки на лавках и на столах, светлых, как просфоры; теплые доски пола, чистые, как холсты, с пятнами утреннего солнца, с отсветом колокольни-Троицы, с бледными крестовинами окошек; свежие лица девушек, тихих и ласковых, в ссунутых на глаза платочках, вымытые до лоска к празднику; чистые руки их, несущие бережно просвирки… добрые, робкие старушки в лаптях, в дерюжке, бредущие ко святыням за сотни верст, чующие святое сердцем… все и доныне вижу.
Ф. Алексеев. «Троице-Сергиева лавра». 1800-е гг.
У золотого креста пьют воду богомольцы, звякают кружками на цепочках, мочат глаза и головы. Пьем и мы. Смотрим – везут расслабленного, самого того парня, которому отдал свои сапоги Федя. У парня руки лежат крестом, и на них, на чистой рубахе из холстины, как у покойника, – новенький образок угодника. И сапоги Федины в ногах! Приехали, целым-целы.
Старуха узнает нас и ахает, словно мы ей родные. Парень глядит на Федю и говорит чуть слышно:
– Сапоги твои… вот надену…
Глаза у него чистые, не гноятся. В народе кричат:
– Пустите, болящего привезли!
Старухе дают кружку с оборванной цепочкой. Она крестится ею на струящийся блеск креста, отпивает и прыскает на парня. Он тоже крестится. Все кричат:
– Глядите, расслабный-то ручку поднял, перекрестился!..
Велят поливать на ноги, и все принимаются поливать. Парень дергается и морщится и вдруг… начинает подниматься! Все кричат радостно:
– Гляди-ка, уж поднялся!., ножками шевелит… здоровый!
Приподнимают парня, подсовывают под спину сено, хватают под руки, крестятся. И парень крестится и сидит! Плачет над ним старуха. Все кричат, что чудо живое совершилось. Парень просит девчонку:
– Дунька, водицы испить…
Попить-то и не дали! Суют кружки, торопят:
– Пей, голубчик… три кружки зараз выпей!., сейчас подымешься!..
Иные остерегают:
– Много-то не пей, не жадничай… вода дюже студеная, как бы не застудиться!
Другие кричат настойчиво:
– Больше пей!.. Святая вода, не простужает, кровь располирует!..
Горкин советует старухе:
– К мощам, мать, приложи… и будет тебе по вере.
И все говорят, что будет! Помогают везти тележку, за ней идет народ, слышится визг колес-ков.
У колокольни кто-то кричит под благовест:
– Эй, наши… замоскворецкие!..
Оказывается, от Спаса-в-Наливках дьякон, которого встретили мы под Троицей. Теперь он благообразный, в лиловой рясе. И девочки все нарядные, как цветы. И певчие наши тут же. Все обнимаемся. Дьякон машет на колокольню и восторгается:
– Что за глас! Сижу и слушаю, не могу оторваться… от младости так, когда еще в семинарии учился.
Говорят про колокола и певчие – все-то знают:
– Сейчас это «Корноухий» благовестит, маленький, тыща пудов всего. А по двунадесятым – «Царь-колокол» ударяет, и на ногах тут не устоишь.
Дьякон рассказывает, что после обедни и «Переспор» услышим: и колоколишка-то маленький, а все вот колокола забьет-накроет. Певчие хвалят «Лебедя»:
– За «Славословием»-то вчера слыхали? Чистое серебро!
Дьякон обещает сводить нас на колокольню – вот посвободней будет, отец звонарь у него приятель, по всем-то ярусам проведет, покажет.
Надо спешить в собор.
Народу еще немного, за ранними отмолились. В соборе полутемно, только в узенькие оконца верха светят полоски солнца, и вспыхивают в них крыльями голубки. Кажется мне, что там небо, а здесь земля. В темных рядах иконостаса проблескивают искры, светятся золотые венчики. По стенам – древние святые, со строгими ликами. На клиросе вычитывают часы, чистый молодой голос сливается с пением у мощей:
– Преподобный отче Сергие, моли Бога о на-ас!..
Под сенью из серебра, на четырех подпорах, похожих на часовню, теплятся разноцветные лампады-звезды, над ракой преподобного Сергия. Пригробный иеромонах стоит недвижимо-строго, как и вчера. Непрестанно поют молебны. Горкин просит монаха положить на мощи образочки и крестики. Желтые огоньки от свечек играют на серебре и золоте. Отец берет меня на руки. Я рассматриваю лампады на золотых цепях, большие и поменьше, уходящие в глубину, под сень. На поднятой створе раки, из серебра, я вижу образ угодника: преподобный благословляет нас. Прикладывается народ: входит в серебряные засторонки, поднимается по ступенькам, склоняется над ракой. И непрестанно поют-поют:
– Преподо-бный отче Се-ргие, моли Бога о на-ас!..
Фернандо Галлего. «Благословляющий Христос»
Поет и отец, и я напеваю внутренним голоском, в себе.
Слышится позади:
– Пустите… болящего пустите!
Пригробный иеромонах показывает пальцем: сюда несите. Несут мужики расслабного, которого обливали у креста. Испуганные его глаза смотрят под купол, в свет. Иеромонах указывает – внести за засторонку. Спрашивает, как имя? Старуха кричит, в слезах:
– Михайлой, батюшка… Михайлой!.. Помолись за сыночка… батюшка преподобный!..
Иеромонах говорит знакомую молитву, Горкин меня учил: «…скорое свыше покажи посещение… страждущему рабу Твоему Михаилу, с верою притекающему…»
Горкин горячо молится. Молюсь и я. Старушка плачет:
– Родимый наш… прибега и скорая помога… помоли Господа!
Иеромонах смотрит в гроб преподобного и скорбным, зовущим голосом молится: «…и воздвигни его во еже пети Тя…»
– Подымите болящего…
Ф. Алексеев. «Троице-Сергиева лавра». 1800-е гг.
Болящего подымают над ракой, поворачивают лицом, прикладывают. Иеромонах берет розовый «воздух», возлагает на голову болящего и трижды крестит. Старуха колотится головой о раку. Мне делается страшно. Громко поют-кричат: «Преподобный отче Се-ргие, моли Бога о на-ас!..»
Все поют. Текут огоньки лампад, дрожит золотыми огоньками рака, движется розовый покров во гробе… живое все! Я вижу благословляющую руку из серебра на поднятой накрышке раки.
Прикладываемся к мощам. Иеромонах и меня накрывает чем-то и трижды крестит: «…во еже пети Тя… и славити непрестанно…»
Эти слова я помню. Много раз повторял их Горкин, напоминал. Чудесными они мне казались и непонятными. Теперь – и чудесны, и понятны.
Тянется долгая обедня. Выходим, дышим у цветника, слушаем колокольный звон, смотрим на ласточек, на голубое небо. Входим опять в собор. Тянет меня под тихие огоньки лампад, к святому.
Отец привозит меня к Аксенову на Кавказке и передает на руки молодцу. Встречает сам Аксенов, говорит: «Оченно приятно познакомиться» – и ведет на парадное крыльцо. Расшитая по рисункам барышня в разноцветных бусах уводит меня за ручку в залу и начинает показывать редкости, накрытые стеклянными колпаками: вырезанную из белого дерева лошадку и тележку, совсем как наша, игрушечную только, мужиков в шляпах, как в старину носили, которые косят сено, и бабу с ведрами на коромысле. И все спрашивает меня: «Ну что… нравится?» Мне очень нравится. Молодчик, который вчера нас гнал, ласково говорит мне:
– Знаю теперь, кто ты… московский купец ты, знаю! А фамилия твоя – Петухов… видишь, сколько на тебе петухов-то!..
И все смеется. Показывают мне органчик, который играет зубчиками – «Вот мчится тройка удалая», угощают за большим столом пирогом с рыбой и чаем. Я слышу из другой комнаты голоса отца, Аксенова и Горкина. И он там. В комнатах очень чисто и богато, полы паркетные, в звездочку, богатые образа везде. Молодчик обещается подарить мне самую большую лошадь. Потом барышня ведет меня в сад и угощает малинкой. В беседке пьют чай наши, едят длинные пироги с кашей. Прибегает Савка и требует меня к папаше: «Папашауезжает!» Барышня сама ведет меня за руку, от собак.
На дворе стоит наша тележка, совсем пустая. Около нее ходят отец с Аксеновым, Горкин и молодчик, и стоит в стороне народ. Толстый кучер держит под уздцы Кавказку. Похлопывают по тележке, качают головами и улыбаются. Горкин присаживается на корточки и тычет пальцем. Я знаю, куда, – в «А»! Отец говорит Аксенову:
– Да, удивительное дело… а я и не знал, не слыхивал. Очень, очень приятно, старую старину напомнили. Слыхал, как же, торговал дедушка посудой, после французов в Москву навез, слыхал. Оказывается, друзья-компаньоны были старики-то наши. Вот откуда мастера-то пошли, откуда зачал ось-то, от Троицы… резная-то работка!..
– От нас, от нас, батюшка… от Троицы, – говорит Аксенов. – Ребятенкам игрушки резали, и самим было утешительно, вспомнишь-то!..
Отец приглашает его к нам в гости, Москву проведать. Аксенов обещается побывать:
– Ваши гости, приведет Господь побывать. Вот и родные будто, как все-то вспомнили. Да ведь, надо принять во внимание… все мы у Господа да у преподобного родные. Оченно рад. Хорошо-то как вышло, само открылось… у преподобного! Будто вот так и надо было.
Смоленская церковь в Троице-Сергиевой лавре. Фото Ghirlandajo
Он говорит растроганно, ласково так, и все похлопывает тележку.
– Дозвольте, уж расцелуемся, по-родному, – говорит отец, и я по его лицу вижу, как он взволнован: в глазах у него как будто слезы.
– Дедушку моего знавали!.. Я-то его не помню…
– А я помню, как же-с, – говорит Аксенов. – Повыше вас был и поплотней, веселый был человек, душа. Да-с… надо принять во внимание… Мне годов… да, пожалуй, годов семнадцать было, а ему, похоже, уж под ваши годы, уж под сорок. Ну-с, счастливо ехать, увидимся еще, Господь даст.
И они обнимаются по-родному. Отец вскакивает лихо на Кавказку, целует меня с рук Горкина, прощается за руку с молодчиком, кланяется красивой барышне в бусах, дает целковый на чай кучеру, который все держит лошадь, наказывает мне вести себя молодцом, «а то дедушка вот накажет», и лихо скачет в ворота.
– Вот и старину вспомнили, – говорит Горкину Аксенов, – как вышло-то хорошо. А вы, милые, поживите, помолитесь, не торопясь. Будто родные отыскались.
Я еще хорошо не понимаю, почему родные. Горкин утирает глаза платочком. Аксенов глядит куда-то, над тележкой, и у него слезы на глазах.
– Вкатывай, – говорит он людям на тележку и задумчиво идет в дом.
Все спят в беседке: после причастия так уж и полагается – отдыхать. Даже и Федя спит. После чая пойдем к вечерням, а завтра всего посмотрим. Денька два поживем еще – так и сказал папашенька: «Поживите, торопиться вам некуда».
Барышня показывает нам сад с Анютой. Молодчик с пареньками играет на длинной дорожке в кегли. Приходят другие барышни и куда-то уводят нашу. Барышня говорит нам:
– Поиграйте сами, побегайте… красной вот смородинки поешьте.
И мы начинаем есть, сколько душе угодно. Анюта рвет малинку и рассказывает мне про батюшку Варнаву, как ее исповедовал.
– Бабушка говорит – от него не укроешься, наскрозь все видит. Вот, я тебе расскажу, сама бабушка мне рассказывала, она все знает… Вот, одна барыня приезжает, а в Бога не верила… Ну, ее умные люди уговорили приехать, поглядеть, какой угодный человек, наскрозь видит. Вот она, приехамши, говорит… села у столика: «И чего я не видала, и чего я не слыхала!» – А она все видала и все слыхала, богатая была. – «Чегой-то он мне наболтает!» – про святого так старца! Ну, он бы мог, бабушка говорит, час ей смертный послать за такие богохульные слова. Только он жалостливый до грешников. А она сидит у столика и ломается из себя: «И чегой-то он не идет, я никогда не могу ждать!» А он все не идет и не идет. И вот тут будет самое страшное… только ты не бойся, будет хорошо в конец. Вот, она сидела, и выходит старец… и несет ей стакан пустого чаю, даже без сахару. Поздоровался с ней и говорит: «И вот вам чай, и пейте на здоровье». А барыня рассерчалась и говорит: «И чтой-то вы такое, я чаю не желаю!» От святого-то человека! Как бы радоваться-то должна, бабушка говорит, а она так, как бес в ней: «Не желаю чаю!» А он смиренно ей поклонился… святые ведь смиренные… Бабушка говорит – поклонился ей и приговаривает еще: «А вы не пейте-с, вы не пейте-с… а так только, ложечкой поболтайте-с, поболтай-те-с!..» И ушел. Вон что сказал-то! – поболтайте ложечкой. Ушел и не пришел. А она сидела и болтала ложечкой. Понимаешь, к чему он так? Все наскрозь знал. Вот она и болтала. Тут-то и поняла-а… и проняло ее. Потом покаялась со слезьми и стала богомольной, уважительной… бабушка сама ее видала!..
Надвратная церковь в Троице-Сергиевой лавре
Она много еще рассказывает. Говорит, что, может, и сама в монашки уйдет, коли бабушка загодя помрет… «А то что ж так зря-то мытариться!»
Так мы сидим под смородинным кустом, играем. Савка приносит самовар – чай пить время, к вечерням ударят скоро. За чайком Горкин рассказывает всем нам, почему с тележкой такое вышло.
– Словно вот и родными оказались. А вот как было, Аксенов сам нам с папашенькой доложил. Твой прадедушка деревянной посудой торговал, рухлядью. Французы Москву пожгли, ушли, все в разор разорили, ни у кого ничего не стало. Вот он загодя и смекнул – всем обиходец нужен, посуда-то… ни ложки, ни плошки ни у кого. Собрал сколько мог деньжонок, поехал в эти края и дале, где посуду точили. И встретил-повстречал в Переяславле Аксенова этого папашу. А тот мастер-резчик, всякие штуковинки точил-резал, поделочное, игрушки. А тут не до игрушек, на разоренье-то! Бедно тот жил. И пондравились они друг дружке. «Давай, – говорит прадедушка-то твой, – сбирать посудный товар, на Москву гнать, поправишься!» А Аксенов тот знаменитый был мастер, от него, может, и овечки-коровки эти пошли, у Троицы здесь продают-то, ребяткам в утеху покупают… и с самим митрополитом Платоном знался, и тому резал-полировал… и горку в Вифании, Фавор-то, увидим завтра с тобой, устраивал. Только митрополит-то помер уж, только вот ушли французы… поддержка ему и кончилась. А он ему, Платону-то, уж тележку сделал, точь-в-точь такую же, как наша, с резьбой с тонкой, со всякими украсами. И еще у него была такая же тележка, с сыном они работали, с теперешним вот Аксеновым нашим, дом-то чей, у него-то мы и гостим теперь. Ну, хорошо. И все дивились на ихние тележки. А тогда, понятно дело, все разорены, не до балушек этих. Вот твой прадедушка и говорит тому: «Дам я тебе на разживу полтысячки, скупай для меня посуду по всем местам, и будем, значит, с тобой в компании орудовать». И начали они таким делом посуду на Москву гнать. А там – только подавай, все нехватка. Люди-то с умом были… Аксенов и разбогател, опять игрушкой занялся, в гору пошел. И игрушка потом понадобилась, жисть-то как поутихла-посветлела. Теперь они, Аксенов-то, как работают! Ну, хорошо. Вот и приходит некоторое время, и привозит Аксенов тот долг твоему прадедушке. И в подарок – тележку новенькую… не свою, а третью сделали, с сыном работали, на совесть. С того и завелась у нас тележка, вон откуда она пошла-то! А потом и тот помер вскорости, и другой… старики-то. И позабыли друг дружку молодые-то. А тележка… ну, ездил дедушка твой на ней, красным товаром торговал… а потом тележка в хлам и попала. И забыли про нее все: тележка и тележка, а антересу к ней нет, и к чему такая – неизвестно. Маленькая… ее и завалили хламом. А вот, привел Господь, мы ее и раскопали, мы-то ее и вывели на свет Божий, как пришло время к Троице-Сергию нам пойти… так вот и толкнуло меня что-то, на ум-то мне: возьмем тележку, легонькая, по нам! Ее вот и привело… к своему хозяину воротилась. Добро-то как отозвалось! Потому и в гостях теперь, и уважение нам с тобой какое. И опять друг дружку признали, родные будто. Вот нас зато так-то и приняли, и обласкали, в благодати какой живем! Старик-то заплакал вон, старое свое вспомнил, батюшку. Как оно обернулось… И ведь где же… у самого преподобного! Ате тележки давно пропали, другие две-то.
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Фото Shesmax
Одна в пожаре сгорела, у митрополита Платона… и другая, у Аксеновых, тоже сгорела в большой пожар, давно еще. Больше они и не забавлялись. Старик-то помер, с игрушек шибко разбогатели. Последки вон на полках от старика остались. Рукомесло-то это неприбыльное, на хорошего любителя, кто понимает, чего тут есть… для своей радости-забавы делали… а кто покупать-то станет! Единая наша и осталась.
Я спрашиваю: а теперь как, возьмет Аксенов тележку нашу?
– Нет, дареное не берут назад. У нас останется, поедем на ней домой. Прибрали ее, почистили здешние мастера… промыть хотели, да старик не дозволил… Господним дождем пусть моет – так и сказал. Каждый день на нее любуется – не наглядится. И молодчик-то его залюбовался. Только такой уж не сделают, на нее работы-то уйдет сколько! И терпенья такого нет… ты погляди-ка, как резана-а!.. Одной рукой да глазом не сделаешь, тут душой радоваться надо… Пасошницы вот покойный Мартын резал, попробуй-ка так одним топориком порезать… винограды какие!.. Это дело особое, не простое.
Мы слушаем, как сказку. Птичка поет в кустах. Говорят, барышня Домне Панферовне сказала, соловьи к вечеру поют здесь, в самом конце, поглуше. И Федя слыхал – ночью не мог заснуть. Горкин выходит на крылечко и радостно говорит, вздыхая:
– А как тихо-то, хорошо-то как здесь… и Троица глядит! Свете тихий… святыя славы…
Высвистывает птичка. В лавре благовестят к вечерням.
Благословение
Только еще заря, сад золотисто-розовый, и роса – свежо, не хочется подыматься. А все уже на ногах. Анюта заплетает коску, Антипушка молится на небо, Горкин расчесывается перед окошком, как в зеркальце. Говорят – соловей все на зорьке пел. В дверь беседки вижу я куст жасмина, осыпанный цветами – беленькими, с золотым сердечком. Домна Панферовна ахает над кустом:
– А-ах, жасминчик… люблю до страсти!
И на столе у нас, в кувшине, жасминчик и желтые бубенцы – Федя вчера нарвал – и целый веник шиповнику. Федя шиповник больше уважает – аромат у него духовный. И Горкин тоже шиповник уважает, и я. Савка несет самовар с дымком и ставит на порожке – пусть прогорит немножко. Все говорят: «Ах, хорошо… шишечкой-то сосновой пахнет!» Савка доволен, ставит самоварчик на стол в беседке. Говорит:
– Мы всегда самовар шишечками ставим. А сейчас горячие вам колобашки будут, вот притащу.
Анюта визжит от радости:
– Бабушка, горячие колобашки будут!..
А Домна Панферовна на нее:
– Ори еще, не видала сроду колобашек?..
По-царски нас прямо принимают: вчера пироги с кашей и с морковью, нынче горячие колобашки – и родных так не принимают.
Пьем чай с горячими колобашками, птички поют в саду. Федя чем свет поднялся, просвир-ный леестрик правит: всех надо расписать – кого за упокой, кого за здравие, кому просвирку за сколько, дело нелегкое.
– Соломяткина-то забыли, в Мытищах-то угощал, – припоминает Горкин, – припиши, Федя: раба Божия Евтропия, за пятачок.
Приписываем еще Прокопия со чады – трактирщика Брехунова, супруги-то имя позабыли. Вспомнили, хорошо, раба Божия Никодима, Аксенова самого, и при нем девицу Марию – ласковая какая барышня! – и молодчика, погнал-то который нас: Савка сказал, что Василием Никитичем зовут, просфору за полтинник надо. И болящего Михаила приписали, расслабного, за три копейки хоть. Увидим – отдадим, а то и сами съедим за его здоровье. Упаси Бог, живых бы с покойниками не спутали, неприятности не избыть. Напутали раз монахи, записали за здравие Федосью, а Федосея за упокой, а надо наоборот было; хорошо – дома доглядели, выправили чернилками, и то боялись, не вредные ли: тут чернилки из орешков монахи сотворяют, а в Москве, в лавочке, кто их знает.
В. Васнецов. «Страшный Суд». 1885–1896
Идем в лавру с большой корзиной, ягодной-пудовой – покупали в игрушечном ряду, об столбик били: крепок ли скрип у ней. Отец про-сфорник велит Сане-заике понаблюсти – выпросили мы его у отца квасника помочь-походить с нами, святыни поглядеть, нам показать. А нам говорит:
– Он с писцами просфорки все проверит и к вам подойдет… а вы покуда идите, наши соборы-святыни поглядите, а тут ноги все простоите, ждамши.
Горкин указывает Сане, как понимать леест-рик: первая мета – цена, крестик за ней – за упокой, а колечко – за здравие. За долгими чистыми столами в просторных сенцах служки пишут гусиными перьями: оскребают с исподцев мучку и четко наводят по-церковному.
Ходим из церкви в церковь, прикладываемся и ставим свечи. В большом соборе смотрим на Страшный Суд – написано во всю стену. И страшно, а не оторвешься. Монах рассказывает, за какие грехи что будет. Толстый зеленый змей извивается к огненной геенне, и на нем все грехи прописаны, и голые грешники, раскаленные докрасна, терзаются в страшных муках; а эти, с песьими мордами и с рогами, наскакивают отовсюду с вилами – зеленые, как трава. А наверху, у Бога, светлые сонмы ангелов вешают на златых весах злые дела и добрые – что потянет? А души взирают и трепещут. Антипушка вздыхает:
– Господи… и царей-королей в ад тащут, и к ним не снисходят, из уважения!..
Монах говорит, что небесная правда – не земная: взыщется и с малых, и с великих. Спрашиваем: а толстые кто, в бархатных кафтанах, за царями идут, цепью окручены, в самую адову пучину?
– А которые злато приобретали и зла-то всякого натворили, самые богачи купцы. Ишь сколько за ними бесы рукописаний тащут!
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Фото Shesmax
Горкин говорит со вздохом:
– Мы тоже из купцов…
Но монах утешает нас, что и праведные купцы бывают, милостыню творят, святые обители не забывают – украшают, и Милосердный Господь снисходит.
Я спрашиваю, зачем раскаленная грешница лежит у «главного» на коленях, а на волосах у нее висят маленькие зеленые. Монах говорит, что это бесстыдная блудница. Я спрашиваю, какие у нее грехи, но Горкин велит идти, а то ночью бояться будешь – насмотришься.
– Вон, – говорит, – рыжий-то, с мешочком, у самого! Иуда Искариот это, Христа продал, с денежками теперь терзается… ишь скосился!
Монах говорит, что Иуде муки уготованы без конца: других, может, праведников молитвы выкупят, а Искариоту не вызволиться во веки веков, аминь. И все говорят – этому нипочем не вырваться.
Смотрим еще трапезную церковь, где стены расписаны картинками, и видим грешников, у которых сучок и бревно в глазу. Сучок маленький и кривой, а бревно толстое, как балка. Монах говорит:
– Для понимания писано: видишь сучок в глазу брата твоего, а бревна-то в своем не чувствуешь!
Я спрашиваю, зачем воткнули ему бревно… ведь больно? Монах говорит:
– Для понимания, не больно.
Еще мы видим жирного богача, в золотых одеждах и в бархате за богатой трапезой, где жареный телец, и золотые сосуды-кувшины с питиями, и большие хлебы, и под столом псы глотают куски тельца; а на пороге лежит на одной ноге убогий Лазарь, весь в болячках, и подбирает крошки, а псы облизывают его. Монах говорит нам, что так утешается в сей жизни немилостивый богач, и вот что уготовано ему на том свете!
И видим: стоит он в геенне-прорве и высовывает кверху единый перст, а высоко-высоко, у старого Авраама на коленях, под розанами и яблочками, пирует у речки Лазарь в блистающих одеждах, и ангелы подносят ему блюда и напитки.
– «Лазарь, Лазарь! омочи хоть единый перст и прохлади язык мой!» – взывает немилостивый богач из пламени, – рассказывает монах, – но Лазарь не слышит и утешается… не может суда Божиего преступить.
В соборе Троицы мы молимся на старенькую ризу преподобного, простую, синюю, без золотца, и на деревянную ложечку его за стеклышком у мощей. Я спрашиваю: а где же келья? Но никто не знает.
Лезем на колокольню. Высота-а… кружится голова. Кругом, куда ни глянешь, только боры и видно. Говорят, что там и теперь медведи; водятся и отшельники. Внизу люди кажутся мошками, а собор преподобного – совсем игрушечный. Под нами летают ласточки, падают на кресты. Горкин стучит пятачком по колоколу – гул такой! Говорят, как начнут звонить, рот надо разевать, а то голову разорвет от духа, такое шевеленье будет.
Отец просфорник выдает нам корзину с просфорами:
– Бог милости прислал! По леестрику все вписали и вынули… благослови вас преподобный за ваше усердие.
Саня-заика упрашивает нас зайти в квасную, холодненького выпить – такого нигде не делают:
– На… на-на…ме-местниковский ква-ква…сок! Отец Власий благословил попотчевать вас.
Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 1422 г. Фото Lodo27
Сам отец квасник подносит нам деревянный ковшик с пенящимся розоватым квасом. Мы выпиваем много, ковшиков пять, не можем нахвалиться: не то малинкой, не то розаном отзывается и с л ад кий-слад кий. Горкин низко кланяется отцу кваснику, и отец квасник тоже низко кланяется и говорит:
– Пили мы надысь в Мытищах у Соломяткина царский квас… каким царя угощали, от старины… хорош квасок! А ваш квас, батюшка… в раю такой квас праведники пить будут… райский прямо!
– Благодарствуйте, очень рады, что понравился наш квасок, – говорит квасник и кланяется низко-низко. – А в раю, Господь кому приведет, Господень квасок пить будут… пиво новое – радость вкушать Господню от лицезрения Его. А квасы здесь останутся.
Федя несет тяжелую корзину с просфорами, скрипит корзина.
Катим в Вифанию на тройке, коляска звенит-гремит. Горкин с Домной Панферовной на главном месте, я у них на коленях, на передней скамеечке Антипушка с Анютой, а Федя с извозчиком на козлах. Едем в березах, кругом благодать Господня – богатые луга с цветами, такие-то крупные ромашки и колокольчики! Просим извозчика остановиться, надо нарвать цветочков. Он говорит: «Ну, что ж, можно детей потешить», – и припускает к траве лошадок: «И лошадок повеселим. Сено тут преподобное, с него каждая лошадка крепнет… монахи как бы не увидали только!»
Все радуются: трава-то какая сильная. И цветы по-особенному пахнут. Я нюхаю цветочки – священным пахнут.
В Вифанском монастыре, в церкви, – гора Фавор! Стоит вместо иконостаса, а на ней – Преображение Господне. Всходим по лесенке и смотрим: пасутся игрушечные овечки, течет голубой ручеек в камушках, зайчик сидит во мху, тоже игрушечный, на кусточках ягоды и розы… такое чудо! А в горе – Лазарев гроб-пещера.
Смотрим гроб преподобного из сосны – Горкин признал по дереву. Монах говорит:
– Не грызите смотрите! Потому и в укрытии содержим, а то бы начисто источили.
И открывает дверцу, за которой я вижу гроб.
– А приложиться можно, зубами не трожьте только!
Горкин наклоняет меня и шепчет:
– Зубками поточи маленько… не бойся. Угодник с тебя не взыщет.
Но я боюсь, стукаюсь только зубками. Домна Панферовна после и говорит:
– Прости, батюшка преподобный Сергий… угрызла, с занозцу будет.
И показывает в платочке: так, с занозцу. И Горкин тоже хотел угрызть, да нечем, зубы шатаются. Обещала ему Домна Панферовна половинку дать, в крестик вправить. Горкин благодарит и обещается отказать мне святынь-ку, когда помрет.
Рафаэль. «Преображение». 1519–1520. Пинакотека. Ватикан
Едем прудами по плотине на пещерки к Черниговской – благословиться у батюшки Варнавы, Горкин и говорит:
– Сказал я батюшке, больно ты мастер молитвы петь. Может, пропеть скажет… получше пропой смотри.
А мне и без того страшно – увидеть святого человека! Все думаю: душеньку мою чует, все-то грехи узнает.
Тишина святая, кукушку слышно. Анюта жмется и шепчет мне:
– Семитку со свечек утаила у бабушки… он-то узнает?
Я говорю Анюте:
– Узнает беспременно, святой человек… отдай лучше бабушке, от греха.
Она вынимает из кармашка комочек моха – сорвала на горе Фаворе! – подсолнушки и ясную в них семитку и сует бабушке, когда мы слезаем у пещерок; губы у нее дрожат, и она говорит чуть слышно:
– Вот… смотрю – семитка от свечек замоталась…
Домна Панферовна – шлеп ее!
– Знаю, как замоталась!.. Скажу вот батюшке, он те!..
И такой на нас страх напал!..
Монах водит нас по пещеркам, светит жгутом свечей. Ничего любопытного, сырые одни стены из кирпича, и не до этого мне, все думаю: душеньку мою чует, все-то грехи узнает! Потом мы служим молебен Черниговской в подземельной церкви, но я не могу молиться – все думаю: как я пойду к святому человеку? Выходим из-под земли, так и слепит от солнца.
У серого домика на дворе полным-полно народу. Говорят, выходил батюшка Варнава, больше и не покажется, притомился. Показывают под дерево:
– Вон болящий, болезнь его положил батюшка в карман, через годок, сказал, здоровый будет!
Сергий Радонежский. Фото Д. Калиновского
А это наш паренек, расслабный, сидит на своей каталке и образок целует! Старуха нам говорит:
– Уж как же я вам, родимые мои, рада! Радость-то у нас какая, скажу-то вам… Ласковый какой, спросил: откулешные вы? Присел на возилочку к сыночку, по ножкам погладил, пожалел:
«Земляки мы, сынок… ты, мол, орловский, а я, мол, туляк». Будто и земляки мы. Благословил угодничком… «Я, – говорит, – сыночек, болесть-то твою в карман себе положу и унесу, а ты придешь через годок к нам на своих ноженьках!» Истинный Бог… «На своих ноженьках придешь», – сказал-то. Так обрадовал, осветил… как солнышко Господне.
Все говорят:
– Так и будет, парень-то, гляди-ка, повеселел как!
А Миша образок целует и все говорит:
– Приду на своих ногах!
Ему говорят:
– А вестимо придешь, доброе-то слово лучше мягкого пирога!
Кругом разговор про батюшку Варнаву: сколько народу утешает, всякого-то в душу примет, обнадежит… хоть самый-то распропащий к нему приди.
– А вчера, – рассказывает нам баба, – молодку-то как обрадовал. Ребеночка заспала, первенько-го… и помутилось у ней, полоумная будто стала. Пала ему в ножки со старушкой, а он и не спросил ничего, все уж его душеньке известно. Стал утешать: «А, бойкоглазая какая, а плачешь! На, дочка, крестик, окрести его!» А они и понять не поймут: кого – его?! А он им опять то ж: «Окрести новенького-то, и приходите ко мне через годок, все вместе». Тут-то они и поняли… радостные пошли.
И мы рады: ведь это молодка с бусинками, Параша, земляничку ей Федя набирал!
А батюшка не выходит и не выходит. Ждали мы, ждали – выходит монашек и говорит:
– Батюшка Варнава по делу отъезжает, монастырь далекий устрояет… нонче не выйдет больше, не трудитесь, не ждите уж.
Стали мы горевать. Горкин поахал-поахал…
– Что ж делать, – говорит, – не привел Господь благословиться тебе, касатик…
К. Горбатов. «Троице-Сергиев посад». 1915
И стало мне грустно-грустно. И радостно немножко – страшного-то не будет. Идем к воротам и слышим – зовет нас кто-то:
– Московские, постойте!
Горкин и говорит:
– А ведь это батюшка нас кличет!
Бежим к нему, а он и говорит Горкину:
– А, голубь сизокрылый… благословляю вас, московские.
Ну прямо на наше слово: благословиться, мол, не привел Господь. Так мы все удивились! Ласковый такой, и совсем мне его не страшно. Горкин тянет меня за руку на ступеньку и говорит:
– Вот, батюшка родной, младенчик-то… при-вести-то его сказали.
Батюшка Варнава и говорит ласково:
– Молитвы поешь… пой, пой.
И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку-скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник. Он кладет мне на голову руку и говорит:
– А это… ишь любопытный какой… пчелки со мной молились, слезки их это светлые, – и показывает на восковники. – Звать-то тебя как, милый?
Я не могу сказать, все колупаю капельки. Горкин уж говорит, как звать. Батюшка крестит меня, голову мою, три раза и говорит звонким голосом:
– Во имя Отца… и Сына… и Святого Духа!
Горкин шепчет мне на ухо:
– Ручку-то, ручку-то поцелуй у батюшки!
Я целую бледную батюшкину ручку, и слезы сжимают горло. Вижу – бледная рука шарит в кармане ряски, слышу торопливый голос:
– А моему, – ласково называет мое имя, – крестик, крестик…
Смотрит и ласково, и как-то грустно в мое лицо и опять торопливо повторяет:
– А моему… крестик, крестик…
И дает мне маленький кипарисовый крестик – благословение. Сквозь невольные слезы – что вызвало их? – вижу я светлое, ласковое лицо, целую крестик, который он прикладывает к моим губам, целую бледную руку, прижимаюсь губами к ней.
Горкин ведет меня, вытирает мне слезы пальцем и говорит радостно и тревожно будто:
– Да что ты, благословил тебя… да хорошо-то как, Господи… а ты плачешь, касатик! На батюш-ку-то погляди, порадуйся.
Я гляжу через наплывающие слезы, сквозь стеклянные струйки в воздухе, которые растекаются на пленки, лопаются, сквозят, сверкают. Там, где крылечко, ярко сияет солнце, и в нем, как в слепящем свете, благословляет батюшка Варнава. Я вижу Федю. Батюшка тихо-тихо отстраняет его ладошкой, отмахивается от него как будто, а Федя не уходит, мнется. Слышится звонкий голос:
– И помни, помни! Ишь ты какой… а кто ж, сынок, баранками-то кормить нас будет?..
Федя кланяется и что-то шепчет, только не слышно нам.
– Бог простит, Бог благословит… и Господь с тобой, в миру хорошие-то нужней!..
И кончилось.
Мы собираемся уходить. Домна Панферовна скучная: ничего не сказал ей батюшка, Анюту только погладил по головке. А Антипушке сказал только:
– А, простачок… порадоваться пришел!
Антипушка рад и тоже, как и я, плачет. И все мы рады. И Горкин – опять его батюшка назвал: «Голубь мой сизокрылый». А Домну Панферовну не назвал никак, только благословил.
Собираемся уходить и слышим:
– А, соловьи-певуны, гостинчика принесли!
И видим поодаль – наших, от Казанской, певчих, васильевских: толстого Ломшакова, Батырина-октаву и Костикова-тенора. Горкин им говорит:
– Что же вы, вас это батюшка, вы у нас певуны-то соловьи!
Храм Святого Сергия Радонежского. Сергиев посад Фото Massimilianogalardi
А батюшка их манит. Они жмутся, потрагивают себя у горла, по привычке, и не подходят. А он и говорит им:
– Угостили вчера меня гостинчиком… вечер-ком-то! У пруда-то, из скиту я шел?.. Господа благое лов ля ли-пели. А теперь и деток моих гостинчиком накормите… ишь их у меня сколько!
И рукой на народ так, на крылечке даже повернулся: полон-то двор народу. Тут Ломшаков и говорит, рычит словно:
– Не знали, батюшка… пели мы вчера у пруда… так это вы шли по бережку и приостановились под березкой!..
А батюшка и говорит, ласково так, с улыбкой:
– Хорошо славили. Прославьте и деткам моим на радость.
И вот они подходят, робко, прокашливаются, крестятся на небо и начинают. Так они никогда не пели! Горкин потом рассказывал: «Ангели так поют на Небеси!»
Они поют молитву-благословение, хорошо мне знакомую молитву, которая начинает всенощную: «Благослови, душа моя, Господа…»
Подходят благословиться. Батюшка благословляет их, каждого. Они отходят и утираются красными платками. Батюшка благословляет с крылечка всех широким благословением и уходит в домик. Ломшаков сидит на траве, обмахивается платком и говорит-хрипит:
– Недостоин я, пьяница я… и такая радость!..
Мне его почему-то жалко. И Горкин его жалеет:
– Не расстраивайся, касатик… одному Господу известно, кто достоин. Ах, Сеня, Сеня… да как же вы пели, братики!..
Ломшаков дышит тяжело, со свистом, все потирает грудь. Говорит, будто его кто душит:
– Отпето… больше так не споем.
Лицо у него желтое, запухшее. Говорят, долго ему не протянуть.
Сегодня последний день, после обеда тронемся.
Ранним утром идем прикладываться к мощам – прощаться. Свежо по заре, солнце только что подымается, хрипло кричат грачи. От невидного еще солнца лавра весело золотится и нежно розовеет, кажется новенькой, в новеньких золотых крестах. Розовато блестят на ней мокрые от росы кровли. В Святых воротах совсем еще пустынно, гулко; гремя ключами, румяный монах отпирает «святую» лавочку. От росистого цветника тянет душистой свежестью – петуньями, резедой, землей. Небо над лаврой – святое, голубое. Носятся в нем стрижи, взвизгивают от радости. И нам всем радостно, денек-то послал Господь! Только немного скучно: сегодня домой идти.
После ранней обедни прикладываемся к мощам, просим благословения преподобного, ставим свечу дорожную. Пригробный иеромонах все так же стоит у возглавия, словно и никогда не сходит. Идет и идет народ, поют непрестанные молебны, теплятся негасимые лампады.
Распятие. Икона новгородской школы. Ок. 1360
Грустно выходим из собора, слышим в последний раз: «Преподобный отче Се-ргие, моли Бога о на-ас!..»
А теперь с Саней проститься надо, к отцу кваснику зайти. Саня сливает квас, носит ушатами куда-то. Ему грустно, что мы уходим, смотрит на нас так жалобно, говорит:
– Ка-ка… ка-васку-то, на до-дорожку!..
И мы смеемся, и Саня улыбается: как ни увидит нас – все кваском хочет угостить. Горкин и говорит:
– Ах ты, касатик ласковый… все кваском угощаешь, совсем заквасились мы.
– Да не-нечем бо-больше…у-у-го-стить-то, – отвечает смиренно Саня.
Сошествие во ад. Фреска монастыря Хора. XIV в.
Федя нам шепчет, что Саня такой обет положил: на одном хлебце да на кваску живет, и весь Петров пост так будет. Горкин говорит: «Надо уж сделать уважение, попить кваску на дорожку». Мы садимся на лавку в квасной палате. Пахнет прохладно мят-кой и молодым, сладковатым квасом. Выпиваем по ковшичку натощак. Отец квасник говорит, что это для здоровья пользительно – молодой квасок натощак, – и спрашивает нас, благословились ли хлебцем на дорожку. Мы ему говорим, что как раз сейчас и пойдем благословиться хлебцем.
– Вот и хорошо, – говорит квасник, – благословитесь хлебцем, для здоровья, так всегда полагается.
Сане с нами нельзя: квас сливать, четыре огромных кади. Он нас провожает до порожка, показывает на хлебную. Мы уже дорогу знаем, да можно найти по духу, и всегда там народ толпится – благословиться хлебцем.
Отец хлебник, уже знакомый нам, проводит нас в низкую длинную палату. От хлебного духа будто кружится голова, и хочется тепленького хлебца. По стенам, на полках, тянутся бурые ковриги – не сосчитать. В двери видно еще палату, с великими квашнями-кадями, с вздувшейся доверху опарой. На длинном выскобленном столе лежат рядами горячие ковриги-плашки с темной сверху коркой – простывают. Воздух густой, тягучий, хлебно-квасной и теплый. Горкин потягивает носом и говорит:
– Господи, хлебушко-то насущный… с духу одного сыт будешь!
И мне так кажется: дух-то какой-то… сытный.
Отец хлебник, высокий старик, весь в белом, с вымазанными в муке руками, ласково говорит:
– Как же, как же… благословитесь хлебцем. Преподобный всех провожает хлебцем, отказа никому нет.
Здоровые молодцы-послушники режут ковригу за ковригой, отхватывают ломтями, ровно. Горкин радуется работке:
– Отхватывают-то как чисто, один в один!
Ломти укладывают в корзину, уносят к двери и раздают чинно богомольцам. И здесь я вижу знакомую картинку: преподобный Сергий подает толстому медведю хлебец. Отец хлебник починает для нас ковригу и говорит:
– Примите благословение обители преподобного на дорожку, для укрепления.
И раздает по ломтю. Мы кланяемся низко – Горкин велит мне кланяться пониже – и принимаем, сложив ладошки. Домна Панферовна просит еще добавить. Отец хлебник глядит на нее и говорит шутливо:
– Правда, матушка… кому так, а тебе и два пая мало.
И еще добавил. Вышли мы, Горкин ей попенял: нехорошо, не для жадности, а для благословения положено, нельзя нахрапом. Ну, она оправдалась: не для себя просила, а знакомые наказали, освятиться. Так мы монаху и сказали. Горкин потом вернулся и доложил. Доволен монах остался.
Храм во имя Сошествия Святого Духа на апостолов Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 1476. Фото А. Зеленко
Выходим из палаты – богомольцы и богомольцы, чинно идут за дружкой, принимают «благословение хлебное». И все говорят:
– И про всех хватает, и Господь подает!..
Даже смотреть приятно: идут и идут все с хлебцем; одни обертывают ломти в чистую холстинку, другие тут же, на камушках, вкушают. Мы складываем благословение в особую корзинку с крышечкой, Горкин купил нарочно: в пути будем вкушать кусочками, а половинку домой снесем – гостинчик от преподобного добрым людям. Опускаем посильную лепту в кружку, на которой написано по-церковному: «На пропитание странным». И другие за нами опускали – бедные и прокормятся. Вкусили по кусочку, и стало весело – будто преподобный нас угостил гостинчиком. И веселые мы пошли.
Из лавры идем к маленькому Аксенову, к сундучнику, у овражка.
Он нам ужасно рад, не знает, куда нас и посадить, расспрашивает о Трифоныче, угощает чайком и пышками. Показывает потом все обзаведение – мастерскую, где всякие сундучки – и большие, и маленькие. Сундучки – со всякими звонками: запрешь, отопрешь —дринь-дрон! Обиты блестящей жестью, и золотой, и серебряной, с морозцем, с отделкой в луженую полоску, оклеены изнутри розовой бумагой – под Троицу – и называются троицкими. Таких будто больше нигде не делают. Аксенов всем нам дарит по сундучку, мне – особенный, золотой, с морозцем. Мы стесняемся принимать такие богатые подарки, говорим:
– Чем же мы отдарим, помилуйте…
А он руками на нас:
– Да уж вы меня отдарили лаской, в гости ко мне зашли!
Правду Трифоныч говорил: нарадоваться на него не могли, какой он ласковый оказался, родней родного.
Феофан Грек. Успение Пресвятой Богородицы. 1392
Расспрашивает про Трифоныча и про Федосью Федоровну, супругу Трифоныча, – здоровы ли и хорошо ли идет торговля. Говорим, что здоровы и торговля ничего идет, хорошо, да вот дело какое вышло. Поставила намедни Федосья Федоровна самовар в сенях, и зашумел самовар, Федосья Федоровна слышала… пошла самовар-то взять, а его жулики унесли, с огнем! Она и затосковала: не к добру это, помереть кому-то из семейства, такое бывало, примечали. К Успеньеву дню к Троице собираются. Аксенов говорит, что все от Бога… бывает, что и знак посылается, на случай смерти.
– Ну, у них хороший молитвенник есть, Саня, – говорит, – им беспокоиться нечего, и хорошие они люди, на редкость правильные.
Узнает, почему не у него остановились. Горкин просит его не обижаться.
– Помилуйте, какая же обида, – говорит Аксенов, – сам преподобный к Никодиму-то вас привел! И достославный он человек, не мне чета.
Просит снести поклонник Трифонычу и зовет в другой раз к себе:
– Теперь уж найдете сразу маленького Аксенова.
Потом ходим в игрушечном ряду, у стен, под лаврой. Глаза разбегаются смотреть.
Игрушечное самое гнездо у Троицы от преподобного повелось: и тогда с ребятенками стекались. Большим – от святого радость, а несмыс-ленным – игрушечка: каждому своя радость.
Всякое тут деревянное точенье: коровки и овечки, вырезные лесочки и избушки, и кующие кузнецы, и кубарики, и медведь с мужиком, и точеные яйца, дюжина в одном: все разноцветные, вложенные друг в дружку, с красной горошинкой в последнем – не больше кедрового орешка. И крылатые мельнички-вертушки, и волчки-пузанки из дерева, на высокой ножке; и волчки заводные, на пружинке, с головкой-винтиком, раскрашенные под радугу, поющие; и свистульки, и оловянные петушки, и дудочки жестяные, розанами расписанные, царапающие закраинками губы; и барабанчики в золоченой жести, радостно пахнущие клеем и крепкой краской, и всякие лошадки, и тележки, и куколки, и саночки лубяные… И сама лавра-Троица, высокая розовая колокольня, со всеми церквами, стенами, башнями, разборная. И вырезные закуски на тарелках, кукольные, с пятак, сочно блестят, пахнут чудесной краской: и спелая клубника, и пупырчатая малинка, совсем живая; и красная, в зелени, морковка, и зеленые огурцы; и раки, и икорка зернистая, и семужий хвост, и румяный калач, и арбуз алый-сахарный, с черными зернышками на взрезе, и кулебяка, и блины стопочкой, в сметане… Тут и точеные шкатулки, с прокладкой из уголков и крестиков, с подпалами и со слезой морской, называемой перламутр; и корзиночки, и корзины – на всякую потребу И веселые палатки с сундучками, блистающие, как ризы в церкви. И образа, образа, образа, такое небесное сиянье! – на всякого святого. И все, что ни вижу я, кажется мне святым.
– А как же, – говорит Горкин, – просвященно все тут, благословлено. То стояли боры-дрема, а теперь-то, гляди, – блистанье! И радуется народ, и кормится. Все Господь.
Покупаем самые пустяки: оловянного петушка-свистульку, свистульку-кнутик, губную гармошку и звонницу с монашком, на полный звон, – от Горкина мне на память; Анюте куколку без головки, тулово набито сенной трухой, чтобы ей шить учиться, головка в Москве имеется. А мне потому мало покупают, что сказала сегодня барышня Манюша, чтобы не покупать: дедушка целый короб игрушек даст, приказал молодцам набрать.
Встречаем и наших певчих, игрушки детишкам покупают. У Ломшакова – пушка, стрелять горохом, а у Батырина-октавы – зайчик из бумазеи, в травке. Костиков пустой только, у него ребятишек нет, не обзавелся, все думает. Ломшаков жалуется на грудь: душит и душит вот, после вчерашнего спать не мог. Поедут отсюда к Боголюб-ской в Москву, спешат: петь надо, подрядились.
Сошествие Святого Духа на апостолов. Рубеж XV–XVI вв.
Сходим по лесенке в овражек, заходим в «блинные». Смотрим по всем палаткам: везде-то едят-едят, чад облаками ходит. Стряпухи зазывают:
– Блинков-то, милые!.. Троицкие-заварные, на постном маслице!..
– Щец не покушаете ли с головизной, с сомо-винкой?..
– Снеточков жареных, господа хорошие, с лучком пожарю… за три копейки сковородка! Пирожков с кашей, с грибками прикажите!..
– А карасиков-то не покушаете? Соляночка грибная, и с севрюжкой, и с белужкой… белужины с хренком, горячей?.. И сидеть мягко, понежьтесь после трудов-то, поманежьтесь, милые… и квасок самый монастырский!..
Едим блинки со снеточками, и с лучком, и каш-нички заварные, совсем сквозные, видно, как каша пузырится. Пробуем и карасиков, и грибки, и – Антипушка упросил уважить – редечку с конопляным маслом, на заедку. Домна Панферовна целую сковородку лисичек съела, а мы другую. И еще бы чего поели, да Аксенов обидится, обед на отход готовит. Анюта большую рыбину там видала, и из соленого судака ботвинья будет – Савка нам говорил, и картофельные котлеты со сладким соусом, с черносливом и шепталой, и пирог с изюмом, на горчичном масле, и кисель клюквенный, и что-то еще… Загодя наедаться неуважительно.
Во всех палатках и под навесами плещут на сковородки душистую блинную опару – шипит-скворчит! – подмазывают «кошачьей лапкой». Домна Панферовна смеется. А кто говорит, что заячьей. А нам перышками подмазывали, Горкин доглядывал, а то заячьей лапкой – грех. И блинные будто от преподобного повелись: стечение большое, надо народ кормить-то. Глядим – и певчие наши тут: щи с головизной хвалят и пироги с солеными груздями. Завидели нас – и накрыли бумажкой что-то. Горкин тут и сказал:
– Эх, Ломшачок… не жалеешь ты себя, братец!
И Домна Панферовна повздыхала:
– И во что только наливаются… ладно бы какое горе, а то кондрашке одному на радость.
Ну, пожалели-потужили, да тужил ом-то не поможешь, только себя расстроишь.
Тележка наша готова, помахивает хвостом Кривая. Короб с игрушками весело стоит на сене, корзина с просфорами увязана в чистую простыньку. Все провожают нас, желают нам доброго пути, Горкин подносит Аксенову большую просфору, за полтинник, и покорно благодарит за ласку и за хлеб-соль: «Оченно вами благодарны!» Аксенов тоже благодарит, что радость ему привезли такую: не ждал, не гадал.
– Ну, путь вам добрый, милые, – говорит он, оглядывая тележку, – приведет Бог, опять заезжайте, всегда вам рад. Василий на ярмарку поедет скоро, буду в Москве с ним, к Сергею Ивановичу побываю, так и скажите хозяину. Ну, вот и хорошо, надо принять во внимание… ов-сеца положили вам и сенца… отдохнула ваша лошадка.
И все любуется на тележку, поглаживает по грядке.
– Да, – говорит он задумчиво, – надо принять во внимание… да, тележка… таких уж не будет больше. Отворяй ворота! – кричит он дворнику, натягивает картуз и уходит в дом.
– Расстроился… – говорит нам Горкин, шепотом, чтобы не слыхали. – Ну, Господи, благослови, пошли!
Мы крестимся. Все желают нам доброго пути. Из-за двора смотрит на нас розовая колокольня-Троица. Молча выходим за ворота.
– Крестись на Троицу, – говорит мне Горкин, – когда-то еще увидим!..
Видно всю лавру-Троицу: светит на нас крестами. Мы крестимся на синие купола, на подымающийся из чаши крест: «Пресвятая Троица, помилуй нас! Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!..»
Троице-Сергиева лавра. Фото Э. Титова
Вот и тихие улочки Посада, и колокольня смотрит из-за садов. Вот и ее не видно. Выезжаем на белую дорогу. Навстречу – богомольцы, идут на радость. А мы отрадовались, и скучно нам. Оглядываемся: не видно ли. Нет, не видно. А вот и перелески с лужайками, и тропки. Мягко поту-кивает тележка, попыливает за ней. А вот и место, откуда видно, между лесочками. Видно между лесочками, позади, в самом конце дороги: стоит колокольня-Троица, золотая верхушка только, будто в лесу игрушка.
– Прощай!..
– Вот мы и помолились, привел Господь… благодати сподобились, – говорит Горкин молитвенно. – Будто теперь и скучно, без преподобного…
а он, батюшка, незримый с нами. Скучно и тебе, милый, а? Ну ничего, касатик, обойдется… А мы молитовкой подгоняться станем, батюшка-то сказал, Варнава… нам и не будет скучно. Начни-ка тропарек, Федя: «Стопы моя направи»…
Федя нетвердо начинает, и все поем: «Стопы моя направи по словеси Твоему…»
Постукивает тележка. Мы тихо идем за ней.
Литература
Авраам Норов. Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 гг. Санкт-Петербург, 1840.
Булгаков Сергей Николаевич, протоиерей. В Айя-Софии. Журнал «Русская Мысль», 1924. Прага.
Быков В.П. Тихие приюты для отдыха страдающей души. Издание Е.И. Быковой. М., 1913.
Зуров Леонид. Обитель. «Новоселье». Ежемесячный литературно-художественный журнал. Нью-Йорк, 1946. № 29-30 (октябрь-ноябрь).
Иван Шмелев. Троице-Сергиева лавра. Митрополит Вениамин (Федченков). На «Северный Афон».
Муратов Павел. Образы Италии. Berlin, 1924. Немирович-Данченко В. Наши монастыри. Очерки и рассказы. Издание П.П. Сойкина. СПб., 1904.
Новый Завет. Издание Оптиной пустыни, 1997.
Православный Молитвослов и Псалтирь. Сретенский монастырь. М., 1997.

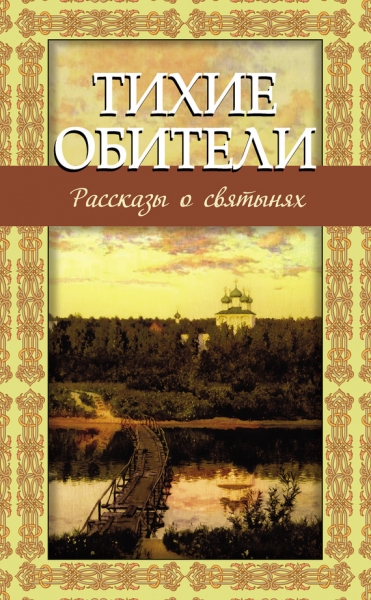
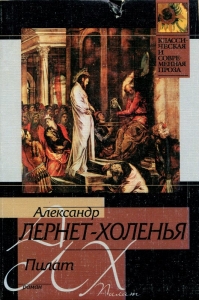

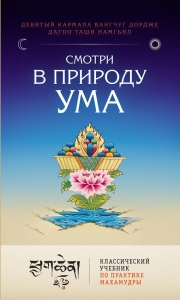

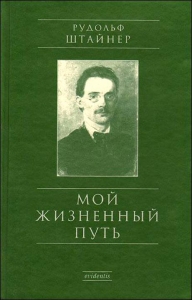
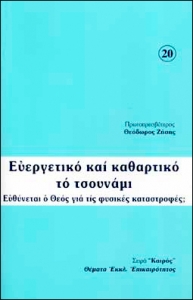
Комментарии к книге «Тихие обители. Рассказы о святынях», Владимир Михайлович Зоберн
Всего 0 комментариев