Святитель Филофей Коккин, Константинопольский патриарх Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон
Трепетной и слабою рукою подношу тебе, золотой и незабвенный Афон, скромный труд мой. Прими его и моли, да призрит на меня твоя Царица и Покровительница.
П.Р.Рекомендовано к публикации
Издательским советом
Русской Православной Церкви
ИС Р16-639-3539
Публикуется по: Кир Филофей Константинопольский патриарх. Житие и деяния преподобного и богоносного отца нашего Саввы Нового, на Афонской Горе подвизавшегося / Перевод с греческого с введением и примечаниями преподавателя Полтавской Духовной Семинарии свящ. Полнена Радченко. Издание Афонского Русского Пантелеймонова монастыря. М., 1915.
Перевод с греческого с введением и примечаниями священника Полиена Радченко
Предисловие
Предлагаемое благосклонному и благочестивому вниманию читателей в нашем переводе произведение святейшего Константинопольского патриарха Филофея «Житие и деяния преподобного и богоносного отца нашего Саввы Нового, на Афонской горе подвизавшегося»[1]помимо своего исторического и бытового значения показалось нам вообще в высокой степени интересным и назидательным, а также небесполезным ввиду особенностей переживаемого нами времени. Жизнь прп. Саввы весьма богата событиями и протекла в самой разнообразной обстановке. Читая его житие, мы то погружаемся в таинственные пустыни средневекового Афона и знакомимся с его строгими старцами и дивными послушниками, то переносимся на шумные площади городов Кипра и наблюдаем своеобразное «благочестие» тогдашних поработителей его – латинян (§ 23). Отсюда путешествуем в Иерусалим, странствуем по знойной Аравийской пустыне и посещаем знаменитый подвижнической жизнью своих иноков Синайский монастырь. Потом буквально обитаем вместе с дикими зверями в страшной Заиорданской пустыне. Далее – идиллическая жизнь в прииорданских обителях, Дамаск, Антиохия, Крит, Афины, Ираклия, богатая святынями Византия с благочестием и строгим религиозным консерватизмом ее жителей. Опять Афон, теперь уже с картинами внутреннего быта одной из его лавр, и, наконец, опять Константинополь. Перед глазами читателя проходят картины жестоких и губительных нашествий сицилийцев и турок, он видит бесчеловечность сарацин и ужасы византийской политической и церковной смуты. Все это нарисовано живо, мастерски, «с душой», и проникнуто религиозным духом.
Кроме того, в лице прп. Саввы мы видим духовного гиганта (§ 70), личность дивную и неподражаемую. В нем наблюдается редкое гармоническое сочетание и ума, и характера, и самых высоких добродетелей. Вся жизнь его проникнута самой пламенной, однако без фанатизма (§ 71), любовью к Богу и самой искренней, без тени слабодушия, любовью к людям (§ 63) и ко всей твари (§ 47). Знакомясь с его жизнью, ощущаешь в душе, как замечает и сам автор его жития, какое-то тихое и неизъяснимо отрадное состояние с желанием хоть немного подражать ему, что-то умиротворяющее проникает в душу и окрыляет ее к мужественному перенесению скорбей и неприятностей, чувствуется какая-то бодрость и жизнерадостность.
Не можем здесь не подчеркнуть значения жития св. Саввы и для нашего времени. Не так давно мы хотели совсем порвать с религией, найти счастье вне ее, но жестоко ошиблись: жизнь стала бесцельной, пошлой и несносной. Не совсем заглушенное религиозное чувство проснулось и с удвоенной силой стало требовать удовлетворения. Тогда мы бросились в другую крайность, ища правды в сектантстве[2]. Оставив руководство Православной Церкви и потеряв понятие об истинной святости, мы стали увлекаться людьми, ничего святого в себе не имеющими, но из видов корысти, тщеславия и тысячи других нечистых побуждений (им же имя легион) только эксплуатирующими нас…
Житие св. Саввы весьма наглядно показывает пример истинной святости и указывает путь к достижению ее. Истинная святость – это полнота любви и веры в Бога с таинственным общением с Ним, как Существом Живым и Личным, с горячей, до самопожертвования, любовью к ближним и смиренным сознанием, без тени гордости, своего полного ничтожества. Путь к ней – строгое повиновение учению Православной Церкви и точное соблюдение своего долга без всякого послабления своим страстям. Путь этот труден и не скор. Сначала – обуздание тела и подавление страстей, потом приобретение духовных навыков и стяжание добродетелей, и только тогда Божественная благодать, ибо она там, где любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22). Здесь никакие скачки не допускаются; рост духовной жизни совершается в высшей степени постепенно и последовательно. Телесные подвиги необходимы, хотя не сами по себе, а как орудия или средства для приобретения духовных добродетелей, а через них и даров Божественной благодати (§ 70). Путь к Богу, а вместе к истинной святости всегда был и навсегда останется, таким образом, один – вера и любовь к Богу с послушанием голосу Церкви, любовь к ближним и подвиг самоограничения своих эгоистических стремлений, самоотвержение, личная жертва… без тени притом корысти, рисовки, хвастовства, показности. Вот идеал, к которому всегда безотчетно стремились сердца лучших русских людей, который лег в основу характера русского человека, более того, стал краеугольным камнем той незримо, но ощутительно, так сказать, излучающейся культуры, носителем которой является главным образом русский народ и которая делает его морально, без преувеличения говоря, на целую голову выше других народов, усвоивших западную внешнюю и показную культуру. Кто насадил эту дивную культуру? «Она насаждалась в душе народной, под эгидой Церкви, странниками, юродивыми, безвестными отшельниками монастырей, насаждалась старой благочестивой книгой или устной легендой»[3].
Да послужит и предлагаемое произведение богомудрого иерарха благим семенем на доброй почве русского сердца!
Введение Священник Полиен Радченко
Писатель
Писателем жития при. Саввы Нового был, несомненно[4], святейший патриарх Константинопольский Филофей Коккин. Родом он был, как видно из предлагаемого его произведения (§ 2), из г. Фессалоники, славившегося в то время «обилием наук и искусств» (§ 2). Получив хорошее по тому времени образование и будучи талантлив от природы, он слыл потом за человека очень умного и образованного. Оставив шум и молву мира (§ 57), он прибыл на Афон, славившийся тогда высокой подвижнической жизнью своих монахов[5], и поступил в число иноков Ватопедской лавры, где вскоре занял первое место в обительском хоре (§ 57). Здесь он неожиданно встретил св. Савву, незадолго перед этим возвратившегося на Афон после долголетних подвигов на Востоке и несшего обязанности по церкви, а также участвовавшего в обительском хоре. Филофей с самого начала был обласкан им, как бы нежным отцом, и вошел с ним в самые близкие и дружеские отношения (§ 57). В течение трехлетнего пребывания св. Саввы в Ватопедской обители Филофей видел назидательный пример его высокой жизни, слышал его дивные наставления и руководился им в духовной жизни. Результатом такого руководства было то, что душа его окрепла, и он стал потом способен сражаться против коварной силы врага впереди других. Скоро, однако, Филофею пришлось разлучиться со своим руководителем и другом. Афонские иноки отправили св. Савву (в 1342 г.) в качестве члена посольства в Константинополь к царице Анне для увещания ее оставить междоусобную войну и примириться с Иоанном Кантакузином. Здесь св. Савва и скончался (в 1349 г.), а Филофей впоследствии сделался митрополитом Ираклийским, а потом, после отказа патриарха Каллиста короновать сына Иоанна Кантакузина, Матфия, возведен был вместо него в 1354 году на кафедру Константинопольского патриарха[6]. После отречения от престола императора Иоанна Кантакузина и падения Матфия патриарх Филофей вынужден был в 1355 году оставить патриаршество. Боясь гнева нового императора Иоанна V Палеолога за приверженность к Кантакузинам, он удалился в монастырь, и патриарший престол опять занял патриарх Каллист. По смерти последнего, в 1362 году, Филофей самим Иоанном V призывается опять к патриаршеству, пользуется его расположением и управляет Константинопольской церковью до 1376 года. В этом году сын императора Иоанна V Андроник при содействии турок вторгся в Константинополь и, заключив отца и брата (Мануила) в тюрьму, вступил на императорский престол. Патриарх Филофей опять вынужден был, и уже навсегда, оставить патриаршество. Кончина его последовала[7]в 1379 году.
Судя по отзывам современников, а также по дошедшим до нас его произведениям, патриарх Филофей был муж святой, весьма опытный в духовной жизни, очень ученый, красноречивый и мудро правивший Церковью. В долго волновавших византийское общество спорах паламитов и варлаамитов патриарх Филофей, подобно своему руководителю св. Савве, был всегда на стороне первых, защищал их устно и письменно, глубоко чтил св. Григория Паламу, которого причислил после его кончины к лику святых, составив ему и особую службу. На варлаамитов он старался подействовать преимущественно словом убеждения, почему и достиг довольно благоприятных результатов, в значительной степени умиротворив Константинопольскую Церковь. Из произведений патриарха Филофея известны: 1) 12 книг против Никифора Григоры в защиту св. Григория Паламы[8]; 2) Похвальное слово тому же святителю[9]; 3) Слова на Воздвижение Животворящего Креста[10]; 4) О заповедях
Христа[11]; 5) Похвала трем святителям[12]; 6) три речи к епископу Игнатию с объяснением приточных слов[13] Премудрость созда Себе дом (Притч. 9:1); 7) несколько канонов, церковных молитв и других мелких произведений, а также: 8) «Житие[14]и деяния преподобного и богоносного отца нашего Саввы Нового, на Афонской горе подвизавшегося»[15]. Последнее написано им, вероятно, между 1369–1375 годами[16]. Побуждением к написанию этого произведения послужила главным образом горячая любовь к при. Савве, а также желание побудить и других подражать его делам и следовать его учению, так как жизнь его была необычайным училищем добродетели (§ 1). Ближайшей побудительной причиной к этому послужило особое явление прп. Саввы, не оставлявшего своим руководством патриарха Филофея и после своей кончины и часто посещавшего его в ночных видениях (§ 43). Еще при жизни любивший его Слова и рассуждения и нередко дававший темы для них (§ 1), прп. Савва побудил его и после своей смерти предпринять нелегкий труд написания его жития (§ 43). Всецело его помощи приписывает смиренный и благоговейный автор и успех в этом деле. «Более того, этот рассказ, – говорит он, – дело твоей (Саввы) дивной души и языка, а мы разве одну только нашу руку по нужде в помощь предоставили»[17] (§ 43).
Состояние Византийской империи в XIV столетии
Состояние Византийской империи в рассматриваемое время представляется в очень печальном виде. Ослабленная еще задолго до этого отпадением входивших в ее состав областей и народов и потрясенная крестоносцами, она явно близилась к своему концу, и все усилия византийских императоров возвратить ей прежний блеск и могущество не имели успеха. Многие раньше отпавшие от Византии области продолжали сохранять свою независимость: в разных местах империи утвердились латиняне (например, на островах Кипре и Крите). Давнишняя борьба греков с болгарами и сербами, еще в конце XII столетия объединившимися в грозные для них государства, не прекращалась и теперь с большим уроном для Византии. В то же время малоазиатским владениям греков угрожали турки, начинавшие уже прочно здесь утверждаться и нередко вторгавшиеся даже в европейские их владения. Обращения византийских императоров за помощью на запад часто сопровождались новыми бедствиями: западные войска, оставив прямую цель своего прибытия, бросались сами, иногда в союзе с турками, грабить и разорять греков.
Итак, частые нападения сербов и болгар и самостоятельные или в союзе с другими народами набеги турок представляют тяжелую картину бедственного положения Византии в рассматриваемое время. Об одном из таких набегов упоминается и в житии при. Саввы. Это произошло в царствование императора Андроника Младшего, в 1333 году[18]. Турки вторглись тогда в Македонию, Негропонт[19] и Афины. Император, по злой судьбе, обратился к помощи папы Иоанна XXII и обещал соединение Церкви Греческой с Римской. Тогда в помощь ему были присланы из Сицилии итальянские войска. Нарушив условия, они стали грабить и разорять города и села Фракии, предавая мечу всякий пол и возраст, а потом соединились с турками и вторглись в Македонию, намереваясь двинуться потом в Фессалию. Император Андроник, весьма беспокоившийся об участи святых афонских подвижников, собственноручно писал им, чтобы они перешли на время в укрепленные монастыри и города. Тогда одни из них решили остаться на Афоне и умереть, а другие, узнав, что турки подошли уже к Фессалоникам (в 1334 г.), грабя и умерщвляя жителей, стали уходить в разные города, на острова и в горы. Другое бедствие того времени составляли частые междоусобия среди самих греков. Византийское общество в рассматриваемое время было крайне испорчено, начиная с высших классов и кончая простым народом. Кощунства, суеверия, разврат, клятвопреступления, интриги, козни, постоянные возмущения и революции являются характерной его чертой. Уважение к властям было подорвано, привязанность к родине охладела. Во время нередких политических переворотов «страсти достигали высшего напряжения»[20], греки забывали все родственное и святое, причем часто участниками междоусобий были и духовные лица.
Одно из сильнейших междоусобий, о котором упоминается и в житии при. Саввы, произошло после смерти императора Андроника Младшего (f 1341). По причине малолетства наследника престола Иоанна V государством стала управлять его мать Анна с родственником и другом покойного императора, великим доместиком Иоанном Кантакузином. Вскоре, однако, вокруг царицы образовалась партия, враждебная Кантакузину, в числе вождей которой находился и Константинопольский патриарх Иоанн
Калека, желавший, по суетному тщеславию, стоять во главе правления государством. Кантакузин был отстранен от дел и объявлен изменником. Тогда он возложил на себя знаки царского достоинства и объявил себя императором (1341 г.). Началась междоусобная война, сопровождавшаяся страшными бедствиями для империи, так как противники, не довольствуясь своими силами, призывали на помощь болгар, сербов и малоазийских турок. Эта междоусобная борьба нанесла такие раны империи, от которых она уже не могла оправиться[21]. В 1342 году Иоанн Кантакузин, после неоднократных и безрезультатных переговоров с царицей о мире, послал письмо к афонскому проту[22] Исааку и святогорским монахам с просьбой отправиться в Константинополь и уговорить царицу прекратить «ежедневное пролитие христианской крови», не верить клеветам, распускаемым его врагами, и примириться с ним. Афонские иноки горячо отозвались на просьбу Кантакузина и, избрав посольство из достойнейших представителей святогорского иночества (а именно святейшего и достопочтеннейшего прота Исаака, игумена лавры св. Афанасия, Макария, иеромонаха Каллиста, впоследствии (в 1350–1362 гг.) патриарха Константинопольского), посылают его в Константинополь. В числе первых членов этого посольства был и прп. Савва, хотя он предсказывал неудачу его и только из послушания принял участие в нем. Это было в 23-й день месяца Дистра, то есть 17 марта 1842 года[23],
в шестой месяц после начала междоусобия (§ 62). Прибыв в Константинополь, посланные выслушаны были царицей и ее сторонниками, но цели не достигли. Царица, правда, склонялась к миру, но патриарх и его приверженцы, опасаясь заслуженной ответственности за свои происки и козни против Кантакузина, отклонили ее от этого и, лицемерно похвалив афонских иноков за усердие, разместили их по разным местам, надавав несбыточных обещаний о мире. Между тем они тайно старались возбудить против афонцев народ, называя их сторонниками Кантакузина и недоброжелателями царских детей. Наконец игумена Макария они посылают митрополитом в Фессалоники, заставив его обвинять Кантакузина в междоусобии, прота Исаака заключают в монастырь Петра, а прп. Савву, «превосходившего других добродетелями и известнейшего из царских друзей»[24], помещают в обители, носившей название Хора (τἡ Χώρᾳ), другим же велят возвратиться в свои монастыри. Таким образом, в Константинополе оказалось больше желавших брани, чем мира (§ 66), и к политической смуте скоро присоединилась и смута религиозная.
Еще в 1328 году прибыл в Солунь из Калабрии очень образованный монах униат Варлаам[25]. Отрекшись от латинских заблуждений, он сначала выказал ревность по православию и пользовался расположением императора Андроника Младшего, но потом стал порицать византийских, в частности афонских, подвижников, обвиняя их в ереси, и возбудил этим сильные волнения среди греков. Возникли так называемые споры варлаамитов и паламитов. Во главе последних стоял прп. Григорий Палама, впоследствии архиепископ Солунский. Паламиты защищали правое учение о том, что в несозданной сущности Бога не созданы и вечны и Его энергии или действия (благость, всемогущество, слава, благодать, осиявающая достойных Божественным светом). Противники отрицали это, утверждая также, что Божественный свет (Фаворский в частности) был сотворен, и таким образом разделяя Божество на сотворенное и несотворенное. На Константинопольском Соборе в 1341 году лжеучение Варлаама было осуждено, и он вынужден был испросить прощения за свои хулы на православных, а потом бежал в Калабрию и, присоединившись к католикам, получил от папы епископскую кафедру в г. Гиераке. После отбытия Варлаама нападки на православных аскетов продолжал учившийся у него светским наукам и сначала анафематствовавший его учение монах Григорий по прозванию Акиндин. Ловко воспользовавшись недовольством патриарха и сановников против стоявшего за Кантакузина защитника православия Григория Паламы, он склонил на свою сторону патриарха Иоанна Калеку и завлек было в свои сети и царицу Анну. Патриарх приблизил Акиндина к себе, день и ночь советовался с ним и собирался возвести в сан священника и епископа. На соборе в 1345 году он отменил прежнее свое осуждение Варлаама и осудил защитников православного учения. Однако торжество Акиндина было непродолжительно. Царица поняла ложь и коварство врагов православия и созвала Собор в феврале 1347 года, на котором Акиндин был осужден, а патриарх за сочувствие к нему был лишен патриаршества.
Во время этих смут большую услугу оказал византийцам при. Савва как своими молитвами, так и своими советами, а также обличениями и увещаниями оставить церковную и гражданскую распрю (§ 67). В его житии приводится, во-первых, факт увещания и предостережения солунского мятежника Андрея Палеолога (§ 64), а также видение об отлучении и анафематствовании Акиндина. Политическая смута, наконец, на время закончилась вступлением Иоанна Кантакузина в Константинополь в 1347 году и признанием его императором. Все свои усилия он направил на вразумление заблуждавшихся, но, несмотря на это, варлаамиты еще долго волновали Церковь и вынуждали церковную власть созывать Соборы в 1351 и 1368 годах. Что касается дальнейшей судьбы Иоанна Кантакузина, то рок как бы нарочно вел его к осуществлению давнишнего его желания – принять монашество (§ 69). В 1352 году он опять вынужден был вступить в борьбу с устраненным им сыном Андроника Младшего Иоанном V Палеологом, и когда последний в 1355 году одолел его, он отрекся от престола и согласно своему желанию (§ 69) принял монашество в Манганском константинопольском монастыре[26]. Остаток жизни своей он прожил по большей части на Афоне в Ватопедской обители, где написал и свою «Историю», обнимающую годы с 1320 по 1350-й и являющуюся главнейшим и достовернейшим источником[27] для изучения волновавших Византию в IV столетии религиозных споров[28].
Исихастский аскетизм или исихия (безмолвие)
Споры варлаамитов и паламитов, волновавшие Византию в XIV столетии, выдвинули вопрос об одном из видов восточного православного подвижничества, так называемом исихастском аскетизме или исихии. В то время как варлаамиты старались выставить исихию как опасную[29] ересь, сильнейшее заблуждение и самообман, паламиты доказали, что она есть древнее предание[30] Православной Церкви, один из удобнейших способов богообщения. Первоначальной ареной борьбы из-за исихии был Афон, служивший главнейшим центром восточного созерцательного аскетизма в средневековую эпоху. Ревностнейшим подвижником-исихастом был и прп. Савва, житие которого не может быть вполне понято без знакомства с исихазмом.
Исихия (ἡσυχία – безмолвие) или исихастский аскетизм – род подвижничества, издревле пользовавшегося особенным уважением и широко практиковавшегося на Востоке. В отличие от аскетизма общественного[31] (ασκησις κοινωνική), состоящего в творении добрых дел в обществе и совершении так называемых общественных добродетелей (например, милостыни), исихия есть жизнь вдали от мира, «в упокоении»[32] от всего земного, в совершенном отрешении от мирских забот и всецелом погружении в Боге. Для того чтобы исихаст мог беспрепятственно пребывать в Боге, ему необходимо не только совершенно уединиться от мира и всего, что так или иначе напоминает его, ему нужно сосредоточиться в себе, отвлечься от всякого представления или понятия, от всякой мысли, даже до сознания самой деятельности мышления. И только тогда, когда ум его обнажится от всяких представлений, а сердце от чувственных желаний, он делается способным вступить в таинственное, прямое и непосредственное общение с Богом – не при помощи слов или мыслей, но, так сказать, нагим соприкосновением своего духа. Сначала это есть молитва, притом самая высшая и чистая, так как здесь не примешивается никакая посторонняя мысль или беспокойство о чем-нибудь[33]. Далее молитва прекращается и начинается созерцание[34]непостижимого[35] – того, что за пределами мира смертных, а вместе с тем изумление[36]и восхищение[37]. Тогда «ум умолкает[38] в неведении всего здешнего», забывая себя и все окружающее, и «иною силою путеводится сам не зная куда»[39]. Чувства тогда становятся излишними, закрываются уста, и душа «по непостижимому единству соделывается подобной Божеству и озаряется в своих движениях лучом высшего света»[40]. Выше этого состояния нет уже другого[41].
Исихия современна началу монашества на Востоке. Преподобные Антоний и Макарий Египетский, Арсений Великий, Иоанн Лествичник и другие были исихасты. Первым афонским исихастом считается св. Петр Афонский[42], пятьдесят три года подвизавшийся в одной афонской пещере в молчании, уединении, посте и молитве. Из афонских исихастов последующего времени известны: Иосиф, Симеон, Онуфрий, Иоанн Колов, Евфимий Новый (IX век) и другие[43]. Вообще безмолвничество на Афоне, особенно благоприятном для такой жизни, никогда не переводилось[44], хотя число исихастов, достигавших высших степеней исихии – экстаза, видений и созерцаний, с течением времени и на Афоне, как и везде, становилось, по трудности этого дела, все меньше и меньше. При. Григорий Синаит (f 1346), обойдя Синай и Палестину, только на острове Крит нашел опытного в исихии аскета Арсения, от которого и научился созерцанию[45] (S-εωρία). Прибыв на Афон, он среди многих добродетельных подвижников не нашел ни одного, вполне посвященного в тайны исихии, и только трое «немного»[46] знали об этом. С горячей ревностью принялся тогда прп. Григорий преподавать афонским отцам правила исихии и скоро сделал весь Афон «плодоносным»[47], заслужив славу второго после Афанасия «законодателя»[48] афонского монашества. Вскоре после этого возникшие споры варлаамитов и паламитов открыли пред всем миром целый ряд афонских исихастов, достигавших высших степеней исихии и озарявшихся во время своих дивных созерцаний невещественным светом. Во главе их стоял приснопамятный Григорий Палама, впоследствии архиепископ Фессалоникийский.
Учение об исихии можно находить в писаниях многих как древних, так и более поздних подвижников, как, например, Иоанна Лествичника, Исихия, Филофея Синаита и т. д. Более подробно раскрыли его прп. Симон Новый Богослов (f 1032), Григорий Синаит (f 1346) и особенно Григорий Палама (1296–1359).
По учению прп. Симеона, для успеха в исихии требуется, во-первых, полное беспристрастие ко всему, чистота совести и хранение ума с Иисусовой молитвой. При этом из трех видов ее: устной, умной и сердечной – он отдает предпочтение последней и указывает наилучший способ ее[49].
«Прежде всего, – говорит он[50], – нужно хранить следующие вещи: первое – беззаботность от всего как благословного, так неблагословного и суетного, то есть быть мертвым от всего, второе – чистую совесть во всем и третье – совершенное беспристрастие, чтобы помысл твой не склонялся ни к какому мирскому предмету. После этого сядь в каком-нибудь уединенном месте, в углу, и, заперев двери, отвлеки ум от всякого привременного и суетного предмета. Потом прижми нижнюю челюсть или браду свою к груди и внимательно смотри умом и чувственными глазами своими внутрь себя. При этом задерживай немного и дыхание свое и старайся найти место, где находится сердце твое, чтобы там всецело находился ум твой. Сначала ты найдешь внутри себя только тьму, великую твердость и жестокость, а потом, если потрудишься в этом непрерывно день и ночь, – о чудо! – одну непрестающую радость. Когда же, подвизаясь таким образом, ум найдет сердечное место, тогда увидит внутри себя то, чего раньше никогда не знал и не видел. Он увидит тогда воздух, который находится в сердце, и всего себя светлым и полным рассуждения. И с того времени он станет отгонять худые мысли молитвой “Господи Иисусе Христе, помилуй мя!”»
По учению Григория Синаита, непременным условием или, лучше, основанием исихии служит тоже так называемая умная (вернее, умственная, в отличие от устной) или Иисусова молитва. Отдельные стадии[51] или моменты этой молитвы – это, во-первых, таинственное действие ума вместе с очистительной силон духа, или «неделание» (σχολή); во-вторых, озаряющая сила и видение, или созерцание (θεωρία); и в-третьих, экстаз и восхищение ума к Богу. Очистительная сила Духа вместе с особенно необходимыми для исихаста добродетелями: воздержанием, молчанием и самоукорением – очищают душу от различных страстей, особенно гордости. Вышеупомянутые добродетели поддерживают, кроме того, молитву и вместе с «молчанием от всего», то есть тщательным хранением ума от образов, представлений и мечтаний, а также непрестанным плачем (πένθος) или скорбью о грехах возводят на вторую степень исихии – созерцание (θεωρία). Тогда ум озаряется духовным сиянием и начинает созерцать, то есть яснее видит природу всего существующего, а потом мало-помалу при все возрастающей любви ко Христу достигает видения невидимой и неизреченной красоты Божества, озаряемый беспредельным Его светом и не чувствуя «немощного» и «бренного тела». Это и есть экстаз. Так как одним из главных условий успеха в исихии является немечтательная, строго сосредоточенная молитва, то прп. Григорий Синаит предлагает и удобный способ для достижения лучшей сосредоточенности в молитве. «С утра, – советует он, – сидя на седалище в одну пять, сведи ум из головы в сердце (αγξον τόν νουν ἐκ του ἡγεμονικου ἐν καρδα) и держи его там и, наклоняя терпеливо грудь и плечи и сильно сгибая шею, непрестанно взывай мысленно или душевно[52]: “Господи Иисусе Христе, помилуй мя!” Потом, вследствие притрудности, а также, может быть, тягостности и неприятности постоянного повторения одного и того же, обрати ум на другую половину и говори: “Сыне Божий, помилуй мя!” Повторяй много раз эту половину, но не переменяй ее часто по нерадению; сдерживай также и дыхание, чтобы не без страха тебе дышать, так как воздух из легких, поднимаясь от сердца, затемняет ум и возбуждает мысль, изгоняя его оттуда, так что он или предается в плен забвению, или, занявшись другою мыслью, незаметно подготовляется к тому, в чем ему не должно находиться. Если при этом ты заметишь нечистоту злых духов, то есть помыслы, возникающие или сменяющие друг друга в твоем уме, не убойся; если появятся и добрые мысли о чем-нибудь, не обращай на них внимания, но, задерживая дыхание, сколько возможно, и заключая ум в сердце и непрестанно с настойчивостью призывая Господа Иисуса Христа, скоро сожжешь и уничтожишь их, невидимо поражая их Божественным именем, ибо Лествичник говорит: “Именем Иисуса бичуй врагов, потому что нет оружия сильнее ни на небе, ни на земле”». Следствием такого способа молитвы является освобождение от страстей, Божественная любовь, «изумление» или «исступление» (экстаз) и осияние Божественным светом Духа, которое чувствуется как свет воссиявший. Это и есть воскресение души прежде общего воскресения, третья стадия умной молитвы.
Исихастам, достигшим этой степени, при. Григорий советует быть особенно внимательными и осторожными по отношению к своим внутренним переживаниям, так как на этой стадии обыкновенно бывают обманчивые явления благодаря действию нашего воображения. Доверять им следует только после самого тщательного испытания.
Особенно подробно излагает учение об исихии св. Григорий Палама, который является «наилучшим теоретиком и систематизатором[53] созерцательной исихии». Его взгляд таков[54]. После падения во грехе преступления первозданные подверглись прежде всего смерти душевной, которая состоит «в отчуждении и удалении от Бога, так как жизнь души есть общение и единение с Ним». За смертью душевной последовала и смерть телесная, как необходимое последствие преступления. Смерть телесная, по милосердию Божию, явилась, однако, не сразу, чтобы человек имел время покаяться. Таким образом, цель земной жизни – «возвращение через покаяние к Богу, усыновление Ему и единение с Ним». По той тесной связи, какая существует между душой и телом, взаимно восполняющими друг друга, цель эта может быть достигнута не одной душой, но непременно в союзе с телом, которое для этого должно быть поставлено в известные условия. На и лучшие условия для покаянной жизни представляет безмолвие (исихия). Подвиг безмолвия дает полную возможность непрестанной молитвой быть всегда в общении с Богом и очищает от страстей, гнездящихся в трех душевных силах: мыслительной, чувствовательной[55] и желательной. Прежде всего должно стараться об очищении желательной силы, к которой обычно приражаются страсти: любостяжание или сребролюбие, как корень всех их, далее честолюбие, человекоугодничество и чревоугодие. Следствием такого очищения будет духовная нищета. Из нее проистекает плач или душевное сокрушение с самоукорением, чем очищается вторая душевная сила – чувствовательная. После этого следует очищение третьей силы – мыслительной, или умственной. Ум наш, благодаря внешним чувствам, обыкновенно «отвлекается и рассеивается», но исихаст должен устранить эту рассеянность при посредстве так называемого «кругового движения» ума, обращая его к самому себе и собирая в сердце, которое есть как бы склад или хранилище помыслов (Мф. 15:19). Собирание ума для начинающих – дело в высшей степени трудное, так как ум постоянно стремится к обычной рассеянности. Легче всего оно достигается через дыхание[56] (αναπνοή). Прп. Григорий допускает, однако, и другие способы для достижения той же цели, как, например, сосредоточение взора на одном каком-нибудь предмете[57]. Так, по крайней мере, подвизались совершеннейшие исихасты прежнего времени, и это не воспрепятствовало им угодить Богу и удостоиться пророческого дара.
Непрестанная сосредоточенная молитва возводит исихаста на высшую степень исихии – созерцание, за которым следует Божественное озарение, когда подвижник осиявается Божественным несозданным светом, подобным тому, какой видели апостолы на Фаворе. Этот свет созерцается исихастом как ведомо одному только Богу и не есть результат усилий и подвигов исихаста, но дар благодати Божией. Это и есть высшая степень единения[58] с Богом и оббжение (θέωσις), которое нужно понимать не как изменение и переход души в Божественную сущность, но только как преобразование ее действием (энергией) Божества.
Ватопедский монастырь
Ватопедский монастырь, в котором подвизался при. Савва, – один из древнейших и замечательнейших монастырей афонских. Этот монастырь расположен на северо-восточном склоне Афона, на берегу залива Контессо, на месте какого-то древнего[59] города. Построенная, по преданию[60], еще в IV столетии[61], эта обитель до времен св. Афанасия Афонского (X в.) лежала в развалинах. Восстановителями[62] ее явились прибывшие в конце X столетия (между[63] 972 и 980 г.) из Адрианополя трое богатых и благочестивых мужей: Афанасий, Николай и Антоний. По совету св. Афанасия они восстановили[64] запустевший (после арабского[65] нашествия) Ватопедский монастырь, ввели в нем принятый из рук св. Афанасия устав[66], жили в нем, скончались и погребены в монастырском храме[67]. В первый раз мы встречаем эту обитель в документе[68] от 985 года, индикта 13-го, где в числе других подписей находится и подпись Николая, монаха и игумена Ватопедского (Βατοπεδίου). В начале XI века Ватопед был уже многолюден[69] и занимает второе[70] место (первое после Лавры св. Афанасия) в ряду великих афонских обителей. В протатском афонском деле[71]от 1071 года упоминается игумен этой обители Феодосий, по просьбе которого прот Павел с судными старцами произвел размежевание владений Ватопеда от обители Каллиника. В том же[72] (XI) столетии к Ватопеду была присоединена небольшая обитель Иеропатора, а позже обители: Верриота, Калестраили Калеци, св. Димитрия, Ксистра, Триполита, Ковача (Χαλκζως) и Трохала. В конце XII века сербский краль Стефан Неманя (в иночестве Симеон) с сыном своим Саввой (впоследствии архиепископом Сербским) устроили в Ватопеде трехъярусные[73] келлии, 7 параклисов[74] и приписали[75] к обители разные метохи (земельные владения). В XIII столетии Ватопед был опустошен[76]и разорен приверженцами унии и обновлен[77] императором Андроником Старшим[78](1282–1328 гг.). Новыми благодетелями[79]Ватопеда были императоры: Иоанн V Палеолог (1341–1375), Иоанн VI Кантакузин[80] (1347–1355), а также сербский король Стефан Душан (1336–1356) и др.
В последний[81] раз Ватопед был обновлен в конце XIII столетия. Киновиальное (общежительное) устройство Ватопед сохранял до 1541 года[82], а с этого времени до наших дней (с небольшим перерывом около 1575 г.) остается идиоритмом (своежительным).
Из многочисленных святынь Ватопеда должно отметить особенно хранящуюся здесь часть Пояса Богоматери[83], подаренную, как думают[84], сербским кралем Лазарем (1372–1389 гг.). В настоящее время Ватопедский монастырь один из богатейших и обширнейших монастырей афонских. Он имеет форму треугольника и обнесен стеной с бойницами и башнями.
С трех сторон его окружают горы, покрытые роскошными лесами. Их свежая зелень, чередуясь с разбросанными кругом цветущими нивами, благовонными виноградниками и ароматными садами, делает местоположение Ватопеда чисто райским[85]уголком мира.
Списки и издания жития преподобного Саввы
Житие при. Саввы имеется в нескольких списках. Главнейшие из них: ватопедский (Cod. 89 monasterii Βατοπεδίου), московский (Синодальная Библиотека. № 257. Л. 122) и венецианский (Gr. I. Marci biblioth., cod. Manuscr. Venetiis 1740). Греческий текст в первый раз издан А. Пападопуло-Керамевсом в 1898 году в «'Ανάλεκτα'Ιεροσολυμιτικἡς Σταχυλογίας» (Т. V. Σ. 190–359) Ἐν Πετρούπολει по ватопедской рукописи, сверенной с другими. Эта рукопись, по палеографическим и др. данным конца XIV или начала XV столетия, состоит из 167 бумажных листов (дл. 0,17, шир. 0, 12), из которых первые три новейшие и содержат начало жития при. Саввы. Они списаны архимандритом и скевофилаксом Ватопедской обители Иаковом Карпенисиотским в 1835 году с другой рукописи, находящейся в лавре св. Афанасия на Афоне. Сокращенное житие св. Саввы на русском языке напечатано в седьмом издании Афонского патерика[86]. Предлагаемый перевод полного жития прп. Саввы сделан нами с изданного А. Пападопуло-Керамевсом греческого текста.
Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон
Cвятитель Филофей Коккин, патриарх Константинопольский
1
Предметом настоящего слова[87] является дивный Савва, о котором столько говорят в настоящее время (ὑπόθεσις ἀγώνων).
И в этом нет ничего странного или необычного для нас, так как он (Савва) всегда, бывало, предлагал нам темы для рассуждений как относительно того, что касалось нас, так и того, что относилось к посторонним, и казалось, что наши рассуждения и мысли доставляли ему даже удовольствие и наслаждение[88]. Теперь он себя самого предлагает высоким предметом слова, чтобы мы как можно лучше могли познакомиться с ним, славным не только при жизни, но и по преселении отсюда, а также подражать и следовать его делам и учению.
Действительно, если бы я дерзнул сам взяться за это дело, надеясь на силу своего слова и высоту созерцания[89] (θεωρίας), то это было бы, мне думается, величайшей глупостью с моей стороны и почти сумасшествием, а для имеющих ум я показался бы воображающим о себе слишком много. Даже если я многих превосходил словом и добродетелью, и то не послужило бы мне оправданием, так как предлежащий (предмет повествования) настолько высок, что если бы для изображения его вся существующая ныне у людей сила слова соединилась вместе, и тогда едва ли бы вышло что-нибудь. Но так как вышеестественная жизнь и деяния его были делом обильно излившейся на него благодати, то ее же дело дать и сверхъестественную силу повествованию о нем для удивления потомков и на общую пользу. Глубоко убежденный в этом, а ничуть не по самомнению, я с благими надеждами приступаю к повествованию об этой любомудрой и дивной душе, которая слово считала некоторым образом сопутствующим добродетели и эту прекрасную чету признавала тесно связанной друг с другом; она сама этим дышала и нас этому учила. Поэтому, так как славная жизнь его была необычайным училищем и слова, и добродетели, то и должно рассказать о ней любителям последней далеко, однако, не во всех подробностях, ибо это невозможно как потому, что нет человека, которому были бы известны все его подвиги, так и потому, что невозможно было бы всех их заметить по причине их многочисленности. Мы изложим пока только то, что сами видели или слышали от него или что узнавали от тех, кто его близко и хорошо знал, особенно же то, чему он сам учил и наставлял и о чем любил беседовать.
2
Какого рода и страны или какого воспитания или образования великий этот (человек) был начатком в настоящее время, кажется мне, пока нет надобности говорить не потому, чтобы все это не было славно и знаменито и он (таким образом) в значительной степени не превосходил бы и этим других, ибо кто не знает Филипповой[90] Фессалоники[91], как она великолепна и благоустроена и насколько превосходит науками и искусствами и всем другие города, так что не только стоит выше городов Фессалии[92] и Македонии[93] и так называемых «главных городов», но далеко превосходит славою даже самые величайшие и издревле знаменитые, а зная это, кто не признает вместе с этим и того, что и родители его были благородны и славны[94] как по своему происхождению, так и по добродетели. Но чтобы кто-нибудь не подумал, что мы говорим по тщеславию, достаточно выставить на вид то обстоятельство, что он все это решился презреть, как весьма немногие из людей, так что совсем на это и внимания не обращал. Однако, так как не только некоторые из внешних, но и большинство наших мудрых и знаменитых (мужей) об этом спрашивают, да и должно именно отсюда, как от некоторого надежного пункта отправляясь, идти дальше, то необходимо и нам подчиняться существующему обычаю и следовать предшествовавшим отцам слова. Это и он считал особенно важным, высоко ценя соблюдение меры в делах и точное следование предшественникам.
Итак, отечеством его, как я только что сказал, была дивная и великая Фессалоника, которую я мог бы похвалить со многих других сторон, – между прочим и за то, что она собрала в одно место все, что обыкновенно украшает город, и обладает всем этим в большом изобилии, так что невозможно даже и сказать, чего в ней из всех этих благ больше, но пока с похвалой отзовусь особенно о том, что она и наукой, и добродетелью изобилует больше, чем другие города. Ибо цивилизованным людям свойственна и как бы врожденна известная благопристойность (κόσμος), и без этого не могло бы даже начаться государство, а если бы и началось, то без науки и добродетели оно звероподобную и неразумную проводило бы жизнь, так как люди, подобно скоту в хлеву, вступали бы в сношения друг с другом без всякого смысла; даже и городом не может называться вообще, по словам мудрых, такой город, в котором отсутствуют науки. Что же касается любезного нашего отечества[95], то мы смело скажем, что оно имело такое обилие наук и искусств, что не только само ими пользовалось, но и другие города, даже большие и знаменитейшие, ими услаждало. Богатства же добродетели и святости[96] его невозможно выразить словами, можно только, взирая на некоторые одушевленные изображения и молчаливую проповедь, с изумлением познавать дерево (см. Мф. 12:33; Лк. 6:44) от плода и корень от побегов.
Как не упомянуть при этом о славном военачальнике[97] этого города и всегдашнем заступнике и хранителе его, громкая слова которого, как говорится[98], доходит до небес, а чудесами полны земли, острова и концы вселенной, благодаря которому он (г. Фессалоника) еще более делается славным и знаменитым, так как часто приходится с удивлением слышать о нем при рассказах о его деяниях![99] Ибо то, что делается (в нем) при нынешнем всеобщем беспорядке и замешательстве, так для него необычно и так чуждо прежнему благородству и возвышенности чувств (его граждан), что должно быть признано за несчастную случайность и болезненное явление более, чем за дела, совершенные с твердым намерением, серьезно и обдуманно, в здравом и нормальном состоянии. Ей! можно с полной справедливостью сказать, что (это дело) не совета (βουλής) или знатнейших, не несчастной и враждебной судьбы[100], как сказал бы кто-нибудь, но сильного и беспорядочного человека, не туземца, но из числа пришлых с крайних наших границ варваров, а также беглецов из окрестных островов, по необходимости туда собравшихся.
Великий Давид назвал бы их людьми кровей (см. Пс. 5:7) и лукавства, которых безрассудство и низость делает пленниками, водимыми туда и сюда какими-нибудь двумя или тремя вожаками черни, или пьяницами, или дикими тифонами[101], или не знаю, как и назвать достойно их негодности, оказавшихся недостойными этого дивного города, не знаю, как их терпящего, ибо они сделали его, известного древле всем прекрасным, – увы! – известным ныне по всему худому, оказавшись негодными и совершенно безрассудными, явными губителями и отступниками Царства Божия и Его Церкви, а также скверными опустошителями и губителями человеческого рода. Получив злодейски, благодаря некоторому счастью, неограниченную власть, они наполнили гнусными убийствами и противоестественными преступлениями не только Фессалонику, но и всю почти римскую страну, так что в сравнении с этим страдания иудеев во время осады Иерусалима, описанные Иосифом[102], ничто, не говоря уже о бедствиях Илиады[103] и ужасах Трои[104]или Лемноса[105], которые вошли в поговорку у древних. Эта общая болезнь, как я сказал, овладев вследствие чрезвычайной злобы несчастным родом людским, сделала единоплеменников, достойных сожаления, противниками, наглых и дерзких восстановила против благоразумных и благородных, так что отрока, как говорит Писание (см. Ис. 3:1–5), стали предпочитать старцу и простолюдина вельможе, и не только (как тогда) в Иерусалиме и Иудее, заключавшей один народ в небольшой части мира, но и по всей почти вселенной не стало ни вождя и сильного, ни благого советника и разумного слушателя, но места вождей заняли юноши и владыками стали наглецы, (выражаясь) словами того же Исаии. Поэтому не должно осуждать[106] один из лучших городов из-за последовавших несчастных случайностей, но должно более восхвалять за прежние славные дела. И это вполне справедливо. Ибо людей, потерпевших несправедливо неудачу, мы все обычно не только не укоряем, но еще прославляем, по сострадательности души, – даже охотно хвалят такого (если это будет) хороший (человек), – и не найдется никого, кто отказал бы ему в своей помощи, будет ли то человек или целый город, если только они, оказавшись в крайне бедственном состоянии, вынуждены были поступить ниже своей добродетели и достоинства.
3
Подобным образом пусть справедливо рассудит, как сказано, любомудрый слушатель и относительно его (Саввы) отечества, справедливо ли или с некоторым пристрастием это сказано. Что же касается благородства, а также добродетели родителей его, которую они и живя вместе, и разлучившись по любви к божественнейшей философии[107] впоследствии выказали, то много (самых) разнообразных тому доказательств, которыми полна страна фессалийцев и македонян, и даже за ними находящаяся, как я узнал из рассказов: благоговение по отношению к Богу и строгое благочестие даже в мелочах, чистота жизни, чуждая какого-нибудь хищения и любостяжания, сердечная сострадательность по отношению к общему естеству, забота о домочадцах[108], воздержание тела и ярко вместе с этим сияющее целомудрие, многим желательное, но только лучшими как следует совершаемое, а самое наилучшее и возвышеннейшее, чем они особенно от других отличались, это простота обращения, приличие по отношению ко всем и скромность, так что они в одно и то же время были велики и смиренны. И хотя благородством происхождения и мирской славой и другими преимуществами они превосходили, как сказано, других и поэтому могли бы иметь о себе высокое мнение и считать себя выше своих единокровных, однако, по сердечной простоте и душевной чистоте и боголюбию, они называли себя самыми последними и ничтожнейшими из рабов, будучи боголюбивыми и верными подражателями Христа, Который везде выше всего ставил скромность, о чем учил и чего пример показывал, и подражая великому Павлу, который хотя не от человеков и не через человеков апостольство получил, так что и сосудом (см. Деян. 9:15) избранным от поставившего его Господа был назван, и на небо был восхищен, и сподобился слышать неизреченные глаголы, однако называл себя последним из апостолов и недостойным даже имени апостольского. Достойные такого отечества, как хорошо охранившие на последующее время древнее благородство подлинно золотого его рода, который украшался милосердием и простотой, они оказались вполне достойными вследствие этого быть родителями такого дитяти. Таким образом, рождение добродетельного Стефана, ибо так они знаменательно или, лучше, пророчески назвали своего сына, было им наградой и венцом[109] славы за их стремление к добродетели и нравственную высоту. Ибо нужно было, чтобы он, как имевший быть некоторым божественным и общеполезным для людей даром, имел и соответственное этому начало, так чтобы не только дерево (Мф. 12:33; Лк. 6:44) от плода, но и плод от дерева можно было (легко) узнать, ибо никак невозможно, согласно Божественным словам, от терновника собирать смоквы и от репейника виноград (см. Мф. 7:16; Лк. 6:44), но хороший плод происходит от хорошего дерева и корню соответствуют ветви. Что это и здесь прекрасно осуществилось, будет видно из последующего рассказа.
4
Происшедший от таких родителей благородный Стефан был отдан в очень юном еще возрасте в обучение[110] учителям и наставникам и, к природным способностям присоединив отличное прилежание, в короткое время далеко превзошел своих сверстников, проводя большую часть времени в изучении наших священных наставников и наук, заранее уже посвящая им себя и (предначертывая) некоторые образы последующего расположения и немного только познакомившись с науками общеобразовательного характера и лучшими поэтами. Ибо должно было ему, как он весьма разумно полагал, знать и внешние науки, чтобы иметь их содействующими и способствующими к исследованию полезнейшего и не хромать умом с этой стороны, но иметь его трудносовратимым с прекраснейшего пути созерцания (τῷ ϑεωρητικῷ τἡς ψυχἡς), что, как мы видим, многие из ревностных обыкновенно терпят, так как он затемняется от незнания Писания[111], которое производит отсутствие науки, пробуждающей, как бы от естественного сна, природный наш ум и руководящей им в изъяснении сокровенного. Поэтому, немного познакомившись с исследованием о словах и предложениях, чем занимается обычно грамматика, он всецело предался чтению нравственных и назидательных сочинений, приобретая от них себе душевную пользу. Что же касается историков и поэтов, то, люботрудно выбрав из них то, что вело к цели и поощряло душу к мужеству[112], все баснословное[113] и излишнее, как пустую болтовню и просто кознь для души, он отбросил прочь. Вследствие этого он всем был любезен и всех поражал своим прилежанием и разумом, будучи любим учителями, а из сверстников своих и вообще имевших отношение к нему по учению более простым являясь примером, а более разумным доставляя некоторое неизреченное удовольствие и руководство и прекрасное побуждение к добродетели, будучи в то же время по своей высокой жизни и обильной добродетели страшен и недоступен худым, испорченным и распущенным. Вообще же он был приятен и любезен всем вследствие того, что никогда ни в чем не показывал мрачности и нелюбезности, но проливал в души всех удовольствие и молча, и говоря. При душевной доблести он был и телом крепок, обладая соразмерностью членов и будучи благолепен лицом, что, вместе со знатностью рода, обращало на юношу внимание не только наставников, сродников и сверстников, но и всего почти города – начальников и подчиненных, мудрых и невежд, людей всякого возраста и всякого звания. Что же касается любви к нему родителей, то хотя бы они были и не так добродетельны, она была бы велика не только потому, что они были родители, но и потому, что это было удивительное дитя, далеко всех превосходившее своими качествами. Будучи же такими, что ежедневно представляли возлюбленному пример добродетели в делах и словах, надеясь, что он будет достоин отеческой молитвы, – ибо с самого начала видно уже было, насколько этот прекрасный сын имел превзойти своих родителей, – какой радости они были полны и какое удовольствие и любовь к нему пред посторонними выказывали, а еще более, каких благодарений не воздавали они даровавшему его им Богу и какой не выражали к Нему от души любви!
5
Так Стефан был у всех на устах и в сердце и был украшением города, а отец старательно упражнял душу его и учил добродетели делом и словом, стараясь при этом, чтобы он, кроме этого, приучался и к телесному упражнению, и к военному искусству, так как они оказались в одном и том же полку. Но он, зная, что телесное упражнение мало полезно, как говорит великий Павел (см. 1 Тим. 4:8), старался больше о душевном, презирая настоящее, как не существующее, и взирая на будущее, как постоянно пребывающее, и направляясь к цели – почести вышнего звания (Флп. 3:14). Поэтому покой и роскошь и бесчинные игры и смех и низкие удовольствия, которым обычно предается неосторожная юность, он счел приличным самым низким и неразумным и, возлюбив воздержание и связанное с ним целомудрие, внимал себе всегда, взыскивая Бога ежедневно с сердцем сокрушенным и духом смиренным.
6
И вот Призирающий на кроткого и молчаливого и Знающий сущая Своя Господь, подобно великому Павлу и сего избрав (см. Гал. 1:15) от утробы матери, предвидя, что он будет сосудом избранным, зовет и его незримо к духовным подвигам, Свои овцы глашающий (см. Ин. 10:3) по имени. Поэтому, изменив ни во что и отечество, и род, и славу, и любовь родителей, он, немного только превысив юношеский возраст, тайно выходит из отеческого дома и города, ничего не имея с собою, кроме одного Христа и чрезвычайной любви к Нему, через Которого он, по великому Павлу, умер (Гал. 2:20) уже для мира и весь мир умер для него, так что уже не он жил, но жил в нем Христос, искупивший его Своею кровью. Охотно следуя призвавшему его Господу, он достиг священного Афона, Афона золотого и любезнейшего и виновника всего наилучшего, особенно для меня, который мне вместе с другими и прежде других показал этого светильника и вождя, хотя до конца жить с ним – о беда! – лишил меня завистник. Итак, вступает благородный атлет[114] в место состязания подвижников, честную разумею Гору, отечество монахов, небесный (см. Евр. 12:23) Иерусалим, истинную митрополию первенцев[115], на небесах написанных, с такою охотою, душевным удовольствием и любовью, как сам потом говорил, с какою и Моисей великий не восходил на Синай. Ибо если тот вошел внутрь огня и облака, когда молнии и громы, мрак и буря ужасали других и производили поразительную картину, – ибо видимое действительно было полно ужаса, а именно, что человек входит в огонь с этим вещественным и бренным телом и делается общником неизреченного и видит Божество в священных символах, почему и лицо его прославилось, так что никто не мог взирать (Исх. 19:18; 20:18; 34:30–35) на него без ограждения и покрова, – то этот вошел не во мрак и огонь и взошел не на дымящуюся гору при звуке труб, но взошел, как ему думалось, на самое небо и увидел, казалось, доступное видению (см. Мф. 5:8) чистых сердцем торжество Ангелов и собор небесных первенцев, невозмутимо на Бога взирающих кротко и радостно. Это он и на самом деле потом удостоился видеть, как явит дальнейшее повествование.
7
Обрати при этом внимание на благородство и мудрость этой великой души с самых, как говорят, первых шагов. Ибо он, не просто вступив в эту священную страну и удостоившись получить высокую и явную благодать и не в течение краткого времени побеседовав и поговорив с дивными ее гражданами, как поступают исследователи городов и местностей, расположенных на материке и на море, или как некогда поступали слушавшие певцов и кифаредов для удовольствия и наслаждения, стал потом думать о возвращении, считая, что достаточно одного только этого, как, мы видим, многие по большей части делают, и не пребыл только здесь, но без достаточного терпения, или хотя и с терпением и подобающим мужеством, но не до конца, или и так, но бесцельно и безрассудно и притом недостойно себя и истинной мудрости и Самого Призвавшего, но с разумом, обдуманно и благообразно, как, думается, некоторые немногие из древних, о которых, как о каких-нибудь странах и образцах прекрасной жизни, повествуют рассказы отцов. Ибо мудрейший избрал для себя наилучшее, рассудив, что душа, не привыкшая подчиняться, чужда смирения, а вследствие этого и к восприятию учения как бы от природы не приспособлена, а склонная к послушанию и смирению, напротив того, способна и ко всякому какое оно ни будь обучению, особенно к дивной этой философии[116], так как таким образом искореняются и уничтожаются долговременные привычки и навыки, а также мысль о том, будто мы что-нибудь знаем[117], как бы некоторое тернистое и негодное вещество или пагубные звери, разумею нечистые страсти, и бывает пажитью и местом всякого хорошего и не смешанного с плевелами (Мф. 13:24–25) семени, с подобающим потом добродетели бросаемого и в свое время различные произрастания добродетели произращающего до полной меры в сто крат (Мф. 13:8, 23), по слову Господню. Помыслив это вполне достойно себя и Призвавшего его и как атлет, окидывающий взором ристалище от начальной черты до самого конца, представив себе будущее, он входит в честной состав тех священных философов с должным усердием и видом, исследуя трудолюбие, род жизни каждого наставника (μυσταγωγόν), испытывая, так сказать, сколько возможно, их нравы и учение и из всего собирая себе духовную пользу. Потом, выбрав самого славного и мужественнейшего из всех в аскетических подвигах, старца возрастом и старейшего по добродетели, вследствие этого почитавшегося многими великим, там где-то посредине[118] божественной Горы (где и общественное Управление (то Κοινόν Αρχεΐον) главы (προκαθημένου) монашествующих честно помещается) устроившего свое аскетическое жилище (ἀσκητικήν οἰκίαν πηζαμἐνου), славный Стефан избирает его учителем своим и во всем руководителем и путеводителем к Богу и господином и с самого начала радостно и мужественно вступает в поприще монашеской или, лучше сказать, ангельской жизни. И принимает от учителя постриг, как это в обычае у монахов, отвергнув все излишнее и тщеславное и оставив мертвое и грубое вещество мертвым душою и приняв через священные призывания печать[119] Христову, которую не знаю, как должно назвать, покаянием ли и началом новой жизни, или как бы обновлением единой и первой печати великого крещения, или тем и другим вместе. В это духовное всеоружие светло облекшись, он зачисляется в Божие воинство и выступает, дивный, против всей силы враждебных духов, названный Саввой вместо Стефана, чтобы и по переименовании быть общником Петра и Павла и сынов грома (см. Мк. 3:17), славных учеников Христовых, нисколько не уступая им ни в их ревности, ни в вере.
8
Какую проявил при этом благородный душевную силу и терпение, а также постоянство в подвигах или, лучше, с каким удовольствием и легкостью день и ночь принимал для многих неприятное и трудное, как молоко и мед пия, как сказано, глумления (Иов. 34:7) и, как некоторую духовную амброзию, оскорбления и поношения, а иногда принимая и побои (πληγών προσέμενος τράπεζαν)! Ибо учитель его был, как я только что упомянул, суров и строг как вследствие чрезвычайно жестокого образа жизни, так и по причине природного довольно нелюбезного склада (φυσικήν τών στοιχείων κρᾶσιν). Испытанное им мы частью сами видели[120], а больше узнали от достоверных лиц, поэтому о том, о чем я упомянул вкратце, пусть расскажут знающие это по личному опыту, если кто-нибудь из них еще в живых, которые многих из подвижников и тогда, и в недавнее время только одними рассказами о его делах укрепили в подобной же ревности и мужестве. Но еще более он имел подражателей среди любителей послушания тогда, когда видим был в подвиге, являясь в одно и то же время и первым борцом и учителем подвижников, и неподражаемым победителем. Так было и позже; при рассказах о нем в души слушателей западало как бы какое-то поразительное жало, побуждавшее их к горячему подражанию, хотя все мы по отношению к нему и его течению были как пешие в сравнении с лидийской колесницей[121]. Ибо дивный Савва действительно как-то особенно изумительно просиял послушанием и смирением, настолько превзойдя славившихся этими добродетелями, насколько виновник дня – великое солнце – превосходит являющиеся ночью звезды. Так все граждане священной той общины и говорили, и думали.
9
Я, однако, кроме всего другого, особенно удивляюсь, священнейший и мудрейший из людей, тому, что ты, недавно еще оставив отеческий дом и образ жизни, который свойствен любимым детям знатных особ, и имея вследствие этого не только тело, но и душу совершенно не приготовленными к такому злостраданию, не только кротко и терпеливо переносил суровость и неприятность чрезмерного воздержания, изнуряя себя голодом, жаждой и всенощными бдениями и стояниями, нисколько не смущаясь ничем непривычным и чрезмерным, но и, каждый день поносимый, при этом и постоянные насмешки и брань с частыми побоями принимая, не только мужественнейшим образом и лучше других когда-либо существовавших славных подвижников выносил, но, хотя все это каждый день и с значительной еще прибавкой тебе приходилось испытывать, ты нисколько не считал невыносимым, радуясь в своих страданиях, согласно словам (см. Кол. 1:24) великого Павла, и восполняя в плоти своей недостаток скорбей Христа, Первого делом навыкшего послушанию и прославившегося страданиями, а вместе с тем прославившего с Собою и общников Своих страданий через (послушание). Поэтому ты не только не питал по отношению к отцу ничего неприязненного и враждебного, но мысленно каждый час целовал его и как бы сросся с его членами, одного его признавая и отцом[122], и спасителем после Бога, более любя его, чем родителей, и всей душой предпочитая его последним – благоговея в то же время и пред Творцом и Спасителем Богом – и нося в своей душе как бы некоторый оттиск или своего рода изображение его[123] и через него тою же честью почитая и Бога. Ибо ты признавал его в некотором смысле творцом лучшего и божественнейшего в себе творения и, после Единого Спасителя, спасителем или, лучше сказать, совершителем того же самого истинного и первого спасения.
10
Вследствие этого он (Савва) пользовался всеобщей известностью и был у всех на устах с удовольствием и удивлением, и все считали за счастье насладиться его беседою и видом, не только вместе с ним подвизавшиеся и сверстники – ибо гибельной зависти не было (тогда), – но и старейшие по добродетели и по возрасту и превосходившие во всем других, те именно, которые, оставив общежитие (τῆς ἐν τῷ κοινω διαίτης καί ομιλίας εαυτούς αποστἡΐααντες), избрали совершенно уединенный и отшельнический образ жизни, постоянно пребывая наедине с собою и Богом. Ибо их поражал в юноше седой разум (ср. Прем. 4:9) мудрого (Саввы), строгость подвижничества и твердость терпения, безукоризненное целомудрие как в словах, так во взоре и походке, а больше всего благородство души и чрезвычайная снисходительность ко всем, а также неизъяснимая приятность характера не столько природного, как кто-нибудь мог бы подумать, сколько приобретенного крайним послушанием, как то бывает с людьми, подвизающимися в этом на самом деле. Ибо от послушания происходит, говорят, высочайшее смиренномудрие, а из него рассуждение, светильник и путеводитель души, как его можно назвать, и вождь ко всему прекрасному. Когда же рассуждающая способность души освободится – как бы какой-нибудь глаз от загрязняющих его страстных течений[124], – тогда к ней возвращается после этого как бы естественная ее проницательность, и никакой обманчивый образ или фантастическое представление (ибо иное – истина, а иное – игра воображения) и ничто ошибочное или соблазнительное, служащее препятствием на прямом пути, не удаляет ее от священных святилищ бесстрастия и Бога. Но так как все просто для имеющих здравый ум и прямо для ищущих благодати, как говорит премудрый Соломон (Притч. 8:9), то и она (душа) непреткновенно и в высшей степени ровно идет тогда к соединению с Богом, все радостное и приятное в деянии и видении имея сопутствующим и последующим добродетели, почему вместе с внутренним спокойствием и тишиною бывает полна явной и наружной радости и добродушия. Так и он, мудро положив в основу корень этих дарований (послушание), как весьма немногие, после соответственных (трудов), и явившись дивным среди настоящих и имеющих быть, а равным образом и бывших раньше послушников, как мог бы не пожать с радостью происходящих отсюда плодов или, лучше, (как мог бы) не явиться приятным для всех, привыкших наслаждаться ими, что действительно и на самом деле было у него в большом изобилии, как выше было только что уже сказано. Но так как трудящемуся земледельцу, по великому Павлу, первому должно вкусить от плодов (ср. 2 Тим. 2:6), то и здесь превзошел всех других учитель его (тайновождь) любовью к нему и удивлением (пред ним) и всецело привязался к нему, побежденный прекрасными его качествами, хотя до этого времени он был крутой и суровый. Ибо учитель его, и раньше не вынося, чтобы он ему служил и хотя немного помогал в его старческих нуждах, теперь сам с удивительной сердечной готовностью служил ему, более того, он не смотрел уже на него как на юного и ученика, но в высшей степени почитал его за его душу и относился к нему с величайшим благоговением и уважением.
11
Ничего нет лучше, как вспомнить здесь об одном или двух примерах усердия этого мужа к добру и благоговения к нему старца. Ибо, как ежедневно полагавший восхождения (см. Пс. 83:6) в своем сердце и восходивший от славы в славу (2 Кор. 3:18), он вызывал удивление и любовь всех близких и далеких, так что все были о нем самого высокого мнения, особенно его учитель; чем более он узнавал неведомые прочим достоинства его, тем больше исполнялся по отношению к нему благоговения и решил возвести его на высокое, соответственное его святости место и светильник поставить (Мф. 5:15) евангельски на подсвечнике, чтобы такой свет добродетелей и сокровище мудрости не было скрыто под сосудом смиренномудрия. И задуманное он поспешил привести в исполнение, призвав имевших помазать[125]. Явилось и обычное собрание, и приготовлено было все нужное для приема собравшихся, и не опущено было ничего из того, что требовалось для хиротонии. Но он далек был о того, чтобы отринуть любезное и обычное свое смирение и потерять самый низкий чин, которого он так сильно держался, как держатся самого высокого сильно ищущие первенства, и чтобы не потерять его, делают иногда и терпят крайне постыдное. Вследствие этого он был неумолим и непреклонен, называя себя недостойным столь великого дела, будучи на самом деле самым достойнейшим. Ибо мне думается, что если бы нужно было, чтобы этот божественнейший дар чудесно сошел на землю к людям для общего спасения рода человеческого и по чрезмерному человеколюбию Спасителя таким необычайным образом был дан людям, то никто не был бы предпочтен ему в этом, но он или первым был бы призван вместе с посвященными[126] сначала от Самого Слова, или вместе с некоторыми и весьма немногими. Столь велика была его чистота и святость! Но он, сравнивая себя не с другими (людьми), а с заповедью и таким образом взвешивая дело и слово и каждый день испытывая достигнутое, не столько смотрел на обилие приобретенного, сколько на то, чего еще недостает по отношению к предлежащему. И смотря на честность и мудрость души, как он тонко и остроумно принимается за дело! Ибо зная, что избежать великой чести по смиренномудрию есть самое большое величие и не желая явно противоречить каким-нибудь словом или делом родившему[127] духовно, в самое время священнодействия, когда, то есть, духовный совершитель (τελεστής του πνεύματος) намеревался вести его к хиротонии, он, никому ничего не сказав, молча удаляется и скрывается у одного чуждого подозрения лица, пока они, утомившись поисками его, хотя и знали, что напрасно стараются и пытаются связать неуловимого, и против воли с печалью и удивлением оставили его в покое, посвятив в сан пресвитера приготовившегося вместе с ним по обычаю, чтобы не напрасны были их старания и праздничные приготовления не окончились совсем печально и неприятно (в этом, сколько было возможно, и он потрудился пред своим бегством). Потом они разошлись по домам, неся, как бы какие подарки (εφόδιον), рассказы о муже и сообщая их с величайшей радостью и удивлением встречающимся. Дивный же тот старец казался весьма досадующим и обиженным, с трудом перенося неудачу, почему и обрушился с угрозами и бранью против отсутствующего, тысячи упреков высказывая по отношению к нему. Но когда он по истечении некоторого времени увидел любезного возвратившегося, припадающего по обычаю к ногам его и просящего с великим страхом и скромностью прощения, то тотчас оставил свои угрозы и тихо стал беседовать с ним, называя себя блаженным за то, что имеет такое чадо, удивляясь величию его души и быстрому успеху в добродетели. Вот наилучший образец его благоговения по отношению к Богу и высоты его смирения!
12
Что касается его любви к ближнему, то е́сть много и другого достойного повести и воспоминания, а также и сейчас сообщаемое. Часто в течение года Савва был посылаем своим наставником к игуменам тамошних монастырей для доставления необходимого. Такой обычай был у всех тамошних безмолвников, которые даром получают от более достаточных необходимое для жизни, чтобы без развлечения заниматься Божественным служением, то есть безмолвием и соединенным с ним созерцанием[128] и молитвою. Старец его более других держался этого обычая, так как был и достоинством пресвитера почтен, и состоял врачом и судьей душевных немощей. Итак, уходит дивный ученик с обычным поручением в один монастырь (φροντίστἡρίον), отстоявший довольно далеко от жилища, ибо он видится вторым при входе на Святую Гору и расположен на морском берегу, так что при северном ветре вход его и крепостная стена омываются волнами. По отеческому приказанию он имел с собою спутника и товарища. Когда служение их приходило к концу и они, имея в изобилии все потребное, стали думать о возвращении, сильный душою и телом Савва и здесь, как и во всем, стал во главе (пути), неся[129] вместе с товарищем своим, как вьючное животное, и бремя ради Христа, чтобы по принятым там законам обуздать необузданность тела и совлечься, кроме того, погибельной гордости. Друг и сподвижник его, хотя у него ноша была гораздо меньше, чем у Саввы, стал отставать в пути. Савва, однако, терпел и сильно замедлял ход, нарочно сдерживая себя, часто останавливаясь и ободряя его как мог, делом и словом. Когда же он увидел, что тот, удрученный ношей, не в состоянии был, как говорится, и одного шага сделать, начал убеждать его возложить на него и свою ношу. «Ты ведь видишь, – говорит, – что я силен телом и в состоянии понести еще больше этого». Итак, взяв у него сумку и ношу и возложив все это на свои плечи, он, как птица, понеся на крыльях любви, так что спутник его не был в состоянии даже и по следам поспевать за ним, и опять начал сильно отставать. Чудный же путник – не столько по этому земному пути, сколько по пути высочайшей любви и Евангелия Христова – и опять терпел, любезно, кроткими словами с сердечным состраданием утешая его, а потом стал расспрашивать, не затрудняет ли его еще что-нибудь.
«Мне мешает тяжесть одежды, – сказал он, – особенно верхней, толстой и тяжелой». – «Так сбрось ее, друг, – сказал мудрый, – тогда будет гораздо легче идти, неся ее на плечах, чем теперь, когда ты как бы в каких оковах». Это была некоторая хитрость с его стороны или, лучше сказать, обман, чтобы таким образом искусно (οικονομικώς) заставить его снять хитон и тем освободить брата от тяжести. И действительно, он достиг цели и не погрешил в своем расчете. Ибо и тому понравилось предложение друга, и он снял хитон, а труженик Царствия Небесного схватил его и, присоединив к остальной ноше, пошел опять вперед с прежним напряжением и усилием. Хорошо!
13
И вот, должно быть, восьмой уже год оканчивал в таком дивном подчинении подвижник Христов. Корабль был уже у него полон, как говорится, товаров добродетели, и он в большой мере превосходил славными своими делами не только современных ему сподвижников и «товарищей по плаванию», как только что было сказано, но и бывших раньше его. Однако благодать Божия звала его к высшим подвигам, сильно побуждая ступить на состязание в Олимпийских[130] своего рода играх, так как он был хорошо умащен и приготовлен к этому, как требовалось от борцов. И смотри, как и это дивно устраивается
Устраивающим противное противным, чтобы это явилось еще более дивным! Скипетром римского царства владел тогда не кто иной, как Андроник[131], именно второй из Палеологов. В это время итальянцы[132], по злой судьбе устремившиеся из Сицилии к союзу с римлянами, нарушили договор и сперва, как вихрь, безжалостно опустошают Фракию[133], одни села и города еще до своего нашествия лишив жителей, разбежавшихся от одного страха пред ними, а другие сделав опустошенною степью и городами кровей (см. Поил. 2:3; 3:19) или, лучше, кладбищами вместо городов и никому ни в чем не оказав никакой милости, но просто-напросто всякий возраст и пол предав мечу, не щадя даже несчастных младенцев, но и их предавая напрасной смерти и горько истребляя огнем и мечом. После этого, соединившись с древними и нынешними губителями вселенной, разумею достойных всевозможных поношений Ахеменидов[134], и вследствие этого сделавшись еще более дерзкими и неистовыми, они вскоре начали делать набеги и на македонян, имея в виду и Фессалию. Тогда державный[135], как и следовало, боясь за все, а особенно имея в уме дивный
Афон и решив во что бы то ни стало спасти сонм тех святых, ибо таким образом он думал и царство спасти, и не лишиться тех полезнейших ожиданий[136], так как не войском и оружием он думал защищаться, но решил, как говорится, предпринять новое плавание. И вот стали получаться собственноручные письма его к ним, чтобы обитающие поодиночке или по двое (живущие) повсюду на Горе по любви к безмолвию – разумею самые малоукрепленные из монастырей или вообще легко имеющие быть взятыми врагами по причине худых стен и небольшого количества обитателей – переселились в более сильные крепости, а желающие как можно скорее перешли бы для безопасности в ближайшие города, укрывшись на мгновение, по словам великого Исаии, доколе не пройдет гнев Господень (Ис. 26:20). Когда узнало об этом великое и боголюбезное то братство (φατρία,), то одни порешили до конца сохранять первоначальную решимость, считая как бы изменою отступать от этого и говоря вместе с пророком: куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? (Пс. 138:7), почему и не было никого из них, кто бы пытался оставить священное общежитие (συνοικία,) или аскетическую каливу, предпочитая на месте умереть скорее, чем опасаться бегством. Другие же, повинуясь закону, повелевающему бегать во время гонения из одного города в другой и подражая великому Павлу, который хотя каждый день умирал и «имел желание разрешиться и быть со Христом», однако то, спустившись в корзине со стены Дамаска (см. 2 Кор. 11:32), тайно спасается от рук князя (этнарха), то апеллирует к римлянам, убегая от кесаря (см. Деян. 28:19, 20), избивавшего народ иудейский, устремились в города и острова с находящимися в них удобными для уединения горами. Однако сетование и печаль овладели всем священным тем собранием, и оно было полно смущения, будучи не в состоянии переносить разлуки.
14
Тогда и руководитель дивного Саввы был в числе избравших бегство и, выбрав для поселения вместе с некоторыми из подвижников Фессалонику, селится вместе с ними при одном из тамошних храмов, посвященном Божией Матери, ибо он так был изнурен глубокою старостью и такое имел болезненное и ослабевшее от чрезмерного злострадания тело, что ему решительно не по силам уже было состязаться с другими в продолжительных странствованиях по диким и холодным горам. Савва же славный остается там (на Афоне) с имуществом как будто для того, чтобы распорядиться домом, а потом, взяв книги, прийти к отцу, что было по Божественному устроению, как потом будет видно. В это время его стали обуревать противоположные помыслы и он находился в сильном недоумении, ибо когда ему приходила на мысль духовная любовь и приказания отца, тогда лучшим представлялось удаление (с Афона), и он только к одному этому склонялся, когда же, с другой стороны, он принимал во внимание отечество, кружок знакомых и друзей, благорасположение сродников, а прежде всего любовь отца, не только не иссякнувшую от времени, но еще усилившуюся, отвращался этого и всею душой склонялся к бегству (оттуда), ведущему к душевному благополучию. Ибо какое слово может изъяснить страдания родителей мудрого и ту трагедию, какая произошла у них по его вине благодаря любви к нему! Ибо когда он тайно замышлял еще уйти, как я говорил, от отцовской любви и связанных с нею неразрешимых уз, никого не имея общником этой тайны и никому вообще не подав повода ощутить свое удаление, то и путь совершился согласно его намерению, и ничто, при помощи Божией, не воспрепятствовало решению его, осияваемого светом свыше и неожиданно удачно окончившего свое путешествие. Для родителей же его все было полно мрака и отчаяния, и они не прекращали плача, ибо отказывалась от утешения душа их (ср. Пс. 76:3), сказал бы великий Давид, не потому, что они не имели соскорбящих, но скорее потому, что слишком много было сострадавших им и помогавших оплакивать дивного сына, ибо общее было тогда горе у фессалоникийцев, почему и общей радости и веселия они лишились благодаря его потере. И вот они стали исследовать священные храмы, училища (μουσεία) и монастыри, убежища аскетов и жилища мудрых мужей и всех, на кого он был похож своей жизнью. Но так как он нигде не отыскивался, то отец его вспомнил и о славном Афоне, и о горячей любви его к нему. Поэтому, потеряв всякую надежду на возвращение его, он прекратил розыски и расспросы о нем.
Тоски же о нем и крепкой любви к нему ни он, ни любезнейшая мать его не могли унять, более того, они еще усилились, как я только что сказал, и нисколько не исчезли от времени, тем более что слухи шли о том, что их сын и Богу угоден, и в добродетелях преуспевает и вследствие этого быстро идет к славе. Это не утаилось и от дивного Саввы. Поэтому он был полон раздумья и недоумения, как я сказал, и призывал Единого находящего выход в затруднительных обстоятельствах Господа и от Него просил помощи, чтобы ему окончить путь к Нему, сохранить первоначальную твердость и не отпасть из-за отеческой заповеди от заповеди Господней, охладев в первоначальном завете с Ним и в горячей любви к Нему. И скорый Помощник просящих у Него блага и Творящий волю боящихся Его (Пс. 144:19) – так как Он видел тайны сердца его и то, как он окончит (свое дело), если только ему удастся освободиться от всего, – тотчас подает легко и удобно разрешение недоумения без малейшего препятствия, так как стали идти слухи отовсюду, что негодные ахемениды уже приближаются. Ибо, одним духом прибыв в Македонию и овладев, как говорится, добычей[137]мисийцев, они стали неистовствовать[138] уже и около Фессалоники, одних безжалостно умерщвляя, а других порабощая. Эти слухи, для всех других горестные и тяжелые, для славного Саввы, напротив, были благоприятны и сразу разрешили его недоумения, так как вследствие преграждения дороги в Фессалонику, лучше же сказать, благодаря отсутствию всякого выхода он совершенно освобождался, по силе необходимости, от повеления, данного ему отцом, и становился свободным от препятствия, прославляя премудро Приготовившего чрез этих губителей спасительное, так сказать, лекарство.
15
Что касается последующего, то слово (мое) не решается приступить к нему, будучи в значительной мере слабее его.
Что я говорю (слабее)! Более того, Имеющее быть сказанным или, собственно говоря, само (событие) настолько превосходит всякое слово, насколько то, что будет сказано, ниже того, что было уже сообщено. Если же это ясно для всех и никто этому не противоречит, то, быть может, нам не следует и рассказывать об этом? Однако стремление к (продолжению) начатого рассказа побуждает нас потрудиться сверх силы. И хотя я решился было предпринять двойной труд и обо всех последующих его делах рассказать, и рассказать как следует, тем не менее мне нисколько не было бы стыдно, если бы я не успел в этом, хотя я и добровольно с самого начала решился на то, что (мне) не по силам, и взялся за эту работу, как будто не зная себя и величия дела. Теперь же, когда я имею в намерении только одно, а именно просто рассказать о том, что нам известно о великом, если случится, что за этим и другое[139] последует, то это будет как бы подарком за рассказ и (следствием) предстательства того, о ком будем рассказывать. Если же и не случится чего-нибудь такого – что потерпеть необходимо, – то это и не важно, я утверждаю только то, о чем и только что сказал выше, (именно) что говорю о бывшем с ним, сколько есть у меня силы, лучше сказать, только о том из этого, что стало известно людям, ибо рассказать обо всем невозможно.
16
Итак, освободившись, как я сказал, от необходимости возвращения в отечество и ожидавшихся вследствие этого затруднений и как бы сделавшись полным хозяином над собою, живя, то есть, только для себя и для Бога, ради Которого он сделался мертвым для всего другого, книги и все свое занятие, которому прилежал, согласно отеческим приказаниям, он оставляет где-то там, возле великой Ватопедской[140]лавры, ибо и дивный тот старец был собственно из числа честных ее подвижников, и оба они зависели от нее (ὑπ᾽ ἐκείνην τελοῦντες ἦσαν), хотя любовь к жизни уединенной и стремление к большим подвижническим трудам и побудили их удалиться от общего собрания и общей жизни, имеющей и нечто как бы расслабляющее и нежащее чувства. Сам же всецело прибегает к Богу и горячо просит помощи свыше и указания, что делать. Итак, предавшись прилежнейшей молитве и напомнив со слезами Отцу сирот об отеческом сострадании и милосердии, а также призвав в помощь молитвы отца и как бы на него пристально взирая и вследствие этого и теперь, как раньше, уповая на отеческую помощь, он почувствовал некоторую изнутри идущую радость и Божественное просвещение и как будто кто-то глубоко и тонко из его сердца воззвал: «Если хочешь купить многоценную жемчужину (Мф. 13:46), то повелеваю тебе идти в Иерусалим». И тотчас, повинуясь Повелевшему, – ибо он не сомневался в том, Кто это был, – и положившись на пучину благости и неизреченного милосердия Его, вступает в пучину морскую и сперва минует соседний Лемнос, потом видит Лесбос, а за ним и Хиос. Но так как он имел в виду и Азию – ибо влекла его туда сильная любовь к Наперснику[141], – вступает в прославленный им древле Ефес[142], немного пробыв в нем, как и в других городах, с приличной любителю уединения мудростью и осмотрев остатки древнего благоденствия, какие находились как около священного храма возлюбленного, так и в самом городе и его окрестностях, доставляя взиравшим на них повод к удивлению.
17
После же того, минув Патмос и некоторые возле него лежащие острова, он пристает к Кипру[143] и, выйдя из корабля на остров, тотчас разлучается со своими спутниками, так как имел предпринять новое и высшее природы человеческой дело, как сейчас явит слово. Воздвигнув к Богу руки и душу, никогда не расстававшуюся с Ним, но уязвленную крайней любовью к Нему и как бы бывшую вне себя, он воссылает сначала с великим умилением и слезами молитву, соответствующую предлежащей цели и делам. Потом, совлекшись всех одежд телесных, даже до покрывавшего тело хитона (хотя он еще раньше отложил ветхого человека (Еф. 4:22) и не имел в себе ничего из земной и мертвой материи, но был почти каким-то бесплотным и невещественным еще прежде разрешения), так является на остров (страшное воистину чудо, изумляющее всякую душу, видящую и слышащую о нем!), произнося (теперь) с гораздо большим основанием и смелостью (чем раньше) известные слова Иова: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Да будет имя Господне благословенно! (Иов. 1:21). И вот начинает он обходить находящиеся там города и села с непокрытой головой, босой и совершенно обнаженный, для всех чужой, лишенный крова, никому совершенно не известный и незнакомый, не имеющий не только отечества или друзей или каких-нибудь связей с кем бы то ни было, хотя и это в высшей степени тяжело, но даже необходимой для поддержания жизни пищи и вообще чего-нибудь такого, в чем нуждаются люди. Ибо кому и когда приходило на мысль предложить пищу человеку – хотя бы ты указал на самого даже человеколюбивейшего из всех, – не просящему у него ни словом, ни знаком, и если некому за него попросить, а сам он при этом и определенного места жительства не имеет, но то в пустынях и горах и пещерах и убежищах зверей долгое время наедине упражняется в созерцании Бога, то опять в тех или других городах или селах или округах и общественных собраниях на празднествах или базарах является, так что большинству людей иногда кажется, будто он каждый день с места на место переходит, а на самом деле вообще удаляется от людей, не только мыслью и душою от них далеко отстоя, но и тем, что, скитаясь, как я сказал, там и сям, при совершенной своей молчаливости, он и по наружному виду никому не известен, как такой, которого только в первый раз видят?
Итак, как, спрашиваю я, можно получить необходимое для жизни такому человеку, так от всех и во всем удаляющемуся? Ибо все люди, как мы видим, склоняющиеся к состраданию двумя способами: или по личной просьбе просителя подавая по заповеди, ибо просящему у тебя, говорит, дай (Мф. 5:42), или по просьбе другого при невозможности личной просьбы по причине случившейся болезни, или стыда, или величия бедствия, что хотя кажется равносильным первому, если рассматривать это по отношению к заповеди, однако имеет все-таки и нечто более возвышенное, если, то есть, не будет налицо самого страдальца, который бы мог вызвать душевное сострадание словом или видом у всякого чувствительного душою (человека). Дать же без всякой просьбы со стороны просителя – это уже выше заповеди и вследствие этого велико и многоценно. Ты можешь заметить, что и не в обычае, и неизвестно, чтобы кто-нибудь скрывал (свою) нужду, а я добавлю, что в таком случае нужда может ускользнуть от самых прилежных в человеколюбии, разве укажешь на Авраама, великого в патриархах, или Иова, его потомка, из которых первый, сидя на перекрестке, не пропускал никого из проходящих, а у славного Иова пути текли маслом, как он сам говорит, а горы молоком (ср. Иов. 29:6) и двери были открыты для всякого желающего (см. Иов. 31:32), который мог взять все, в чем нуждался. Но так как таких теперь нет, ибо нечасто природа и время производят такие чудеса в нашей жизни, то неимущему без личной или посторонней просьбы необходимо погибнуть от голода, если не протянет невидимо руки Бог, отверзающий ее и исполняющий всякое животное благоволение, дающий пищу скоту и птенцам крановым, призывающим Его (см. Пс. 144:16; 146:9). Он помогал и воину Христову, упражнявшемуся, как я сказал, в молчании, прикидывавшемуся дурачком и удалявшемуся от всякого человека и от всякой вещи, и он удовлетворял потребность природы иногда само собою выросшими из земли травами, когда, удаляясь людей, проводил время наедине в пустынях, – да и то воздержно, через три почти, а иногда через четыре только дня приступая к этой трапезе, – а иногда какими-нибудь остатками, которые ему бросали, по Промыслу Господню, люди, когда он входил с ними в соприкосновение, обходя города и села с предположенною заранее целью и трезвением (νήφεως).
Иногда и всю седмицу он проводил без пищи, являя себя мертвым и вообще чуждым для мира и пищей, и ложем, и жилищем, и образом жизни, и правом, и видом. Да, чрезвычайны были подвиги этого великого (человека) и выше всякого слова и сравнения, и даже не могут прийти на мысль человеку, – больше того, рассматривая (жизнь) необычайных и богоподобных мужей, Илии, например, Фесвитянина и Иоанна Крестителя, а также поревновавших их подвигам после благодати, для которых они должны были служить примерами и образцами жизни, я нахожу, что он трудами (своими) в значительной степени превзошел их. Ибо хотя одни из них и были подобны ему по пустынножительству и худому питанию, однако в других родах подвигов, разнообразных и великих, все-таки оказываются уступающими ему, другие же, будучи равны ему в этом, уступают в другом, славно побежденные или силою подвига, или продолжительностью времени, или вообще высотою нового его предприятия. Ибо где он хотя бы на малое время отдыхал от трудов крайнего своего изнурения, без еды и одежды, не имея ни хижины, ни какого-нибудь ложа и не повергаясь ни под деревом каким-нибудь, ни под растением или у дверей каких-нибудь домов или на площадях, как сообщается в рассказах и книгах о великих тех подвижниках! Каким образом нагое человеческое тело преестественно выносило стремительность дождей и зимние вьюги, а также пронизывающих бурных ветров, покрытое такой тонкой и нежной кожей, проводящей вследствие этого до самого мозга костей весьма остро ощущение страдания! Каким образом, говорю, он выносил внешнее изнурение и умерщвление плоти, жил и самых членов, а внутри напор крови и страдание от внутреннего природного жара, эти (одно другому) противоположные, говорю, мучения, производящие невыносимое страдание, служащее печальным вестником самой горькой смерти! Когда я при этом подумаю о солнечной жаре летом, нисколько не слабее огня (поядающей) в тех странах, как можно слышать от испытавших, все встречающееся, усматриваю в делах его нечто в высшей степени странное и чуждое и мысли, и природе человеческой. При этом да будет для нас удивительным больше всего то, что он, унаследовав одинаковую с нами природу и ничем вследствие этого от других не отличаясь, подражал с плотью преестественно бесплотным, становясь, по выражению великого Павла, зрелищем миру и Ангелам и людям (см. 1 Кор. 4:9), более того, удивлением и предметом некоторой неизреченной радости для самых Ангелов, видевших (в лице его) нового человека (см. Еф. 4:24), созданного по Богу, а также дивное изменение десницы Всевышнего (см. Пс. 76:11), которое Сам Единородный Сын Божий, воплотившись, произвел в Себе выше всякого слова.
По отношению же к общей природе людей, именно тех, которые не смежили добровольно глаз пред светом Боговедения, он был общей славой, пресветлым венцом похвалы и разрешением древнего стыда, а также острейшим жалом стремления и любви к Богу, весьма многих горячо побуждавшим и возбуждавшим к этому, хотя и очень немногие следовали ему и при всем том легко и часто отпадали. Что же касается производителя злобы и всего его темного воинства, то для них он являлся предметом невыносимого страха и изумления, так как они видели в нем соблазненного ими раньше человека, ставшего через обман пленником и бесславным, облеченным такою славою, что он не только над ними и противоестественными страстями имел силу, чтобы наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью (Лк. 10:19), но и самою природою своей так владел выше природы, что не желал подчиняться ей даже в необходимом, будто какой-нибудь царь или бог[144], одаренный силою Господа, облекшего его и допустившего к участию в славе и обожении. Поэтому и велика была ярость против него разбойника, и сильную он поднял против него бурю вешних искушений, хотя и знал, что напрасно, как говорится[145], газель решается бороться со львом, и сам на себя набрасывая сеть, но, однако, считая оскорбительным для себя казаться ничтожным, в то время как раньше он пользовался постоянным почетом. Но да возвратится опять (наше) слово к цели.
18
Итак, сняв, как я сказал, последний хитон, славный обходил все города и села киприотов, некоторым худейшим рубищем закрывая нуждающиеся в прикрытии члены тела, прикидываясь как бы дурачком, полный как никто истинной мудрости и говоря в чувстве сердца вместе с великим Павлом: мы безумны для Христа, а также до нынешнего часа и алчем, и жаждем, и наготуем (ср. 1 Кор. 4:10–12), и скитаемся, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне. Однако доныне не все считали его просто каким-нибудь дураком или помешанным, но хотя одни и полагали, что это так и на самом деле, обращая внимание только на одну внешность и как бы спотыкаясь о какую-нибудь скалу или камень соблазна (Рим. 9:33), однако другим, способным понимать и познавать из видимого то, что не видно, ясно было, что он имеет здравый разум, но скрывает (по апостолу) в скудельном сосуде (2 Кор. 4:7) духовное то сокровище. Ибо не как попало и необдуманно мудрый прикидывался дураком, подобно некоторым, которые, не знаю каким образом, обманывали себя, не прикидываясь только дураками, но будучи ими и на самом деле по своим словам и делам, и вместо того, чтобы смеяться над демонами и миром, как говорится у отцов, сами подвергали себя насмешкам, ибо, еще не будучи в состоянии подчинить бессловесное души разуму и не предавшись всецело добру, они, как прежде времени выбежавшие за барьер, низверглись легко в страсти, бесстыдно делая и говоря как бы безумные[146]. Не таков великий Савва. Он сперва хорошо уврачевал душевную болезнь воздержанием и смиренномудрием, так что ни одно из чувств ему не препятствовало, и только тогда решился на этот новый бег и борьбу, наложив как бы некоторую узду на уста и таким образом молчанием предостерегая себя от того, чтобы не говорить чего-нибудь неприличного (ибо где было это у него, сделавшего давно душу свою Божиим храмом[147] и постоянно о Божественном размышлявшего и говорившего!) и чтобы как можно лучше скрыть сокровище находившейся (в нем) духовной премудрости и не быть легко узнанным, как дерево от плода, и вследствие этого не лишиться цели благого притворства. Будучи же кроток и приятен видом и взором, задумчив и постоянно погружен в себя, неразвлеченно занимаясь размышлением о высшем, так что, даже часто вращаясь среди толпы, он мог вместе с Давидом говорить: един есмь аз, дондеже прейду (Пс. 140:10), имея и тело хотя изнуренное чрезмерным неядением, но нежное и тонкое, ибо этого он скрыть не мог, – у более разумных он был в подозрении, как я сказал, а вследствие этого и в почете. Но да будет благовременным вспомнить кое о чем из этого (периода его жизни) и показать высоту этого мужа из его дел.
19
Некогда великий в обычном своем виде проходил через один кипрский город.
И вот, когда он шел по главной улице, увидела его одна женщина, выглянув с верхнего этажа (одного дома) и увлекшись не знаю каким помыслом, с удивлением воскликнула: «Какое красивое тело у этого человека!» – ибо это было еще в начале его подвига и оно еще не очернело как следует от непосредственного соприкосновения с воздухом, а также от солнечных лучей и холода, и телесное смешение (ἡ τοῦ σώματος κρᾶσις), по природе огневидное (то πυρώδες), являло весьма белую и блестящую поверхность. Тогда мудрый, обличая и тайную змею чувственного удовольствия и поучая в то же время женщину, чтобы она ничему подобному не удивлялась и не прельщалась красотой тела и видением глаз, вообще же считая весьма важным не подать какого-нибудь повода более простым к соблазну, совершает поступок, воистину одной только его души и усердия достойный. Ибо, осмотревшись сюда и туда и увидев некоторый водоем, полный тины и червей, он подбежал к нему и как был сел в средину этой грязи и гниения. Так он сидел среди безмерного того зловония, как бы в некоторой купальне, или на прекрасном лугу, или в розовом благовонном и нежном саду, до наступления вечера и только тогда вылез оттуда, весь черный от грязи и полный зловония, так что не только более слабым умом его нагота не могла быть соблазном, ибо для чего, говорит великий Павел, моей свободе быть судимой иной совестью (1 Кор. 10:29), но и для благоразумных и более ревностных его поступок послужил к немалой пользе, так как они могли хорошо научиться отсюда, что должно и красоту тела презирать, как ничтожную, и в целомудрии подвизаться, утишая (чувственные) удовольствия сколько возможно более суровым образом жизни. Это тотчас и случилось, так что он и цели достиг, и нисколько не ошибся в своей благой выдумке, ибо одни из видевших были поражены мужеством и дивной решимостью его, не говоря уже об удивлении, вызывавшемся самой личностью его, другие же к сказанному прибавляли и горячие слезы, а прежде всех женщина, бывшая причиной драмы, которая укоряла себя в необдуманности и невоздержании глаз, врачуя грех языка похвальными слезами и словами покаяния и давая себе слово в будущем быть осторожной. Вот превосходный пример благой ревности его, а также того, как он старался, сколько возможно, не только не подавать соблазна, но поступать так, чтобы это было всем на пользу. Должно, однако, вспомнить уже и о брани с ним демонов и показать, что он и там оказался победителем, хотя и сказанное уже было как бы некоторым началом их неистовства против него, уготовавших неуловимой душе его засаду – приятность чувственного удовольствия. Но когда лисья шкура не привела к цели, они, не переставая говорить себе: ложью прикроемся и устроим праведному засаду (см. Ис. 28:15; Прем. 2:12), ибо свет праведным всегда (см. Притч. 13:9) и глаза мудрого в голове его (см. Еккл. 2:14), надевают на себя уже львиную шкуру и явно со всею яростью устремляются на него как бы в отместку за отвергнутое чувственное удовольствие, – каким именно образом, об этом сейчас будет сказано.
20
Один итальянец из весьма гордившихся своим родом и богатством, весьма могущественный в своем отечестве и к природной гордости своего рода и (свою) вдобавок приложивший, случайно встречается среди города с великим, сидя на прекрасной и гордой лошади, окруженный свитой и внешним великолепием, и недоумевая о новом и необычном виде его, а более побуждаемый к тому злобой демона, начинает расспрашивать (о нем) своих спутников. Когда же они сказали, что он им совершенно неизвестен, и высказали подозрение в том, что он, судя по наружному его виду, соглядатай, явившийся из какой-нибудь чужой страны и принявший этот вид притворно для обмана граждан, он приказал его тотчас же схватить и, грозно взирая на него со свойственной ему гордостью, стал спрашивать, кто он и откуда. Он же, не обращая ни малейшего внимания на его слова, словно они вовсе не касались его, и (желая) освободить его от пустой гордости и надменности, не словом, а самим делом ниспровергает его (превозношение). Ибо, протянув тихо трость, которую всегда обычно носил в руке, касается шапки, бывшей у него на голове, и сбрасывает ее на землю, весьма разумно, а в то же время и остроумно научая этим наглеца, что и самая высота и превосходство окружающей его пустой славы и великолепия ничем не отличается от пепла и праха и есть такая же самая земля и пепел и так скоропреходяща и неустойчива, что и трость очень легко и свободно разрушает ее, и притом, несмотря на такую свиту, заботливо охраняющую ее, как бы что-нибудь твердое и постоянное. Но он был очень далек от того, чтобы понять это и по наружным признакам заключить о скрытом благородстве души его, почему поступок его возбудил (в нем) одну только обиду и наглость. Ярость его была беспредельна, и он вообще казался подобным сошедшему с ума по своему неистовству. Так, он приказывает своей свите немилосердно избить его палками, а они скорее, чем слово сказать, растянувши его на земле, столько ему нанесли ударов, сколько ни человек нанести человеку не решится, если не сделается зверем душою, ни природа человеческая вынести не в состоянии, если не будет помощи и содействия свыше.
И вот кости у него сокрушались, куски мяса разлетались в воздухе и земля окрасилась излиянием крови. Сострадание к общей природе нисколько, однако, не тронуло тех звероподобных людей. Атлет, однако, терпел, не испустив ни одного стона, хотя бьющие, напротив того, ослабели и пришли в недоумение. Таким образом, и это великий пример терпения мужа, и нигде не было ничего подобного, хотя я более всего удивляюсь тому, что он, хотя и мог бы избежать опасности, сказав что-нибудь (ибо одного этого вместо защиты скверный тот человек требовал, чтобы не оказаться, как он думал, окончательно униженным), однако не предпочел первому решению[148] и обещанию перед Богом ни жизнь, ни смерть, ни свободу, ни иное что-нибудь, но был подобен Маккавеям в решимости, а лучше сказать, оказался выше (их) в значительной степени. Ибо тем принуждения законов и Божественные установления внушали противодействие, он же не подлежал этим принуждениям, и притом, если бы они послушались тогда царских приказаний, то по всей необходимости погрешили бы против повелений Небесного Царя; он же, не будучи подчинен им[149] и не будучи обязан исполнять их, ни в чем, даже на малое время, не нарушил своего собственного решения.
Спросишь: ради чего? Чтобы одно из двух, или первое для второго, или, наоборот, второе для первого презирая, не обвинять самого себя в непостоянстве или, лучше сказать, в безумии и, сегодня предпочитая то, а завтра другое и приписывая одну и ту же честь (двум) противоположным предметам, не оказаться со всех сторон неверным, легко и со всею готовностью подчиняющимся случайному, а вообще правильно считая предпочтение даже на время приятного высокому и полезному, хотя бы и ввиду опасности, робостью души и как бы изменой высокому и самому, так сказать, Божеству. Поэтому-то он был тверд и неуступчив, как какая-нибудь бездушная статуя безмолвно перенося мучения. Они же (наверное) убили бы его, если бы некоторые из наших, негодуя на ярость зловерных, собравшись один отсюда, другой оттуда и как один исполнившись негодования, не воспрепятствовали этому безбожному убийству и против воли их, много сперва наговоривших глупостей в объяснение того, по какой, собственно, причине они, вопреки всякой справедливости, убивают какого-то странника и скитальца, так сильно изувеченного, что он не мог уже и говорить вследствие того, что благодаря чрезмерности побоев его оставила жизненная сила. Подняв воина Христова, как некоторую бездушную ношу, только одним дыханием (показывавшего), что он не совсем мертв, и принесши домой, они человеколюбиво обмыли кровь и раны его и ухаживали за ним довольно времени, особенно же те, которые были боголюбивы по характеру и чрез это самое старались выказать усердие в добродетели. И Вышний не пренебрег Своим воином, но послал Слово Свое, и исцелил его, и укрепил расслабленные руки и ослабевшие колени, и был врачевством плоти его и попечением костей его.
21
Поэтому, как бы восстав от некоего сна совершенно целым и невредимым душою и телом, он воспел с радостью Богу: на пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве (Пс. 118:14), ибо если пойду и долиною смертной сени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Господи! (Пс. 22:4). Говоря это, он опять возвратился к прежнему пути и образу жизни, то удаляясь в пустыни и соединяясь наедине с Богом, с Которым он всегда был, нисколько от Него не отступая, то обходя села и города острова, как я сказал, и притворяясь дураком, а втайне имея великий разум и мудрость. Ибо он никому и никогда не причинил ничего обидного или бесчинного, и даже никакого вида вреда, как это в обычае у некоторых, но был всецело полон благочиния и мира, относясь ко всем с дружеским молчанием и бросающимися в глаза умом и любезностью. Но не могла выносить этого зависть, не мог быть спокойным «человекоубийца из начала» и не прекратил борьбы. Итак, потерпев неудачу в первой попытке, он опять принимается за то же с гораздо большим искусством и хитростью, ибо не одного сообщника своего возбуждает, как дерзкого прежде итальянца, но со всех сторон расставляет ему сети искушений. И вот, овладев неразумной толпой, всегда на это готовой и склонной, как искони всегда непостоянной и безрассудной, он возбудил против него большую бурю и волнение, так что не было, так сказать, никого из толпы, ни мужчины ни женщины, ни дитяти ни юноши, кто бы не отнесся к нему с большим или меньшим бесстыдством и бранью, бросая в него камни и пылью и навозом посыпая, увы, самим Ангелам любезную главу, а также понося его такими и еще худшими словами: «бездельник», «прельщенный», «дурак», «поврежденный умом», «мерзкий пьяница», «общая всего города зараза», «бейте его», «побейте камнями», «изгоните из наших пределов как можно скорее в горы, пустыни и пропасти!» Но мудрый во всем был мудр и ни в чем нигде не погрешил (против своего долга), ибо, благоразумно приписывая причину искушений побуждающему ко злу, а не простым орудиям (его), он весь гнев души (своей) направлял против одного его, стрелами молитвы, как бы какой-нибудь молнией, поражая коварного дракона, а к людям относился весьма благосклонно, побеждая апостольски зло добром и не только не побеждаемый им, но даже отечески сожалея о неразумии и глупости их, с состраданием христоподражательно произнося шепотом достославные слова: «Господи, не поставь им греха сего, ибо не знают, что делают!» (ср. Лк. 23:34).
Ибо кто видел когда-нибудь что-либо более сострадательное, чем эта блаженная душа, а лучше (сказать), что было равным ей, как я сам узнал притом по опыту, так что смело могу сказать, что если бы было возможно, чтобы душа, облекшись, как бы в какое-нибудь тело, в сострадание, сколько бы его ни было (на свете), потом явилась людям, – и это она имела бы от природы, – все-таки нельзя думать, что она была бы выше в этом отношении, чем этот муж, и нельзя указать никого, кому бы он уступал в этом. Так сильно отличался ты в этом от других, человек Божий, и был чем-то Божественным и единственным среди людей как по чистоте души, так и по пренебрежению вещественным!
22
Так славно побежденный с левой стороны враг тотчас нападает с правой, выбрав, по своему обычаю, удобное, как ему думалось, время, чтобы показаться и полезное нечто говорящим, и быть сочтенным за благого советника, будучи (на самом деле) лукавнейшим и коварным. Поэтому, оставив все внешнее, сам поднимает на него брань через помыслы, говоря: «Для чего ты так изнуряешь себя без всякой пользы и каждый день стремишься причинять своему союзнику, телу, тягостные виды смертей, не имея притом никакой на этот счет заповеди, а душу усиливаешься увлечь в пропасть превозношения, принуждая ее к тому, что выше ее силы[150], и, отвергая обычный и излюбленный путь отцов, пролагаешь себе какой-то странный и необычный, по которому шли едва один или два (как мы находим), и прибыли в хорошую пристань? Разве ты не знаешь козней демонов и того, как много они ниспровергли неумеренных (ревнителей подвижничества), ввергнув их в яму под предлогом стремления к высшему? Ибо разнообразны способы брани у общего нашего врага, и кого он не сможет победить своими хитрыми выдумками с левой стороны, тех покоряет себе, обольстив, с правой с большей еще легкостью. Итак, если ты веришь мне, то оставь эти бесполезные опасности и как можно скорее иди к своему руководителю и опять примись за прежнее послушание. Укрепляемый молитвами отца, ты со всякой благопристойностью и законностью безопасно обрящешь Бога, и нисколько не воспрепятствует тебе в этом родина, как давно уже ее оставившему и только на Бога и учителя умом взирающему». Говоря о презрении отечества, коварный старался заронить в него этим самым незаметно желание видеть друзей и слышать приятную беседу знакомых. Так остро и, так сказать, мимоходом он подбрасывал это и скрывал, перемешивая с другими помыслами, что казалось, что (происшедшее) отсюда движение желания не физического свойства, а тем более не произведение памяти, благодаря внушению врага, но некое духовное чувство, побуждающее к любезному послушанию, а также нежная любовь к почтенному тому Аврааму и подобающая заботливость по отношению к нему, весьма угодная любящему это Богу.
Лукавый злоумышленник, скорее, а не советник кого-нибудь другого из легкомысленных и не знающих всего его коварства, может быть, и увлек бы этим способом, но он, тотчас же ощутив скрытую приманку и сравнив с медом вместе с великим Давидом (1 Цар. 17:43), с приличной ему рассудительностью отвечал лукавому: «Что мне и тебе, – говорит, – грязный пес! Зачем ты, представляя мне отца и наставника, как бы некоего Патрокла[151], располагаешь возвратиться на родину, оказаться лжецом в чудном завете с Господом и явиться преступником Божественных законов, опять созидая, как бы раздумав, то, что давно славно со всей охотой оставил! Зачем ты говоришь мне о спасении, хотя на самом деле стараешься лишить меня его, выставляя мне на вид новизну моего пути, обычный путь отцов и тому подобное! Кто без трудов, и притом самых усиленных, совершил что-нибудь доброе? Кто, сея и нежась, одержал над тобой победу или кого из шедших путем, ведущим к Богу, ты оставил без искушения? Что касается меня, то, как сам ты свидетельствуешь, я давно уже совершенно презрел и отечество, и родных, и все такое, и не может быть даже речи об этом, так как я решил умереть для мира и жить сокровенной жизнью во Христе (см. Кол. 3:3), Которым для меня мир распят, говоря словами великого Павла, и я для мира (Гал. 6:14). Твердо знай, чтобы не ошибиться в будущем, напрасно воображая то, чего быть не может, и будь уверен, что мои клятвы и обеты Богу, если необходимо об этом говорить, как бы опять сегодня снова возобновляются. Даю слово никогда больше не видеть земного отечества до конечного предела здешней жизни, хотя бы ты все привел в движение, хотя бы небо смешал с землею, хотя бы употребил все выдумки с правой и левой стороны, как у тебя в обычае! Итак, что касается отечества и родных, оставь, говорю, без всяких околичностей, нет тебе в сем части, ни жребия (Деян. 8:21); как говорится, я же, положившись на Держащего все словом силы Своей (Евр. 1:3), потеку путем, который я избрал, и что обещал, как говорит пророк (см. Иона. 2:10), исполню во спасение мое Господу, нисколько не бесчестя первоначальный путь мудрых, как ты худо сказал, но со всех сил следуя ему и (всем) прошедшим по нему незаблужденно. Но так как в Царствии Небесном много обителей, то и путь благочестия (Господь) счел нужным рассечь на различные дороги, туда ведущие, так что один этой, другой той, один многими, другой всеми, если возможно, входит, смотря по тому, сколько кто имеет, думаю, решительности и усердия, в чести и бесчестии, говоря словами великого Павла, при порицаниях и похвалах, как обманщики, но мы верны, стремясь к цели, к почести высшего звания (2 Кор. 6:8; Флп. 3:14), не на людей полагаясь, но на Бога (ибо первые налицо, по сказанному, а Он на сердце смотрит), Который и обличит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения в день посещения и откровения и суда, когда воздаст каждому по делам его (см. 1 Кор. 4:5; 1 Пет. 2:12). Он и теперь сокрушит тебя вскоре под ноги наши (ср. Рим. 16:20) и поразит, устраняя всякую неровность[152] и направляя к Себе наши стопы, дав нам власть наступать на змей и скорпионов и всю твою нечистую силу (см. Лк. 10:19)».
Сказав это к скрытому врагу и, как некоторый превосходный борец, который, свергнув с высоты противника, показывает потом и знак победы, он и делом доказывает сказанное, бросившись со всех ног бежать и тихо шепча: мы безумны Христа ради (1 Кор. 4:10), а также: кто отлучит нас от любви Христовой? Скорбь, или теснота, или голод, или гонение, или меч? (Рим. 8:35), особенно же апостольские слова: я уверен во Христе Иисусе, Господь моем, что ни Ангелы, ни Архангелы, ни Престолы, ни Власти, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить меня от любви Божией во Христе Господе моем (ср. Рим. 8:38, 39). Говоря это и терпя всей душой, славный казался демонам как бы исступленным и всецело объятым огнем Христовой любви, почему еще более был страшен и недоступен для них. Поэтому они раз и навсегда отказались от своих козней по отношению к нему через помыслы, решив, что имеют дело с человеком совершенным, которого нельзя поколебать детскими пугалами.
Итак, неоднократно испытав святого, ужели они совсем прекратили борьбу с ним? Возможно ли, чтобы злой в одном случае был зол, а в другом нет? Поэтому он опять, как бы после некоторого раздумья, возвращается к прежнему, постоянно делая круг и нисколько не переставая вредит, несмотря на то что нападениями своими стал делаться уже даже смешным.
23
Какие же были дальнейшие их искушения? Укрываясь[153] на острове с любезным своим молчанием и скромностью, великий наталкивается на соборище итальянцев, не только по имени и языку, но и по самому образу мыслей о Боге представлявших собою вид настоящей монастырской общины и проводивших как бы монашеский образ жизни. Итак, входит этот светильник рассуждения в соборище тех лицемеров, желая вблизи видеть, какую жизнь проводят живущие там, как после он сам рассказывал. И вот, так как он застал их за трапезой – ибо было время завтрака, – он входит тихонько в дом, где находилась трапеза, и, обойдя вокруг нее с приличным ему благоговением и видом, устремляется к выходу. Игравшие же там, как бы на сцене, роль монахов, задержав его силою, и не подумали даже сделать его, бедного и странника, хотя бы в незначительной мере общником трапезы и пищи, не склонившись к сострадательности даже тем, что сами в это время наслаждались трапезой, что, как он знал, даже от природы крайне суровых и зверски жестоких делает расположенными к милосердию, так что сила, движущая волю, направляется к удовлетворению нуждающегося пищей. Они не дали даже покрова или какого-нибудь вретища скитальцу и наготствующему ради Христа! Придравшись же к крайнему его молчанию и совершенной неразговорчивости, они оклеветали его в краже и лености и так в высшей степени бесчеловечно избили, что превзошли в этом даже раньше выказавшего такую же ярость единоплеменного им итальянца, истерзав члены и плоть поверженного на землю подвижника, так что даже земля обагрилась потоками его крови. Ибо они не остановились, один или два раза ударивши его, но едва лишь после того, как все по очереди переменились. А так как и раньше тело этой адамантовой души было иссушено и едва дышало от крайнего неядения, а теперь казалось уже мертвым, то кровожадные по существу и нечистые те псы безжалостно бросили его у дверей, как какую-нибудь нечистую падаль. Так лежал на земле подвижник – нагой, при последнем издыхании, и только по течению крови из его ран можно было заключить, что он еще не умер. Некому было ни посетить его, ни покрыть наготу его, ни хоть сколько-нибудь уврачевать раны его. О новое и странное чудо! О славная и терпеливейшая душа, каждый день подвизавшаяся за любовь Христову и мужественнейше боровшаяся с разнообразными смертями! И пусть никто не порицает меня за эти слова, ибо что я должен был сказать, говоря о таких опасностях, а также и о том, что он рад был смерти, хотя никто не требовал от него этого насильственно и не вынуждал к отречению от веры? «Выше его, – говорят, – мы знаем апостолов и мучеников, доблестно подвизавшихся и до крови мужественно противившихся греху раздражительною[154] силою души (τό ϑυμούμενον τής ψηχής) и таким образом явившихся, сколько это возможно, славными подражателями Креста Господня и Его смерти». Но, во-первых, я считаю нужным напомнить недоумевающим об этом о том, о чем уже не раз раньше говорилось, именно что он, будучи как бы вне себя и совершенно изменившись вследствие чрезвычайной ко Христу любви, не думал уже, что живет для себя, но для возлюбившего его, как говорит великий Павел, и предавшего Себя за него (Гал. 2:20). Дыша же (при этом) мученической и апостольской ревностью и нисколько не уступая (им) в этом правом и усердием, он и сам жаждал предать душу свою Давшему ее через кровь и мучение, как сам потом тайно сообщил мне. Ибо когда я сильно удивлялся дивной любви его к мученикам, он, сжав (ύποκοιλάσας) свою десницу, с некоторой неизреченной радостью сказал: «Поверь мне, дорогой мой, что если бы душа моя была связана с телом вот таким количеством крови, я чувствую неизреченное желание и ее отдать мученически из любви к общему (нашему) Господу. Поэтому, имея давно стремление к этому, – чего мне только и недостает, – я питаю, как видишь, восторженную любовь к Его мученикам». Так вот, и раньше он жаждал, как я сказал, мученической и Господней чаши и всецело стремился к тому, чтобы за Христа, говорю, и в угоду Христу разрешиться и с Ним всегда быть. Но хотя и не представлялось удобного случая к осуществлению его намерения, он все-таки, сколько это от него зависело, не оставлял своего намерения – не насильственною смертью безрассудно умереть, как кто-нибудь мог бы подумать, но всяким образом борясь с постоянным тираном, тайно и явно нападавшим на него всевозможными кознями, с началами и властями и духами злобы поднебесными (ср. Еф. 6:12), почему и возбудил злейшую зависть у невидимых этих врагов и ежедневно возжигал (у них) сильнейшее желание убить его, являясь, таким образом, совершеннейшим общником страстей Господних. Однако к сказанному необходимо присоединить и это, чтобы кто-нибудь обратив внимание на одно внешнее его поведение и приняв это как бы за образец высокой жизни, не просмотрел сокровенной его мудрости и чрезвычайно высокой (внутренней) добродетели.
24
Мы уже и раньше говорили, что великий не просто и без приготовления решился предпринять это дело, но принял на себя юродство, сначала хорошо обучив всякий член и всякое чувство, чтобы не дать возобладать худшему над лучшим, и вышел, таким образом, с должной предосторожностью для осмеяния изобретателя злобы, имея главным и важнейшим побуждением (πρόφασις), как часто говорилось в рассказе, дивную и неизреченную любовь ко Христу и чрезвычайную жажду сладкой за Него смерти. Кроме того, он имел в намерении, как сам потом разъяснил нам, пройти через все роды жизни, ничего из этого не оставив, сколько это от него зависело, неизведанным и неиспытанным. Поэтому-то и совершилось все по его намерению, как дальше явит мое слово. Особенно при этом он предпочитал всему молчание, говоря, что юродство не имеет никакого значения, хотя бы кто дошел до верха добродетели, без этой предосторожности (ἀσϕαλείας ἐξ ἀυτῆς), но есть без этого сеть и явная глупость, иногда оканчивающаяся для предпринявшего это осмеянием, согласно словам древних отцов, которые говорят, что «требуется большое трезвение (νήψεως) ревнующим проходить этот путь, чтобы, решившись осмеять врагов, самим потом не сделаться посмешищем для них». «Избравшему путь трезвения, – говорил опять мудрый, – никогда не следует оставлять молчания. Итак, если мне удалось, – говорит, – что-нибудь хорошее сделать в течение того длинного периода времени, конечно, по изволению Божию, то все это было делом славного молчания. Поэтому я не оставлял его, полагаю, лет двадцать и больше, пока опять не возвратился на любезнейший Афон, отечество монахов, ибо только он разрешил узы моего языка, как я раньше обещал Богу, прекратив долгие странствования наши и труды». Так сказали нам славные уста, устраняя преткновения на пути, ведущем к Богу, и показывая во всяком роде жизни, по обычаю, самый гладкий и царский (путь). Поэтому и мы решились коснуться этого подробно, не для того, чтобы защитить славу этого мужа, – что было бы невозможно, – прославляемого сверхъестественно свыше, как сейчас будет видно, и вследствие этого нисколько не требующего славы от людей, хотя бы она вся собралась вместе, но для того, чтобы помешать кому бы то ни было считать образцом высокой жизни это наружное и притворное юродство, не зная о сокровенной мудрости его. Однако мне должно возвратиться опять к (прерванному рассказу).
25
Итак, лежал человек Божий израненный, как я сказал, весь залитый кровью и до такой степени измученный, когда, так сказать, и самое ощущение боли отнимается, и был почти мертв, будучи не в состоянии даже дышать, лишенный (притом) всякой помощи и попечения. Но Всевышний не оставил Своего подвижника. Он и при молчании его услышал его и прежде обращения его к Нему с мольбой сказал: «Я с тобою!» – так, конечно, величественно и богоприлично, что, с одной стороны, приходится больше удивляться чудесности помощи, а с другой – быстроте чуда или, лучше, и тому и другому. Каким же образом? Свет, пролившись в изобилии с неба (о, какой неизреченный и дивный, по его словам, был блеск и сладость его!), сначала неизреченно осиял и усладил самое главное – ум его, а потом и все телесные чувства и члены и сделал совершенно здоровым, так что даже не осталось, так сказать, и следа какой-нибудь раны. Исполнив его при этом гораздо большей, чем раньше, и как бы юношеской силы, он как бы воскресил его из мертвых и сделал настолько более дивным и сильным, что благодаря сверхъестественному тому осиянию он начал уже ощущать задаток будущего наследия и благодати. Поэтому с этого времени Бог, все к полезнейшему пременяющий и одним хотением все творящий и претворяющий (Ам. 5:8), прекращает беды искушений и человеческой той бури, а лучше сказать, движущей ее бесовской злобы и превращает в совершенную тишину, полагая этим как бы начало для последующего. Ибо (Божественным) дарованиям предшествуют, говорят умудренные в этом, труды, а за искушениями – скажем вместе с ними – следуют духовные утешения. Так было и с подвижником – (далее последовала) слава со всеми ее последствиями. Ибо он опять выходит с прежней решительностью, держась обычного пути, а воинство (πλήθος) лукавого, совершенно отступившего от него, сразу переменившись, уже не дерзко и бесстыдно, как раньше, стало приближаться к нему, но с подобающим страхом и благоговением, как будто только теперь открылись у них глаза после прежней слепоты.
И вот подходит к нему один благоговейный и сострадательный человек, трогательно и со слезами умоляя его хоть немного отдохнуть от долгих хождений и скитаний, а также набросить какой случится покров на тело, совсем уже изнемогшее от чрезмерных трудов и долгого озлобления. Говоря это, он приглашает его, как древле соманитянка (1 Цар. 4:8-35) Елисея, в дом свой. «Есть у меня, – говорит, – человек Божий, и прекрасный сад, орошаемый водою, удобный для безмолвия всякому желающему, и подходящее пристанище для подвижника. Итак, не откажи мне в просьбе если не ради чрезвычайных своих трудов из-за добродетели, то ради той высочайшей любви, чрез которую ты стал, как мы видим, совершенно чужд миру для Христа, чрезмерно тебя возлюбившего». Это и подобное этому говоря с теплыми слезами, убеждает великого принять его гостеприимство, а лучше сказать, оказать ему такую милость и честь, полезнее и почетнее которых не может быть ничего для имеющих ум. Итак, входит великий в страннолюбивый тот дом, облекшись вместе с тем и власяным рубищем, простым и самым бедным, немного изменив образ жизни и поведение, но продолжая тем не менее держаться любимого молчания. При этом он решил не безысходно, как бы пригвожденный, оставаться в доме, но то жил там, упражняя благоразумную душу и возгревая горячность веры, то больше пребывал в уединении в самых пустынных местах, предаваясь здесь главным образом наслаждению предметом любви и выше всего считая не входить в близкие сношения с людьми, хотя и не мог быть совершенно не замечаем ими, как сейчас будет сказано.
26
Ибо когда один раз великий по обычаю пришел в тот гостеприимный дом, боголюбезный странноприимец припал к славным ногам его, орошая их слезами и прося сказать ему свое имя, если оно у него когда-нибудь было. Он же, стыдясь добродетели того мужа и побуждаемый как бы Божественным Промыслом, дарует ему эту милость, которой он притом никогда не ожидал, и, отверзши уста, тихо говорит: «Савва имя мне, друг мой». Сказав только это и исполнив в кратких словах желание мужа, он по-прежнему продолжал подвизаться в крайнем молчании, как и во всем. А тот и объяснить себе не мог того, что случилось, и, объятый каким-то неизъяснимо приятным чувством, радовался и скакал от счастья, не только, так сказать, ублажая себя за то, что услышал слово из замкнутых тех священных уст, но и за то, что услышал не простое слово, но самое желанное и приятное, о чем хотя он и (осмелился) просить, но без надежды так легко получить просимое. Поэтому, не будучи в состоянии сдержать своей радости, как это обыкновенно бывает с нами, когда неожиданно для нас свершится что-нибудь весьма важное, он немедленно возвестил об этом событии единокровным и соседям и всему острову. Тогда молва получает новую силу, ибо так обыкновенно бывает с теми, кто к чему-нибудь любовно расположен, и, привязавшись к имени его, возводит его на верх славы. День и ночь стали произносить после этого с радостью и благоговением имя его, как бы спеша загладить прежнее его бесчестие и таким образом прекрасно уврачевать добром зло. И вот без всякого стороннего побуждения, как бы по общему и всенародному объявлению, начали стекаться к нему люди всякого рода и возраста – одни чтобы прикоснуться к руке его и получить благословение или хотя бы ног и рубища его коснуться, другие чтобы одной встречи с ним или хотя бы взгляда его удостоиться, считая и это весьма важным. И как бы только теперь его увидевшие или совершающие праздник по причине обретения какого-нибудь пропавшего большой ценности предмета, они с великой радостью и удивлением говорили друг другу: «Вот великий подвижник Савва, подражатель древним дивным святым, неизреченное веселие души, врач больных, искусный утешитель печальных, общая польза человечества, неожиданно дарованная нам Богом!» И усердие их не было тщетным: они пожинали плоды соответственно своей вере. Ибо не только прикосновение его и вид, но даже одно призывание его имени исцеляло недуги и избавляло от всевозможных искушений. Повсюду разнесся также и слух о чуде, совершившемся с ним, и даже первые среди того народа и вообще известные богатством и славой не сочли это маловажным, но как скоро дошел до них слух об этом, тотчас с поспешностью явились к нему и, преклоняя колени, касались ног его, целуя руки его и с горячей верой прося помощи. Некоторые из них приносили в большом изобилии даже деньги, прося принять их и употребить на что ему будет угодно. Но он даже внимания не обращал на дары, оделяя их в свою очередь только камешками и песком, попираемым ногами. Это еще больше заставляло их удивляться ему и поражаться чрезвычайному величию разума его, размышляя, насколько он благородством души превосходит других, так презрительно относясь к тому, что некоторые иногда предпочитали своей собственной душе, и не желая не только обращать какое-нибудь внимание на предлагаемое, но даже не удостаивая это любезного своего взгляда.
27
Вследствие этого все касающееся его так стало дорого в то время киприотам и он достиг такой у них славы, что они не только вышесказанное с удовольствием совершали, но и, на досках и (письменных) дощечках начертывая его изображения, чествовали их в своих домах лампадами, миром, фимиамом и прочим, чем благочестивые души почитают Бога и служителей Его. Другие же, повесив его (изображение) на шее, постоянно носили с великой верой, как какой-нибудь воинский панцирь или надежный талисман, не только нисколько не ошибаясь в своем ожидании и надежде, но даже сверх ожидания получая от этого многоразличную благодать, как только что было сказано. Он был при этом и в обхождении приятен и видом любезен. Ибо, хотя он подвизался в глубоком молчании и проводил жизнь в крайнем посте и вообще по образу жизни был суров и строг, стараясь казаться таким и посторонним, однако, охраняя внутреннее как никто из самых усердных пустынников и отшельников, он был общителен и доступен, и вообще от лица и глаз его истекала какая-то приятность и удовольствие, от чего происходило то, что любовь к нему дивно привлекала к нему всех, хотя он и избегал этого. Слух о нем дошел и до византийцев и скоро перенесся на Геллеспонт[155], а оттуда через Эгейское море дошел и до нас и наполнил Фессалонику и Афон удивлением к нему. Таким образом, того, которого раньше тайно изгнала из наших пределов Божественная любовь, Бог, после некоторого соответствующего приготовления, делает всем нам известным, хотя и вдали и уже не как человека, но как нечто вышечеловеческое и совершенно новое, как славного победителя. Ибо прославлющих Меня, говорит, прославлю и унижающих покрою позором (см. 1 Цар. 2:30). Но он, давно уже все настоящее оставивший и взиравший только на одно будущее, к той, благодатной славе всей мыслью разумно устремляется, как о том следует рассказ.
28
Ибо, увидев однажды некоторый ров, полный грязи и зловония, он при всех садится туда весь, с рубищем, в которое был одет, нарочно притворившись помешанным и дурачком, и так целый день сидит, терпеливо перенося смрад и зловоние и ни на кого не взирая, но слезами орошая свое лицо, закрывшись головным покровом, чтобы укрыться (от взоров). Когда разнесся слух об этом, то скорее, чем произнести слово, сбежался весь город, чтобы взглянуть на него, поднялся плач и послышались смешанные рыдания пораженных удивлением мужчин, женщин и детей, друг у друга спрашивающих: «Что случилось? Что будем делать? Что за внезапная перемена совершилась с мудрым, врачом душ и телес, полным святости и благодати!» Более же разумные и могущие видеть нечто более глубокое понимали, что здесь (сокрыто было) высочайшее таинство смиренномудрия, и с радостью и изумлением прославляли его. И так почти все сбежались туда, ожидая окончания дела. Достигнув цели своего притворства, великий выходит наконец из грязи, представляя страшное и преестественное чудо видящим и слышащим. Ибо он не только не получил от соприкосновения с грязью и гнилью чего-нибудь зловонного и отвратительного, но даже мокрота и грязь нисколько не коснулись его, и казалось, будто он встал с какой-нибудь постели или чистой и нежной травы в саду, так был весь чист, даже вретища его не коснулась – о чудо! – влага. Таким образом, намереваясь избежать человеческой славы, он получил обилие ее, во много раз превышавшее прежнюю. Ибо чудо это поразило не только бывших свидетелями его, но привлекло к нему решительно весь тот народ в полном его составе, а не как раньше, когда к нему приходили по два или по три. И вот некоторые из них со страхом и неизреченной радостью припали к его ногам, целуя стопы его и попираемую им землю и как чем-нибудь священным посыпая себе ею головы и лица. Потом, соединяя просьбы со слезами, они стали просить его, чтобы он ослабил уже напряженную борьбу с собою, говоря, что и Всевышний, как можно видеть из этого чуда, наверно соглашается с их словами и желает, чтобы он оставил уже великие труды свои. Так они говорили, но великому решительно невыносимы были (эти слова), не нравились ему и эти богоприличные почести, не соответствовавшие христоподражательной бедности его и смирению, которым он всецело был исполнен и которым, казалось, дышал, не считая возможным жить без него, и скорее, быть может, решился бы умереть за него несколько раз, как за саму славу Христову, если бы кто-нибудь решился отторгнуть его от него насильно. Поэтому он тотчас решается бежать и, тщательно скрыв от всех свой уход, устремляется на божественный Сион, согласно древним предсказаниям.
29
И вот, после того как киприоты, исследовав весь остров, утесы, разумею и горы, пустыни и пещеры, нигде не нашли желанного, великая скорбь объяла их, и они с трудом могли перенести несчастье (ибо каждый считал потерю его невыносимым несчастием), полагая, что это событие является началом Божественного гнева и предрекая[156] себе новые беды по причине удаления такого заступника и неусыпного стража душ и телес.
Он же, пустившись в давно желанный путь, прибыл наконец, хотя и не без труда, искушений и опасностей на море, в дивный древле и теперь Иерусалим, осилив тяжесть трудов сильным желанием. И вот сперва он приходит ко Гробу Жизни, отдавая преимущество выдающемуся славою перед прочим, и, преклонив колени и прижавшись главою к земле, обращаясь как бы к только что умершему и пред глазами лежащему Господу жизни, стал так говорить с горячими слезами: «Вот каково Твое, ради промышления о нас, неблагодарных, выше естества и слова таинство! Вот новое и неисследованное богатство благости! Вот чем воздал Ты отступившей от Тебя человеческой природе! Копье и крест, гроб и смерть Господа жизни и смерти для искупления беглого раба, заслуживавшего за это тысячи смертей и мучений! Какая мудрость, какое дивное, новое и неизреченное таинство, Господи! Что за милосердие, что за неудержимая и восторженная к нам, неблагодарным, любовь! Какой язык расскажет, какой ум хотя несколько поймет вышеестественные чудеса Твои! Изумились этому небо и земля, и все под землей поколебалось, размышляя о странности чуда. Не могу сдержать неизреченного пламени моей любви и сам становлюсь вне себя от радости и, почти как “яже о Марии”, благовествую о Твоем восстании ученикам и друзьям Твоим». Изрекши такие и подобные этим слова и возблагодарив Бога за то, что удостоился давно желаемого, великий неудержимо орошал обильными источниками слез всю землю, часто ударяя головой о пол, целуя землю, камни и все сооружения вокруг Честного Гроба Господня. После этого он обходил с одинаковой ревностью и внутренней радостью прочие честные места, принявшие следы Господа с Пречистой Матерью и учениками, а также удостоившиеся принять силу и других таинств и чудес, везде с неудержимой сердечной любовью обнимая прах и камни, как бы самые ноги Господни. Ибо (горячая) любовь ко Христу делала важным для него всякий предмет[157], как это бывает с восторженно любящими, которые, потеряв дорогих для них, обычно с одинаковой любовью относятся к их одежде и вещам, представляя себе при этом обычный вид (их).
30
Итак, исполненный блаженной этой любовью, которою давно уже был объят, он идет к славному Иордану, при посредстве которого освященное древле Господним омовением естество вод произвело наше дивное и сверхъестественное возрождение[158], и разыскав то самое место, где, как говорят, Сам Господь принял, погрузившись, крещение, омывает и он там свое тело с подобающей любовью и верой. Потом, обойдя всю иорданскую пустыню для осмотра давно желанного (это святые монастыри и места обитания подвижников, а также пещеры, принявшие в себя просиявших подвигами дивных древле отцов) и получив некоторое духовное утешение (ибо подобному, говорят, любезно подобное), опять возвращается на любезный Сион и решается посетить также Синайские места. И вот, прибыв туда, он знаками просит (ибо языком не разговаривал) одного из благоговейных и боголюбивых мужей оказать ему милость ради Самого Бога, нанять вьючное животное для того, чтобы ему можно было доехать до Синая или самому, или вместе с другими, чтобы не потерпеть неудачи в своем намерении. Он же, побуждаемый благородством души и почитая, как и следовало, добродетель мужа, тотчас нанимает верблюда и, кроме того, щедро снабжает его дорожными средствами и припасами. Потом, посадив великого, радостно отправляет его, радующегося, в путь, дав ему в спутники и слуги хозяина верблюда (а он был измаильтянин). Но Савва, немного отъехав от Иерусалима, тотчас сходит со скота и так пешком совершает весь путь в течение всех двадцати дней, убедив данного ему в слуги измаильтянина – о сострадательнейшая душа! – сидеть (на верблюде) в течение всего того долгого пути. «Ибо я не вынесу того, – говорит, – чтобы мне одному пользоваться услугами скота, а эту душу видеть злострадающей так от долгого перехода, мне это кажется прямо одним из видов величайшего любостяжания». Он даже отдал ему и дорожные припасы, а сам питался попадавшимися по пути травами с небольшим количеством воды. Ибо он решился пользоваться только этой трапезой в течение всего пути, пока не достигнет самого Синая. Так по его намерению и совершилось. Ибо что из высокого и чрезвычайного не было ему обычно и желательно, что из того, на что он решился или чего желал, не становилось тотчас в совершенстве делом, так что затруднительно даже решить, чему более удивляться, решительности ли души, как притом природной, или мужеству и быстроте в делах, нисколько не уступавшим душевной решительности, так что вместе со словом у него являлось и дело, по известному[159] выражению. К этому должно присоединить еще третье: чрезвычайность самых его дел, превосходившую всякое слово. Варвар же тот сначала долго упрашивал его сесть на верблюда, для этого и данного, а им самим и верблюдом и всем нужным по праву пользоваться, как господину над этим. Но после того, как, часто говоря об этом в течение многих дней, не мог нисколько убедить его, в высшей степени изумленный, стал называть его богом, а не человеком, и не только называл, но показывал это и делом, припадая к его ногам и стопы его целуя с великой радостью и удивлением, ибо хотя он был и варвар по происхождению, но не был таковым на самом деле, имея хорошее сердце и здравый смысл и будучи способен принять хорошее семя. Вследствие этого он скоро получил и величайшее удовольствие и пользу, пораженный, с одной стороны, терпением его в духовных трудах, а с другой – дивным смиренномудрием и кротостью, что одним видом тотчас покоряло всякого, хотя бы он был как камень жесток и груб душою, так что и сирены[160], кажется, не были бы в состоянии этого сделать, если то, что о них поют, было не мифом. Когда же они окончили путь и достигли своей цели, измаильтянин возвратился назад, полный радости и печали: первой потому, что удостоился против всякой надежды быть очевидцем таких дел и получил плату гораздо большую, чем заслуживал, а немалой печалью был объят по причине разлучения с отцом, с трудом перенося его, как то было ясно для всех.
31
Итак, когда великий достиг славного издревле Синая[161], – о, что за благоговение и скромность! – после таких трудов и подвигов он вступает опять в чин обучаемых и принимает вид желающего учиться самому первоначальному, несмотря на то что прекрасно уже изучил относящееся к великой философии. И вот, подчинив себя тамошним отцам, в течение целых двух лет он поражает их, как и всех, высокой во всем добродетелью, многих возбуждая своим примером к мужеству. Старательно выбрав оттуда, как трудолюбивая пчела, все самое лучшее и полезнейшее, он возвращается опять в Иерусалим, матерь Христовых таинств, и, воздав с любовью поклонение (святыням) и получив от них освящение и радость, как бы какие подарки на дорогу или сувениры, входит в поприще ангельского безмолвия и совершенного уединения. Ибо, опять обойдя подвижнические жилища (ἀσκητἡρια), расположенные возле Иордана, заключается телом в одной из тамошних пещер и не исходит оттуда, непрестанной молитвой и созерцанием прилежа одному Богу и устремляясь каждый день невещественными и божественнейшими восхождениями ума к сродному Божеству, стремясь, подобно богоносцам, к превышающему ум соединению с Ним, которое они называют и непосредственным созерцанием, и неведомым[162] знанием (’άγνωστον γνωσιν), как превышающее всякую естественную деятельность по причине своей умопостигаемости, и концом всякого созерцания, непостижимо и неизреченно соединяющим с Краем[163] желаний. Но если немного дальше поведем об этом речь, то должны будем сказать, что началом и основанием всякой телесной и душевной добродетели отцы называют страх Божий, обычно рождающийся от твердой веры. Ибо когда во главе стоит твердая вера в то, что Бог есть Судия (всех) и Мздовоздаятель каждому по его заслугам, тогда необходимо следует страх Божий, начало всякой добродетели, по словам Божественного Писания, и начало исполнения заповедей Божиих, ибо начало, говорит, премудрости страх Господень (Притч. 1:7), а где страх, там и соблюдение заповедей. Как превосходнейший воспитатель, страх Божий, взяв душу как бы за руку, сперва останавливает действия греха делом, а после этого (научает) ее – если она усердно ищет способа, каким легко может избавиться от раньше приобретенного бремени грехов, – и дальше быстро идти к Богу исполнением Божественных заповедей. Когда же эта работа[164] будет хорошо исправлена, с тщательным следованием закону об этом и трезвением, так что, с одной стороны, грубость и землистость плоти будет утончена, с другой – страстность и неразумность души хорошо и со всяким разумом будет подчинена последнему, обычно в результате является чистота сердца, которую испытавшие и изучившие это богоносцы называют и тишиной помыслов, и блаженной простотой, а также бесстрастием, совершенством и концом любви. С прошедшими так весь путь благочестия и сохранившими то, что по образу (Быт. 1:26), как следует непорочным, и дошедшими вследствие этого через чистоту, сколько возможно, до подобия (Быт. 1:26) Бог как со Своими беседует, как бы с некоторыми, если это не будет дерзновенно сказать, богами (см. Пс. 81:6; Ин. 10:34). Ибо Сам говорит: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8), – не только в будущем, как кто-нибудь мог бы подумать, но даже в настоящее время, согласно учению испытавших это богословов, чем полны священные книги и рассказы.
32
Одним из таковых был и тот, который является предметом слова, как еще яснее сейчас будет сказано. И вот, после того как он уже совсем отделился от людей – хотя и раньше нисколько не меньше удалялся их – и решился достигнуть совершеннейшего, и как только это стало ясным со многих сторон врагу нашего рода как из тех дивных дел, которые славный уже совершил, так и из того, что он, казалось, имел еще совершить, он тотчас возбуждает против него жесточайшую, какая только возможна, и решительную брань. Что это за брань? Мысленный дракон входит в огромнейшего по величине и страшного видом змея и, воспользовавшись им как бы орудием сражения с великим, входит в полночь в пещеру и тотчас принимается за борьбу, не скрывая каким-нибудь притворством коварство и не стараясь обольстить его обманом и издевательством, как прежде жену[165]. Ибо кого намеревался обмануть лукавый или как мог напасть помыслами на его ум, когда он давно уже отогнал их от себя подобно тому, как огонь из печи разгоняет и рассеивает в окружающем нас воздухе, по причине их легкости, комаров, мух и других подобных им насекомых! Но так как он знал, что имеет дело с мужем совершенным, преславно достигшим меры возраста полноты Христовой (Еф. 4:13), облеченным, по апостолу, всеоружием духовным, чтобы возмочь стать против козней диавола и мужественно выступить на брань против подчиненных ему начал и властей (см. Еф. 6:11–12), имеющим и телесный состав[166], совершенно покоренный (духу), изможденный продолжительным постом и от постоянного плохого питания почти бескровный, то сам злокозненный, приведенный в крайне затруднительное положение, недостойно себя, как можно было бы сказать, и бесславно нападает, подобно тому как начальствующие над войском или отрядом, не будучи в состоянии противостоять неприятелю походным строем, нападают вследствие этого фалангами[167], сохраняя целость рядов, или же, совсем отступивши назад, опять коварно бросаются немного спустя, а лучше сказать, как мухи, отскакивающие от здоровых членов и нападающие на обессиленных от ран.
И вот входит, как я сказал, чувственный тот змей в пещеру, имея движущим (его) мысленного (змея) и действуя по его желанию, и сначала шипением и свистом и некоторым необычайным стуком, казалось, потрясает пещеру, воображая себя страшным и несравнимым по величине и желая устрашить, безумный, льва тем, чем пугают неразумных детей. Когда же мудрый, нимало не обращая внимания на видимого (змея), священной молитвой вступил в борьбу со скрывавшимся за ним, оставаясь совершенно неподвижным и устремившись всей душой и телом к Богу, тогда приведенный в бешенство скверный (дивны суды Божии, которыми Он премудро исправляет нас, предавая иногда в руки беззаконных и праведного, чтобы, более испытанный, он оказался под конец более достойным награды и был для других примером терпения!) сильно бьет его хвостом, как бы железной булавой, по спине, крепко овившись сперва вокруг него со всех сторон.
Когда же он и после этого не оставил молитвы к Богу и сопротивления и не обращал на него никакого внимания, воспевая пророческие слова: «Если будут наступать на меня злодеи, чтобы пожрать плоть мою, я, как глухой, не слышал и, как немой, не открывал уст моих» (см. Пс. 26:2; 37:14), – тот опять ударяет подвижника еще сильнее раза два или три и повергает его прямо на землю, а лучше сказать, только тело его, упавшее, так сказать, естественно, на земле лежало, а ум преестественно возносился вверх, нисколько не подчиняясь физической необходимости. Вследствие этого, совершенно отчаявшись достигнуть своего намерения (ибо он хотел этим изгнать его из пещеры и воспрепятствовать в прекрасном безмолвии через перемещение (из нее), и даже уловить страстью робости неуловимого и бесстрашного), враг, повергши его на землю, наносит ему жестокие удары, желая сокрушить и до того уже изможденное его тело, так как лишить жизни, хотя ему этого и сильно хотелось, он все-таки не имел власти, не будучи в состоянии сделать этого даже со свиньями, как в Евангелиях мы слышим (см. Мф. 8:8-33; Мк. 5:1-14; Лк. 8:26–34). Но и он сопротивляется ему дарованным благовременно от Бога природным оружием, разумею гневом[168], (данным) на одного только лишь змея, и смертельно ранит его, бросив в него страшным именем Господа, и тотчас делает робким беглецом недавно надменного гонителя. «Для чего ты, – говорит, – мысленный змей и враг рода нашего по древней зависти (ибо, кажется, должно вспомнить здесь его слова, чтобы и наше освятить слово), для чего, – говорит, – так упорно ненавидишь создание общего нашего Господа, стараясь поглотить всех нас до одного, если бы это было возможно, и погрузить в бездну забвения всю тварь? Что тебе за дело до меня, раба Христова, не желающего иметь решительно ничего общего с тобой? Более того, что тебе за дело к новому христианскому роду, который Сам общий наш Господь, освободив от твоего мучительства, запечатлел, как бы царскою печатью, Своей (Пречистой) Кровью? Разве ты не знаешь, лукавый раб (ср. Мф. 18:32) и отступник, о разрушении твоей власти, разве крест и копье и добровольное страдание Бесстрастного не сокрушили твоей силы и власти, при чем дарована нам славная власть наступать на змей и скорпионов и всю твою злую силу (см. Лк. 10:19)? Почему ты не слушаешься этих Господних повелений, захватываешь то, чего (тебе) не дано, и поднимаешь на нас богоборную (свою) руку, дерзко противясь царским приказаниям? Я же давно – хорошо знай! – повинуясь им и одним этим, как видишь, всей душой живя и действуя, чувственно и мысленно наступлю на аспида и василиска и поперу тебя, началозлобного змея (см. Пс. 90:13), во имя Господа Саваофа, Бога воинства Израильского (см. 1 Цар. 17:45)!» И еще великий не успел окончить этих слов, как видимый змей вместе с действовавшим в нем тайно исчезают, как бы гонимые страшным каким-нибудь громом или молнией. И было поистине великое и чудное зрелище: человек, на землю поверженный, не только нагой и безоружный, но и почти мертвый телом, произношением простых слов обращает в позорнейшее бегство похваляющегося уничтожить землю и море! Вследствие этого он, как победитель, удостаивается свыше некоторых новых и богоприличных венцов – не таких, как раньше, а лучше получает в награду самое обожение человеческой природы, как начало и окончание, говоря согласно с богоносцами, будущего наследия и новое таинство таинственного устроения Господня, которое в Священном Писании называется и Царством Небесным, и усыновлением, и (подобными этому названиями), являясь не воздаянием за труды, опять согласно их же словам, но (явлением) Господней любви и милости.
33
Но прошу внимательно выслушать рассказ, касающийся таинств Господних. Ибо не может быть решительно никакой опасности и никакого подозрения в том, что мы ошибаемся в истине, так как мы действительно сами слышали его рассказ о том, что он видел и что перетерпел, принимая его слова с твердой и искренней верой в сердце и сами, так сказать, переживая те ужасные страдания, почему и можем, весьма легко сопоставив эти дивные и необычайные события с рассказами древних и общих наших отцов и законодателей, благовременно предать слову на общую пользу, хотя бы сами и не испытали этого и не удостоились по душевной нечистоте перетерпеть блаженное это и неизъяснимое страдание вместе с теми блаженными. Если же найдется какое-нибудь любящее споры и неверующее этому, по его выражению, существо (ζῶον), пусть удалится, иначе будет побито камнями, пораженное пращей обличения истины.
Итак, была, думаю, вторая стража ночи, когда тот друг тьмы, как я сказал, явившись ночью, ночью и исчез от силы и слова Божия, а славный подвижник лежал на земле, имея союзное себе подъяремное животное, разумею тело, все израненное и не могущее встать (вот доказательство крайнего неистовства и вместе трусости бежавшего противника!), и вперив глаза вместе с умом в небо. И вот видит, ибо место то, по-видимому, было отчасти открытое, внезапно разверзается небо, и неизреченный свет, поразительный по блеску и великолепию, изливается оттуда. И тотчас освещается вся та пещера, а великий, прежде всего осиянный этим светом и как бы получивший величайшие и высочайшие награды – к чему возводят, по словам духовных богословов[169], Ангельские силы, освящающие достойных, – вместе с Петром и сынами грома, восшедшими древле со Христом на Фавор (см. Мф. 17:1–8; Мк. 9:2–8; Лк. 9:28–36), делается неизреченно общником того великого и первого Света, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир (см. Ин. 1:9), только не падает лицом, как они, на землю при сильном и чрезвычайном Его сиянии. Напротив того, он лежит, лишенный почти всякой естественной деятельности чувств, и красотой и славой и наслаждением неизреченно явившегося Божества весь переменяется и преображается дивным изменением десницы Всевышнего, удостоившись во плоти видеть вместе с Ангелами – о новое таинство и чудо! – то, чего глаз не видел, и ухо не слышало, и что на сердце человека не всходило (см. 1 Кор. 2:9), как говорит о тех учениках Слова богослов Дамаскин: «Они же, напротив, на землю попадали, пораженные или чрезвычайностью того великого света, или (приражением) свидетельствовавшего свыше отеческого гласа, или тем и другим вместе, чтобы после успокоения всякого физического чувства могли увидеть то, что выше всякого ума и чувства. Вследствие этого, пробудившись (Лк. 9:32), как говорит евангелист, именно после этого глубокого сна и умерщвления чувств (ибо были, говорит, “отягчены сном”) преестественно увидели славу Его, высшую всякого человеческого постижения, после того как глаза у них изменились сверхъестественно Духом». Ибо Бога, говорит тот же богослов, не видел никто никогда (Ии. 1:18), а если кто что-нибудь видел, то это духовно видится. Когда, таким образом, пробудился и он, – ибо опять нужно приниматься за рассказ – сверхъестественно увидел отчасти, говоря словами великого Афанасия, таинство будущего века, увидел сладчайшего Иисуса, неизреченно сияющего от святого тела, (заимствованного) от Марии, выражаясь словами того же богослова, красотою и сладчайшим светом естественной славы Божества. Увидел он сверхъестественными теми глазами, которые в достойных творческая сила Духа открывает для принятия видимого богоявления Слова, так как физическим глазам и сердцам людей недоступно и неприступно не только в будущем веке, но и теперь ими[170] видимое, согласно великому самовидцу величайших тайн и тайно-вождю Дионисию[171], который говорит, что «когда мы сделаемся нетленными и бессмертными и достигнем христовидного и блаженнейшего наследия, всегда с Господом, согласно словам Его, будем, сподобляясь в пречистых видениях видимого Его богоявления, которое будет осиявать нас явным блеском, как учеников во время Божественного Преображения». Так великий Стефан (Деян. 7:55), стоя среди кричавшего иудейского синедриона, вперив взор в небеса, видел Господа; так сосуду избрания, явившись молниеобразно на горе, Христос, говоря словами Дамаскина, глаза плотские помрачает, как несовершенные (δία τό ἀτέλεστον), а душу просвещает к благочестию; так Антоний[172] вместе с Макарием и всякий другой, подобный им, согласно божественным словам, очистившись, видели Господа. Ибо блаженны, говорит, чистые сердцем, потому что они Бога узрят (Мф. 5:8), – не самую то есть природу Бога, какова она есть, так как Бога никто никогда так не видел, ибо человек не может, говорит, увидеть лице Мое и остаться в живых (Исх. 33:20), но естественную (φυσικήν) славу Его и Божество, наслаждение ангельских Чинов и Сил, будущее Царство Божие, начало которого, говоря словами[173] великого Василия, удостоились увидеть восшедшие со Христом на Фавор, а также все те, которые, как и они, сподобились такого Боговидения, как только что было сказано.
34
Подражавший им божественный Савва, от одних немного отставший, а других и превзошедший, был, подобно им, общником и великой той благодати и богоявления. Желая и нам показать это таинство, а также и то, как он сам, подобно Петру и сынам грома, удостоился испытать это, когда мы всенародно праздновали праздник Преображения Господня (ибо это был день, в который обыкновенно совершается праздник этого таинства Господня) и он вместе со мною стоял среди воспевающих праздничные песнопения, приблизив уста свои к моим ушам, так что почти касался их, он сказал: «Этого таинства должен достигнуть, милый мой, всякий, стремящийся к евангельскому совершенству»[174]. Пораженный его словами, я обратил взоры на священное его лицо, чтобы расспросить его об этом яснее, и опять слышу почти те же самые слова, лицо же его вижу настолько прославленным и исполненным такой чрезвычайной радости и светлости, как будто он только что удостоился Господнего видения и Преображения, что было и на самом деле, только я некоторое время, видя, не замечал и, слыша, не хотел уразуметь по своему недостоинству. Ибо и у меня были удержаны глаза, чтобы я не узнал его (см. Лк. 24:16), как бывшие с Клеопой древле (не узнали) Господа, а потому после того вечера, разумею (в духовном смысле) отшествие этого мысленного светила, подобно упомянутым ученикам Слова, с печалью говорил: «Не горело ли наше сердце, когда он говорил с нами на пути этой жизни и когда открывал нам от многих сокрытые тайны!» Но Иоанну тайна, конечно, должна была быть открытой, ближайшему из учеников, пребывшему в искушениях с Учителем и получившему в награду за это почет председательства. Так и он, объясняя[175] теперь виденное тогда нами неясно, оставляет на славу нам пока это – рассказать последующим во славу чрезвычайно Прославившего его, а также на общую пользу.
35
Что же было после этого с великим? Он всю ту ночь стоял, неизъяснимо наслаждаясь необыкновенной красотой того блаженного Божества и изливающимся от Него неизреченным сиянием. Когда же прошла ночь и чудесное Боговидение прекратилось, а он после вышеестественного исступления пришел в себя и возвратился в естественное состояние, то, подобно тому как испытавшие (то же самое) древле, после прекращения Богоявления на Фаворе, услышали от бывшего вместе с ними Господа повеление никому не рассказывать о видении, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых, так и он не только положил надолго молчание на уста свои, но даже не захотел быть видим кем-нибудь после того страшного видения, так что никто не видел, чтобы он после этого покинул свое жилище (του δοματίου), совершенно изменившись, постоянно находился в исступлении, непрестанно представляя в уме явившуюся ему тогда красоту лица Господня и все время проливая ручьи неизъяснимо радостных слез. Однако нельзя было укрыться такому светочу добродетели или остаться совершенно незамеченным дивному благоуханию великих духовных дарований, потому что невозможно ведь, чтобы (человек), несущий ароматы (в недрах)[176], остался незамеченным, хотя бы и хотел этого, так как благоухание естественно будет исходить оттуда и не может быть удержано, но разносится воздухом и весьма остро вследствие этого действует на чувства встречающихся. Поэтому к нему со всех сторон стали стекаться толпы монахов, подвизавшихся около Иордана, а также вся Палестина и от Сирийского языка исповедующие православную христианскую веру. Но он решительно ни с кем не разговаривал, как я сказал, а часто и совсем не показывался. Однако этим он не угасил огня благого их желания. Напротив того, пламень любви благодаря этому разгорелся у них еще сильнее, и они еще ревностнее стали к нему стекаться, чтобы по крайней мере увидеть блаженное лицо его, которого ничто не было приятнее и (в смысле духовной пользы) полезнее, так он всех до чрезвычайности поражал превосходством ангельской жизни, и не было никого, кто бы, увидев его или услышав о нем, не получил величайшей пользы! И наконец, убеждают-таки блаженную душу, полноту смирения и рай любви, и он с более тонкими по уму и украсившими душу упражнением в разнообразных добродетелях (стал изъясняться) знаками, а иногда отвечал и на вопросы их. И вот они, узнав отсюда о глубине его мудрости и высоте созерцания, исполнились самой чистейшей любви и удивления к нему и стали называть его отцом и учителем, нисколько не уступающим дивным тем отцам, разумея Антония, Савву[177] и подобных им. Он же, по смиренномудрию припадая ко всем и руки и ноги их целуя с великою, можно сказать, радостью и простотою – что еще сильнее покоряло их души, – как бы привязал их к себе, и они решительно не могли оставить его.
36
И вот оканчивался уже третий год, как великий жил в пещере и слава о нем, как я сказал, разносилась повсюду и все были исполнены удивления по отношению к нему. Но это для него было решительно невыносимо, и он с трудом переносил всеобщий почет и славу, которые с каждым днем все увеличивались. Видя же, что его уединение и безмолвие часто прерываются, он тайно от всех оставляет пещеру и землю ту и сколько возможно скорее, перешедши через Иордан, вступает во внутреннейшую и ни для кого не доступную пустыню, именно ту, в которой, говорят, с великим Зосимою встретилась известная дивная и высокая египетская подвижница[178]. Туда и он, как бы подражая ей, сняв последний хитон, с великою радостью приходит. Ибо он никак не мог оставаться спокойным, уязвленный сладчайшею стрелою Господней, но постоянно имея в уме с неизреченной любовью явившегося Господа и не желая лишиться и на малое время сладчайшего Его света, обращался к Нему с вопросами: «Где Ты живешь и отдыхаешь?», «Покажи мне славу Твою, чтобы я разумно увидел Тебя», «Дай мне красоту образа и величие усыновления и почесть Твоего царства, быть общником которого Ты, человеколюбивый Господи, человеколюбиво удостоил меня выше всякого слова!» Так безмолвно взывая ко Господу, он ходил по великой той пустыне, как бы по какому-нибудь морю, с обнаженными головой и ногами, а также и всем телом, только для благовидности подпоясанный рубищем, как и прежде, не имея решительно никакой пищи или пития – разве случайно попадались ему дикие травы и несколько капель воды, и то через несколько дней, так как и это редко бывает в весьма сухой той пустыне, – и представляя поистине страшное зрелище, приводившее в удивление и самое естество Ангелов.
И вот, когда великий подвижник Царствия Божия охотно пребывал в той пустыне, некогда случилось ему зайти в самую суровую и чрезвычайно безводную местность, настолько сухую, что целых пятьдесят дней не встречалось ни травы, ни дождя или росы из облаков и никакой текущей из земли воды. Поэтому когда он лишился мало-помалу естественной влажности, у него почти уже прекратилась и жизнь, и, мало чем отличаясь от мертвеца, он упал на землю, едва дыша и ожидая Ангела, как сам он потом говорил, имевшего принять его душу. Когда же он так лежал там и, отказавшись от всякой надежды на здешнюю жизнь, только смотрел вверх и ожидал Ангела, как я только что сказал, вот в чрезвычайном блеске предстает и ожидаемый посланник Божий, светлый Ангел, но не для того, чтобы взять его душу, как он думал, а для того, чтобы влить в него силу и принести (ему), изнемогшему, прохладу и преславно, как требовалось, изменить к лучшему и душу его и тело. Ибо некое неизреченное благоухание, вместе с ним сошедшее, а также и роса вместе и свет освежили на земле лежавшего подвижника и все то место всецело преобразили. Взяв за десницу лежащего, явившийся восставляет его, ласково возвращает ему здоровье и любезно, как бы какой-нибудь старый друг и знакомый, говорит: «Мужайся, друг, и крепись, и пусть с этих пор не будет у тебя никакого страха, ибо сам я буду везде союзником твоим непобедимым, так как это мне поведено Богом!» И не успел еще явившийся возвестить повеление Царя, как свет, более дивный и более блистательный, чем прежде, излившись на него, явил его самого царем, как и раньше уже было сказано. Исходившие от этого света неизреченный блеск и благоухание, возбуждавшие ненасыщаемое желание, высшее всякой страсти, тотчас делаются для него всем – и пищей, и силой, и защитой от разнообразных скорбей, и многообразным восполнением недостающего, ибо, как учат испытавшие это боногосцы, когда изменяется душа, тогда вместе с ней испытывает блаженное изменение и соединенное с ней тело. «Душа ведь, – говорит блаженный Максим, – делается Богом причастием Божественной благодати, так что вместе с ней обожается и тело по причине соответствующего причастия обожения».
37
Так таинник и тайновождь высочайшего того видения (θεωρία), Ангел, укрепив великого зрителя, исчезает от него вместе с видением, а равноангельный тот подвижник опять стал проходить ту глубочайшую и безводную пустыню, весь исполненный радости и некоторого неизъяснимого удовольствия, всецело пребывая умом на небе с его красотами, явно там уже имея жительство и вместе с великим Павлом (ср. Флп. 3:20), восшедшим на третье небо и слышавшим неизреченные глаголы, которых нельзя пересказать человеку (2 Кор. 12:2–4), сподобившийся в необыкновенном восхищении ума тайн, которые там пока отчасти мог видеть и слышать и большая часть которых совершенно невыразима и превыше человеческого слуха, почему он и почтил их молчанием. А то, что он своим друзьям и таинникам тайно передал, то и я, сколько это для меня возможно, собрав, предам слову, представляя во свидетели Бога, что я ни в чем не погрешаю против истины и не оскорбляю высочайшую мудрость мужа, а разве кое-где в подробностях сокращаю слово, по снисхождению к немощи слабейших, полагая, таким образом, разумно меру словам и (принимая во внимание время – см. Еккл. 3:1) согласно мудрому Соломону, назначающему время всякой вещи и прекрасно, как немногие из людей, философствующему, мнению которого противно (положение) «всякая мера хороша». Но будем продолжать дальше.
38
Круг целых трех лет уже заканчивался, как подвижник жил в той сухой пустыне, славно перенося холод и зной и выше всякого слова подражая, так сказать, бестелесностью (άσάρκψ) и отсутствием питания (άτρόφω) невещественным силам и принимая от них в свою очередь духовные осияния, как сейчас будет сказано. Так, приведя в сильнейшее удивление Ангелов, которым он старался выше естества подражать, как бы бесплотный, и вследствие этого в высшей степени страшный и зверям и демонам, он опять приходит во внешнюю, расположенную возле Иордана пустыню, несколько более как будто соответствующую и удобную для жизни людей и животных, так как там кое-где можно и травы собрать, и (найти немного) воды для утоления жажды. Однако искуситель, будучи по природе бестелесным, нисколько не перестал искушать его, тем более что и усталость не могла ему воспрепятствовать в этом, хотя он и помнил, что уже много раз покушался (на это), как я говорил раньше, и устраивал брань против него. И вот, оставив личную борьбу – ибо таковую он возбуждает обычно против подвижников, живущих в полном уединении, – опять поднимает старательно брань против него через людей, так как видел, что он приблизился к обитаемым местам, и, как хитрый, подозревал, что он будет ходить по вселенной, как свет для находящихся во тьме и вождь заблудившимся и истинное спасение душам, ищущим Господа, что и на самом деле Податель благих, Господь наш, потом явил, отогнав отступника при посредстве самих козней и зависти его, подобно тому как медь постыдно уничтожается собственной ржавчиной. Итак, он усиленно принимается за брань.
39
Когда великий так блуждал в своем обычном виде по пустыне, (враг) восстановил против него двух арабов, которые, встретившись с ним, под совершенно пустым и неуместным предлогом, будто он был сторожем денег, спрятанных там христианами, владевшими, как говорят, раньше этой землей, пристали к нему, требуя, чтобы он тотчас указал им то место. Это было неискусное внушение лукавого, хитро устроившего брань. Когда же он ничего им не отвечал, они так жестоко его избили (ибо распалил их варварские души во много раз сильнее халдейской печи), что и сами, отчаявшись в его жизни, решили оставить его, как мертвого, где-нибудь в яме. Потом, убоявшись, чтобы он, оправившись после этого несчастья, ибо некоторая малая жизненная сила еще была у него, и явившись к начальнику (σατράπη) народа, не причинил им беды, ибо им как бы свыше пришла мысль, что он дружествен к нашему роду по многим некоторым причинам, – убоявшись, говорю, этого, орудия лукавого худо и нелепо думают исправить злом зло, ибо решаются убить невинного решительно без всякого основания, как бы для того только, чтобы освободиться от вышеупомянутой опасности. И осуществилось бы то гнусное намерение, если бы Бог не воспрепятствовал тогда, человеколюбиво издалека приготовляя нам через него спасение. Ибо как один из тех палачей поднял вверх меч, чтобы снять с него, уже боровшегося со смертью, голову, – о суд Божий над делами нечестивцев! – тотчас рука та, поднятая вверх и как бы требующая суда за безумное дело, сделалась сухой и неспособной владеть мечом. Это (чудо), исполнив страха другого (варвара), побудило его убежать со всех ног и искать спасения в бегстве, а к этому тотчас возвратился ум, и он, сильно сожалея (о случившемся) и источая горячие слезы, оплакивал (свое) несчастье.
Что же (делает) человеколюбивейшая и поистине христоподражательная по своему состраданию душа? Как только он понял случившееся, тотчас стал сожалеть о беде своего палача и, взглянув на небо и немного простерши руки к Богу, ибо не мог как следует вытянуть их по причине побоев, восстановляет пораженный член в прежнее состояние. И вот, обретя, вопреки ожиданию, скорое уврачевание (своего) страдания, (варвар) тотчас поспешно уходит, а ему, лежащему, опять предстает сладкий тот защитник, светлый, разумею, Ангел Божий, и, взяв его за правую руку, приветливо восставляет и исполняет обычной благодати. И тотчас опять является все потребное: крепость тела, радость души, просвещение обоих и общее благосостояние.
40
Итак, сообщив ему, что было нужно, явившийся опять возвращается к себе, согласно, конечно, Божественному повелению, а он опять принимается за обычные свои подвиги и продолжает любомудрствовать (φιλοσοφεΐν) еще в течение года в той самой пустыне. Потом приходит к Иордану и входит в древний монастырь[179]любезного и одноименного с ним отца – разумею Савву, – в котором с удовольствием поселившись, решительно никуда оттуда не выходит, беседуя только с собой да с Богом и, как какой-нибудь превосходный купец, наслаждаясь с великой радостью и безопасностью собранным с большим трудом богатством. Прошло немало дней. И вот, когда в тамошних монастырях сделалось известным, что великий Савва после долгого отсутствия опять возвратился, то собрались целые толпы монахов, чтобы повидать его. И не только окрестность Иордана, но и вся Палестина сбежалась к нему – всех созвал к нему как бы на крыльях быстро облетевший повсюду слух о его возвращении, нисколько не в меньшем количестве, чем раньше иудеев на тот же Иордан ко Крестителю. Ибо радость, которую и выразить нелегко, вместе с некоторым великим удивлением овладела ими не только потому, что они увидели его, которого почитали так же, как и Главу[180], даже еще больше, если так можно выразиться, но и потому, что они после целого года усиленных розысков его увидели его блаженным, богоносным и поистине великим. Это становилось ясным при одном взгляде на его лицо, исполненное какой-то неизреченной благодати и светлости, так что являлось весьма приятным и удивительным для приходящих. Эта (внутренняя) благодать как бы через какой-нибудь телесный орган и вовне изливалась и виделась, особенно более духовными и высокими, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла (см. Евр. 5:14), согласно словам божественного апостола. Они именно (духовные) и для остальных были светлыми вестниками о нем, и удивление исполнило души всех, и (посетители) каждый день усердно стали стекаться к нему. Даже измаильский народ не был чужд рассказов о нем и удивления – и у них шла о нем великая слава, и они относились к нему с благоговением, с удовольствием слушая рассказы о нем. Однако и при таком положении он каждый день безмолвием и дивным созерцанием простирался к Богу, ненасытно наслаждаясь красотою Его. Но взгляните на другое состязание (πάλην) подвижника, ибо пришло уже время рассказать о самой главной борьбе (παλαισμάτων) его.
41
После того как лукавый, все, как говорится, испытав и подвинув, увидел, что он «пишет на воде, бьет по облакам и стреляет в небо», – так ведь говорят по отношению к тому, что невозможно, – он все-таки не оставляет борьбы, хотя и давно уже следовало (сделать это). Ибо как он мог (оставить его), видя, что он восходит вышеестественно с плотию на небо, откуда он сам, хотя и был бесплотным, несчастно ниспал! И вот он прибегает к последнему оружию, к последней, как говорят, опоре. Собрав все свои лукавые силы и выстроив их фалангами в ряд, как бы на войне или каком-нибудь сражении, сам будучи и полководцем, и вождем отрядов, и первым борцом, лично вступает с ним в борьбу. И сперва криком и шумом и некоторым свистом они, кажется, потрясают пещеру, бесстыдно крича и шумно произнося угрозы и брань на непобедимого и бесстрастного, а потом еще более дерзко выкрикивают следующие слова: «Зачем ты нас опаляешь, зачем ты всю жизнь во всяком деле нам постоянно противишься, хотя мы не сделали тебе решительно никакой обиды! Мы не можем выносить твоих подвигов и твоего неослабевающего против нас усердия, мы не выносим слуха о тебе, и одно имя твое нам противно! Итак, или оставь эту борьбу и вражду с нами и дай себе и нам хоть немного отдохнуть, или как можно скорее уходи к Своему Возлюбленному, оставив наши владения, ибо твоя любовь к Нему усиливает нам борьбу с тобою. Итак, избери что хочешь из сказанного, иначе мы не оставим тебя, что бы там ни случилось, пока не изгоним, хотя бы и против воли, из этой временной жизни!» Но великий был бесчувственен, подобно спящему, ибо уже давно привык к этому, и, изучив их нападения, он оставался спокойным, пребывая в Боге и в обычном радостном состоянии духа и считая за детский лепет шум и обильную болтовню их. Они опять с воплем и некоторым ужасным и диким воем закричали: «Ты не слышишь, ты ничего не отвечаешь нам, ты не обращаешь внимания ни на наши вопли, ни на наше молчание!» Он же опять не отвечал им ничего, а пел Богу подходящие пророческие слова: желающие мне зла говорят тщетное и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу и, как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я! (Пс. 37:13–16). Они же, как бы еще более исполнившись неистовства и дерзости и не будучи в состоянии сдержать себя, наступают на великого таким образом. Отовсюду собравшись и как один выстроившись сомкнутым строем, с величайшим криком, жаждая убийства, – о суды Божии! – хватают его и, отнесши на соседний утес, сбрасывают вниз головою. Утес же был настолько высок и страшен даже при одном взгляде на него, что упавший оттуда никогда не мог бы остаться живым, будто то человек, или скот, или что бы то ни было. Но думаю, что дивный Савва в это время мысленно слышал: Ангелам Своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя (Пс. 90:11–12), – и не только слышал, но и самым телом увидел и испытал то дивное чудо. Ибо не вниз головой, как хотелось тем злодеям, но совершенно прямо и не потерпев (никакого) вреда – о всем управляющая сила Христова! – опять стал в страшной той пропасти, преславно восторжествовав над врагами и их самих низринув в пропасть и бездну погибели, так что они уже не смели больше нападать на него, если до сих пор это им и было позволено из более высоких видов Божественного Промысла (οίκονομίας). Таким образом, это был конец искушений и совершенное их прекращение, а как именно, об этом сейчас будет сказано.
42
Падает великий, как я сказал, вниз, безопасно перенесенный невещественными руками охранявшего его Ангела с высочайшего того утеса, и став ногами на землю, а руки и глаза воздвигнув к небу, – о страшные Христовы таинства! – стоит там целых сорок дней совершенно не касаясь ни пищи, ни пития, твердо и неподвижно, без сна, как статуя, сделанная из какого-нибудь бездушного вещества, даже скорее его можно было бы назвать бесплотным существом, явившимся для удивления человечества, или Моисеем великим, служителем Божиих таинств, сверхъестественно вшедшим (Исх. 24:12–18) некогда во мрак и принявшим скрижали Завета (которому потребовалось, правда, вдвое большее указанного число дней с двукратным восхождением (μετά, διπλής της προσεάρείας)), как мы знаем, для обновления тех священных письмен (γραμμάτων), которые сокрушило невоздержание получивших закон (νομοθετούμενων), или каким-нибудь подобным ему (Моисею) – не знаю, кого и назвать, – самовидцем и служителем Божиих таинств.
Но что это (как бы оно велико ни было) в сравнении с вышеестественным восхищением или преселением (μετάστασιν) во плоти или не знаю, как и назвать то безмерно превосходящее всякий слух и слово (состояние, в котором он находился)! Ужели мы станем черпать воду из каких-нибудь рвов или иссякающих потоков, оставив великую пучину моря, или будем рассматривать отражение чудного солнца, оставив естественный его луч и сияние! Ибо едва ли, думаю, возможно, чтобы явился на земле еще другой какой-нибудь человек, (подобный ему,) который вместил бы в себе в такой же высокой мере всякий вид добродетели, как созерцательной, так и деятельной, и так же сверхъестественно принял бы во плоти всякое сияние Божественной благодати и был бы, так сказать, (живой) картиной самых разнообразных видов добра, являясь, с одной стороны, примером Господнего милосердия, а с другой – удивлением невещественных существ, которые признали бы его с плотью таким же сверхъестественным существом, как и сами, и был бы как бы некоторым первообразом общей человеческой природы и примером, для всех чрезвычайно удивительным и желанным, но также для всех недостижимым и непонятным, как бы на удивление или как повод только к соревнованию предложенным некоторым, а не для точного подражания. Так вышеестественны жизнь и подвиги этого дивного мужа, о чем я по силам (своим) расскажу, раз я на это решился, как выше было сказано, представляя его свидетелем (ἔφορον) истины слова во всем и мало заботясь о неверующих, считающих это невероятным.
Итак, прошло ровно три дня и три ночи, а великий все продолжал молиться в той пропасти, простерши руки к небу. «Потом, – говорит он, – мне показалось, будто я, неизреченно восхищенный оттуда, вознесся выше небес. И вот поток света – но как выразить неизреченный его блеск и обилие! – как бы некоторое безграничное море заливший всю вышенебесную ту равнину, казалось, течет и струится, как бы некоторая дивно величественная молния. Увидел я, – говорит он, – и сладчайшего Иисуса – о неизреченная радость и слава! – Который восседал на той дивной равнине. Тысячи тысяч и тьмы тем ангельских чинов, предстоя вокруг Него, по великому Даниилу (Дан. 7:10), служили Ему. Некоторый неиссякаемый и во много раз превосходящий тот свет источник света, изливаясь от Него рекой, еще более, казалось, освещал ангельские Силы, хотя и сами они казались светом. Я же, – говорил он, – не мог насытиться, созерцая, не знаю как, сладчайшего Иисуса и исходящую от Него силу и светлость (дивного того) света. Ибо весь Он был, по сказанному, сладость, весь желание и любовь, красота неизреченная, бессмертие, радость и веселие неизглаголанные. Поэтому, лишенный всякой возможности насытиться, при все увеличивавшемся и возраставшем притом желании, по сказавшему, как бы я мог когда-нибудь добровольно оставить ту неизреченную радость и славу, хотя бы то откровение (άποκαλύφεως) продолжалось неизмеримые века, а не (то что) это[181] краткое количество дней, которое некоторые из отцов, как мы знаем, хотя заняты были и некоторыми телесными заботами, провели в неядении и стоянии, вышеестественно совершив в естественных условиях то, что превышает природу! Вот что, – говорил великий, – я видел!» И вот кажется ему, будто он опять на земле с телом и целый столп света, как бы некоторое истечение или луч того Божественного света, спускается на него. Вместе с этим светом сходит и Ангел для объяснения (συνετίζων) видения, как мы читаем о Гаврииле у Даниила (см. Дан. 8:16). Представ пред ним, исполненным света и нисколько не уступавшим ему в ангельском блеске (λαμπρότατος), – о великая слава Твоя, Христе, и благодать к человеку! – он сказал: «Возвеличилось имя твое у нас, любезный Савва, и не могу выразить, какую испытывают радость по причине твоей славы и величия высшие и близкие к Богу чины, радующиеся и торжествующие, как ты знаешь, при покаянии (см. Лк. 15:10) одного какого-нибудь грешника. Ибо и на тебе почил Дух Божий, как на апостолах и пророках и прочих, которые подобны им по духу, ибо ты не дал, по написанному, сна своим глазам и веждам дремания (Пс. 131:4–5), пока сам не стал местом и селением Божиим, и, славно возвратив образу[182] то, что по образу, не получил вследствие этого славы и чести, хотя и раньше еще ты имел это и удостоился, как и они, увидеть преестественно Господа. Теперь же, в добавок к тому, ты получил еще более высокое и славное и вследствие этого и великим этим блеском и богоявлением сильнее наслаждаешься, насколько возможно по благодати взирая на совершенно Невидимого по существу. Ибо и древле удостоившиеся, подобно тебе, говорю, получить славу и честь, так же само по благодати видели Господа. Поэтому должно и тебе отныне, любезнейший, получившему такую дивную славу и чудное усыновление со всеми (другими благами), видеть при этом чудесно (άπροσκόπως) и Солнце правды (Мал. 4:2), как сын с отцом беседуя с Ним дерзновенно и получая всегда все, чего ни пожелаешь. И не только это, но за величайшей этой славой и честью от Бога – и от людей последует почет с неизреченной любовью, и демонам равным образом страшен будешь и совершенно для них неприступен, как никто и никогда. Вестником всего этого я являюсь тебе, как видишь, я сегодня от Бога, и иначе быть не может. При этом Богу угодно, чтобы ты узнал от меня как то, что тебе сегодня дивно открыто, так и то, что еще давно сказано Им в Евангелиях, а именно: блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят (Мф. 5:8), что действительно и есть будущее наслаждение праведных и славное Царство Небесное, начатков которого обыкновенно еще здесь удостаиваются через богатство чистоты славно достигшие чести усыновления (см. Рим. 8:15, 23; 9:4; Гал. 4:5; Еф. 1:5)». Это и подобное этому, объясняя, говорил ему Ангел, а великий, которому таким образом и разумение сверхъестественного от тайновождя (μυσταγογουντος) было дано, и ухо, по словам пророка (Вар. 2:31), чтобы слышать, а также и глаза, чтобы видеть то, «чего глаз не видел и ухо не слышало и в сердце человеку не входило и что уготовал Бог любящим Его» (как раньше рассуждал по отношению к ученикам, восшедшим древле со Христом на Фавор, богоносный Дамаскин, научившись этому от апостола), – стоял, ненасытно наслаждаясь тем созерцанием и пребывая в таком вышеестественном состоянии в течение целых, как я сказал, сорока дней. «Ибо я весь был освещен, – говорил он, – сошедшим оттуда на меня светом, вместе с которым сошел и тот Божественный тайновождь, то есть Ангел, так что казалось, будто я и плотью не был облечен, или хотя и был облечен, но самой тонкой и как бы воздушной и светящейся, так что она нисколько не мешала естественной чистоте ума, даже оба[183] они, казалось, вышеестественно, по сказанному, стали одно благодатию благого Духа, овладевшего обоими. И сам я, не знаю каким образом, видел (κατανοεΐν) себя, именно естественную ту славу[184] ума и души, которую невозможно передать словами».
43
Вот каких ни для кого не доступных таинств ты вышеестественно удостоился в высоком исступлении естественных движений ума, понимая, что это откровение будущего века. Однако ты не имел в виду до конца сохранить это тайным, ибо это несвойственно Божественной благодати, которая тебе повелела, оставив пустыню, возвратиться к нам в обитаемые страны (οικουμένη) для спасения многих, о чем я вскоре расскажу. А теперь, чтобы лучше почтить это, исследуем точнее, как Новый Завет – разумею Евангелие Христово, – будучи тайной[185] Ветхого (ибо весь писаный Закон был образом образа и тенью (см. Рим. 5:15; Кол. 2:17; Евр. 8:5; 10:1)), выражаясь словами Павла великого и самого служителя и тайноводца (μυσταγωγον) его[186] Моисея, так вот, как оно (Евангелие), будучи тайной того, потом ясно нам открылось по благоутробной милости Бога Отца, человеколюбиво пославшего Своего Единородного Сына, рожденного от жены, бывшего под Законом, чтобы мы усыновление получили (ср. Гал. 4:4–5), открывшись также с возможной ясностью и некоторым из тех, разумею, пророков и законодателей и прежде Закона отцов, так как они не писаниям и теням, как многие (другие), внимали, но благодать удостоила их высшего, почтив их этим, и далеко предпочла прочим, издалека предвозвестив свою славу и общее спасение, в чем именно и состоял, говоря вкратце, смысл откровения им тайн. То же должно сказать и по отношению к будущему возрождению или Второму Пришествию и совершенному восстановлению[187] (что и Царством Небесным, и общением с Ангелами, а также богоравенством, и сонаследием, и братством со Христом называет честное Евангелие) – что это тайны Христова Евангелия и благодати, тайно исповедуемые, ибо премудрость, говорит, мы проповедуем тайную, сокровенную (1 Кор. 2:7) совершенным. И великий богослов Григорий, то же самое испытав и узнав, говорит, что «мы будем причащаться ныне Пасхи все еще образно, хотя и яснее древней», ибо «законная, – говорит, – пасха, смело скажу и говорю, была образом образа более темным, а немного спустя – более совершенная и более чистая»[188]. Будучи же тайнами для всех нас, они и теперь прилично в свое время и соответственным образом открываются совершенным, с одной стороны, для того, чтобы почтить их этим и (как бы) отличить от других, а с другой стороны, для того, чтобы они (своим) опытом могли подтвердить ожидаемое и чтобы мы не поколебались мыслью, утверждаясь на одних ожиданиях и Писаниях (хотя имеющих большую достоверность уже по одному возвещению предсказанного, обыкновенно недоступного вообще слуху и мысли людей, ибо этого ни око, говорит, не видело, ни ухо не слышало и на сердце человеку не входило), но получили и подтверждение этого от вышеестественно по силе испытавших это. Для этого и тем, которые были с Петром и Иоанном на Фаворе, прежде креста и страдания Христос показывает славу Своего Божества, начало будущего Царства Небесного, по словам богословов, оказывая Свое расположение к ним и этим удостоверяя и укрепляя их, а также и нас в имевшем наступить вскоре после этого. И первомученику Стефану вследствие этого самого открывается то таинство благодати (см. Дели. 7:55) не в пустыне какой или уединении, но среди соборища богоборцев, чтобы злословимый ими Иисус, будто Он простой человек, был проповедан Сыном Божиим, вместе с Отцом прославляемым, как равночестный. По этой же причине и Павлу, сосуду избрания, и прочим богоносным, хотя это и тайна, и заключает в себе, как я сказал, откровение будущего, теперь с пользою открывается, по причине избытка человеколюбия, но одним только для них одних или для того, чтобы почтить их, или для того, чтобы облегчить им тяжесть искушений, или для того и другого вместе, а другим – и для этого самого, и еще для укрепления сомневающихся и для ясного обличения неверующих. К этим-то последним и тебя, дивный, по достоинству должно причислить, так как ты явился для нас вторым Петром и Наперсником или даже подобным одноименному с тобой Стефану, человеколюбиво посланным благодатию как в среду нас, верующих, так и к относящимся с сомнением к этому великому таинству – о злословии я умолчу, – чтобы ты удостоверил подвиги тех великих и стал неложным вестником этого ныне сущим и будущим поколениям, избранный для этого из всех, подобно тебе удостоенных, как сказано, этих таинств, как сподобившийся, сколько возможно, видеть и испытать это.
Подтверждением (вышесказанному мною) может служить весьма многое другое, а также и то страшное видение, которое видел великий во время молитвы и которое указывало на некоторое грозное определение свыше на виновных в неверии этому, о чем в свое время мною будет сказано. Поэтому, возвратившись к нам по истечении многих лет, после вышечеловеческои той, как я сказал, жизни, по Божественному Откровению, – как бы второй Иоанн, сын Захарии, или Антоний, вышедший после двадцатилетнего пребывания в подземной пещере, – совершенно изменившимся и богоносным, ты сам был подвигнут благодатию рассказать нам в свое время об этом – что для прочих было тайной – и нас опять побудил против нашего желания к этому, присутствуя своим духом. И что мне остается делать, стесненному такой необходимостью и предпринявшему дело, превосходящее всякое слово и разумение! Ибо должно было бы, чтобы твои собственные уста рассказали об этом, так как ты один поистине достоин был испытать это, а потому можешь и рассказать об этом достойным образом, а вернее, и этот рассказ дело твоей дивной души и языка, а мы разве только одну нашу руку по нужде в помощь предоставили. Поэтому, весьма надеясь на твою силу, опять принимаемся за рассказ.
44
Итак, вот что должно было сказать при раскрытии и описании этих таинств, причем я счел удобным и недалеким и от его (намерения) сказать и о том, ради чего именно Дух Божий понудил его объявить это, а он опять нас[189] в свое время, а также сообщить при этом (некоторые сведения) и относительно законов и правил Духа. Но опять обратимся к продолжению сказанного. Когда уже оканчивались сорок дней, в течение которых, как мы слышали, этот земной ангел Божий находился в созерцании вышеестественного того богоявления, приходят для посещения его, думаю, по повелению Божию, некоторые из братий, обычно к нему приходивших. Увидев это новое чудо – великого, стоящего, как я сказал, в глубочайшей пропасти, в полном исступлении, с руками и глазами, неуклонно обращенными к небу, так что казалось, будто это не человек, а скорее статуя, сделанная из какого-нибудь бездушного вещества, да и то еще было сомнительным, – поспешно спустившись в ущелье, ибо оно было доступно с одной стороны, не могли понять, почему, для чего и сколько времени он здесь находится. Сообразив на основании видимого, что это некоторое Божественное исступление и видение, так как и раньше знали о чрезвычайно высокой жизни его, заговорили с ним и этим прервали тотчас это Божественное созерцание, сжалившись над чрезвычайным истощением его плоти и желая оказать ему естественную, какую могли, помощь. И вот, когда он пришел в себя и когда, казалось, возвратились к нему опять обычные чувства, они, взяв, относят его в пещеру, но спросить его и заговорить о чем-нибудь или попросить рассказать о виденном, хотя и сильно желали, однако не решились, ибо они давно уже хорошо знали о его обычном и давнем молчании, а только старались склонить его вкусить пищи и хоть немного подкрепить тело. Но он, весь изумленный и изменившийся и решительно не имевший возможности оставить видение, был нечувствителен к словам и совершенно не мог понять их. Увидев это, именно что напрасно трудятся, они уходят, полные страха и изумления. Он же опять предался без развлечения дивным видениям и, уязвленный сладчайшей любовью ко Христу, с неизреченной радостью взывал таинственными словами невесты[190] к своему Возлюбленному Жениху чистейших душ: «Благоухание мира Твоего выше всех ароматов, вслед за тобой, за благоуханием мира Твоего, я побегу; возрадуемся и возвеселимся о Тебе; ты хорош, брат мой, и прекрасен; плод Его сладок в гортани моей; вчините ко мне любовь (см. Песн. 2:5) (τάζατε επί εμ,ε αγάπην), положите меня в мирре, постелите мне в яблоках, так как я уязвлен любовью; покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое прекрасно; пленил Ты нас, пленил мед и молоко под языком Твоим и благоухание одежд Твоих, как благоухание Ливана; чем возлюбленный твой лучше других, что Ты так заклинаешь нас? Брат мой бел и румян, лучше десяти тысяч (других), ланиты Его – как чаши ароматов; губы – крины, источающие текучую мирру; уста его – сладость и весь Он – любезность.
О, крепка как смерть любовь Твоя; стрелы ее – как стрелы огненные; большие воды и реки вод не смогут потушить у меня любовь к Тебе, и всю жизнь мою я отдам любви Твоей!» Говоря это и тому подобное, дивный не мог уже остановиться, ибо он не только забыл, как говорит великий Давид, есть хлеб свой (см. Пс. 101:5) – явный знак, как он выражается, печали по Боге и раскаяния, – но и самую, так сказать, природу свою благодаря необыкновенному избытку Божественной любви.
45
Итак, целый год, как он сам потом говорил некоторым из своих учеников, он пролежал на одном боку. Потом, встав, – о новые и вышеестественные дела! – просидел опять целый год на одном седалище, не изменив во все эти два года образа сидения и возлежания и не вставая даже для молитвы, не преклоняя коленей и не переменив места в течение всех этих двух лет, но то лежал, как я сказал, на одном и том же боку, то неподвижно сидел, как бы был сделан из какого-нибудь бездушного вещества, ибо даже телесная нужда не поднимала его оттуда – разве, быть может, самая, как говорят, неотложная, редко, впрочем, его тревожившая вследствие вышеестественного воздержания. Ибо хлеб он употреблял в самом незначительном количестве и сухой, подобным образом и воду, и притом очень редко и только лишь для того, чтобы жить, в чем служил ему один из монахов, чтобы он, вследствие великой необходимости (в пище и питии), не был вынужден прервать свой дивный подвиг. И пусть никто не сомневается в рассказываемом, сопоставляя это с естественным порядком вещей, ибо и мы никогда бы не сказали, что это согласно с природой, как противно ей почти все сказанное раньше, как то: ангельский и крайний его пост, долговременное обнажение, как будто он был бестелесным и невещественным, подвергая себя летней жаре и зимнему холоду, и вышеестественная жизнь в непроходимых и сухих пустынях в течение долгого времени. Можно ли сказать, что все это в состоянии вынести человеческая природа, если бы он не был выше ее! Мы же смело об этом и подобном этому говорим, что обильно излившаяся на него благодать Духа Божия, подобно тому как удостоила его видеть и слышать превышающее человеческую природу с Павлом и Стефаном и прочим ликом святых, таким же самым образом, не по природе, но выше всякой природы, помогла ему отнестись и к этим потребностям природы, касающимся, то есть, телесной трапезы и сидения и лежания, как и испытавшие это весьма мудро разъясняют в (своих) сочинениях. Ибо если где вышеестественно вселится, говорят они, Бог, все там бывает выше природы.
Итак, скажем об этом, Божественная, а не человеческая сила сверхъестественно по временам в достойных производила дела, превосходящие всякое понятие о чуде. Ибо как исправление сухой руки и поврежденного глаза или возвращение совершенно расслабленного тела к полному здоровью молитвою и одним простым словом, а также укрощение диких зверей и воскрешение мертвых мы называем чудесами благодати, превосходящими понятие о человеческой природе, так и тело, обычно состоящее из крови и пищи, без естественного наполнения этим не может ни в каком случае долго сохраняться, не разрушившись по необходимости на те составные части, из которых оно составлено. (Далее) жилы и суставы, соединяя и скрепляя тело в один организм, естественно делают его подлежащим изменению, давая ему возможность сидеть, стоять и свободно наклоняться в ту и другую сторону. Если же оно, сверхъестественно удерживаемое совершенно неподвижным в течение такого времени, не разрушается, то это, говорят, есть дело той же чудотворной силы Христовой, но настолько высшее первого, насколько победить свою природу и страсти гораздо труднее, чем укротить зверя или возвратить здоровье больному телу, а вследствие этого и гораздо более удивительно, выражаясь словами великого Афанасия, а также славного учителя вселенной – разумею Иоанна Златоустого, – не говоря о многих других. «Ибо это часто легко совершается и врачебным, и человеческим искусством, как говорит славный среди богословов Григорий, а душу из противоестественного состояния в естественное возвратить и светлой сделать так, чтобы она могла принимать в себя сверхъестественные божественные лучи, а этим и связанное с нею тело сделать выше естественных потребностей – это самое дивное и самое высшее из всех чудес, как и испытавший это и изведавший Сириец – разумею известного своим безмолвием и созерцанием – говорит: «Лучше для тебя павшую свою душу воскресить, нежели десятки тысяч мертвецов, лучше страдание и болезнь ее уврачевать, нежели тела больных»[191]. То же самое и относительно сверхъестественных подвигов этого мужа я должен сказать, как тех, о которых уже раньше было рассказано, так и тех, о которых только что упомянуто, и таков именно смысл таинства, как говорят испытавшие и разъяснившие это отцы. Ибо это не что-нибудь новое и только недавно возвеличившее невесту Христову Церковь – об этом давно уже рассказывают как об обыкновенном и таком, к чему многие из тех (отцов) стремились и достигали, хотя это самое совершил, в частности, и этот великий, как мы знаем, собрав вышеестественно в одно разнообразные и богоподобные дела добродетели. Если же кто не хочет верить рассказам о тех богоносцах, которых и он был подражатель, это ничего не значит, ибо не к ним[192]относится наш рассказ, явно старающимся быть вне нашего собрания и вследствие этого пытающимся уничтожить помыслами неверия эту славу Церкви. Возвратимся, однако, а нашему предмету.
46
Целых три уже года прожил земной ангел в той пещере, ангельскую и вышеестественную проводя жизнь, весь чуждый настоящему, весь изменившийся и боговдохновенный, чудо, так сказать, и для самих невещественных и возле Бога находящихся существ. Это он и понимал, именно то, что стал как бы кораблем, наполненным, сколько возможно, товаром добродетелей вследствие принятия всей доступной людям благодати, – ибо дальше Гадир[193], говорят, не плавают, – и потому задумывает и совершает нечто действительно дивное и богоподражательное.
Я не буду решать вопроса о том, удалось ли кому-нибудь из достигших такой высоты добродетели совершить это, но что это весьма хорошо показывает, так сказать, восхождение его на высоту добродетели и богоподобия ныне сущим и потом имеющим быть поколениям, это я всегда буду утверждать. Ибо зная, что Божественное смиренномудрие для всякого рода жизни по Боге есть необходимейшая вещь, связывающая и скрепляющая, как при постройке цемент, по словам одного из наших мудрецов, материал добродетелей, как бы какие большие и малые камни к созиданию душевного дома, а для достигших высоты совершенства по Боге и во всех отношениях полезно и чрезвычайно необходимо, как увеличивающее сокровища и совершенно прогоняющее зверей (духовных), – давно уже зная это из жизни, теперь, как бы с другой стороны начиная, он всецело ему предается, все прочее, так сказать, оставив, а лучше все ему вверив и снова за него взявшись как бы за какую-нибудь запечатанную сокровищницу, прочно сохраняющую в себе множество всяких благ. Поэтому, похвально произнося Божественные те слова: когда исполните, говорит, все побеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17:10), если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное (Мф. 18:3), а к этому еще: благодатью вы спасены (Еф. 2:5), оправданные даром благодатию Божией (ср. Рим. 3:24), ибо как рубище нечистое, говорит, вся праведность наша пред Богом (ср. Ис. 64:6), – тотчас удаляется из этого монастыря, уходит в находящееся возле Иордана общежитие[194] подвижников (ασκητών), посвященное имени великого Крестителя и Предтечи, и упрашивает предстоятеля с величайшей скромностью причислить и его к прочим братиям, как у них установлено, и распоряжаться им при всякой надобности. Узнав о его пришествии к ним, они думали, что он Богом подвигнут к посещению их для их назидания и пришел для того, чтобы только помочь им немного, сколько это было для него возможно. Поэтому, пораженные неожиданностью, с радостью, которую трудно описать, и с надеждой получить духовную пользу все вместе к нему сходятся, один с одной, другой с другой стороны, окружив его, припадая к ногам его, руки его целуя и лица свои рубищем его, как бы чем-нибудь священным, натирая. Когда же они узнали о причине его пришествия, именно что Савва, славный в аскетических подвигах, великая сокровищница духовных дарований, слухом о котором полны земля и море, желает быть их учеником, приняв на себя чин новоначальных, обучаемых первоначальным сведениям, и притом горячо просит об этом наставника и все братство видом и знаками, со всем пылом души ко всем припадая, валяясь у ног всех и целуя их с труднопередаваемым смирением, сделались как бы немыми и почти безгласными, с изумлением смотря друг на друга и крайне пораженные необычайностью дела. Потом все вместе стали говорить ему: «Как это может быть, это ни с чем не сообразно! Как ты, лучший всех учитель, как второй Моисей, принявший слова духовного законодательства не на каменных скрижалях, но на скрижалях сердца, не чернилами, а благодатию написанные, сделаешься учеником и служителем тех, которые сами имеют нужду в том, чтобы служить и учиться твоему совершенству! Никогда не бывать этому! Мы лучше будем твоими служителями и учениками, считая Божественным законом все, что ты будешь нам приказывать, ибо для этого самого ты и пришел к нам, недостойным, Богом подвигнутый и совершенно незваный». Но так как он нисколько не отступал от своего намерения и настойчивости, всяким образом показывая крайнее свое желание общения с ними и сожительства и давая понять, что он, как бы там ни было и что бы там ни случилось, не отступит от дела, убеждает их и против воли согласиться с ним, избрав своего рода подчинением ему то, чтобы нелюбопытно следовать его решению. Итак, приняв с благодарностью его предложение, тотчас – и притом не без его желания – вручают ему попечение о храме.
47
Как он сиял, подобно некоторому солнцу, среди тех подвижников, будучи для всех примером и высоким образцом всякого добра не только притом в духовном, но и самым неутомимым прилежанием к службе и любовью к добру, и как всех поражал чрезвычайной высотой во всякой добродетели, поистине светя им молчаливым повиновением, это и подобное этому я оставляю в стороне вследствие обширности слова и пока расскажу о следующем. Один раз вышел из монастыря, чтобы привезти дров для удовлетворения настоятельной необходимости, тот, кому вверено было заведывание ослами. Вместе с ним вышел и дивный Савва в качестве помощника, так как он обычно сколько мог трудился вместе с братиями и наравне с каждым из них работал. Прибыв на луг, они пустили ослов пастись, а сами занялись собиранием дров. В это время три льва, выбежав из леса, стали быстро приближаться к ослам, как бы спеша на готовый обед. Надсматривавший за ослами, издали увидев подбегающих зверей, не подав даже голоса, стал спасаться бегством, великий же, взглянув на ослов, ибо еще не замечал зверей, и увидев, что они, сбежавшись в одно место, находятся в смертельном страхе, не понимая хорошо причины этого, а только подозревая ее, стал осматриваться кругом, как обычно делают в таких обстоятельствах, и наконец и сам увидел зверей, ибо они уже были близко от них, с львиной смелостью приближаясь к ослам с намерением растерзать их.
Сильно поболев сердцем о животных, как необходимых для обслуживания их нужд, он, однако, не прибегнул против зверей к молитве и не запретил им, хотя то и другое мог сделать с большой пользой. Ибо сохранившие незапятнанным то, что по образу[195], не лишаются нисколько древнего благородства, но царски господствуют[196], подобно первому человеку до преступления, и над самими зверями вместе со всей земной (κάτω) тварью (κτίσεως).
Такую силу имел и великий Савва, притом с большим избытком, чем кто-нибудь другой, как я сказал, но, добровольно презрев это, он опять отдает предпочтение лучшей из всех добродетелей – смиренномудрию, и притом каким дивным образом! Ибо когда он увидел, что львы устремились, как было сказано, на ослов и готовы броситься на них, он, бросившись им наперерез и весьма близко приблизившись к зверям, – о дивная Твоя сила с этим мужем! – бросается на землю и, лежа ниц, громким голосом говорит львам: «Заклинаю вас Богом, общим Господом нашим и вашим, не делайте ничего худого этим животным и даже не прикасайтесь к ним; оставьте их безопасно возвратиться домой, а меня вместо их, как готовую трапезу, растерзав когтями, ибо я вижу, что вы нуждаетесь в пище, сожрите без всякого препятствия!» Звери, сдержав свой бег, остановились, как будто разумные и понимающие сказанное. Как бы очарованные словами великого, они тотчас оставляют природную дикость и, склонив пред ним головы (можно было подумать, что они преклоняются пред ним с рабским и смиренным видом, подобно овцам), возвращаются в свои убежища, устыдившись мужа не по причине его благочестия, как в древности Даниила, но ради чрезмерного его смиренномудрия. После этого они взяли ослов – ибо и бежавший брат уже вернулся, отрясши страх смерти, – и, не потерпев никакого вреда, с радостью возвратились домой.
Когда же слух об этом разнесся, слава о великом Савве стала опять распространяться, и все говорили о нем как о богоносце и дивном чудотворце. Ибо не один только раз, говорят, великий (Савва) сотворил чудо со львами, но это для него было как бы обычным делом в подобных обстоятельствах и часто им совершалось благодаря присущей ему благодати. Да и намереваясь еще поселиться в пещере по ту сторону Иордана, как недавно было сказано, он сначала изгнал оттуда одним словом льва и потом в течение всех трех лет проводил там дивную и равноангельную жизнь с большой безопасностью. И опять, через несколько лет после этого беседуя с учеником, он с некоторой особенной приятностью сказал: «Мне часто приходилось и из общения со львами благодатью Божией получать величайшую пользу. Часто встречаясь и живя с ними в пустынях, как бы с хорошими знакомыми (ибо знай, что нередко я нарочно бросался к ним и становился среди них, так как иногда их было по два и по три), я тщательно рассматривал расположение их глаз, величие осанки (σχήματος) и как бы природную гордость, спесивое наклонение шеи в ту или другую сторону, царскую и благородную гриву и острые когти – самое страшное и опасное у львов. Это и тому подобное, – говорит, – тщательно рассматривая, как я сказал (ибо и они, против моего ожидания, позволяли мне это легко и свободно, как бы старые знакомые, любезно и весьма кротко выражая желание жить со мною), я дивное приобретал понятие о творческой силе Божией, а иногда душа моя получала от этого и великое побуждение к прославлению Бога и любви к Нему. Поэтому я иногда вспоминал и великого Давида, призывавшего и самих зверей к прославлению Бога со всей тварью, воспевая вместе с ним с великой радостью и удивлением те дивные слова: возвеличились дела Твои, Господи, все премудростию Ты сотворил! (Пс. 103:24).
48
Так умеет Господь прославлять прославляющих Его, так подчиняет тварь даже в малой некоторой мере добровольно отвергшимся ее и делает их господами и царями ее еще прежде будущего Царства и восстановления! При таких делах великого Саввы, подобно солнцу освещавшего всех близких и дальних и всеми делами и движениями показывавшего себя, так сказать, последнейшим из последних, – ибо что еще остается прибавить к этому? – приходит свыше Божественное повеление оставить непременно ту страну и поспешно возвратиться в римскую[197] державу и землю, «ибо много там, – сказал явившийся, – требующих твоей помощи и посещения; поэтому не раздумывай и не откладывай, но как можно скорее иди туда – так угодно Самому Богу!» Так сказал явившийся. Он же, поняв, что это Божие повеление, знаками дает знать предстоятелю и всем с ним живущим, что ему необходимо уйти, нисколько не раздумывая. Они же, объятые невыносимой печалью, медлили расставаться с таким руководителем и светильником и мудрым своим кормчим, но, не будучи в состоянии противиться Господнему повелению, со скорбью и горькими от души слезами и стенаниями соглашаются на его удаление и вручают его некоторым из рати своей, которые и проводили его до самого Иерусалима.
Когда же слух о нем, как бы запах мгра, разнесся повсюду – ибо одним он был лично, другим только по слуху известен, – (желавшие увидеть) его стали толпой стекаться к нему, говоря друг другу: «Савва великий возвратился после долгого отсутствия!» Вследствие этого весь путь и вся дорога были полны идущих навстречу ему, сопровождающих и сопутствующих, все они припадали к ногам его, целовали руки и ноги его с великим благоговением и удивлением, притом не только принадлежавшие к нашему двору, но немалая часть и измаильского народа, а лучше сказать все, так как все, говорю, поражены были добродетелью его и славой, как раньше уже было сказано. Даже и до начальника народа, обитавшего там в то время, дошел слух о нем, и он, не долго думая, является к великому и сильно умоляет его удостоить его какого-нибудь слова и беседы из славных уст его, усердно предлагая ему взамен много денег и все другое, чего бы он ни потребовал. Но великий, казалось, как бы говорил: «Я один и тот же везде и для всех и не изменяюсь». Поэтому варвар, еще более удивленный твердостью и непорабощенностью его души, еще с большим благоговением оставляет его, прославляя высоту нашего учения, сильно укоряя законодателей и защитников своей веры и считая дела их не заслуживающими внимания.
49
И вот провожаемый с таким почетом, хотя он решительно никакого внимания не обращал на это, великий Савва (приходит в Иерусалим) и с обычным своим усердием и любовью обходит святые мета, поражая всех искренним и горячим благоговением к ним, ибо вместе с ним и все (желавшие) беспрепятственно поклонялись святыням, так как сторожа[198] из уважения и любви к нему всем позволяли это даром. После этого, распростившись с подвизавшимися там братиями, сильно скорбевшими и рыдавшими по причине его лишения, он оставляет Иерусалим и идет пешком по дороге, ведущей в Дамаск[199] и в Антиохию[200] Сирийскую. И вот одна женщина нашего учения и обряда, побуждаемая, думаю, слухом (о нем), встречается с ним среди дороги, неся на руках, увы, мертвого ребенка. Бросив бездушную и злосчастную ношу к его ногам, она останавливает святого и, вырывая на себе волосы, царапая лицо и ударяя в грудь, воплями и плачем наполняет все и некоторыми неясными звуками, прерываемыми причитаниями, пытается пробудить сострадание в душе святого, криком и глазами, обращенными к небу, как бы призывая Господа в свидетели, что не оставит его до тех пор, пока не получит дорогое (для нее) дитя живым и (здоровым).
Что же (делает) та сострадательная и исполненная любви душа? Не напускает на себя излишней при таких обстоятельствах скромности, но, снисходя к горю несчастной матери и сострадая несчастию дитяти, при самом, так сказать, вступлении в жизнь жалостно ее оставившего, он поднимает глаза к небу и, вложив руку свою в руку лежащего дитяти, – о дивная благодать Твоя, Христе Царю! – тотчас восставляет его живым и отдает матери улыбающимся и играющим, как бы только что вставшим от сладкого сна в самом радостном и веселом настроении духа. А женщина, как оказалось, была боголюбивая и сильно любила детей. И вот, как вторая самарянка, оставив (у ног Саввы) не ведро, а любезное дитя, из мертвых восставшее, (она бежит ко) своим и делается для них вестницей великого чуда, всех своих знакомых и соседей привлекши к нему. Он же, увидев их и избегая всеми силами славы, оставив дитя, бросился бежать, сколько было силы, немного, по обычаю, уклонившись от прямой дороги, и так убежал от искавших его.
Так рассказывают об этом чуде – ибо мы не были, разумеется, очевидцами дела, – да и как бы это могло быть, когда мы так далеко живем (от тех мест) и уже нет с нами совершителя этого чуда, дивного Саввы! Но мужи благие и умеющие ценить добродетель и истину одни еще при жизни его, а другие после его преставления сообщили нам (об этом), точно узнав от приходивших оттуда добродетельных мужей, по словам которых великий дважды совершил то же чудо, разумею воскрешение мертвых, и я не знаю никого, кто бы сомневался в этом, но все единодушно верят этому дивному рассказу как вполне соответствующему сказанному уже, а равным образом и тому, что еще будет сказано и что еще более удивительно и славно. Ибо если путь любви, говоря словами великого Павла, есть путь без (всякого) сравнения превосходящий (см. 1 Кор. 13:13) все дарования духовные – ибо Бог есть любовь (1 Ин. 4:8), согласно словам превосходнейшего тайновождя и таинника, разумею Наперсника-Богослова, – вследствие чего на этой заповеди утверждаются, как говорит Божественное Слово, закон и пророки (Мф. 22:40), а наш великий Савва достиг до вершины ее, подобно прославившимся этим древле и ныне, и никто не станет противоречить этому из знающих хорошо дела его, почему с плотью сподобился и непосредственного боговидения вместе с бесплотными, как один из ближайших к Богу, – то как бы он не удостоился дивных и великих дарований, если и величайшие те и славнейшие (мужи), как было показано, во многом ему уступали? И это говорится не просто и как попало, но вполне серьезно и основательно.
50
Достигши Дамаска, а потом и Антиохии, куда он спешил, как раньше было сказано, великий Савва проводит несколько дней и в этих городах. Потом, придя в одну тамошнюю гавань, находит корабль, готовый отплыть в Константинополь. Он охотно входит в него, имея в уме только что упомянутый город, как имел его в намерении, как я сказал, и начальник корабля. Но так как ветер все время был с другой стороны, то, когда им стало не под силу противиться напору его, ибо Промыслу, по-видимому, было угодно, чтобы преподобный повидал и друге места и послужил прежде на пользу душ в них, – они предались на волю его и пристали прямо к Криту[201]. И вот, пристав к острову, они стали, как и следовало, выжидать там благоприятного ветра, а он, решив, что не без воли Божией случилось ему прибыть туда, сходит тотчас с корабля и, никому решительно не известный, как бы бесплотный какой и невещественный или, лучше, птица, а не человек, ничего не имея с собой, кроме тела, удаляется в любезную для него пустыню, в течение целых двух лет обходя горы, пропасти и всякие необитаемые места и, вопреки всякому закону природы, удовлетворяя потребность естества одними травами и водою. При этом он достиг такой чрезвычайной славы и высоты и такой власти, так сказать, над веществом, еще соединенный с ним, что в течение всех этих двух лет – о новое и превышающее всякий человеческий ум таинство! – совсем даже не вспоминал ни о сидении, ни о ложе и даже так совершал и необходимые естественные отправления. Так он принимал и кратчайший сон, если можно назвать сном тот сон, который он принимал, прислонившись к какому-нибудь дереву или случайно попавшемуся камню, подобно тому как старики поддерживают себя с помощью жезла. Проводить такую чуждую природе человеческой жизнь он никогда, конечно, не мог бы, если бы не имел вышеестественной благодати, живя, таким образом, с Ангелами, как я сказал, и почти забыв о своей природе, подобно древним отцам, о которых сообщается и в других сочинениях, а (особенно) в дивном повествовании о подвигах славных сирийцев, называемом вследствие этого «Филофеем»[202]. «Ибо не было, – говорит славный, – ни одного жития древних (подвижников), писанного или неписанного, вспомнив о котором в эти годы, я не постарался бы с помощью Божией всем произволением души превзойти его или по крайней мере подражать ему и не оказаться ниже. При такой суровейшей жизни, при двухлетнем, то есть, стоянии, я подвергался и величайшим как никогда испытаниям. Ибо ноги у меня, – говорит, – опухли и сделались подобными столпам, и я не знаю, как я и ходил, – мне казалось, что это были не мои, а чужие. Однако и это сделал не я, – замечал он, – но сила Божия, выше всякого слова действовавшая во мне, недостойном». Так он сам ученику своему при конце жизни пользы ради рассказывал, да и многие знали о многих его подвигах, хотя он сам, думаю, самый достовернейший и важный свидетель, с чем, кажется, согласится всякий хорошо знающий его.
51
Совершив вышеестественно круг двух лет в таких подвигах, опять неведомый никому из критян, славный уходит из Крита и прибывает в Эврин[203], пробыв здесь таким же образом в горах и пустынях равное число лет (ибо и здесь также травами только и водою питался да плодами диких деревьев, подобно Крестителю, если где встречал дикие плодовые деревья), никому не известный и совершенно одинокий, а потом приходит в славный Пелопоннес[204]. Здесь он не всецело уединялся, как в прежде упомянутых пустынях, но иногда посещал и тамошние города и обители монашествующих, исторически известные издревле. И здесь он не превысил вышеупомянутого времени, но, прожив два года в таких же трудах, направился в Афины, издревле знаменитые философией. Когда же он увидел, что рассказываемое о них не соответствует действительности и вместо древней славы и блестящего рода мудрецов (царствует) варварский образ мыслей и жизни, как можно скорее переходит в следующие города – Патры[205] разумею и всю остальную Элладу. И еще проходит полтора года. Пробыв здесь, таким образом, довольно времени, он опять направляется в давно желанную Византию. Войдя в готовый к отплытию корабль, он сперва пристает к острову Тенедосу[206], а потом оттуда прибывает со спутниками в Хероннес[207] и, выйдя из корабля, идет сухим путем пешком, пользуясь собственными ногами, как и раньше. И сперва проходит Македонию, посещая и некоторые из тамошних городов, известных по истории, особенно более знаменитые, а потом, перейдя оттуда во Фракию, скоро приходит и в нашу Гераклею[208], недавно тогда еще возникшую, возобновленную и населенную во второй раз старанием Андроника, славно царствовавшего среди Палеологов. Обойдя ее кругом и всю осмотрев – ибо в ней находятся и портики, и некоторые остатки древних сооружений, и места очень удобные для уединения благодаря удалению от всякого шума и ровному и умеренному климату как в зимние холода, так и в летнюю жару, – он избирает расположенное вблизи южного моря, утесистое и непроходимое и благодаря различным неудобствам малодоступное место и, войдя в одну пещеру, так сказать, висящую над морем и издревле служившую местом обитания для любителей безмолвил, заключается в ней и начинает проводить обычную свою безмолвную жизнь. Там был сооружен и священный жертвенник (ϑυσιαστἡριον) – дело благочестивой и добродетельной души – с начертанными с правой стороны на одной арке (στοάς) священными чертами Господа, поистине Божественная вещь и истинное изображение богомужнего вида. Ибо, переходя своими размерами почти за средину его (жертвенника), оно не лишено, как можно было бы думать, симметрии и красоты. Напротив, Божественный тот Лик сияет такою светлостью и красотою, не столько, думается, искусственной, сколько естественной и неизъяснимой, что взирающий на него никогда не может достаточно насытиться, и даже более того, исполняется каким-то неизъяснимым удовольствием, как бы окрыляемый любовью к зрению и с трудом будучи в состоянии отстать от него. Поэтому и почитаемый чрез него Господь обильную подает благодать приходящим с искренней верой, врачуя души и тела. Заключившись там телом, божественный Савва, как какой-нибудь дикарь (αγροίκος) среди дикарей и для всех чужой, пребывал там очень долго.
52
Когда же некоторые из жителей города, а особенно честью священства и клира почтенные, почитая дивное его молчание и ангельское подвижничество, стали часто приходить к нему, принося ему пищу, припадая благоговейно к ногам его и прося слова на пользу, он, презирая человеческую славу, притворяется, как и раньше, дураком. Когда же ему не удалось убедить их в том и они еще больше стали удивляться богатству его смирения, он оставил те места и прибыл в давно желанный город, разумею Константинополь. Первым и важнейшим для него делом при этом было посетить Божественные храмы, убежища подвижников и честные монастыри, решительно ничего не оставляя божественного в нем неисследованным, чтобы не лишиться духовного благоухания и благодати[209], отсюда происходящей. А так как это совершилось по его (давнишнему) намерению, то он от всего сердца благодарил Бога за Его великие милости – что Он удостоил его увидеть и давно желанный царствующий город и свободно жить в нем, обильно пользуясь согласно с его намерением его храмами и святынями, и получить таким образом исполнение своих желаний. Потом, как бы воздавая благодарность Даровавшему такие милости, а лучше, испрашивая больших (благ), он приходит наконец в один монастырь, названный по имени мученика Диомида[210], и, заключившись в одной из его келлий (δομάτιον), предается там любезному своему образу жизни и безмолвию, совершенно неведомый никому и ни с кем не разговаривая. Ибо так как лицо и глаза у него хорошо были закрыты честным головным покровом, то едва ли кому-нибудь удавалось как-нибудь его увидеть, по большей же части он совершенно никем не был видим, так что ни голоса его не слышали, ни лица его не видели, как я только сказал. Ибо мудрый премудро решил и там, как в пустыне и уединении, проводить жизнь, и городские дела нисколько не воспрепятствовали ему в осуществлении его высокого намерения. Но он боялся славы, еще раньше не только до византийцев, как я сказал, но даже до Афона и до самой Фессалоники разнесшейся о делах его. Немало боялся он также и жителей города, находившихся в дружбе и в частых деловых сношениях больше всего с фессалоникийцами, чтобы кем-нибудь не быть случайно узнанным (ибо не из безвестных по роду и добродетели были его родители, как раньше было сказано, чтобы касающееся их дело могло укрыться), тогда он сам был бы виновником прекращения (своего) мирного состояния и уединения. Поэтому, прочно отовсюду заключив телесные чувства, он для всех был мертв, как написано (а равным образом и для него все были мертвы), и неуклонно пребывал в Боге, созерцая посылаемые Им таинства и осияния.
53
Не мог укрыться светильник такой добродетели, ибо не может, говорит Божественное Слово, укрыться город, стоящий на верху горы, и не возжигают светильник и поставляют его под сосудом (ρόδιον), но на свещнике светит всем находящимся в доме (ср. Мф. 5:14–16). Явным поэтому сделался и великий Савва, и вот каким образом. Слава о нем, светло распространившаяся по всему Константинополю, дошла и до царя, а раньше этого до великого предстоятеля Церкви, которые, нисколько не раздумывая, упрашивают его показаться им и поговорить (с ними). Но он решительно не соглашался на это. Когда же они, и дважды, и трижды, и много раз попытавшись, увидели, что стараются напрасно, тогда стали с удивлением хвалить твердость его и неподражаемую добродетель. Однако немало при этом они боялись и того, чтобы он не имел неправого понятия о Боге и, тайно беседуя с посетителями, мало-помалу не примешал к благородному семени Церкви неправильного учения. Ибо всякому слову его, говорили они, легко могут поверить, так как всем известно, насколько он высокую и похвальную проводит жизнь. Так между собою переговорив, после того как личной попыткой ничего не могли достигнуть, ибо не могли убедить его, как я сказал, они предпринимают другого рода дело и, выбрав от Церкви и синклита (сената) мудрых, ученых и способных распознавать нравы и убеждения людей и из видимого выводить заключение о внутреннем, а также весьма опытных и искусных в оценке добродетели и различении обмана, как бы камень лидийский[211], выражаясь образно, посылают их к великому, поручив им всяким образом расследовать касательно его и теперь особенно показать свое искусство. Они же, придя к нему, сперва требуют, чтобы он побеседовал с ними, ибо они имеют посоветоваться с ним в неотложном деле, посланные для этого самим царем и патриархом. Когда же после долгих разговоров они не могли склонить его к этому, тогда говорят: «Ты оставишь нас в недоумении, наш ли ты, или из противников наших (Нав. 5:13), если устами не объявишь о себе и о всем, касающемся тебя, сколько тебе это возможно, ибо нет никого, кто бы не удивлялся высокому твоему подвижничеству и жизни, а также нраву и всему поведению твоему. Нужно поэтому, и в этом настоятельная, говорим, необходимость, чтобы ты объявил нам свое понятие о Боге, которое ты в душе имеешь, чтобы, если в этом окажешься согласным с нами, и Христова невеста, именно Церковь, обрадовалась, и благороднейший (αριστον) царь с нею. Тогда мы все признаем тебя отцом и предстателем пред общим Господом и хранителем душ и телес наших. Итак, неужели ты не освободишь нас всех от овладевшего нами теперь сомнения, чтобы нам утвердиться на каком-нибудь основании, а не колебаться туда и сюда, как будто во время волнения и бури!»
54
Когда это и тому подобное сказали те мудрые мужи – смотри, какое искусное и вполне достойное себя предпринимает дело та дивная и любомудрая душа! Ибо, решив не огорчать ни мудрецов тех, ни посланных с ними и при этом соблюсти и образ жизни свой, и первое решение совершенно ненарушенным, он тотчас встает с седалища и, упав пред ними на землю, от всей души начинает целовать их ноги, а потом, поднявшись, он подобным же образом перецеловал, обнимания, руки и глаза и лица их, и (наконец), возложив на свою голову их руки, стал просить их священно знаменовать (его), показывая через это и свою любовь к ним, и общение в вере, и вместе благоговение к Церкви. Потом и бумагу согласно их желанию испросив, стилем (γραφίδι) обеими руками своими честное знамение нашей святой веры и все прочее исповедание православного учения твердо обозначает, прибавив ко всему, что он и патриарха держится (προσεχειν) и подобающий от души воздает ему почет, как действительному архиерею Божию, и к божественному[212] царю питает при этом должное уважение и благоговение, как от Царя всех помазанному и получившему повеление быть на земле Его образом. Внимательно рассмотрев написанное, они в немом изумлении смотрели друг на друга, ибо их до крайности поразила не только здравость и правильность учения, но и красота, и ум, и искусство во всем написанном. Поэтому, павши все вместе на землю, они поклонились ему, целуя послужившие этому руки, а также и уста, и глаза, и все, словом, члены, а потом стали усиленно просить у божественной той души святых молитв. А он, показывая равным образом общение и родство с ними и в этом, подняв тотчас руки к небу, горячо стал о них молиться Богу. Здесь требуется особенное внимание к рассказу, имеющему нечто довольно высокое и сокровенное. Ибо, когда великий молитвенно воздвиг о них руки и ум к небу, Бог свыше явно показал им благодать, которую имел у Него Его служитель. Ибо Божественная сила, невидимо сошедши свыше, дивно просветила их умы, так что они явно ощутили добродетель мужа и узнали его гораздо лучше, чем могли бы судить о нем по наружным чертам и знакам. Вследствие этого вдруг у всех их из глаз ручьями потекли слезы, и они почувствовали неизреченную любовь, пролившуюся в сердца их. Не будучи в состоянии удержаться от радости и изумления, воздавая великие благодарения Богу, они, пораженные и изменившиеся, выходят оттуда, кланяясь ему с великим уважением и благоговением и называя его ангелом земным и воистину богоносцем. «Мы сами, – говорили они, – неложные свидетели (его святости), так как сердца наши ощутительно для нас усладились и как бы изменились ко всему благому от духовной благодати его и славы».
55
Об этом стало известно и царю, и великому предстоятелю Церкви, и скоро (слух об этом) наполнил весь великий тот город и все почти говорили о нем и дивились его подвигам. Что же выходит отсюда? То, чего и раньше еще сильно опасался святой, а лучше, – то, что он ясно провидел прозорливыми душевными глазами, совершилось теперь явно и для всех очевидно. Ибо когда таким образом слава о нем стала сильно распространяться и на царский локоть[213] (βασιλικώ πήχει), как говорят, с каждым днем увеличивалась, то происходившие из одного отечества с ним и вообще давние его друзья и родственники, которых немало туда приходило, как выше было сказано, исследуя и выведывая, как охотничьи псы, сообщаемое о нем и точно разузнав о его наружном виде, расположении членов и телосложении (κρασις στοιχείων), нисколько не сомневались, что это он, и не могли удержаться, чтобы не говорить с великой радостью и удивлением: «Это он, сам дивный Савва, а не иной, общая радость нашего отечества, слава народа, великая печаль и огорчение родителей, которые, несмотря на великую славу о нем, доходившую до них, неохотно без него даже жили, так как не могли уже видеть любезнейшего. И мы, как знаете, слышали о нем много великого и необычайного, а именно что он ведет какой-то новый и неслыханный образ жизни, а во время пребывания на острове Кипр много искушений перенес ради Христа, после чего, великих дарований за это удостоившись от Бога и сделавшись обителью святого Духа, совершил множество величайших чудес. Ибо он явился не только больных весьма быстрым врачом и поврежденных телом надежной крепостью и исправлением, но и мертвых – о чудо! – воскрешал одним прикосновением рук. Поэтому не в одной только Палестине и Иерусалиме, но даже и в земле сирийцев он чрезвычайно прославился, как никто и нигде!» Когда же благодаря таким разговорам слава о нем распространилась повсюду, убеждая всех смотреть на него выше, чем на человека, – так как он действительно проводил вышечеловеческую жизнь, – ежедневно стали стекаться к нему рекою люди всякого рода, звания и положения. Тогда он, не вынося этого и всегда высоко ценя смирение, уединение и неизвестность (ανώνυμον), как бы какой крылатый, быстро убежав от всех и не дав даже почувствовать о своем удалении, опять прибывает на любезнейший Афон и отдает ему себя, как духовно родившему и воспитавшему.
Теперь я хотел бы подольше заняться рассказом о том, как началось наше знакомство и дружба с великим, какую также мы получили пользу от дивного общения и сожительства с ним, рассказать о наслаждении от обитавшей в нем благодати, вспомнить по силе о его привычках и речах, так как из всех мне это особенно прилично, ибо я более других был очевидцем и свидетелем всего этого. Но меня, с одной стороны, отклоняет от этого обширность рассказа, с другой – разные неожиданные обстоятельства, а также необходимые занятия, препятствующие этому, почему будем идти средним путем, сколько возможно избегая отклонения в ту и другую сторону. Если же где и превысим меру, понуждаемые желанием, то сострадание в беде, говорит, свойственно праведным, да и перенести (эту беду) необходимо для всех, имеющих ум.
56
И вот принял любезный Афон давно любимого, славно совершившего прекрасную торговлю и с величайшим богатством добродетели и грузом духовных дарований благополучно возвратившегося. Как тот, так и другой светло радовались друг о друге, совершая некоторый славный и божественный праздник, один по причине того, что увидел, согласно своему желанию, любезное собрание отцов целым, а другой тому, что опять принял любезнейшего, и притом некоторым образом более сильным, чем прежде, и поистине величайшим, нимало не разочаровавшись в своих надеждах и не обманутый славою о нем, по большей части обманчивой, найдя дела, вполне согласные со слышанным. Поэтому они[214] воздавали за это благодарение Богу и вместе с Саввой прославляли Его. И вот, продолжая еще упражняться в любезном молчании, великий обходит Священную Гору для обозрения и поклонения ее святыням, а потом отдает себя, как некоторый долг, дивной Ватопедской лавре, так как ей и раньше он был подчинен, как прежде было сказано, со своим наставником. Последний, возвратившись после бегства обратно, блаженно оканчивает там жизнь, имея в глубокой старости союзницей добродетель, до конца расцветшую. Ученик же его, а потом отец по богатству добродетели, великий среди отцов Савва, несмотря на свое величие, по чрезвычайному смирению избирает подчинение и усердно от всей души просит отцов видом и знаками, чтобы они приняли его для этого самого[215].
Получив желаемое, он разрешает и язык от тех долгих уз и отрыгает (Пс. 44:2) благовременно благое слово, «расширяет уста» и «исполняет» (ср. Пс. 80:11) их всяким знанием и мудростью, износя обильно собранное в сердце его духовное сокровище, сокровище живое, гораздо лучше золота и драгоценных камней (ср. Притч. 8:19), говоря словами мудрого Соломона, запертый сад и запечатанный источник (Песн. 4:12), благовременно открытые для пользования, гавань отрады и всякого спасения (см. Притч. 2:7), говоря опять же его словами, застигнутым (бурей). Кроме того, причислившись к тамошним отцам, как я сказал, он избирается нести обязанности по церкви и делается одним из священновоспевающих божественные (песни) в хоре. Кто же может рассказать как следует о его поведении там и образе жизни, бывших истинным образом и вернейшим правилом монашеского жития! Ибо, как бы оградив себя со всех сторон, как говорят, барьером (έκ βαλβίδος)[216]έαυτόν συναγαγών, он совершенно заключается в монастыре, совсем не выходя даже за общие ворота, разве по приказу представителя или при выходе братии, как у них делается по временам, когда они или общими гимнами и молениями умилостивляют Бога, или собирают плоды земные на расположенных кругом полях ради неотложной потребности тела. Таким образом, мудрый проводит там три года поистине мудро и хорошо, дивно ухаживая за храмом, пользуясь общим с братиями столом и проводя общую с ними жизнь, а также посещая больных и ухаживая за ними.
И всем этим он занимался не как кто-нибудь из прочих, иногда старательно, а иногда опять с меньшим усердием и немного, но так все (делал) внимательно и с таким старанием, как никто никогда и одного из всего этого (не совершал), будучи для всех, особенно для прилежных (из тамошних иноков), образцом во всем и превосходнейшим примером, весьма удивительным и желательным, но ни одним из них в точности не достижимым. Ибо со звуком священного колокола входя во храм, он последним из всех выходил оттуда и с таким прилежанием и трезвением стоял там, как будто находился вместе с Ангелами и чисто предстоял Самому Богу. Никто решительно не видел его разговаривавшим во время Божественного пения, или присевшим по причине всенощного стояния, или сном объятым когда-нибудь, или прервавшим по какой-нибудь лености молитву или песнопение. У него не было места для таких человеческих недостатков, так как он, давно став выше человека, крепко удерживался даже от самых естественных потребностей. Ибо никогда не видели, чтобы он вышел по какой-нибудь телесной, как человек, нужде даже в зимние притом ночи, обычно, как мы знаем, самые продолжительные в году, прежде чем не окончится по обычаю честное песнопение, но стоял как какой неутомимый и бесстрастный, так как у него вместе с дивной душой сделалось уже неподверженным тлению и тело, говоря согласно учению об этом богоносных отцов.
Более же великое, чем это, и самое удивительное было то, что он так во всем был исправен, так легко до мельчайших подробностей исполнял все, что казалось некоторым, будто он нисколько не старается, но как бы пользуется больше физическими преимуществами, так как и этого поистине было для него мало, давно сделавшего душу свою храмом Божиим и всегда пребывавшего в созерцании Его в высшей, чем доступно человеку, степени. Поэтому если когда-нибудь кто-либо удивлялся чему-нибудь из этого, то он спешил приписать это прежде всего телесной крепости и долгой привычке, а также тому, что он ничем, мол, другим не занимается, как другие братия, а потому естественно, по всякой необходимости, что он лучше прочих это и совершает. Так и в чем-нибудь обычном для других, как бы и сам подлежащий тем же необходимостям, он не выделялся образом жизни от других, добровольно ослабляя в чем-нибудь обычную строгость, чтобы, обманув чувства многих, не выдаться чем-нибудь (из среды их) и избежать мнения, что он выше других. Иногда и выходило по его намерению, так как эта хитрость (οικονομία) ускользала от многих, но для друзей и внимательных он и тогда был предметом величайшего удивления, и они так сильно к нему привязались, что как будто только им и дышали.
57
Там и мы, недавно еще тогда освободившиеся от мирского шума и обычной в нем молвы и смущения, встретились, против всякого ожидания, с этим великим сокровищем, а вернее человеколюбивый Бог, более нас самих желающий нашего общего спасения, человеколюбно вручил ему, как врачу и мудрейшему воспитателю, немощь нашу, когда мы, прибыв на славный Афон, не без воли, конечно, Божией избрали для жительства лавру, скрывавшую в себе это дивное сокровище. Он, с первого же раза увидев нас, не равнодушно отнесся к нам, но, как бы какой-нибудь нежный отец, тотчас открыл нам объятия любви своей, и с того времени мы были с ним единодушны и нераздельны, хотя говорить это и высоко для меня. Ибо что касается великого, то он хотя решительно для всех был общим некоторым руководителем в добродетели и как бы пристанью всякой отрады и явным и тайным увещанием, но особенно для находившегося около него любезного хора, участники которого постоянно слышали его и были свидетелями тайн, неизвестных прочим, – я разумею именно наш кружок, о котором вблизи и далеко отзывались с величайшей похвалою. В нем я тогда занимал первое место как по любви, так и по чести, так что все почти прочие участники хора вместе с ним ниже меня стояли (не могу сказать, добровольно или против воли), а я стоял первым над другими – о горе! – и мы были, таким образом, по евангельскому, думаю, слову, первые последними и последние первыми (Мф. 19:30), почему меня немало беспокоит мысль, чтобы это не было предуказанием будущего и чтобы не явиться мне в числе последних из званых и избранных. Поэтому я осуждаю себя и испытываю стыд пред божественной той и поистине непостижимой душой, чтобы хотя каким образом искупить смелость слова. Для чего ты, человек Божий, пожелал вывести против коварной силы врага такую ничтожную, немощную и скорее нуждающуюся притом в жезле укрепляющего ее слова, чем способную носить оружие и сражаться впереди других душу, настолько укрепив ее, что и самые мужественные и гораздо более крепкие по доблести душевной не могут сказать, что она уступает им в сражении? Но это ты один знаешь, а я об этом не могу правильно судить. С полной уверенностью скажу только то, что ты не только позаботишься о нас, но весьма скоро подашь и помощь и избавление. Это побуждает меня и думать и говорить о том, как велико твое дерзновение пред Богом и душевное к нам расположение, которое еще более, вероятно, увеличится, как ты нам самим, еще будучи здесь, некоторыми предзнаменованиями как бы возвестил. Но касающееся нас пусть направляется его молитвами куда Богу угодно, а слово должно опять продолжать рассказ о дальнейшем.
58
Так великий, как сказано было, пел вместе с поющими божественные песни, а также читал, подобно другим, по обычаю, и притом с должной тщательностью и искусством, так что нисколько не менее и в этом являлся образцом для всех, казался чем-то чудным и достойным удивления для стоявших вместе с ним. Ибо иногда святое его лицо – как и сам он по больше части – виделось (исполненным) радости и неизреченного удовольствия, а иногда опять он был полон, казалось, задумчивости и некоторого изумления и ужаса, иногда же и головным покровом (περικεφαλαία) закрывал лицо, так что совсем никем не был видим в течение всего времени славословия. Таким образом, нам, уже знавшим о добродетели его, он являлся различным по виду. Ибо обыкновенно когда душа занимается высокими созерцаниями, тогда по всей необходимости и лицо наше вместе с ней, по сочувствию, изменяется, почему и спрашивать об этом (у него) не было нужды. Но один из бывшего возле него кружка, который потом и учеником его был, и служил ему до кончины его, побежденный, с одной стороны, любовью к великому, с другой – дерзновением и простотою души, подойдя к нему, стал горячо просить разъяснить ему это явление. Он же сперва как будто удаляет его от себя и укоряет, говоря: «Для чего ты, друг, не внимаешь лучше себе и не смотришь за собою, собирая чувства и самый ум, как следует, но, оставив это, хотя оно так необходимо нам, занимаешься рассматриванием чужих лиц, не принявших против этого должных мер предосторожности!» После же того, как он довольно постыдил его, советуя внимать самому себе, отечески опять и нежно призывает к себе и тотчас дает разрешение недоумения. «Когда ты видишь меня, – говорит, – радостным и благодушествующим, с веселым и радостным лицом и глазами, удовольствия и радости исполненными, то знай хорошо, что Сам сладчайший Иисус, общий наш Господь, по чрезвычайному человеколюбию неизреченно и сверхъестественно является мне, и вследствие осияния моего сердца чудным блеском Божественного и пресветлого света Его и исполнения радостью и чрезвычайными дарованиями и наружность моя и тело, как видишь, изменяются соответственно этому. Когда же, напротив, ты видишь меня как будто мрачным и полным задумчивости и страха, то знай, что я печалюсь о человеческом несчастий и уничижении, именно о том, как они, противоестественно отпавши от Его славы и красоты, увлекаются бесчестием и этими вещественными призраками и вместо того, чтобы быть с Богом и причащаться Его сладости и света, кружатся в лукавом мраке греха и живут вместе с мысленными змеями и скорпионами, разумею ядовитых демонов, ежечасно напаяя друзей своих душепагубным ядом. И вот когда мой дух занимается этим созерцанием и весьма страдает от сознания общей греховности нашей природы, тогда вместе с ним страдает, как видишь, и изменяется и мое лицо, иногда же созерцание доводит меня до плача и слез, почему я и лицо тогда закрываю, умудряя, сколько возможно, разум разумным». Когда же ученик и друг естественно изумился и опять спросил, ужели он всегда пребывает в таких созерцаниях, он сказал: «Не всегда это, друг, бывает, так как я не сам собою дохожу до такого состояния, ибо как это могло бы быть, когда я сознаю свое недостоинство? Все это является мне по изволению Божию, решительно без всякого моего старания и усилий».
59
Когда славный так светло сиял, скрывая, сколько возможно, высокое, но тем не менее был всем известен высотою любви и смирения и вследствие этого почти от всех был удостаиваем высокого почета, старейшие других летами и добродетелью единодушно решаются почтить его достоинством священства, лучше же сказать, дать приличное место святейшему и первому среди воинов и почтить за добродетель достойного поистине всякой чести, а вместе с тем прославить и себя прекрасным тем решением и хиротонией и доставить тем общую и обильную пользу не только вместе с ними находившимся, но и далеко от них отстоявшим. И много упрашивают его чрез меня принять хиротонию. Когда же мы никак не могли убедить его, хотя я усиленно упрашивал его, стараясь вынудить у него согласие, – ибо любовь давала мне достаточно смелости на это, – он сказал: «Зачем ты, лучший из друзей, сам принуждаешь меня рассказать о том, чего тайно добиваются отцы! Тебе кажется это дело как будто легким и нетрудным, так как ты обращаешь внимание только на наружную сторону предложения и вследствие этого усиленно стараешься убедить меня. Но неужели же я соглашусь исполнить их глубоко хитрое желание и приму на себя духовное управление[217] людьми и начальство над народом и подобное этому, что они намереваются возложить как бремя и как бы неразрешимые оковы на мою душу, предлагая мне для этого хиротонию, как бы какую-нибудь подставку и основание будущего. Но как же будет возможно для меня, оставившего по личному желанию мирские дела, опять, как бы раскаявшись, заниматься ими несмотря на то, что я давно уже отрекся от мира и близкого общения с ним. Разве ты не видишь, какое тщание и искусство в этом имеют связанные (этими узами)? Да и должно решительно пригвоздить себя на всю жизнь к этому занятию, оставив все. А у меня, друг, – говорит, – совсем нет досуга для этого!» И тотчас мудрый приводит (для пояснения этого) и прекрасный пример.
«Тесные деревья держали, – говорит, – совет и рассуждали друг с другом относительно начальствования и власти. И вот, как обычно бывает в таких обстоятельствах, одни предоставляли это одним, другие другим, и, наконец, все по одному огласившись, вручают начальство виноградной лозе. Когда же они стали ее просить об этом, она сказала: “Я никак не желаю начальствовать над единоплеменными, как бы презирая приятность и славу моего собственного плода”. После того как были избраны смоковница и другие плодоносные деревья и подобным же образом отказались от начальствования, подают голос по необходимости за терновник, который и принимает, – говорит, – тотчас начальство, как не имеющий совсем плода и поэтому имеющий время принять на себя эту обязанность. Не то мы желаем сказать, – говорит, – друг, что начальствовать над людьми есть непременно знак бесплодия, не поэтому отказываемся через сказанное от предстоятельства над единоплеменными, но по причине духовной высоты дела, за которое поистине велика ответственность пред Словом Божиим, первым Пастырем и Архиереем, предавшим вышеестественно душу Свою за словесных овец. Ибо это на самом деле велико и требует Божественной или, по крайней мере, Ангельской силы. И кто, по Господнему слову (Лк. 12:42–53), верный и разумный строитель, которого поставил господин его над служением его давать братьям и сорабам в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин, придя, найдет поступающий так. Ибо он, мысленные свои уста отверзши, привлек благодать Духа, и мучился, и, говоря с пророком, родил на земле дух спасения и как уста божественные сделался, дивно изводя, по словам пророка, достойное от недостойного. А нам всем, – говорит, – шествующим по низкому и безопасному пути, достаточно сколько есть силы внимать себе, предоставив свои вожжи другим, согласно со словами мудрого, и безопасно идти за духовными вождями и начальниками».
60
Так говорил дивный, жилище мудрости, крайний предел высокого смиренномудрия, дивный зритель тайных богоявлений и неизреченно истекающих оттуда осияний, совершенно просветившийся душою и телом, соблюдавший и любимое свое безмолвие, и твердость и неразвлекаемость в созерцании, и вместе с тем и другим делом научавший, как должно об этом думать и с какой подготовкой и благоговением всякий раз приступать к священному чину (άγιωτάτω των ταγμάτων). Поэтому с этого времени мы решительно перестали просить великого об этом, с одной стороны убежденные сказанным, с другой – удивленные чрезвычайной его добродетелью, и смотрели на него выше чем на человека. Он же, опять принявшись за обычные дела, был образцом для находившихся с ним, как я недавно сказал, во всякое время и во всяком деле и чрезвычайно высоким смиренномудрием всех покорял себе. Это будет ясно из имеющего сейчас быть сказанным.
Один раз захотелось игумену (άφηγουμένω) обители почтить великого председательством за общей трапезой братий и поместить достойнейшего из всех вместе с пресвитерами и лицами, выдающимися по достоинству, которые занимали места впереди прочих. И вот, когда наступило время обеда и они были у самого входа, он являет свое намерение ему, пользуясь одним из прислуживавших за трапезой как вестником его слов и прося с великим благоговением не отказать в просьбе. Он же, часто повергаясь на землю, отказывался от предлагаемой чести председательства, называя себя недостойным. «Я вполне, – говорил он, – доволен обычным своим местом и считаю весьма тяжелым переменять его». Но предстоятель, понимая, что это отговорка и слова, прикрывающие его скромность, еще с большей горячностью стал упрашивать и умолять его, говоря: «Взойди, отче, ради самой божественной любви и обитающего в твоей чистейшей душе рассуждения, так как тебе особенно прилично пресвитерское место и честь председательства, как имеющему и без хиротонии освященную душу (ἐν τοΐς τρόποις) и всех нас без сравнения превосходящему во всем высоком, ибо почет зависит не от сана, но от дел и высоты добродетели». Но он еще более держался скромности и любезного смирения, в котором никому не уступал, говоря и делая все то, что прилично говорить и делать упражняющемуся в этом, трогательно испрашивая прощения за это. Когда же после долгих упрашиваний он ничего не успел и нисколько не изменил решения Саввы, то и против воли по необходимости вынужден был оставить это дело, объятый немалой печалью, огорченный и досадующий вследствие недостижения цели.
Вышеупомянутый ученик великого и друг, заметив это (ибо в то время он присутствовал, прислуживая общему отцу, еще не причисленный к ученикам его, хотя душевным расположением и по силе делами он был всецело привязан к нему и дышал им больше, чем этим, так сказать, воздухом, содержащим живительную силу) и пользуясь удобным случаем, ибо он желал, как сам потом говорил, и терпение великого из самых дел узнать, и то, как он отнесется к наносимым извне упрекам и издевательствам, – стал сильно просить предстоятеля укорить божественного Савву и при всех нанести ему бесчестие и выбранить как хвастуна и гордеца и не выказавшего, выражаясь словами святых отцов, нелицемерного послушания, но более старающегося исполнять собственное желание. «Ибо хотя это, – говорит, – и дерзновенное дело вследствие обилия в нем благодати во всех ее видах, но, думаю, не будет хулою и презрением Бога по причине общей пользы твоей паствы».
Убежденный этим, предстоятель лавры при тайном побуждении на это от Бога, чтобы и здесь великий воссиял в церкви великой и привлек, подобно огню, к пристани бесстрастия борющихся в буре и в волнении страстей, когда окончился обед и все собирались выходить из здания, в котором находилась трапеза, задержав собрание, начал осыпать святого бранью, укоряя его с гневом и горечью при всех и называя хвастуном и лицемером, исполненным преслушания и гордости, ложно, только для показа и обмана, а не поистине личиной добродетели облеченным, и подобное этому. Все это время Савва стоял наклонив немного голову и смотря в землю с некоторым трепетом и сокрушением, как бы во время слушания и совершения таинств, будучи весь собран, как можно было бы сказать; некоторая невидимо явившаяся благодать дивно сияла на его лице, и весь он был полон неизреченной радости и веселия, ибо это было видно вышеупомянутому ученику, устроившему это дело и с любопытством на него смотревшему. После того как предстоятель, достаточно выбранив, перестал поносить великого, он, тихо подняв глаза и весьма честно отверзши уста, произнес такие дивные и поразительные слова, ибо, прозрев проницательным глазом души тайно устроенное, соответственно этому и отвечал, а не на видимое поношение в лицемерии. «Ты, – говорит, – божественная и любезнейшая глава, высказывая мне это, думаешь нанести моей душе некоторую неприятность и печаль и ожидаешь увидеть меня вследствие этого сколько-нибудь недовольным или малодушествующим помыслом по отношению к твоей священной душе, но я сильно прошу тебя, моего отца и господина, верить – да будет свидетелем в этом Видящий истинное и тайное совести, – что я неизменен и тверд и вообще неуклонен в любви и вере к тебе. Ибо чем более ты движешь на меня наружный этот гнев и негодование, как ты сам знаешь, и моешь поношениями и бранью, показывая вид негодующего и весьма гневающегося, тем больше у меня вскипает в душе, не знаю как, любви и веры к тебе, и мне кажется, будто я ношу тебя в широте моего сердца скачущим от радости и таинственно и сладко обнимающим меня. Итак, не думай, что этими оскорблениями и поношениями ты отвратишь меня от долга и первого решения по отношению к твоей любви, если даже во много раз больше сказанного причинишь мне бесчестия, осыплешь бранью и насмешками или даже и раны наложишь на меня и из монастыря выгонишь и от сподвижников далеко куда-нибудь удалиться прикажешь. Горячность божественной любви к твоей священной душе тогда еще большей у меня сделается и загорится светлым духовным пламенем. Итак, подбрасывай к огню любви еще больше дров – насмешек и обид, божественная глава, чтобы она, ежедневно многообразно разжигаемая, стала еще более сильною, живою и никогда не прекращающеюся, и благодать благого Духа да будет в священных твоих устах, оказавшихся для меня виновными сверх чаяния таких благ, которые не могут никогда сравниться с благами этого мира, но пребывают нестареющимися и вечными, сильнейшими всякого изменения и разрушения». Говоря это, он, как бы для подкрепления слов, присоединяет к ним и соответствующие дела, повергшись пред пастырем на землю, валяясь у ног его и не отрываясь их целуя.
Монахи лишь только услышали его слова, оцепенели и исполнились трепета и страха (αγωνίας), с удивлением видя божественно в человеческой природе действующего и странное говорящего Духа. Поэтому, с одной стороны, они ублажали его за невиданное бесстрастие и обильное вселение Духа, а с другой – были, казалось, недовольны предстоятелем и роптали между собою на него немало за то, что он так безжалостно обидел такую бесстрастную и непобедимую душу, которую не только не следовало оскорблять, но должно было почтить тьмами венцов за благоговение, так как он всех неподражаемо превзошел и стал учителем и светочем, содержащим, по божественному апостолу, слово жизни (см. Флп. 2:15–16).
Ибо они совсем не знали дела и хитрости пастыря. Спорившие же друг с другом о первенстве, завидуя занимавшим первые места и злопамятствуя за это иногда на них, и даже на самих предстоятелей, по преизбытку гордости и погибельного, как его называют, честолюбия, смирившись, сделались гораздо лучшими. Предстоятель же, крайне изумленный и пораженный совершившимся, отведя великого немного в сторону, стал просить прощения у него сперва за смелость и как бы испытание его или своего рода драму (δράματος), а потом, пав пред ним, великие благодарения высказывал за себя и за паству, говоря: «Благодарю тебя, человек Божий, что ты доставил нам, грешным, такое назидание, многообразно наставляя и обогащая этих детей твоих обилием чрезвычайной добродетели и бесстрастия! Теперь я поистине узнал, что ты, превзойдя всех преуспевших в настоящее время в добродетели, Божественным духом всякой премудрости и совершенства явился равночестным древним знаменитым отцам». Потом он присоединяет с великим благоговением и смирением и горячее моление и более принуждает, чем убеждает великого принять почет председательства. После этого, обрадованные вместе с предстоятелем, они с большим удивлением оставляют собрание.
Однако хотя и это велико и очень согласно с жизнью его и прежними поступками, но гораздо более полезное и удивительное имеет быть еще рассказано, вернее сказать, предлежащее есть плод рассказанного уже и воздаяние за высочайшие труды бесстрастия или, как мы обычно в настоящее время выражаемся, награда. Поэтому должно рассказать и об этом, и любителям добродетели пусть предложится, сколько это доступно, некоторая духовная трапеза.
61
Один раз, когда монахи той лавры обедали за общей трапезой и вместе с ними находился при этом и великий, начался между ними вопреки правилам (παρά то δέov) разговор. От этого, немного спустя, и шум поднялся, мешавший читать, как это в обычае у них, и слушать. И вот, когда виновники беспорядка и замешательства не унимались, несмотря на настояния поставленных присматривать за порядком (ἐφεστώτες) и блюстителя тишины (ἐξάοχος τής σωπής), священными призывами, как у них в обычае, часто призывавшего к порядку (ибо благовременное молчание за трапезой – вещь весьма желательная и очень высоко ценимая теми философами, сохраняющими священные установления отцов, которые и духовными учениями и делом установили читать за трапезой о добродетельных мужах, а в сердце духовной молитвой приближаться к Богу, горячо благодаря Его даже за самую пищу), так что шум и смятение то заметил уже сверху и сам пастырь, (тогда) он сперва негодует и, так сказать, досадует в себе, а потом, и самое лицо и голос исполнив суровости, жестоко на всех нападает и бесчисленными укорами осыпает бесчинных, называя их бесстыдными, бездельниками, страдающими крайним отсутствием страха Божия и подобно скотам, по крайнему своему бесчувствию, принимающими пищу. «Ибо трапеза, – говорит, – выражаясь словами богоносных отцов, не имеющая слова Божия, подобна яслям скотским, а лучше сказать, вы, имеющие, кажется, разум, ведете себя подобно скотам и варварам, предаваясь бесчинию и пьянству, смятению и шуму». Так накричав на них и еще более этого оскорбительными и бесчестными словами выбранив их с великим гневом – ибо он был вообще весьма вспыльчивый и бурный пастырь, – он останавливает чтеца и прислуживавших, со страхом обедавших, и долго с сильным негодованием осыпает всех бесчисленными бранными словами, пока они не окончили своего обеда, а лучше сказать, и после самой еды и трапезы. Ибо после того, как, совершив обычную благодарственную молитву, они устремились к дверям и к выходу, он опять стал сильно нападать на них, изливая всю силу праведного гнева и обиды, пока они не разлучились друг от друга, направившись каждый по домам, одни с кротостью вынося негодование отца, считая его справедливым и заслуженным и говоря: «наказание Господне отверзает мне уши», «начало премудрости страх Господень» и «Егоже страх соблюдение заповедей», а большинство не только внешних, но и выдающихся по заслугам и возрасту признавали поступок его слишком резким и немало осуждали предстоятеля, как будто бы дерзко и неуместно, не разбирая старших от послушников, разразившегося на всех гневом, никого не пощадившего и не постыдившегося ни их честности, ни своей славы, но так сильно вышедшего из себя, что (ничто не остановило его) вонзить, так сказать, весь нож гнева безжалостно в сердца всех. Часто от многих слыша эти и подобные этим слова, вышеупомянутый ученик божественного Саввы – ибо и он был тогда в собрании – находился в недоумении и обуревался самыми противоположными помыслами. Поэтому, не будучи в состоянии разобраться в том, какому из них должно отдать предпочтение, решил узнать мнение об этом великого, имевшего дух совета и разума (ср. Ис. 11:2) и поэтому умевшего, по выражению мудрого Даниила, открывать сокровенное (Дан. 2:2-29), разрешать загадки и производить праведный с Богом суд. И вот он приходит с горячей верой к прозорливой той душе и возвещает о цели и желании своем и горячо просит, лежа на земле у ног его, чтобы он высказал свое мнение о совершившемся и сказанном за трапезой.
«Скажи, – говорит, – какие ты имел тогда мысли, – хотя и дерзок мой вопрос, – какое впечатление произвели на тебя слова предстоятеля? Я сильно хочу знать это. И какое решение вынесет мудрейшая и божественнейшая твоя душа, к тому и я присоединюсь от всей души, признавая его право божественным, и не буду туда и сюда напрасно носиться и блуждать умом вместе с незнающими истины. Итак, не отвергни меня, прошу, ничтожного!» Преклонившись к этим словам, он, сострадая ему, говорит: «Так как я вижу, что ты, друг, от всей души стремишься познать сокровенное и не отстанешь от этого, что бы там ни случилось, то если ты поверишь мне, – а я знаю, что ты поверишь, так как вижу твое усердие и любовь ко мне и веру, – то вот я сообщаю тебе о тайнах Божиих, как бы пред лицом Христа (см. 2 Кор. 2:10), говоря словами апостола, ибо я никогда ничего не предпочитаю истине. Итак, отбросив от души всякое сомнение, слушай внимательно, только пусть будет заранее твердо решено у нас, чтобы ты никогда в течение (дальнейшего) моего пребывания в этой жизни никому об этом не говорил. Когда во время обеда поднялся разговор и шум, не знаю кем возбужденный, и отец стал бранить и бесчестить братию, – ты сам знаешь, как сильно он негодовал и гневался, ибо и обычное чтение тогда прекратилось, на всех напал ужас и смущение, и все стало полно страха и тревоги, – я, подняв глаза на пастыря, увидел чудное, достойное невыразимого удивления и радости зрелище, ибо два светлые Ангела в это время, казалось мне, явились пред самым седалищем пастыря, по своему виду и одежде подобные сверкающему свету и блиставшие сильнее солнца, так что и весь дом тот осветили обилием исходившей от них благодати и сияния, радостные и в то же время чрезвычайно прекрасные, приятно и любезно на всех взиравшие и разливавшие вокруг радость и неизреченное веселие. Казалось при этом, будто они приготовились к какому-то приему или угощению вкушавших и уже касались самой раздачи, ибо один из светлых этих Ангелов, казалось мне, имел в руках и чаши, и какие-то будто чистейшим золотом отделанные корзины. В этих прекраснейших и великолепных сосудах были всевозможные прекраснейшие и превосходнейшие фрукты – наши и иностранные, индийские и итальянские лакомства, гораздо лучшие простых и обычных, гораздо более сладкие, с лучшим и обильнейшим ароматом и вкусом; розы и фиалки и вообще самые ароматные и приятные цветы и, сверх этого, множество всяких благовонных веществ и составов – словом, все самое дивное для вкуса и обоняния. В золотых же чашах было благовонное масло из роз, испускавшее весьма приятный и сладкий запах. Каждый из Ангелов старался дать как можно больше из вышеупомянутых даров сидевшим за трапезой.
Однако не все одинаково удостаивались этой чести, но одни получали в изобилии, а другие ничего не получали, как недостойные той чести и божественной радости. Но что особенно удивительно было при том праведном и благодатном раздаянии, так это то, что быстрые служители этого царского угощения и даров обошли одинаково все столы, весьма человеколюбиво и обильно раздавая всем обедавшим почести свыше, которые, делая известными достойных, так сказать, заслуживших это, обильно к ним притекали, как бы солнечные лучи к здоровым и сильным глазам, лица и недра их наполняя неизреченного наслаждения и являя их исполненными дивного благоухания. Это были те, которые великодушно переносили праведный гнев отца и с безмолвием, смиренномудрием и любовью выносили обличение, радуя этим бестелесные те существа, которые, казалось, были весьма довольны благою участию их и обилием божественных даров, которые они получили, так как, согласно божественным словам, они весьма радуются на небе и об одном грешнике кающемся и к добру возвращающемся. С ними они, казалось, беседовали и что-то тайно в уши им шептали, милостиво и ласково на них взирая и весьма радостно наклоняя к ним – о благодать! – свои головы.
Можно предположить, что эти тайные слова были не иные, как те самые, что и пастухам во время общего спасения и славы людей они же с тою же самой радостью некогда возвестили, а именно: Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение (Лк. 2:14), или это: хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю (Мф. 25:21). Если же кто и еще более таинственное желает принять, подобное тому, о чем сын грома (Откр. 6:9-11; 8:3) в таинственном откровении своем учит, когда говорит, что были даны фимиамы молитвам святых и каждому белая одежда, чтобы они немного подождали их братьев и сотрудников, то он, думаю, нисколько не погрешит в истине.
И вот, – говорил великий очевидец этого видения, – чем более они принимали священного того евангельского блеска и омывались свыше проливавшимся благовонным маслом, тем более являлись светлыми лицом, веселыми и богоподобными и тем еще более вследствие этого привлекали к себе даров, наполняя ими свои недра. Ибо всякому, говорит Господень голос, имущему дано будет и преизбудет. Отнесшиеся же с ропотом и ожесточением к отеческим прещениям и справедливому наказанию и стремившиеся душой к мнению, полные гнева и ярости, добровольно – о горе! – лишили себя божественной той славы и светлости, почему при раздаче тех божественных даров, если случалось чему-нибудь из этого упасть на них, они всеми руками отталкивали эти почести и с гневом бросали назад на божественных Ангелов. Они же, исполнившись вследствие этого печали и праведного негодования, уже совсем не удостаивали их своего внимания и даже и близко не допускали их, ибо от неимущего, говорит Божественное слово, и то, что кажется, будто он имеет, отнимется от него (Мф. 13:12; Мк. 4:25), так как он не захотел благословения. Итак, когда светлые Ангелы, как я сказал, отвращались от них или, лучше сказать, они сами глаза свои закрывали, так что не могли смотреть на сияние истины, они тотчас оказывались полными мрака и горечи и всякой душевной неприятности и муки. Так обходя, как я сказал, весь дом, светлые Ангелы Божии исполняли множество отцов и самые даже столы находившихся в их руках благ. Я же, видя это, друг, полный неизреченной радости, и лицо, и руки, и самые, так сказать, недра жадно протянул для принятия тех благ – ибо неужели же я какой каменный или враг самому себе? – и человеколюбивые раздаятели тех даров дали и мне обильно.
Поэтому что касается меня, то я желал, чтобы отец никогда не прекращал тех поношений и прещений, чтобы таким образом и Ангелы не прекращали раздаяния. Ибо чем более, казалось, он усиливал свое негодование и брань, тем большие и обильнейшие мы получали дары, и свет увеличивался, и все казалось полным блеска и неизреченной славы. А когда, встав из-за трапезы, они возносили общую благодарственную молитву, совершая вместе с этим священное воспоминание Госпожи и Богоматери и принимая священный тот дар[218] и освящение, опять явились там божественные и честные служители возле стола пастыря, вместе с нами со страхом и благоговением предстоя и молясь и воздавая достойное почтение Матери общего Господа, а вместе с тем показывая этим общение, любовь и мир с людьми, а также полное согласие ангельского естества, которое произвел воплотившийся выше слова Бог Слово, примирив, как говорит божественный апостол, небесное и земное, разрушив вражду крестом и одну Церковь из обоих соделав (Кол. 1:20; Еф. 2:14–15). Когда же мы двинулись к выходу и пастырь пошел вперед, то за ним последовали и блиставшие светом Ангелы, неся в руках дары, как и прежде, и все продолжая, как казалось, то прекрасное раздаяние. Когда отец опять начал, как знаешь, нападать на всех, негодуя и обличая за бесчиние среди трапезы, опять Божии служители принялись за совершение прекрасного своего служения, разделяя с величаишеи радостью дары, как и раньше, предстоящим братиям. Притом светоносные те Ангелы не только стояли, пока не вышел пастырь, но и вышли вместе с ним. Когда же он остановился на обычном месте, чтобы по обычаю дать братиям благословение и прощение, и они стали вблизи его. Продолжая смотреть, я увидел, что на выходивших с любовью и благоговением и смиренно преклонявших колени, испрашивая у отца прощения, божественные Ангелы взирали радостно и весело, охотно давали им дары и с некоторой сладчайшей и скромной улыбкой опять что-то единственно шептали, влагая вместе с тем в руки их какое-то дивное, гораздо лучшее, чем это обыкновенное, золото, которое раздававшие, казалось, вынимали из своих недр. А неблагодарных, роптавших и негодовавших на отца и вследствие этого со скорбью и лицемерно склонявших колени они совершенно не удостаивали даже своего внимания, но отвращали от них и руки и лица, и те уходили вследствие этого без всего. После этого, – говорит, – когда уже все монахи с предстоятелем разошлись по келлиям (οικίσκοις) своим, и совершители чуда – Ангелы – скрылись из глаз моих».
Таково то дивное видение. Этого удостоила великого благодать, и такую чистую он имел душу и глаза, что нисколько не лишался, еще находясь в узах плоти, ангельского общения. И нет ничего странного в том, что он жил и беседовал с небожителями, так как еще раньше, как выше было сказано, он удостоился созерцать Бога и Ангелов. Пораженный всем слышанным – ибо он еще не знал хорошо великого, – любезный ученик тот всецело предается ему и соединяется неразрывными узами дружбы и любви, а лучше сказать, быв до сих пор другом, становится с того времени сыном и учеником и, живя вместе с ним до отшествия его ко Господу и разрешения, послужив хорошо телесным его нуждам и ничего из его дел, сколько это возможно, не оставив нерасследованным, большую часть сказанного правдиво передал нам, как мы выше сказали.
62
И вот, когда дела находились у нас в таком положении и божественный Савва подобно светилу сиял высотою добродетелей, хотя большая часть этого большинству, если не всем, не была известна (ибо, думаю, вполне ни от кого не скрылось, что этим великим с высоким смиренномудрием было совершено), а лавра та укреплялась им и хорошо руководилась к лучшему (ибо он для всех был самым лучшим вождем и молча, и говоря – начальствующим и подчиненным, мудрым и невежественным, больным и здоровым, юным и старикам, образованным и вместе простым, почему вся божественная Гора удивлялась его делам, и почти для всех был учителем и делом, и словом), бросает на нас свой завистливый взгляд общий древний завистник и губитель рода человеческого, чтобы изъять из оснований духовного того Иерусалима – священного, разумею, Афона – светильника этого и вождя, как какой-нибудь камень избранный и драгоценный (см. Исх. 28:9-16). Поэтому-то[219] начавшееся потрясение и сокрушение еще и теперь не прекращается, но успевает на худшее, увеличиваясь от варварских нападений. Ибо когда мирской беспорядок и замешательство стали усиливаться и вся римская держава со всеми своими делами (χρήμασι) и телами (σώμασι), чтобы не сказать и самыми душами, погибала и уже сходила на нет (είς то μηδέν ηδη χωρούσες) по причине чрезвычайно умножившегося в роде нашем греха, обитавшие на божественной Горе (οί τοῦ θείου ὄρους) вместе с предстоятелем постановляют разумное и вместе благородное, весьма сообразное (πρός τρόπου) с достоинством их добродетели решение. Ибо, выбрав из священных тех монастырей (φροντιστηρίων), а особенно из великой лавры Афанасия[220], как в значительной мере и разумом, и добродетелью, и человеколюбием, и опытностью превосходящей прочих, выдающихся по добродетели и почету, с общим правителем[221] (κаθηγεμόνι) Горы посылают в качестве послов к царям, прося предпочесть прекраснейший мир гибельному возмущению и, отложив в сторону оружие, пожалеть родственную кровь, приняв во внимание общую погибель народа (γένους), а лучше «поострить мечи свои» на общих врагов, ибо таким образом и Божественную силу, и их молитвы они будут иметь споспешествующими себе, – если же нет, то все противоположное.
После такого прекрасного и благовременного решения отцов в числе первых избирается и великий Савва, и много было разговоров о нем, так как и глава кинота[222] (κουνοΰ), и все вместе подавали голос за него. Но для него это казалось новым некоторым беспокойством и затруднением, так как он уже давно раз и навсегда оставил все это и непрестанно был занят Богом и Его созерцанием. Кроме того, и кое-что из будущего ясно уже прозирая, он не удостаивал даже внимания просивших об этом. Поэтому, часто понуждаемый к этому предстоятелем лавры и братиями и много упрашиваемый ими, он оставался совершенно непреклонным. Когда же глава посольства, разумею вышеупомянутого общего начальника (προστάτης) Горы, не переставал понуждать божественного Савву к этому, отказываясь без него даже прикасаться к предлежащему посольству и отвязывать, как говорят, причалы, потерпев такую неудачу с самого начала (так смотрел священный тот старец (πρεσβύτης) на лишение дивного Саввы и сопутствующей с ним благодати), убеждают наконец, а лучше, силою и против его желания заставляют великого, собравшись опять все вместе, – ибо любовь, говорят, имеет в себе и некоторое насилие – принять посольство. Итак, он повинуется и соглашается, хотя и против воли, как я сказал, с общим решением отцов, но пророчески и дерзновенно в слух всех предсказывает будущее, говоря: «Я, честные и любезные отцы, еду согласно приказанию, так как вам угодно и вы не желаете переменить решения, но хочу, чтобы вы все знали, что мы отправимся туда и много будем говорить о желательной общей пользе и мире, но нисколько ни в чем не успеем, ибо нам скажут то же самое, что, как вы знаете, сказано было древле великому пророку Иеремии: не пророчествуй (Иер. 11:21), говорят, во имя Господне; если же нет, умри, так как и они очевидно заткнули уши, по написанному, чтобы не слышать слова Господня. Я все же иду к морю и готов умереть, так как решение ваше, как вижу, пересилило». И вот хотя отцы и удивлялись, слыша это, и недоумевали относительно сказанного, но усердие к делу, а более всего то обстоятельство, что они убедили великого, успокоило, по-видимому, недоумение их, и они сочли не за пророчества, но за простые слова сказанное праведным. А что сказанное тогда было неложным предсказанием будущего и ничто из этого не прошло даром, это ясно показал конец дела. Ибо и послы ничего не сделали из того, о чем старались, и предсказавший это, думаю, только через[223] семь лет увидев желанный мир царства и священной Церкви, о чем он и молился часто и тайно предсказал друзьям, блаженно там переменяет жизнь[224]. Но пока дело дойдет до этого, будем продолжать речь.
Двадцать третий был день (месяца) Дистра[225] – это был шестой месяц после начала мирского замешательства и бури, – когда священные отцы и послы, имея с собою великого Савву, покинули пристань нашей Великой Лавры, отплыв в Византию с дивными проводами и молитвами. Но хотя плавание для них было и счастливо, так как и попутные ветры как бы сопровождали (δορυφορούντων) их и море было необычайно тихо и спокойно, почему они, весьма скоро и приятно миновав Эгейское море с находящимися среди него островами, а также Геллеспонт[226] и за ним лежащую Пропонтиду[227], на третий день пристают к пристани Константинополя, однако они нисколько не достигли осуществления своих желаний и надежд. Ибо не все, говорят, Бог всем дает, или, вернее, все, касающееся нас, Он устраивает хорошо и соответственно Своим премудрым целям. Ибо Он решает без колебания, как Творец и Всемогущий, некоторыми неразрешимыми вожжами Промысла постоянно удерживая творения Свои в целости и неповрежденности, после того как мы сами не пожелали полезного для нас, предпочтя худым произволением вредное полезному и избрав вместо дарованной нам чести своеволие и все далеко от Бога отстоящее и став весьма заслуженно и сообразно Его словам несчастными. Ибо всякому имеющему, говорит, дастся и преумножится, а у неимущего отнимется и то, что имеет (Мф. 25:29).
Вследствие этого посольство отцов – ибо не могло быть, чтобы великий ошибся в предсказании, – было совершенно тщетно, так что они, предпринимая это, как бы стреляли, как говорят, в небо или плели из песка веревку. Но говорить о сказанном или сделанном ими тогда и вообще относящемся к этому великому предмету, вернее сказать, к мирскому беспорядку и пагубе, как оно было, я представляю другим, как относящимся к сочинениям другого рода и более обширным, чем настоящее слово. И конечно, расскажут об этом многие, дело которых исследовать и описывать это, хотя не погрешить в точности (сообщаемого) поистине есть дело всех.
Сказав об этом в настоящее время, как необходимом, опять возвращаюсь к рассказу о великом. Ибо после того, как отцы Горы увидели, что их слова об общем согласии и мире и посольство решительно отвергнуты, они не остановились на том, но, начертав вкратце об этом в письмах и прозорливым душевным оком с великою точностью подробно изобразив имевшее последовать успокоение и видимое ныне единомыслие Царства, вручают их царице. Когда же она сообщила об этом, по обыкновению, синклиту, то, так как это показалось им болтовней и явным заблуждением тех богоносных отцов, последние, отрясши пыль от ног своих и возвратившийся к ним мир взяв с собою, по Господней заповеди и повелению стали, как и раньше, горько оплакивать общее крушение и гибель вселенной. А дивный Савва, возвратившись к себе и тихо напомнив о своем предсказании, стал рассказывать им о таких же и гораздо худших неудачах великого Павла, а потом присовокупил: «Однако мы, любезные отцы, никак не должны оставлять намерения и усердия нашего, ибо это служит к нашему спасению. Это, – говорит, – величайший из подвигов, ибо с миром постоянно борется возмущение, с добрым зло, с заповедью опять – преступление и с Христом велиар, который многих уже опутал, как мы видим, так как, будучи тьмой, он прикидывается, выражаясь словами великого Павла (см. 2 Кор. 11:14), светом. Но мы, как я сказал, будем держаться лучшей части, ибо нам не безызвестны его умыслы (2 Кор. 2:11). И хотя они и презрели наши увещания о согласии и спасении, из-за этого никак не должно оставлять любви к ним и лишать посильной помощи, но должно, уединившись, употребить молитвы и слезы о них и об общей пользе. По отношению к людям изберем благовременное молчание, так как время слову и время молчанию, как и всякому другому делу, по словам мудрого Соломона (Еккл. 3:1–7), а к назирающему над правдой Господу никогда не станем прекращать обращаться с несказанными воздыханиями сердца, ибо Он умеет и молчащих выслушивать. И не устанем, говоря с пророком[228], следовать за Ним, пока не найдем места Господу (Пс. 131:5), чистый, разумею, и невозмутимый мир, в котором обитает Бог, сущий мир наш». Так сказав к своим наедине и как бы окрылив их к общим молитвам и духовным подвигам, великий сам показывает пример. Ибо, заключившись телом в некотором домике[229], он стал проводить обычную жизнь, совсем мало заботясь о теле – только лишь бы не разрушились узы природы, а на себя и Бога постоянно взирая и принимая от Него осияния, и то стенаниями и неиссякаемыми источниками слез оплакивая взаимное, как бы в ночной битве, погубление и неистовство людей, а также то, как несчастная, добровольно отвратившаяся от Бога человеческая природа оставила через страсти свое благородство, приложившись скотам несмысленным (Пс. 48:21), по пророчеству, а вернее, сделавшись хуже даже скота и всякого зверя, сама себя не щадя, то человеколюбивого Господа призывая к состраданию о ней. Поэтому-то он не оставил ни стараний, ни усердия своего до тех пор, пока не получил свыше известия о мире и о царском согласии. Об этом он втайне предсказал и любезным сподвижникам, и не только притом близким, но и дальним, за целый год, думаю, до исполнения получив откровение об этом.
63
Проведя целых шесть лет в таком безмолвном уединении, в постоянной, как я сказал, печали, великий совсем не выходил из того домика. Однако он разговаривал с некоторыми из приходящих, давая дивные советы относительно спасения и побуждая всех к усердным молитвам об общем мире. Особенно же впавшим в различные искушения и испытавшим непостоянство и изменчивость судьбы, свойственные тому времени и той междоусобной брани, он был отрадной пристанью своими молитвами и словами. Поэтому много о нем говорили во всех городах, хотя общее то возмущение и, так сказать, взаимное друг против друга неистовство, как бы темное облако, затемняло свет яркого этого светила. Когда же слава о нем повсюду распространилась и близкие и дальние, а также и из его отечества стали часто приходить к нему, случилось и следующее, как доказательство обитавшей в нем благодати и прозорливости.
Однажды некоторые из фессалоникийцев, придя в Константинополь, являются к дивному Савве, чтобы получить обычное наставление и побеседовать с ним. Приняв их, как говорят, с распростертыми объятиями и приятно по сердцу, говоря словами Священного Писания, поговорив, он стал расспрашивать потом и о происходившей тогда в Фессалонике междоусобной брани и убийствах. Нужно, однако, рассказать о том, что произошло раньше, чтобы таким образом чудо стало более ясным.
Когда еще божественный Савва подвизался в честной на священной Горе (находящейся) Ватопедской лавре, как и раньше сказал, часто приходили к нему для посещения и беседы некоторые из фессалоникийцев, привлекаемые славой о нем. Посетив и получив великую пользу и радость, они возвращались назад, нисколько не раскаиваясь в трудах путешествия, но даже находя дело гораздо выше ожиданий и самой славы о нем.
Один раз в числе их прибыл на священный Афон и один из почтенных честью тамошнего гражданства. С большим усердием приходит он в ту лавру, желая как будто видеть Савву. Но так как он нисколько не был достоин получить такую благодать по причине скрывавшейся в душе его жестокости и негодности, как покажет дальнейший рассказ, то и не допускается к этому публично от обитавшей в великом благодати, чтобы божественное не было, думаю, уничижено и осмеяно безумными, сделавшись легкодоступным для всякого желающего и даже и для самых злых. Не давайте, говорит Священное Писание, святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями (Мф. 7:6). Итак, приходит, как я сказал, Андрей – так его звали – в ту лавру и, принятый здесь с обычным радушием и честью, просит показать ему великого, ибо он для этого, говорит, главным образом и пришел. Когда же отцу, по обычаю, было возвещено монахами о его прибытии, а потом и о том, что он просит повидаться с ним и испросить его молитв, то великий, так как ему ясно было открыто Духом Святым о делах его, тотчас с самого начала отказывается видеть его. Они же, не зная о побуждениях, заставивших его так поступить, и полагая, что он отказался по смиренномудрию и любви к безмолвию, опять стали много его об этом упрашивать. Когда же, немало потрудившись в течение многих следующих дней, ничего не достигли – ибо он решительно не сдавался, – Андрей приходит к предстоятелю лавры, усиленно упрашивая его и говоря, что не оставит священного того братства (φατρίας), пока согласно намерению не увидит великого, ради которого он с усердием предпринял такое длинное путешествие. Этими и подобными им доводами обойдя (ύπελΰών) предстоятеля, – у него были там и друзья, старавшиеся и содействовавшие в этом, – он убеждает и его, которому вручено было управление (οικονομίαν) лаврой, а тот, взяв с собой более влиятельных и почитаемых за благочестие и возраст иноков, приходит к дивному Савве и просит за него. Но хотя и многие, и долго, и разнообразными словами упрашивали его за него, говоря, что он будто бы и общий друг нашей лавры, и старается о праведности и добродетели (καλοκατγαθίας), ценя ее больше всего другого, «вследствие чего, – говорят, – он не побоялся труда такого путешествия главным образом из-за тебя и твоей благодати, а потому совсем недостойно ни святого, ни такой добродетели такую благорасположенную (εύγνώμονα) и ревностную душу оставить, как говорится, с пустыми руками, ибо можно ожидать, что он, объятый тяжелой печалью, подвергнется болезни и окажется в опасном положении на чужой стороне, и тогда нас будут обвинять в бесчеловечности, как бы виновных в его несчастий».
Так говорили они, обращая, конечно, внимание на наружное и вследствие этого естественно, по человеческому соображению употребляя соответственные слова. Но он, движимый Духом Божественным, как я сказал, и видя будущее в некоторых символах, как бы настоящее, изменив и нрав, и лицо, и голос, с большой строгостью сказал: «Он никогда не увидит моего лица, и я со своей стороны не покажу ему ни глаз, ни лица и ничего, хотя бы Ангел с неба мне повелел это. Поэтому уходи, божественная глава, уходи с любезными отцами, и как можно скорее вышлите его из обители, ибо что бы там ни было, я не покажусь ему ни в каком случае». Услышав это против всякого ожидания, предстоятель с братиями были изумлены, как бы увидевшие что-нибудь поразительное и странное, считая необъяснимым чудом удивительную перемену его, вообще кроткого и спокойного и тихого по отношению ко всем. Поэтому, прекратив всякие просьбы, они против воли оставили его, а того, успокоив утешительными словами и по обычаю угостив тем, что производит время года, благопристойно отпускают из монастыря, чрезвычайно опечаленного и скорбящего и старавшегося узнать о причине горького и позорного отвращения (αποστροφής) его. Но тогда ему не удалось узнать этого, хотя он и весьма много об этом старался. Потом, уже через несколько лет, великий благовременно ему и причину объяснил, как об этом будет сказано.
64
Когда римские[230] дела, как все хорошо знают, находились в крайне несчастном и пагубном состоянии и повсюду по городам и селениям поднимались возмущения и междоусобные брани, и дела Фессалоники великой стали плохи, и притом тем в большей степени, чем более она превосходила почти все другие города и количеством народонаселения, и богатством и прочими. И вот когда фессало-никийцы, как уже было недавно сказано, пришли в Константинополь к великому и, спрошенные о происходивших в отечестве его бесчинствах, как я сказал, рассказали о тех возмущениях и беззаконных убийствах и страшном пролитии родственной крови, о чем мне не должно даже в настоящее время и писать, виновником и вождем и зачинщиком чего был упомянутый выше Андрей[231], великий, и раньше уже осведомленный об этом, – ибо как же могло быть иначе, когда и земля и море были полны рассказами об этом, – сказал: «Идите, друзья, с Богом в ваше отечество и скажите мерзкому тому военачальнику (στρατηγω): “Так говорит тебе через нас монах Савва из Ватопедской лавры. Ты, конечно, помнишь, Андрей, как за десять лет перед этим, придя на священный Афон как бы для поклонения и освящения, ты с великим старанием пытался увидеть и услышал меня, а также побеседовать со мною, но тебе не удалось осуществить своего желания, хотя ты употребил для этого все свое искусство и каждый камень, как говорят, подвинул, почему, весьма огорченный и опечаленный, как казалось, расспрашивал с великим старанием о причине моего отвращения и сильно жаждал узнать, как ты говорил бывшим с тобою, что могло быть причиной этой тайны. Тогда, однако, Бог не восхотел тебе открыть сокровенное, так как ты не был готов ни к перемене, ни к принятию вразумления (παιδείαν), ибо иначе ужели тебе не было бы это открыто тогда от Жаждущего спасения всех! Но теперь, когда ты все уже свое зло излил и весь изрыгнул яд, находившийся в твоем сердце, выслушай хорошо причину моего тогдашнего отвращения, чтобы если не захочешь сам воспользоваться обличениями, то хотя бы другие могли воспользоваться этим лекарством. Ты мне тогда представился имевшим во рту человеческое мясо, которое ты теперь, подобно кровожадному зверю, пожираешь, и кровь единоплеменных братьев, которую ныне ты, подобно псу, лакаешь, ибо ни лица, ни образа человеческого я в тебе не видел, но скорее самого злейшего и дикого зверя, смертоносный яд испускавшего изо рта и ноздрей. По бедрам ты казался препоясанным – о ужас! – величайшим и неодолимым по силе драконом, как бы страшным оружием, которым ты гордился, как сильным союзником. Итак, после того как Бог показал это в тебе, я не допустил тебя видеть меня и беседовать со мной, хотя никто не знал причины этого. Но так как виденное тогда мысленно ты теперь чувственно обнаружил пред очами всех, как не следовало бы, то и ты, и все от меня пусть узнают это явно и научатся, что ад и погибель (см. Притч. 15:11) явны Господу и нет никакой твари неявной пред Ним, Который воздаст каждому по делам его».
65
Мирской же тот беспорядок и смута так были необычайно велики[232], что больших нельзя себе (и представить), и невозможно что-нибудь подобное привести для примера из древних событий, и не может быть ничего подобного – о Христе Царю! – даже в последующее время, но это было первым и единственным, не имея нигде себе подобного. Однако как будто этого было еще недостаточно, и вот, благодаря крайне усилившемуся греху, к этому присоединяется еще гораздо худшее. Ибо когда вместе с пагубными политическими раздорами появились от зависти и честолюбия и церковные, тогда все, как обыкновенно говорится, стало поистине какой-то мешаниной (κυκεών). Ибо кому было наставлять и сдерживать других, когда Церковь, имеющая своей обязанностью подавать пример (κανονίζειν), сама нуждалась в примере, а вернее, находилась в крайне испорченном[233] состоянии, занимаясь раздорами и соперничеством. Знайте все и рассказывайте, что сперва поборник правой веры, итальянец тот[234], который сначала оделся было лукаво в овечью шкуру и как будто был ревнителем нашего двора, разумею Христово стадо, потом оказался внезапно волком аравийским, ищущим, кого бы сожрать.
Когда же дела римлян приняли благоприятный оборот и мятеж прекратился, а согласие и мир стали господствовать, прекрасно соединяя со всех сторон Церковь с государством, тогда они вместе согласно и решительно вынесли заслуженное осуждение ему, а вместе с тем и самим рассечениям[235] в Божестве и хулам, изъяв его, как бы какую-нибудь заразу, из нашего священного собрания. Тогда он, сбросив лисью шкуру, как нисколько уже не полезную, открыто стал мудрствовать об отеческой вере согласно с латинянами, заняв первое место среди их иереев и учителей. Его ученик[236], переняв от него испорченность и дерзость, – увы! до чего дошло зло! – произвел настоящий пожар в Церкви, остатки которого еще и теперь шумят, покрывая некоторым дымом и мраком лица некоторых. Покровитель и защитник[237] нового этого предателя[238] Церкви, воспользовавшись неистовством и завистью некоторых, как предлогом (ибо он был известный хитрец и весьма искусен в этом, смотря по обстоятельствам времени постоянно меняя вид, подобно хамелеону), как бы в какой меланхолии и опьянении, дерзко, бесстыдный, отвергает (διαγράφει) благочестивое письменное определение Церкви, которое и сам раньше других подписал, когда еще был здравомыслящим, прикровенно анафематствуя все содержание правой веры, причем, конечно, и себя прежде всех других, как раньше других подтвердившего, как я сказал, это и рукою и мнением. Вместо этого он вводит, увы, противоположное учение, называя первое сумасбродным и достойным смеха и объявляя себя судьей церковных догматов (ибо с такими мыслями он будто подавал голос и за отвергнутое им учение) и имеющим власть любое определение, смотря по желанию, то признавать, то отвергать, обращая, таким образом, высочайшее учение о Боге как в детскую игру камешками или в шашки и не уступая цинику Диогену[239], который говорил, что все пути одинаковы и совершенно безразлично, идет ли кто отсюда туда или, наоборот, оттуда сюда, ибо, делая это, ужели он не вычеркивал нас[240] позорно из своего списка!
Так, подделавшись к нему, учил его изменник[241] благочестия, долго притворявшийся безмолвником и дружественным нашему любомудрию, с великой скрытой хитростью направляя его к желанной цели, хваставшего, что он всем[242] управляет. Однако негодные, защитниками православия, как бы каким-нибудь сильным оружием, словом благочестия соборно с позором низвергнутые и сокрушенные, заслуженно были наказаны за свое неистовство. А когда потребовалось и откровение свыше, и решение самого Промысла, как было в обычае у мудрого, – для более ясного представления дела простейшими и для не могущих пускаться в глубокие исследования – и являлась опять нужда в Петре[243], а также в бывшем после него Александре[244]и дивно действовавших в их духе для ниспровержения одноименного древнему неистовства[245], тогда всем этим явился у нас Савва, предсказаниями и откровениями свыше прекрасно и сильно укрепляя правое учение благочестия. А как? Это будет ясно из рассказа. Но следует быть внимательными, а не мимоходом слушать о таких делах.
66
От оставшихся и тлеющих тех углей возгорелся огонь лжеучения, раздутый ветрами лукавого, под которыми я разумею возмущения и брани и пагубнейшее разделение единоплеменных, как выше было сказано, в то время как пагубная страсть к соперничеству, как бы какое-нибудь липкое вещество, ежедневно, к несчастию, все возрастала и, хотя правая и непогрешительная сторона твердо стояла в добре и умножалась, противная некоторой хитрой лестью и убеждением, а иногда и подарками постоянно усиливалась увлечь здоровое и бесстыдно властвовать, ибо были некоторые, которым казалось, что они и словом, и видом, и всем превосходят многих. «Я, – говорил славный Савва, – наблюдая все это, досадовал в себе и изумлялся честолюбивому тому соперничеству, замечая, что оно, мало-помалу ухудшаясь, дошло наконец и до лжеучения, от брани с тварью перейдя – о безумие! – к брани с Творцом, самым делом доказав справедливость того мудрого изречения, которое говорит, что невозможно любить Бога, не возлюбив прежде ближнего своего. Так слова божественного Духа, – говорил он, – прекрасно и верно устами отцов учат об основе правой веры. Но, быть может, мы, по грехам нашим, согласно этим правым словам, удалились от прямого пути, а противники[246] наши, благодаря сильному стремлению к сокровенному (и возвышенному) или вследствие какого-нибудь Божественного откровения кому-нибудь из их мудрецов, находятся ближе к истине, почему и остаются в таком упорном и неуступчивом состоянии? Итак, должно предоставить Богу открыть нам Свое решение об этом и сделать более ясным дело. Он несомненно сделает это, будучи благ и исполняя прошения всех на пользу».
Это была благоговейная мысль, искавшая мудрости и разума для слабых, а не (мысль) сомнения или какого-нибудь несогласия с правым учением. У него было в обычае даже самое, кажется, хорошо известное повергать, по чрезвычайной скромности, не только на решение Божие, но даже ближнего. «И вот, – говорит он, – была ночь; я усердно занимался молитвой и весьма усиленно просил об этом. Когда же прошла уже большая часть ее, казалось, легкий сон напал на меня.
Это не был сон, но как бы какое-то бездействие телесных чувств, когда ум находится как бы посредине между бдением и сном. И вот мне кажется, будто я стою в каком-то огромном и прекрасном храме. Вдруг вижу, будто из божественного алтаря в священных облачениях с достоинством и торжественностью выходит блестящий сонм архиереев. Разделяясь по выходе из царских врат на две половины, как река разделяет свое течение, одни из них занимают правую сторону храма, золотой лентой вытягиваются от самой средины его до священных изображений[247], а другие опять выстраиваются тесными рядами против них с левой стороны. Неизреченное благоговение выражалось на лицах их, и они были как бы погружены в думы. И вот когда при великом безмолвии (σιγής οΰσης), как бы во время совершения таинств, мы все с благоговением и страхом неуклонно смотрели на них – ибо вместе с нами было немало и других, – вижу, выходит из алтаря отдельно от других некто весьма светлый – казалось, будто он занимал чин диакона, – в блестящем облачении и с сияющим лицом, явившийся, по всему, в качестве вестника каких-то дивных повелений. В руках у него была книга, и он собирался читать содержание ее. Поклонившись одинаково как стоявшим по ту, так и по другую сторону и благообразно прошедши по средине храма, он тотчас восходит по ступенькам на амвон, и когда все на него устремили глаза свои, он, сперва немного как бы сосредоточившись, чтобы, думаю, сделать более внимательными и бодренными слушателей, при продолжавшемся еще всеобщем глубоком молчании раскрывает находившуюся у него в руках книгу. Но прошу внимательно и вас слушать, ибо сейчас я предложу неизменно самые слова великого, которые я лично от него слышал. Итак, открыв ту священную и страшную книгу» — ° ужасное видение и слышание! – он возгласил: “Акиндину, произнесшему хулу на Церковь Божию, второму Иуде, изменнику благочестия, второму Арию, расколовшему, подобно первому, Церковь Христову, отступнику, явному ненавистнику и врагу истины, анафема!” При этом блестящий тот сонм архиереев, тотчас прервав молчание, стал громко и страшно возглашать те же слова. При этих смешанных голосах, поднимавшихся в высоту и многократно возглашавших анафему, и я, как бы невидимо побуждаемый какой-то необходимостью, вместе с прочими стал возглашать те же слова и вместе с этим пришел в себя, продолжая вращать в устах страшное то ангельское изречение, хотя дивное видение уже исчезло из глаз моих». Вот что было с великим зрителем и тайновождем и учителем великих этих таинств. Кто же может сомневаться из изучивших Божественное, что это решение было принесено с неба и что книга та есть книга первородных на небесах написанных (Евр. 12:23), в которую записываются имена следующих апостольским учениям, по божественному изречению: радуйтесь, – говорит, – так как имена ваши написаны на небесах! (Лк. 10:20). Равным образом имена противников их вычеркиваются, по великому некоторому и страшному возвещению, и изглаждаются из той Небесной Церкви, ибо многие, говорит, скажут Мне в тот день: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты (Лк. 13:26), то есть Ты участвовал с нами в учении и таинствах и, кроме того, учил нас открыто о жизни, как и мы в свою очередь учили наших слушателей, – но Я скажу, говорит, им: никогда не знал вас, отойдите от Меня все делающие неправду, ибо много званых, но мало избранных (ср. Лк. 13:27; Мф. 20:16; 22:14).
67
Так (он говорил) о хулителях Божества, отвергающих всякую энергию и благодать и осияние и вследствие этого разделяющих одну природу и силу и Божество на созданные и несозданные божественности[248] (θεότητας), многих этим укрепляя и поистине доставляя славу истинной Христовой Церкви, а прежде всех ревностному защитнику ее и передовому борцу, разумею мудрого и славного царя[249], который и прежде обладания скипетром римлян, еще при жизни брата[250] и царя, почти все имея в своей власти, как знаете все, сильно стоял за православное учение, благородно восстав вместе с ним за истину, обилием разума и красноречия отогнав славно ложь лжеучения и стяжав вследствие этого немалую от всех славу. Даже и после того, как тот вскоре оставил и жизнь вместе с царством, он на многократных священных соборах и собраниях так хорошо обличил второго этого отступника как благодаря своему природному дарованию, так и искусству, что, как казалось тогда присутствующим, и речи его лишил вследствие величия победы, и он, думалось, больше уже не решится не только что-нибудь возразить ему, но даже взглянуть на него, оделенного таким искусством слова, что иногда казалось, будто он поддерживает противника, часто давая ему, уже опрокинутому, случаи для нападения и напоминанием о сказанном как бы протягивая ему руку. Ибо ему не хотелось оказаться победителем противника благодаря какой-нибудь случайности или естественной при разговоре слабости, а хотелось одолеть его в благоприятных для него обстоятельствах, при полной его силе, чтобы победа принадлежала не говорящему, а (силе) самого слова. Таково было превосходство в спорах у мудрого и кроткого царя, – вернее, оно было так велико, что описать его как следует так же невозможно, как чашей вычерпать реку.
Пусть желающий, кто бы он ни был, сам испытает это на деле, ибо он готов был научить всякого, имевшего желание научиться и побеседовать с ним, и нам нисколько не совестно, что мы так о нем выразились, скорее нас можно упрекнуть в том, что мы не могли сказать ничего достаточно великого. Я и сам при этом слагаю оружие и благоразумно признаю себя побежденным, ибо таким образом у меня будет то преимущество, что я никогда не буду побежден. Когда же он безукоризненно вступил[251] на царский престол и сам для себя и для Бога стал виновником любезного мира и согласия, согласно давнему своему намерению, тогда он полагает, как самое лучшее основание державы, как бы в благодарность за дивное спасение и избавление от различных смертельных опасностей, возвещение в церквах о своде правого учения. Сестру и царицу он также нашел и по преставлении мужа и царя твердо державшейся того же учения и подвизавшейся за него. Незадолго до вступления царя в Византий законным Собором право мысливших тогда архиереев она лишила трона того[252], кто постыдно защищал противника, благородно помогая при всяком удобном случае поборникам Православия – разумею наших мудрецов и назореев и ревнителей до крови – и обдумывая это и приводя в исполнение, если была нужда, вполне достойно намерениям благочестивого царя.
Итак, найдя, что это, как я сказал, согласно с божественным Промыслом и имеет под собою прочные основания, так что никто не мог бы подумать, что он вводит новшество, мудрый царь обнаруживает свой ум и искусство, одним угрожая, а другим как бы оказывая предупредительно свое расположение и искусно и разумно восстановляя сокрушение невесты Христовой, Церкви, по целым дням проводя время на Священных церковных Соборах и будучи сам и оратором, и первым и единственным защитником ее и выдерживая многовидную войну со стороны злочестия и вообще со стороны людей, по любви к спорам противящихся слову истины, если только можно их обвинять в любви к спорам, а не в явной вражде и отложении от правой веры. Великий Савва своими молитвами и советами содействовал дивному[253] царю и пророческими откровениями во всем подтверждал правое учение. Со своей стороны и царь так был расположен к нему, что казалось, будто он был неразрывно соединен с ним[254]. Но речь об этом нужно оставить, так как это дело более обширного рассказа, чем настоящее слово. Я же только этот последний рассказ сообщу о великом и этим закончу слово.
68
Царь городов – разумею Константинополь – увидел, наконец, мудрого царя, усердно занимавшегося, как подобает царю, делами и с большим единодушием и любовью царствовавшего вместе с сыном[255] и царем, и все прочее, в точности осуществившееся по неложному предсказанию царице тех богоносных (мужей), так что не осталось решительно ничего, что бы не исполнилось. Увидел также и дивный Савва возвратившийся, так сказать, после бегства и отсутствия мир и любезное согласие и общее единомыслие (всего) христоименитого исполнения, о чем он часто молился и проливал источники умилостивительных слез к общему Господу. Весьма радуясь теперь этому, он воздавал достойное благодарение сердцем и устами и всей душой Избавителю. Когда же этого было уже достаточно, он, обращаясь к ученику и сожителю, говорит: «Ну, теперь, когда мы сделали то, что должны были сделать, по заповеди, довольно поскорбевши сперва со скорбящими и, как следовало, порадовавшись вместе с радующимся общему согласию и возвращению мира, – ибо радоваться повелевает славный учитель Павел с радующимся, плакать с плачущими и быть единомысленными, ничего не делая по любопрению, но только то, что служит к назиданию ближнего (см. Рим. 12:15–16; 14:19; Флп. 2:2–3), – опять возьмемся за прежний наш образ жизни и за подобающую нам строгость и обычное наше устроение. Ибо если найдешь и мед, то ешь умеренно, говорит один из мудрецов (см. Притч. 25:16), чтобы не пресытиться и не изблевать. Особенно теперь, когда конец жизни идет по стопам (нашим), нам необходимо трезвиться, согласно с Господним наставлением, и внимать умом этому, чтобы не явиться неготовыми при конце». Так сказал великий и говоря и делая всегда сообразно и прилично себе и заранее возвещая о близкой кончине.
Когда же нужен был пастырь словесной Христовой пастве и когда искали главу Церквей, чтобы достойно ее поставить, царь, согласно божественным законам, побуждает Церковь Божию подать голоса.
И вот, когда собрались для этого архиереи, голоса поданы были за многих славных и хороших мужей, заслуживавших избрания в такое личное достоинство. Но так как они не могли твердо остановиться на одном, но весьма расходились во мнениях, одни предлагая этого, другие – того, так что у них произошла борьба из-за весьма многих, как обычно при этом бывает (однако случившееся тогда (среди них) разделение и сомнение благодаря особым обстоятельствам выходило из ряда обыкновенных), мудрейший царь после многих споров и уклонений в сторону того или другого из избираемых предлагает слово о божественном Савве и говорит, что его нужно избрать патриархом[256]. Выслушав царское предложение, все согласились на это, и притом не только архиереи, но вся Церковь и синклит и почти весь город вместе, весьма одобряя за это царя и называя предложение его прямо божественным. Таким образом, великий получает первенство среди избираемых. И вот сперва первый[257] из царских сынов, как мудрый от мудрого, от самого отца и господина посылается к великому в сопровождении одного из лучших мужей Церкви (προκρίτων). Он и по природному дарованию, и по глубокому знанию наших Писаний и искусству в произношении речей, и по всем достоинствам был действительно сын родившего. Снабженный его инструкциями и проникнутый его образом мыслей, как пропитывается, так сказать, какой-нибудь краской предмет, погруженный в нее, чего не говорил, чего не делал, то евангельскими и апостольскими доводами, то царскими просьбами и напоминанием о его любви умоляя великого согласиться и воздать ему этим как бы праведнейший и неотложный долг! Но он с самого начала наотрез отказался от предложения, говоря, что ни под каким видом не решится на это, ибо он давно уже твердо решил это, почему и не может переменить своего решения. «Итак, не теряйте напрасно времени, – говорит, – причиняя тщетные труды и мне и себе без нужды». Тогда сын извещает об отказе и о поражении отца, говоря, что дело требует более серьезного содействия, так как борьба идет с противником весьма сильным. Христолюбивый же царь, тотчас взяв сонм архиереев и синклит, сам идет к великому и произносит перед ним прямо божественные речи, – а и могло ли быть иначе, если они были достойны и его ума, и того слуха! Предать их описанию в научение и образец – дело особенно для меня желательное. После этого он присоединяет убедительнейшую просьбу от себя и от всей полноты Христовой Церкви, говоря, что он имеет по отношению к нему необычайное и неподражаемое послушание во всем и следует со всякой готовностью его советам и увещаниям, которые, конечно, по Боге.
Но хотя великий и дивился этим великим речам и мудрости царя, как трудно и выразить это, однако в своем решении оставался непреклонным. Поэтому, тотчас выйдя из собрания и взяв его наедине за руку, он сказал: «Невозможно мне, божественный Владыко, подчиниться этому решению, так как Богу это неугодно». При этом он рассказал об откровении, которое некогда имел. Но царь, думая, что великий сказал это, только лишь чтобы отделаться от него, сказал: «И мне Самим Богом объявлено, отче, чтобы никто другой не был патриархом теперь, а только твоя добродетель, ибо на это Его прямая воля». Много еще после этого употребив просьб и приведя все доводы, чтобы убедить его, но нисколько не достигнув этого, объятый тяжелой печалью, он наконец поднимается с места. Продолжая вместо него упрашивания, пришедшие с ним как архиереи, так и синклит и вообще выдающиеся по добродетели и сану к какому виду и способу речи не прибегали, то доводами из Писаний, то делами и словами мудрых и великих мужей, также иногда увещательным (παραινετήκω λόγω), а иногда адвокатским (δικανικω) словом пользуясь и стараясь убедить его! Но великий так был неуступчив и неодолим, так легко разбивал все выставляемые ими доводы, что у них, казалось, не хватит ни усердия, ни доводов, хотя он пользовался при этом смиренным и сокрушенным словом и премудростью вселившегося в душу его Духа, благоухание Которого, весьма обильно разливаясь вовне, еще более привлекало к нему всех и сильнее воспламеняло любовь к нему, так что они не могли уже отстать от него, хотя он всячески старался удаляться от них. Царь же, весь объятый любовью к нему, показал, что он не оставит ни дела, ни места. «Любовь не терпит отсрочки, – сказал он, – здесь мы будем оставаться и ночевать и не отстанем, даже и царя и самих цариц и вообще весь город соберем сюда, пока не удастся получить желаемого!» Однако при окончании дня царь убеждается Обитавшим в великом оставить свою настойчивость и дать время ему передохнуть и поразмыслить. Поэтому, взяв с собою бывших с ним, он к вечеру уходит и, пропустив только один день – ибо он не мог никак оставаться спокойным, – вторично опять является, имея с собой тех же самых спутников и с ними многих еще других, до самой пятницы употребляя те же самые и еще более обильные речи и отовсюду собирая средства убеждения.
69
Когда же время проходило даром и оба оставались одинаково неуступчивыми, один по отношению к убеждению, а царь в своей настойчивости, совершается дело, действительно достойное усердия обоих. Ибо оба они высказали удивительную, на мой взгляд, и необыкновенную добродетель – первый тем, что всей душой убегал от предлагаемой чести, несмотря на принуждения, каких нельзя выразить и каким нельзя достаточно надивиться по дивной своей любви к безмолвию и чтобы как-нибудь не оставить великого созерцания Бога и необыкновенного вследствие этого наслаждения, а второй своим усердием в хорошем деле, именно тем, что старался принудить к большей чести, весьма близкой к той, которая воздается Богу[258], самого великого в нашем роде и в наше время и весьма близкого к Богу – пусть удалится всякое неудовольствие за это слово! – человека, с таким притом усердием, какого невозможно изобразить и какого никто, думаю, никогда не видел (ιστορήσει). При этом каждый из них, избирая, по одинаковой любви к Богу, совершенно противоположное, оказался на самом деле хорошо поступавшим, подобно тем богоносным, из которых один, гонясь за другим ради душевной пользы, кричал: «Остановись ради Бога, отче!», а другой, убегая от него со всех сил, также вследствие сильнейшей любви к Богу взывал: «И я убегаю, отче, для Бога!»
Но возвратимся опять к тому же. Когда державный увидел плохую, как говорится, помощь от убеждения и отказался от всякой надежды на это, по необходимости прибегает к насилию, примешав к нему немного и священного обмана. Сообщив о своем намерении служителям святыни и помазанникам Духа, он посылает их в Божий храм того именно монастыря[259] (φροντιστηρίου), в котором находился святой Савва, тайно приготовить все, что нужно было для священного таинства (μυσταγωγίος) и помазания, а сам со своей сбитой опять приходит к великому, как вчера и за три дня перед тем, опять намереваясь заняться тем же. Когда же тот вышел из своего жилища, чтобы по обычаю встретить (его), мудрый царь тотчас приступает к похвальному обману и, взяв его за руку, говорит: «Пойдем в божественный храм и там до времени святого тайноводства[260] – ибо оно уже подходило – немного посидим и побеседуем!» После этого, когда все нужное для священного того таинства была уже готово и добыча была в сетях и, казалось, никак не могла уже убежать от них, начинается таинственное жертвоприношение[261], при котором присутствует вместе с царем и великий, там, где-то возле самого входа во храм. И вот немного спустя являются избранные из иереев, схватывают преподобного за руку, намереваясь и против воли привести его к божественной трапезе и освятить[262] (τελειώσα,ι) великим помазанием священства. И нисколько не странно и не чуждо древним обычаям поступать так в затруднительных обстоятельствах, ибо случалось, что и величайшие, слава которых велика у Бога, прибегали к этому, чему можно найти много примеров. Особенно можно указать на Даниила[263], знаменитейшего столпа добродетели, которого предстоятель Константинополя, именно Геннадий великий, когда увидел, что тот не соглашается принять священство, рукополагает стоявшего на столпе, сам находясь внизу и вместо руки возвысив голос и таким образом помазав его Духом. Также дивный Федим[264], который апостольского того мужа, разумею, конечно, Григория, хотя он находился и на далеком расстоянии от него, как бы присутствующего, помазывает Духом, сказав, что они оба предстоят пред Богом в тот час и одинаково видятся Им, как совершающий (таинство), так и совершаемый. Таково было высшее слово и единственное, думаю, таинство апостольских тех душ с Богом, божественное задумавших и совершивших.
И вот служители святыни, как я сказал, взяв Савву за руку, спешили с ним к алтарю, но он, освободившись от рук державшего, как бы от какой-нибудь опасности, говорит ему: «Друзья должны быть полезны в трудных обстоятельствах. Теперь время помощи, теперь ты должен особенно доказать истинную свою дружбу, ибо влекущие меня усиливаются отнять у меня душевную опору и, лишив беззаботной жизни и безмолвия, ввергнуть в средину страшно волнующегося водоворота и замешательства, как бы в какую-нибудь морскую пучину и глубочайшую бездну. Но ты никак не одобряй этого, нет, прошу тебя, ради самой дружбы, ибо ужели мог бы когда-нибудь друг принуждать к этому любимого! Сделаться мне священным предстоятелем Божией Церкви, как вы говорите, хорошо, да и почему нет? Ибо это для могущих есть действительное подражание Господу, Первому Пастырю и Архиерею нашему, Который не пощадил за это Своей собственной души. Но, хотя с наружной стороны это кажется хорошим, легким и удобным, на деле невыразимо трудно, ибо вся, говорит, слава дщери Царя внутри (Пс. 44:14), – и я весьма боюсь неизвестности кончины, боюсь, что, встретив меня против ожидания нераскаявшимся, она причинит мне сильнейшее мучение в будущем, и как я вынесу те страшные биения, которые будут меня за это там вечно поражать, особенно когда я сам добровольно посвятил свою душу Богу! Как можешь ты думать, что мне, (давно уже) отказавшемуся, так сказать, всецело от всего, возможно изменить своему решению!»
Эти слова поразили всех присутствующих и чрезвычайно удивили державшего. Царь же, побежденный дружбой к великому, внимательно выслушав слова его, смотря на присутствующих, сказал: «Ты победил сердце мое!» Увидев, что они немного уступают, Савва, тотчас оставив всех, вместе с державшим его уходит. Царь же, боясь, чтобы он не убежал, поспешно отправляется за ним, давая торжественные обещания, что он оставит его свободным на будущее время. Итак, взяв его, члены синклита с величайшим уважением и благоговением приводят к царю, не решаясь вязать неуловимого, изумляясь величию его души и твердости и решаясь слушаться его больше, чем человека. «Один только, – говорили они, – дивный Савва среди современных людей по духовной мудрости и по уму неподражаем, один непреодолим в любви и преданности Богу, и ничто не в состоянии преодолеть мужества этой души, как и огня, если бы кто пожелал схватить его голыми руками, или связать ветер, или овладеть солнечными лучами!» Говоря это, они, очевидно, были проникнуты к нему любовью и благоговели пред ним в гораздо большей степени, чем пред патриархом. Также и царь, хотя оставил свои надежды, побежденный отцом, добровольно, хотя и неохотно, предоставив ему общую и публичную победу, однако не оставил любви к нему и веры, но всецело привязался к нему и душою и мыслью и не желал прекращать с ним общения. Поэтому, часто приходя к нему, он с радостью наблюдал образ его жизни и деятельности и слушал еще с большим удовольствием, чем раньше, его слова, из благой его сокровищницы изливавшиеся, говоря: «Молись, отче, от души, молись, прошу, чтобы и мы, хотя немного, сколько возможно, выровняв прежние неровности и с помощью Божьей положив некоторое начало и, так сказать, угладив путь для дальнейшего хода дел, потом, все оставив, всецело предались тому, о чем давно с тобою условились[265], и исполнили обещание самим делом, ибо все относящееся к настоящей власти я счел бы сором, если бы мне не случилось жить с тобою и пользоваться твоею дружбой и быть твоим сыном и учеником, так как ты всецело проникнут Христом, притом еще при жизни и до разрешения от тела».
70
Однако пытаться рассказать о всех его делах, не говоря уже о том, что невозможно, как я недавно сказал, и некоторым образом неприятно по причине пресыщения, обычно происходящего в слушающих при обширности повествования, хотя имеющие ум не могут насытиться рассказами о нем. Поэтому и я, часть из этого опустив, вкратце изложу дальнейший рассказ. Обыкновенно одни из подвижников совершили и совершают такие, другие иные виды добродетелей, делающих обычно человека подобным Богу, притом одни более склонны к этим, а эти к тем, смотря по тому, сколько, думаю, у каждого имеется желания и кто же к чему более привык, а также смотря по воспитанию и образу жизни и еще смотря по характеру и природным дарованиям, ибо мы и этого не можем совершенно игнорировать, но еще никто не поднимался на высоту всех добродетелей, кроме некоторых немногих из древних, которые явились дивным, гармоническим сочетанием (συναρμοστία) в своем лице всех добродетелей, оставив своим примером как бы некоторые чудные изображения для имеющих впоследствии избрать то же занятие. Ныне же прославляемый, в значительной мере превзойдя, как бы какой крылатый, всех нынешних подвижников, так что и сравнивать его ни с кем из них нельзя, вступил в состязание с сонмом древних великих отцов и, дивно в значительной степени превзойдя и их, с немногими из них стал вместе – если не иметь в виду бесплотных, с которыми они[266] одинаковое усердие имели, – хотя и умаленный, как говорит божественный Давид, от Ангелов (Пс. 8:6) по причине грубости плоти, но имеющий вследствие этого прославиться более их, с которыми он опять по своей чистоте имел дивное общение еще с плотью, этим природным жилищем (ср. 2 Кор. 5:1), ни в чем им не уступая. Но рассмотрим это внимательно.
Деятельная добродетель разделяется занимающимися этим на два вида, и в то время как первый вид состоит отчасти из телесных добродетелей, как первоначальных и вводных (они называются ими более орудиями или средствами к достижению добродетелей, а не добродетелями в собственном смысле), второй вид опять составляют душевные, которые и суть собственно добродетели, и деяния, весьма приличные душе и приводящие ее к совершенству, каковы смиренномудрие, любезнейшее и великое таинство любви, которое и бесстрастием любят называть искусные в этом, и т. п., что же касается созерцательной (добродетели), то она также разделяется на созерцание (θεωρία) сущего (των ον των) – в нем и некоторые из внешних философов обыкновенно упражнялись, но, конечно, не так, как наши, – и Божественную, которая называется и непосредственным (άμεσος θεωρία) созерцанием, а вернее, прекращением всякого созерцания, а также единением (с Богом) и самым крайним пунктом желания. Если это так, то, представив себе все относящиеся к великому, приложим-ка к нему эту мерку и попробуем сравнить его не с кем-нибудь из заботившихся о приобретении добродетели, но прямо с самой добродетелью. Телесные добродетели и подвиги этого гиганта превосходят и заповедь, и природу по величию дела, как недавно было сказано, хотя, говоря это, я боюсь, чтобы кто-нибудь из любящих размышлять не стал упрекать меня в преувеличении и не подвергся помыслам неверия по причине величия дела, представляя себе его пост и воздержание в пище, как будто не был бестелесным, а также крайнее молчание в течение стольких лет и при этом терпение во всем, нисколько не уступавшее мученическим борениям и имевшее то преимущество, что оно не ослабевало от большого протяжения времени, но, казалось, будто даже усиливалось от опасностей, что особенно удивительно и редко. Что же касается созерцания, то какая нужда говорить об этом, если он, превзойдя всякую высоту знания и поднявшись выше созерцания сущего, подобно великому Моисею, гораздо большего удостоился сияния, не законные тени и образы, но самую Истину вещей вышеестественно удостоившись увидеть вместе с Петром и Павлом, а также сынами грома! А что особенно дивно, так это то, что, целых сорок дней находясь в исступлении (εκστάς), он был, как мы слышали, самими Ангелами обучаем таинствам. О среднем и душевном ряде добродетелей, который собственно добродетелью и деянием, как мы сказали, называется, также и о том, как великий осуществил это в жизни, нами уже сказано было раньше. Ибо невозможно, решительно невозможно удостоиться тех таинств и той чрезвычайной благодати, не очистившись предварительно ими[267] и не постаравшись, подобно ему, сделаться духовным храмом (1 Кор. 6:19), так как и нам никто не дал бы мира в негодный и смрадный сосуд.
71
Однако и это еще должно прибавить – из многого и вместо многого немногое, как я сказал, – ибо кто не знает о его крайней скромности, о чрезвычайном миролюбии и кротости, о его доступности для всех и любезности! Обращение его было приятно, а слово было способно умиротворить душу, чем бы она ни обуревалась, и привести ее в гораздо лучшее состояние. Кто так сильно предпочитает пользу своих ближних, что в присутствии тех, которые думают, что они чем-нибудь превосходят других, станет хранить полное молчание или будет прикидываться глупым и простым, словами, и повелением, и всей внешностью являясь подобным дитяти, как делал мудрейший, а с людьми более низкого рода жизни, младшими по возрасту и более низкими по положению, с одними будет обращаться как брат, а с другими как общий для тех и других отец, называя их отцами своими и господами и припадая к ногам всех с большой на лице выражающейся радостью и почтением? Это многим, слабо и глупо на самом деле нападавшим на него, служило поводом к неразумному подозрению его в природной будто слабости и глупости, в то время как он был во всем тверд и весьма мудр. И до настоящего времени многие о нем так думают, предпочитая иметь ветер и дым вместо света и истины, ибо он не только хорошо знал то, что о нем так думают, но даже и тех, которые о нем так думали, и притом так хорошо их знал, что прозорливо постигал тайны их сердца и видел их мысли, а также и то, кто какой душевной страстью был обладаем, и сообразно с этим относился к ним, одним являясь глупым и простым, а с другими совсем не разговаривая и даже не показываясь им. Но он хорошо знал, пред кем нужно было обнаружить тайно обитавшую в его душе духовную мудрость и сокрытое в нем богатство благодати, и притом не всем одинаково, но по мере каждого (см. 2 Кор. 10:13), как Бог ему указывал при посредстве обитавшей в нем мудрости. Иногда при этом он как бы мимоходом и без всякой цели, однако весьма точно изображал и описывал их, чего одного уже достаточно для правильного представления и как бы слабого изображения славы и величия этой великой души. Для других же всё, касавшееся его, было так сокровенно и таинственно, что они не могли и подумать, что в нем находится что-нибудь особенное и что он проводит какую-нибудь особенно высокую жизнь, ибо мудрый не обнаруживал этого ни одеждой, ни седалищем, ни видом кровати и ничем другим. Поэтому-то большинству посторонних и близких к нему лиц он казался мало чем отличающимся от прочих, хотя был выше всех подвижников по своей жизни, иногда же некоторые признавали его и самым обыкновенным человеком по причине его общительности и дружелюбия и чрезвычайного смиренномудрия. Но высшая степень его мудрости и точно нечто вышечеловеческое было то, что он, совершая величайшее и необычайное в течение всей своей жизни и при всяком деле, почти от всех, за исключением немногих, так искусно скрывал то, что казалось, будто это врожденно ему и он ничего дивного и особенного не делает. К этому должно прибавить еще и то, что он не только старался прочно скрыть свое сокровище, но умудрялся сделать так, что не давал даже и почувствовать, что в нем скрывается какая-нибудь драгоценность. Так он достиг вершины смиренномудрия и так дивно подвизался в монашеской любомудрой жизни.
72
Кто же как следует может рассказать о его любви к царице добродетелей! Ибо он имел такую превосходящую всех когда-нибудь бывших любовь к Богу, что нисколько не уступал мученикам своей во плоти жизнью, как мы недавно сказали, так что смело мог говорить вместе с Павлом: я каждый день умираю, – свидетельствуюсь в том похвалою вашею (1 Кор. 15:31). Но для него и этого было недостаточно, и он молился и жаждал кровию окончить свою жизнь как-нибудь необычайно. Что же касается любви к ближнему, то пусть предстанут испытавшие это и расскажут о нем, каков он был для больных, особенно для престарелых и для изувеченных телом, так что не удерживался даже от человеколюбивейшего врачевания, но и в этом немалую часть трудов брал на себя по чрезмерной любви. По этой причине мудрейший целые дни и ночи посвящал уходу за больными, всем существом своим сострадая им и стараясь облегчить тяжесть их мучений. Поэтому один раз, когда один из больных, чувствуя болезненное отвращение к пище и питью и решительно ко всему, стал просить вместо всего этого одного лекарства – присутствия великого, он тотчас, сказав с великим Павлом: никто своего да не ищет, но каждый ближнего (ср. 1 Кор. 10:24), все оставив, всею душою предоставил себя в распоряжение больного, не оставляя его с этого времени ни ночью, ни днем, ни на самое малейшее время в течение целых, думаю, четырех месяцев, дивно прислуживая ему и сострадая, пока больной и жизни не окончил, – и если бы он остался в живых, он, конечно, не оставил бы его, пока тот желал бы его присутствия. «Что же в этом, друг, удивительного? – говорил он мне. – Что лучше этого дела? Или какой знак любви к Богу более явный, чем этот? Поэтому я, – говорит, – чрезвычайно удивляюсь тому пресвитеру[268], который говорил, что он охотно, если бы мог, сняв, как одежду, собственное тело, отдал бы его кому-нибудь из изъеденных священной[269]болезнью и, взяв его (тело), переоделся бы в него. Так и я, – говорит, – желал бы с ним и молился о том же, если бы это было возможно и позволяла природа и на деле осуществить желаемое». Поэтому так далеко были от этой великой души всякая раздражительность, и злоба, и гнев, что никогда решительно нельзя было видеть его за что-нибудь гневающимся, если даже дело касалось и веры. «Какая разница, – говорил он, – золотыми ли листьями или каким-нибудь глиняным покровом будет закрыта зрительная наша сила? Ибо одинаково я буду слеп, из какого бы ни был материала покров. В душе никогда не должно быть горечи и раздражительности, ибо добро можно защищать и другими способами»[270]. Поэтому великий так был свободен от этой страсти, что даже прикосновения ее не чувствовал и почти не знал совсем, какова она на самом деле, что особенно, по словам искусных в этом деле, является знаком высочайшей любви. Кто же лучше и мудрее его ухаживал за душевно недугующими и, исследовав болезнь, так трудолюбиво и искусно приготовлял лекарства, а потом превосходно лечил делом и словом? Слово же его было гораздо полезнее, чем дела других, так что сообщаемое о сиренах в сравнении с этим – пустая болтовня; это, казалось, были скорее божественные слова или как бы некоторые божественные чары, никогда не пропадавшие даром, но всегда оказывавшиеся полезными.
73
Но так как я вспомнил о словах и дивной при этом благодати учителя, то присоединю по необходимости и это к сказанному. При его беседах такая проявлялась благодать и дивная тайная сила, какой мне не приходилось ни в ком из прославившихся своей добродетелью наблюдать, хотя я слышал весьма многих великих мужей. Это было прямо нечто святое и Божественное, ни с чем не сравнимое, так что казалось, будто она касалась самой души, необычайно всю ее наполняя и, как бы поток какого-нибудь нектара, тихо проникая в саму глубину ее, так что слушавшему слова его представлялось, будто он скорее чувствует, чем слышит их. Но еще более важное и удивительное – это то, что, примешивая к своим словам по временам обычные рассказы, этим самым приводил слушателя в восторг, и тот испытывал некоторую дивную перемену, как бы услышав что-нибудь новое и неизвестное, из чего особенно можно было узнать тот источник, из которого вытекал этот замечательный и приятный поток, разумею силу Святого Духа.
74
Когда же он, подвизаясь как никто подвигом добрым, оканчивал свое течение (см. 2 Тим. 4:7) и смотрел уже на небо и уготованный ему венец, и тогда совершает чудеса, не меньшие раньше рассказанных. Ибо за десять дней до своего к Богу отшествия, обращаясь к помогавшему ему ученику, говорит: «Теперь, друг, пойдем помолимся в наших святых храмах, ибо я давно уже пообещал вознести эту молитву. И вот, чтобы конец жизни, наступив, не помешал нашему намерению, поспешно уплатим долг». После этого великий в течение целых двух дней обходил храмы, молясь и принося за все благодарение Богу, а также совершая исходное (εξιτήριον) и заранее принося жертву и совершая с великой радостью и взыгранием сердца общее моление за нас и за общую всех безопасность и благоденствие. Потом, возвратившись оттуда, два следующие дня он провел в безмолвии, а потом, призвав опять жившего вместе с ним друга и посадив возле себя, весьма явно предсказывает отшествие свое и просит перенести это великодушно и не предаваться безмерной печали, хотя бы это было для него и тяжело, и несносно, ибо он и после кончины любящим его и хорошо помнящим будет другом и самым скорым пред Богом предстателем. А что было потом, о том прилично другим, а не мне рассказать, ибо я не могу вспомнить об общей беде и несчастий, которым подверглись мы, хорошо знавшие и горячо любившие его. И вот, когда великий уже лежал при последнем издыхании, а его друзья, Ангелы, с неизъяснимой радостью торопили его к блаженной жизни, предстал опять пред ним друг и ученик по удалении всех, прося о последнем наставлении. Он же, раскрыв немного уста, сказал шепотом несколько слов о смиренномудрии и, представив ясный знак своего совершенства в руки возлюбленного Господа через бывших возле него Ангелов, всецело и радостно предал честной и чистый залог (παρακαταθήκην), свою то есть душу, как он обычно всегда называл ее при жизни, не достигнув еще старческого возраста, как сам нам говорил. И ныне ты на небесах с Ангелами ликуешь, светом блаженного Божества непосредственно облиставаемый, слабое сияние Которого ты и раньше принимал, еще в этой жизни, а почти мертвый и совершенно изнемогший Филофей, лишившись великой помощи и отрады, стал проводить тяжелую и мучительную без тебя жизнь, которую не знает, как и окончить после твоего любезнейшего к Богу отшествия. Только в ночных видениях ты все еще нас не оставляешь, отечески вразумляя и человеколюбиво каждый раз руководя к лучшему.
75
Рассмотрев и бывшее после его к Богу отшествия, присоединим к сказанному и это совершённое великим дивное чудо, не только согласное с вышесказанным и равное ему, но и дивно удостоверенное, так что решительно устраняется всякое сомнение в этом, как сейчас будет сказано. Великое и несказанное желание объяло мою душу к написанию этой истории, и я ни на минуту не имел покоя от этой мысли, объятый этой похвальной страстью. Однако я испытывал при этом и немалый страх, как говорил в начале слова, помышляя о величии дела и сравнивая с этим свою силу, особенно среди (мирского) шума, постоянно занятый продолжительными своими и неотложными делами. Когда же сильная любовь к великому одержала верх и не находилось уже противоречия, я, вменив ни во что все прочее, принялся за дело, испросив его предстательства и каждый день горячо прося его помочь привести к концу повествование без перерыва от кого-нибудь из беспокойных и показать, по мысли ли этой великой души оно идет и не погрешили ли мы в каком-нибудь отношении. Таково было, так сказать, введение описываемого и как бы своего рода отплытие наше. Когда же писание наше по гладкому и удобному для нас пути, как бы по какому невидимому мановению, вышло из той величайшей бури, так что чрезвычайно поразило и наших друзей новизною своей и было уже близко к концу, опять великий чудодействует, удостоверяя всем правильность и верность рассказа, а вместе с тем отечески и человеколюбиво снисходя к нашим просьбам, как это ему свойственно.
Но нужно быть внимательным к слову. Была ночь. Записывавший мои слова (он принадлежал к клиру и стоял во главе чина чтецов), от труда писания и усердия ослабев, предался обычному сну. «Вдруг явилось мне, – говорит, – такое видение.
Казалось, я стою, по обычаю, в нашем великом храме во время совершения (Бескровной) Жертвы. Вместе со мною стояли, как в праздник, и прочие, и все мы весело вместе воспевали священные песни. Тайны, казалось мне, совершал тогда общий пастырь нашей церкви вместе с великим Саввою. Когда же наступило время чтения Евангелия и все мы как должно внимательно слушали это Божественное слово, они оба находились в алтаре, так что хотя голос их и слышался, но видеть их я не мог. Когда же дивный Савва начинал чтение, пастырь, повторяя те же самые слова по частям и усугубляя силу того Божественного учения, передавал и нам, внешним. Так, разделяя на части и преемственно повторяя друг за другом слова, один, как я сказал, диктуя, а предстоятель по порядку повторяя и безошибочно следуя за ним, они дошли до самого конца чтения. Было же благовествуемо ими событие, сообщаемое только одним божественным Лукою, как общий наш Господь, пребывая на земле, как человек, пришел в воспитавший Его Назарет и в субботний день вошел в иудейскую синагогу. И дали Ему книгу Исаии, чтобы Он прочел и произнес поучение по поводу найденных Им по Его желанию предсказаний о Нем пророка, который говорил: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем (Лк. 4:18) и т. д. Когда же, – рассказывал видевший, – окончилось чтение, казалось мне, оба они стали совершать какой-то священный выход, выйдя из алтаря и имея следующих за ними общников таинств, как обычно бывает. Мы же вне Божественного алтаря по сторонам стояли. Тогда, приблизившись ко мне, великий Савва, ласково взглянув на меня, сказал: “Сообщаемое тебе от правителя (καθηγεμόνος) церкви записывай без всякого сомнения, так как все это хорошо и верно, – я в этом достоверный свидетель. Кроме того, ты будешь, – говорит, – отцом ребенка мужеского пола, хотя ты уже этого и не ожидаешь, и это да будет тебе как бы верным ручательством этих слов”». Неожиданно увидевший и услышавший это на третий после этого день со страхом и радостью сообщил и мне виденное, оканчивавшему в этот день свое слово, а лучше прилагавшему последние слова с обычными священными обращениями, когда дело идет не как попало, а как следует. Хотя видение мне показалось и весьма удивительным, однако я сказал, что достоверность слов должно брать от дела, чтобы нам не оказаться доверяющими простым снам. Поэтому я решил хранить молчание об этом. Жена же получившего предсказание тотчас зачинает и по прошествии узаконенного природой времени является матерью дитяти мужеского пола, которое называется нами Стефаном, по детскому имени великого, и ясно объявляет, как некоторая одушевленная труба, о пророчестве его и неложности видения отца. Поэтому мы сочли это достойным слова и памяти, так как оно нисколько не менее удивительно, чем сказанное раньше.
76
Это тебе, дивный, начатки от нас любезных для тебя наших слов и писаний, о чем, хотя оно и ничтожно, ты сам, можно сказать, высказал свое мнение. Ибо, ободряемый тобою и любовью к тебе, я предпринял дело, превышавшее мои силы, отвлекаемый постоянно болезнью и занятиями и мучимый этими неизреченными волнениями, хотя сознаю, что оно дерзко и не соответствует важности предмета, однако по силе ничему не уступает. Итак, обещанное мне давно публично отцами через тебя и твое слово хорошо исполняется, хотя тебя одного следовало бы предпочесть всем другим. Призирай же на нас благосклонно свыше и приведи согласно твоим последним обещаниям к любезному для Бога и полезнейшему и паси или сопастырствуй, если только это полезно и безопасно, или же разреши от оков этой мятежной плотской жизни, как прежде, не знаю каким образом, связал, и мирно переведи к тому твердому и невозмутимому миру, который во Христе Иисусе, Господе нашем, истинном мире и благе спасаемых, Которому подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Отцом и животворящим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Примечания
1
Тоῦ ἀγιωτάτου πατρός ἡμών τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυροΰ Φιλόθεου Вίος και πολιτεία του οσίου και Β'εοφόρου πατρος ημών Σάβα τοῦ Νέου τοῦ ἐν τῷ Ἄθω όρει ασκησαντος
(обратно)2
Разумею главным образом штундизм, русский баптизм, адвентизм, толстовство и т. д.
(обратно)3
Церковный Вестник. 1914. № 43. С. 1283.
(обратно)4
Порфирий (Успенский), еп. История Афона: В 3 ч. Ч. III. Отд. втор. СПб., 1892. С. 254. См. также: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 2. М„1876. С. 538.
(обратно)5
Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς Πετρούπολις; ᾿Αλεξάνδρεια. 1911. Σ. 5. См. также: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. втор. С. 211.
(обратно)6
В это первое патриаршество свое патриарх Филофей посвятил, между прочим, знаменитого русского иерарха свт. Алексия, митрополита Московского (в 1354 г.). Другому великому подвижнику русскому, при. Сергию Радонежскому, патриарх Филофей прислал крест, параманд, схиму и послание с советом устроить общежитие в обители.
(обратно)7
В библиотеке Св. – Павловского монастыря на Афоне находится служба и житие его в рукописях: Афонский Патерик. Ч. II. М., 1897. С. 461. См. также: Catalogue… by Lambros. № 26. С. 153.
(обратно)8
PG. Т. 151 (см. у проф. А. И. Лебедева: Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века).
(обратно)9
PG. Т. 151.
(обратно)10
Ibid.
(обратно)11
PG. Т. 151.
(обратно)12
Ibid.
(обратно)13
Издано еп. Арсением (Кирилловским). Новгород, 1898.
(обратно)14
Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυλογίας. Т. V. Σ. 190–359. Ἐν Πετρούπολει.
(обратно)15
Кроме того, ему же принадлежат «Жития двух вселенских патриархов XIV в., свв. Афанасия I и Исидора I», изданные А. Пападопуло-Керамевсом в 1905 г. Далее жития св. вмч. Димитрия, свт. Григория Паламы, прими. Анисия, св. Февронии, сщмч. Фоки и Германа Святогорца (PG. Т. CXVI, CLI, CL, CLIV); К. Ύριανταφιλλίδοι. Συλλογή ελληνικών ανεκδότων. Βενετία (см.: Афонский Патерик. Ч. II. М., 1897 С. 461).
(обратно)16
См.: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. III. Отд. втор. С. 254.
(обратно)17
О патриархе Филофее можно читать у византийских историков Иоанна Кантакузина и Никифора Григоры, у Крумбахера (Geschichte der byzantinischen Litteratur. Munchen. S. 107–108), проф. А. П. Лебедева «Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века», ей. Арсения «Три речи к епископу Игнатию с объяснением изречения Притчей: Премудрость созда Себе дом (Притч. 9:1)» (Новгород, 1898).
(обратно)18
Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. втор. С. 173 (Muralt E. Essai de chronoghraphie byzantine. T. II. P. 557).
(обратно)19
Негропонт, Негропонте (итал. Signoria di Negroponte; букв.: Черный Мост) – средневековое государство крестоносцев, занимавшее остров Эвбея в Эгейском море, возникшее по итогам четвертого Крестового похода. Несмотря на постоянные конфликты с соседями и небольшой размер, просуществовало 265 лет (с 1204 по 1470 г.). – Ред.
(обратно)20
Лебедев А. П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до половины XV века. М., 1902. С. 92.
(обратно)21
Арсений, еп. Летопись церковных событий и гражданских. СПб., 1899. С. 493.
(обратно)22
Прот (греч.) – выборный глава всех монастырей Афона. – Ред.
(обратно)23
Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. втор. С. 176, примеч.
(обратно)24
’Ιωάννη Καντακουζηνός. Т. 2. Σ. 212–213 (примеч. П. Керамевса).
(обратно)25
Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς Πετρούπολις; ᾿Αλεξάνδρεια. 1911. Σ. 14, 17.
(обратно)26
Манганский монастырь – монашеская обитель в центральной части Константинополя, на берегу Мраморного моря, северо-восточнее древнего акрополя Византия, основанная императором Константином IX Мономахом (1042–1055) до 1045 г. Около 1155 г. в монастырском приюте жил и творил один из самых замечательных византийских поэтов, чье настоящее имя неизвестно, оставшийся в истории с именем Манганский Продром. В 1204 г. во время захвата Константинополя крестоносцами монастырь был разграблен и пришел в запустение. После освобождения в 1261 г. города византийцами на восстановление обители из казны были выделены средства. В XIII–XV вв. монастырю в какой-то степени удалось оправиться от последствий латинского погрома, и он вновь стал местом упокоения представителей высших слоев империи. Известно, что к концу XIV в. монастырю удалось собрать немногие христианские святыни Константинополя, уцелевшие после разграбления города латинянами. Последний период существования монастыря связан с подвижнической деятельностью непримиримого борца с унией святителя Марка, митрополита Ефесского (см.: Византийский словарь: В 2 т. / [сост., общ. ред. К. А. Филатова]. СПб., 2011. Т. 2. С. 18–19). – Ред.
(обратно)27
Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς. Σ. λУ, μ.
(обратно)28
В Ватопедской обители он и похоронен. См.: Г. Σμυρνάκης, Τό Ἅγιον Ὄρος, Ἀθήνα 1903. Σ. 433.
(обратно)29
Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς (1296–1360). Πετρούπολις; Αλεξάνδρειά. 1911. Σ. 27, 111 и τ. д.
(обратно)30
Παπαμιχαἡλ Г. Σ. 41.
(обратно)31
Ibid. Σ. 21.
(обратно)32
Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. перв. С. 133.
(обратно)33
Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирианина. Слово 16. Сергиев Посад, 1911. С. 62.
(обратно)34
Там же. С. 61.
(обратно)35
Там же.
(обратно)36
Там же.
(обратно)37
Там же. С. 67.
(обратно)38
Там же.
(обратно)39
Там же. С. 64.
(обратно)40
Творения аввы Исаака Сирианина. Слово 16. С. 63.
(обратно)41
Созерцания этого не нужно смешивать с обыкновенным созерцанием природы (τῶν ὄντων), которое является только подготовительною ступенью к первому или непосредственному (άμεσος θεωρία). См. наст, изд.: Житие Саввы Нового. § 70.
(обратно)42
Время жизни его до сих пор не определено даже по отношению к столетию, в которое он жил. PG. Т. 150. Col. 992–993.
(обратно)43
Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. нерв. Киев, 1877. С. 144.
(обратно)44
См.: Meyer Ph. Die Haupturkunden fiir die Geschichte der Athoskloster. Leipzig, 1894. S. 117,145,171,191.
(обратно)45
Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита по рукописи Московской Синодальной библиотеки. Издал И. Помяловский. СПб., 1899. Греч, текст. С. 8–9.
(обратно)46
Там же. С. 10.
(обратно)47
Там же. С. 43.
(обратно)48
Там же. С. 42.
(обратно)49
Не лишнее при этом заметить, что как прп. Симеон, так и прп. Григорий Синаит вместе с Григорием Паламой считали занятие умной молитвой обязательным не только для аскетов-иноков, но и для мирян.
Сводя их мнения об этом, Паисий Величковский говорит: «Буди же знаемо и сие тебе, добрый рачителю священного сего умного делания, яко не точию в пустыни или уединенном отшельничестве, но наипаче в самых тех великих лаврах и посреди градов сущих, быша учители и множайшие делатели умному сему священнодейству. И чудитися настоит, како святейший патриарх Фотий, от сенаторского чина взят будучи на патриаршество, и не сущ монах, обучися на таком высоком степени умному сему деланию и толико преуспе, яко сияти лицу его, аки второму Моисеови, от сущия в нем благодати Святого Духа, рече святой Симеон Селунский». На возражения об опасности впасть при этом в прелесть старец говорит, что опасно раньше времени усиливаться достигнуть «зрительной» или «духовной» молитвы, которой, по словам еще Исаака Сирина, достигает «от тмы един». «Довольно бо, довольно нам, страстным, – заключает он, – поне след умного безмолвия познати, еже есть делательная молитва, ею же прилоги вражии и злые помыслы прогоними бывают от сердца» (Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. М., 1847. С. 77, 80). Такого же мнения об умной молитве, как обязанности мирян, держится и преосвященный Феофан (см. его Письма о христианской и духовной жизни).
(обратно)50
См.: Παπαμιχαἡλ Г. 'О Άγιος Γρηγόριος ΐίαλαμ,άς. Σ. 57–60.
(обратно)51
Παπαμιχαἡλ Г. Σ. 51–55.
(обратно)52
То есть устами. «Одни (из отцов) устами, а другие умом учат произносить ее (Иисусову молитву), я же употребляю то и другое, ибо иногда ум устает, а иногда уста», – говорит прп. Григорий Синаит в другом месте (Περί τον πως δεΐ λίγειν τήν ευχήν // PG. Τ. 150.1865. Col. 1330–1332).
(обратно)53
Соколов И. И., проф. Св. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии. СПб., 1913. С. 15.
(обратно)54
Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Σ. 68–73.
(обратно)55
Или раздражительной, или яростной. – Ред.
(обратно)56
Яснее об этом у Ксанфопула: «Итак, сев в безмолвной келлии, собери ум твой, введя его, то есть ум, «в ноздренный путь», которым дыхание в сердце входит, и толкай его и понуждай сойти вместе с вдыхаемым воздухом в сердце» (PG. Т. 47. Col. 680; Παπαμιχαήλ Г. Σ. 58. См. также: Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. С. 207).
(обратно)57
Паисий Величковский предостерегает против сосредоточения внимания в груди или на пупке во избежание молитвы нечистой, соединенной с возбуждением плотских страстей. «Не точию бо молитвы и внимания в сей части (груди или пупке) не подобает действовати, но и самую ту теплоту, приходящую от похотныя части на сердце в час молитвы, весьма не приимати», так как это «первая и самоизвольная прелесть». Сердце находится «не посреди чрева» и не «в персех», но «под левым сосцом» (Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. С. 81).
(обратно)58
Приведенное учение святых отцов об исихии да послужит вразумлением неправомыслящих об Иисусовой молитве и святейшем имени Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа служит только средством общения с Богом, посредствующей, так сказать, ступенью этого общения, как и всякая словесная молитва. Высшее, более тесное общение с Божеством происходит не в имени, не в слове или словесной молитве, но в непосредственном (άμεσος θεωρία) созерцании. «Тогда ум, – по словам прп. Максима Кавсокаливита, – молиться не может, но всецело подчиняется Духу и следует за ним, куда Ему угодно, – или в область невещественного света, или в какое-нибудь неизглаголанное созерцание и в божественную беседу» (Δουκάκη К. X. 1889. Σ. 208. То же в Афонском Патерике (Ч. I. С. 43). Согласно с этим, как мы видели, говорит и св. Исаак Сирин).
(обратно)59
На это указывают остатки древностей, хранящихся в Ватопеде. Преосвященный Порфирий (Успенский) полагает, что на мете Ватопеда стоял город Дион (созвучный с названием обители – Βατοπεδίον), упоминаемый географом Скилаксом за 500 лет до Р. X. (см.: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. I. С. 156), Геродотом (L. VII, 22), Фукидидом (L. IV, 109) и другими. Влахос думает, что здесь находился город Харадрия (Βλάχος, Ηχερσόνησος του Αγίου Όρους Άθω. Έν Βίλω, 1903. Σ. 184).
(обратно)60
Предание это можно читать в Проскинитарии Иоанна Комнина (1701 г.), у В. Г. Барского (1744 г.), в книге «Рай мысленный» 1659 г. (Сказание Стефана Святогорца), у Гедеона («Ό ’Άθως». Σ. 301), также в «Истории Афона» преосв. Порфирия (Ч. II. С. 46–84). Согласно этим преданиям, Ватопед устроен императором Константином Великим в 5829 (321) году, сожжен Юлианом Отступником, посещен Плакидией (в 382 г.), дочерью императора Феодосия, услышавшей чудесный голос, запрещавший ей вступать в монастырь, и устроившей в память этого чуда храм в честь великомученика Димитрия. В 390 г. император Феодосий обновил Ватопед в благодарность Богу за спасение своего сына Аркадия или сына брата своего, Вата, от потопления. В «Новом Лимонаре» (Nέov Λιμωνάριον) рассказывается, что в V столетии преподобные Софроний и Варнава видели Ватопед вместе с другими афонскими обитателями во время своего посещения Афона (см. у Гедеона «Ό ’Άθως». Σ. 313). Далее предания говорят, что в IX столетии арабы напали на Ватопед и разорили его (Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты архимандрита, ныне епископа, Порфирия (Успенского). Ч. II. С. 36; Langlois. Le Mont Athos et ses monasteries. Paris, 1857. P. 17; Σμυρνάκης. Tό Άγιον Ὄρος. Σ. 429). Название Ватопед объясняется то как «Βάτοι; παιδίον» — «отрок Вата», то как «Βάτοι; πεδίον» – «равнина, покрытая терновником». В древних актах пишется «Βατοπεδίον», а не «Ватοπαιδίον» (Заметки поклонника. С. 87, примеч.; Βλάχος. Σ. 184, примеч. См. также: Гедеон. Ό ’Άθως Σ. 318; Акты русских на Афоне монастырей. № 15. С. 144).
(обратно)61
«Едан од найстария светогорски монастыри». «Света Гора»… Д. Авраамовича у Београду, 1848. С. 59. Также: Заметки поклонника. С. 78.
(обратно)62
См.: Григорович-Барский В. Второе посещение Афона. С. 193; Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. С. 116; Σμ,υρνάκτ^. Σ. 429; Βλάχος. Σ. 184.
(обратно)63
Βλάχος. Σ. 184.
(обратно)64
Восстановление Ватопеда не раньше X столетия доказывается тем, что в типике императора Пимисхия I 972 г. он не упоминается (Langlois. Р. 18).
(обратно)65
Miller Е. Le Mont Athos, Vatopedi, L’ile de Thasos. Paris, 1889. P. 64.
(обратно)66
…Συνίστη ἡ τοῦ Βατοπεδίου παρά τοῦ ίδίου όσίου 'Αϑανασίου τοῦ καί τύπους αίτἡ ϑεμἐνου καί διατάξις (рукопись Филофеевского монастыря «История Афона». Ч. III. Оправд. С. 302; Σμυρυάκ. Σ. 429).
(обратно)67
Здесь до сих пор показывают их надгробие. Sava Chilandarec. Kniha о Svate Ноге Athonske. V. Praze, 1911. S. 48.
(обратно)68
"Εγγραϕον άσϕάλεια είς τόν κ. 'Ι ”Ιβηρα… Σμυρνάκης. Σ. 37.
(обратно)69
«Τυπικδυ του άγιου ορούς του Κ. Μουομάχου». Meyer. Die Haupturkunden fur die Geshcichte der Athoskloster. Leipzig, 1894. S. 157. С XI в. он называется уже лаврой. Βλάχος. Σ. 185.
(обратно)70
Ibidem. S. 162.
(обратно)71
Σμυρνάκης. Σ. 46.
(обратно)72
Βλάχος. Σ. 185. См.: Σμυρνάκγς. Σ. 446–451.
(обратно)73
Афонский Патерик. Ч. I. Μ., 1897. С. 14.
(обратно)74
Путеводитель по Афону. С. 92. М., 1903.
(обратно)75
Вλάχος. Σ. 185; Афонский Патерик. Ч. I. С. 82–83.
(обратно)76
Γεδεών. Ό ’Άθως. Σ. 143.
(обратно)77
Вλάχος. Σ. 186. К концу XIII или началу XIV столетия должно отнести, по мнению Кондакова, и нынешний собор ватопедский (Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 34).
(обратно)78
Вλάχος. Σ. 186.
(обратно)79
Ibid.
(обратно)80
Здесь и скончавшийся с именем Иоасаф. Γενεών. Ό ’Άθως. Σ. 167. См.: Langlois. Р. 18. Кроме того, здесь похоронены император Мануил II, с именем Матфей, и сын его Андроник (в монашестве Антонин). См.: Sava Chilandarec. S. 283.
(обратно)81
Путеводитель по Афону. С. 93.
(обратно)82
Βλάχος. Σ. 186.
(обратно)83
Βλάχος. Σ. 188.
(обратно)84
Σμυρνάκης. Σ. 438. См. также «Πηδάλιο» Никодима Святогорца.
(обратно)85
Schmidtke. Das Klosterland des Athos. Leipzig, 1903. S. 73. См. также у Барского: «…на месте равне, между красными елеонами маслычнимы и виноградами и инымы древами садовнымы. Отвсюду имущий горы высоки, с густимы и прекраснимы лесамы…» (Василий Григорович-Барский. Второе посещение святой Афонской Горы. СПб., 1887. С. 191).
(обратно)86
Афонский Патерик. Ч. II. С. 461–463. М., 1897. Составлено по еп. Порфирию Успенскому.
(обратно)87
Слово (λόγος) – очень распространенный вид произведений ораторского искусства в Византии, проходящий через всю ее историю. Слова писали и произносили не только духовные, но и светские ораторы. Содержание при этом бралось из самых разнообразных областей человеческого ведения и жизни – богословской, философской, исторической, из области агиологии (жития святых) и т. д. Некоторые из них по своему значению приближаются к историям и имеют весьма важное значение для выяснения многих сторон византийской жизни. Особенного развития Слова достигли в эпоху Комнинов и Ангелов (1081–1084). Одними из лучших произведений этого рода в эпоху Палеологов (1261–1453) являются Слова патриарха Филофея. В форме Слова написано им и житие при. Саввы (см. у Брокгауза и Ефрона под словом «Византия»). – Примеч. пер.
(обратно)88
Патриарх Филофей, как говорилось выше, известен произведениями агиографическими, литургическими, экзегетическими, каноническими и гомилетическими; обладал весьма обширными познаниями в области Священного Писания и святоотеческой литературы. Богословствование его отличается глубиною анализа и силою экзегетических доводов (см.: Церковные Ведомости. 1898. № 51–52). – Примеч. пер.
(обратно)89
Созерцание – это высшая степень подвижнического преуспеяния, когда человек сколько для него возможно созерцает Божество и тайны духовного мира. Такое состояние бывает уделом весьма немногих, именно тех, которые очистились от страстей и достигли верха добродетели. – Примеч. пер.
(обратно)90
Филипп II (360–336 до Р. X.) – знаменитый царь Македонский, отец Александра Македонского.
(обратно)91
Город в Македонии. Фессалоника (Солунь, совр. Фесалонники) расположена на берегу Фермейского или Солунского залива (составляющего часть Эгейского моря) на склоне горы Кисса при устье реки Вардара.
В древности Фессалоника называлась Галией, потом Фермами. Филипп, царь Македонский (360–336 до Р. X.), расширил этот город и в память победы над фессалийцами назвал Фессалоникой. Кассандр, царь Македонский († 296 до Р. X.), перестроил Фессалонику. В 168 г. до Р. X. Фессалоникой завладели римляне и она сделалась столицей целой области. Христианство насаждено здесь святым апостолом Павлом. Во времена Византийской империи это был один из самых торговых и богатых городов империи, почему Фессалоника часто подвергалась нападениям разных жадных до корысти народов: готов, славян (VII в.), сарацин (X в.), норманнов (XI в.) и латинян, основавших здесь в XIII в. свое королевство. В 1222 г. Фессалоникой овладевают эпирские деспоты, а в 1246 г. она переходит к венецианам, а потом опять к грекам. В то же время Фессалоника была одним из важных центров византийской религиозной и умственной жизни. В XIV столетии особой славой пользовалась так называемая фессалоникийская школа ученых: Нил и Николай Фессалоникийские и свт. Григорий Палама. В 1430 г. Фессалоникой завладели турки, которым она принадлежала до 1912 г., являясь одним из важнейших торговых пунктов после Константинополя. – Примеч. пер.
(обратно)92
Фессалия в древности составляла восточную часть северной Греции, с рекой Пенеем (ныне Саламврия) и горными хребтами Оссой, Павдом и Олимпом. Славилась плодородием своей почвы и имела густое народонаселение. В 1393 г. Фессалия подпала под власть турок. С 1881 г. присоединена к Греции (вилайеты Трикала и Лариссы) и считается житницей ее. – Примеч. пер.
(обратно)93
Македония – страна на Балканском полуострове. Благодаря обилию рек и плодородию почвы, Македония в древности считалась богатой страной. Здесь добывалось золото, серебро, алмазы, разводили плодовые деревья; лес и скот составлял предмет македонской торговли. В Македонии было немало благоустроенных и богатых городов. – Примеч. пер.
(обратно)94
Фессалоника была главным городом самого важного округа византийской империи как в торгово-промышленном, так особенно в стратегическом отношении.
Правителями (дуками) сюда обычно назначались царские родственники. Несомненно, что и лица, занимавшие другие должности административного или иного характера, должны были чем-нибудь, хотя бы знатностью рода, выдаваться среди других (ср.: Скабалланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI в. СПб., 1884. С. 223). – Примеч. пер.
(обратно)95
Разумеется г. Фессалоника. – Примеч. пер.
(обратно)96
с половины IX до начала XIII в. Казань, 1894. С. 51; Луг духовный. СПб., 1896. § 69, 70). – Примеч. пер.
(обратно)97
Разумеется вмч. Димитрий Солунский, пострадавший за Христа в 306 г. Нетленные и мироточивые мощи его сохранялись в Солуни до завоевания ее турками (Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. II. С. 412). Память его празднуется 26 октября. – Примеч. пер.
(обратно)98
Одиссея. 108.
(обратно)99
В житии вмч. Димитрия сообщается о многочисленных случаях его посмертного заступничества за родной город. – Примеч. пер.
(обратно)100
1860; Никифор Григора. Римская история. Кн. 5, гл. 7. СПб., 1862).
(обратно)101
Чудовищами. Тифон (Ύυφώς) в греческой мифологии сын Тартара и Гаи, мифическое чудовище, имевшее сто огненных голов, восставшее против Зевса и низвергнутое им в Тартар. – Примеч. пер.
(обратно)102
Иосиф Флавий – еврейский историк (род. в 37 г. по Р. X.), описавший в своем произведении «De bello judaico» («О иудейской войне») разрушение Иерусалима римским полководцем Титом в 70 г. по Р. X. Это сопровождалось страшными бедствиями для евреев, которых погибло тогда общей сложностью 1337 490 человек и больше 100 000 взято было в плен.
(обратно)103
Илиада (Ίλ/άς) – Троянская область, на территории которой разыгралась Троянская война (за 1500 лет до Р. X.), описанная знаменитым поэтом Гомером. – Примеч. пер.
(обратно)104
Троя – главный город малоазийской области Троады (на северо-западном берегу), где имела место описанная Гомером Троянская война, продолжавшаяся девять лет и закончившаяся разрушением Трои. – Примеч. пер.
(обратно)105
Лемнос (Αήμνος), остров в северной части Эгейского моря. Первоначальные жители его – пеласги в одну ночь были умерщвлены собственными женами за предпочтение им иностранок (Dictionnaire universel d'histoire et de geographic par M.-N. Bouillet. Paris. P. 1025).
(обратно)106
Вот высокий пример горячей любви к родине и достоподражательный образчик любви к человечеству, хотя и грешному, но родственному всем нам! И это говорит человек, получивший строго аскетическое воспитание! Значит, истинный аскетизм не подавляет лучших чувств и стремлений, но возгревает их! – Примеч. пер.
(обратно)107
Божественной философией называется здесь подвижническая жизнь. Еще историк Сократ Схоластик (IV в. по Р. Х.) писал об Евагрии, что он, «быв прежде философом на словах, стяжал философию на самом деле», сделавшись учеником великих египетских подвижников Макария Египетского и Макария Александрийского (см.: Церковная история Сократа Схоластика. СПб., 1850. Кн. 4, гл. 3. С. 354).
(обратно)108
Вообще отношения между господами и слугами в Византийской империи, по словам исследователей, отличались, благодаря влиянию христианских идей, большей нормальностью, чем на Западе. Здесь даже рабство не имело таких уродливых форм, как в других странах. Еще одно доказательство того, что византизм нельзя отождествлять с отсталостью и тьмою (см.: Скабаллапович Н.А. Византийская церковь и государство в XI в. от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алекся I Комнина. СПб., 1884; Всеобщая история с IV столетия до нашего времени / Под ред. Лависса и А. Рамбо; пер. В. Неведомского, М. Гершензона: В 8 т. М., 1897–1903).
(обратно)109
Стефан (στέφανος) по-гречески – венец.
(обратно)110
Благодаря покровительству византийских императоров образование в Византийской империи процветало и в рассматриваемое время было довольно высоким. Существовало много разных светских и духовных школ в разных городах Византии. В них преподавались: грамматика, риторика, философия, под которой разумелись и богословские науки, астрономия, геометрия, арифметика и музыка (или словесность). См.: Лебедев А.П., проф. Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века. М., 1902. С. 270.
(обратно)111
Взгляд святоотеческий. Святые отцы смотрели на Священное Писание как на книгу, показывающую путь к Богу и истине, считая изучение его необходимым и неотложным делом для каждого. Необходимой подготовкой к этому они считали изучение наук светских. «Пока мы еще молоды, – говорил св. Василий Великий, – чтобы постигнуть его глубокий смысл, мы изощряем свои умственные способности на других сочинениях, как на тенях и на зеркале…» «Нужно приготовиться изучением летописцев, ораторов, философов», «углубиться сначала в эти внешние учения», чтобы потом ознакомиться во всей полноте и глубине со святыми и таинственными учениями (Свт. Василий Великий. Беседа 22. К юношам). См.: Дериов А., прот. Чтения по Закону Божию. Об истинно-христианском воспитании. СПб., 1913. «Я не желаю, – говорит св. Григорий Богослов, – ни золота, ни серебра, ни шелковых тканей, ни ослепительно сверкающих драгоценных камней… Я желаю только одного: силы знания и слова…» Далее он превозносит красноречивые слова пред трибунами судей и похвальные речи: «Исторические знания составляют для его ума, – по его словам, – драгоценное сокровище… Мы не должны пренебрегать и грамматикой, которая делает речь правильной и изящной… Весьма важно также приобрести знание логики и навык в диалектических спорах… Не менее заслуживают внимания учения касательно нравственности и тщательные изыскания тех ученых, которые проникли в тайны природы… После того как я пройду в юности этот курс наук, я предамся изучению Божественного откровения, я пойду за светом Его учения… Сам Христос будет мне помощником… Он поможет мне войти в небесные обители… Там… я буду созерцать (истину) в полном ее свете» (Свт. Григорий Богослов. Стихотворения исторические. 4. От Никовула-сына к отцу). Вообще святые отцы не отрицают важности изучения светских наук. «Учители Церкви, – писал еще историк Сократ, – издревле, как бы по какому общепринятому обычаю, до глубокой старости занимались греческими науками» (Кн. 3, гл. 16. СПб., 1850). – Примеч. пер.
(обратно)112
«Добродетелей и умозрений о них четыре: разумность, мужество, воздержание и справедливость. Дело разумности – созерцать умственные и святые силы без причин, так как причины открываются мудростью. Дело мужества – стоять в истине и, хотя бы встретил противоборство, не уклоняться к несущему. Принимать семена от первого земледельца (Бога) и отвращаться от последующего сеятеля (диавола) значит быть воздержным. А справедливость состоит в том, чтобы выражаться сообразно со свойствами каждого предмета» (Сократ Схоластик. Церковная история. Кн. IV, гл. 23). – Примеч. пер.
(обратно)113
В рассматриваемое время в Византии господствовало сильнейшее увлечение произведениями классической древности, полными мифов, проникшее и в школы (см.: Лебедев А.П., проф. Исторические очерки… С. 370). – Примеч. пер.
(обратно)114
Слово «атлет» указывает на встречающуюся еще в Посланиях ев. апостола Павла спортивную терминологию, образно применявшуюся к христианскому подвижничеству. – Ред.
(обратно)115
Так же высоко отзывается об Афоне патриарх Филофей в другом своем произведении. См.: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. II. Отд. втор. С. 828; «Τοῦ ἀγιωτάτου καί σοϕοῦ π. Φιλοϑέου πρός τόν ϕιλόσοϕον Γρηγοράν λόγος άντιρρητικός ίβ. ύπἐρ τόν ἐν τω ἀγίω όρει τω ’Άϑω μοναστόν καί τόν ίερός ἡσυχαζόντων ἐκεί». – Примеч. пер.
(обратно)116
Разумеется подвижническая иноческая жизнь.
(обратно)117
Мысль тайной гордости, с которой приходится бороться подвижникам, вкусившим мирской науки. – Примеч. пер.
(обратно)118
Близ афонского монашеского городка – Кареи, где издревле находилось главное афонское Управление, потом получившее название Протата. Здесь жил и глава афонского монашества – прот. См.: Вλάχος К. Ή χερσόνησος του αγίου ορούς ”Αθους. Εν Βόλω, 1903. Σ. 149.
(обратно)119
Разумеется монашеский постриг. – Примеч. пер.
(обратно)120
Вероятно, следы побоев. – Примеч. пер.
(обратно)121
Лидия – область в Малой Азии в древности, с главным городом Сардами. До покорения персами (в 548 г. до Р. X.) лидийцы были народом воинственным и их конница (с колесницами) считалась самой лучшей. – Примеч. пер.
(обратно)122
Самый удобный и не приводящий к падениям путь ко спасению, по словам опытных подвижников, состоит в том, чтобы, избрав искусного старца-руководи-теля, всецело предаться ему, как железо кузнецу, и без совета с ним не предпринимать ничего. См. книги аввы Дорофея, Иоанна Лествичника, епископа Феофана Затворника и др. Также: Икскуль К. Старчество по учению святых отцов и аскетов. М., 1907. – Примеч. пер.
(обратно)123
То есть старца.
(обратно)124
'Ρευμάτων – потоков.
(обратно)125
Разумеется посвящение в сан иеромонаха.
(обратно)126
Разумеются святые апостолы.
(обратно)127
Старцу.
(обратно)128
Монашеская наука (знание), по словам прп. Кассиана, двух родов – практическая, то есть деятельная, состоящая в трудах по исправлению нравов, искоренению пороков и приобретению добродетелей, и теоретическая, состоящая в созерцании Бога и Божественных предметов, а также в познании сокровенных тайн. Первое является необходимой подготовкой для второго (При. Иоанн Кассиан Римлянин. Творения. Собеседование XIV); последнее без умерщвления страстей невозможно. Удобнее всего такое освобождение от страстей достигается безмолвием и уединением, хранением сердца и блюдением ума, то есть непрестанным вниманием к внутренним душевным движениям с покаянным настроением, частыми слезами, памятью о Боге и частым повторением Иисусовой молитвы. Высоты созерцания достигали очень немногие, как, например, прпп. Антоний Великий, Арсений Великий, Иоанн Лествичник и т. д. В XIV в. главным центром созерцательного подвижничества был Афон, а высокими представителями созерцательной жизни – его подвижники: свв. Григорий Синаит, Григорий Палама и др. См.: Παπαμιχαήλ Г. Ό "Αγιος Γρηγόριος ΥΙσλαμ,ας. Πετρούπολη; ’Αλεξάνδρειά. 1911. Σ. κα – κρ, 44–48. – Примеч. пер.
(обратно)129
Афонские подвижники в древности на себе переносили тяжести, из подвижнических видов чуждаясь помощи животных. См.: Помяловский И. Житие прп. Афанасия Афонского. СПб., 1895. – Примеч. пер.
(обратно)130
В Древней Греции, в г. Олимпии в Элиде, в честь Зевса через каждые четыре года совершались разные состязания, известные под именем Олимпийских игр. Оказаться победителем на них и получить в награду лавровый венок для грека было верхом желаний. Выступлению на Олимпийских играх предшествовала долгая тренировка, приготовление, а перед самым выступлением борцы намащались. Святые отцы, следуя за апостолом Павлом (1 Кор. 9:24), сравнивают с Олимпийскими играми подвижничество, борьбу с диаволом (см.: Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование XIV). – Примеч. пер.
(обратно)131
Андроник II Палеолог родился в 1281 г., царствовал до 1328 г., скончался в 1332 г.
(обратно)132
См.: Введение. Римское царство – Византийская империя.
(обратно)133
В древности – страна на север от Македонии, в рассматриваемое время – особая византийская область (фема) к северу от Фессалоники, между Эгейским и Черным морями. – Примеч. пер.
(обратно)134
Ахемениды – собственно, древний персидский царский род, в переносном смысле – турки. См.: Dic-tionnaire universale de histoire et de geographie par M.N. Bouillet. P. 11; Tου άγιου π. Φιλόθεου λόγος αντιρρητικός ίβ… Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. С. 851. – Примеч. пер.
(обратно)135
Андроника III или Младшего. См.: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд.2. С. 173. -Примеч. пер.
(обратно)136
Разумеются награды на небе. – Примеч. пер.
(обратно)137
То есть совершенно ограбив ее. – Примеч. пер.
(обратно)138
Около 1334 г. См.: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. втор. С. 174. – Примеч. пер.
(обратно)139
То есть удачное («как следует») изложение рассказа. – Примеч. пер.
(обратно)140
Это один из древнейших, богатейших и обширнейших монастырей Афона. Находится в расстоянии трех часов пути от Карей. См.: «Kniha о svate Ноге Athonske» Саввы Хиландарца. С. 21, 281. – Примеч. пер.
(обратно)141
Св. Иоанн Богослов, возлюбленный ученик Христов, возлежащий у Него на персях на Тайной Вечери, оставался до смерти Богоматери в Иерусалиме, а потом вышел на проповедь Евангелия и трудился в Малой Азии. Центром его апостольской деятельности здесь был Ефес. В гонение имп. Домициана (96 г.) он вызван был в Рим и брошен в котел с кипящим маслом, но остался невредимым. Потом сослан был на остров Патмос. Возвращенный оттуда в Ефес, он здесь и скончался около 101 г. по Р. X. Он написал четвертое Евангелие, три соборных Послания и Апокалипсис. – Примеч. пер.
(обратно)142
Ефес – один из знаменитейших в древности малоазиатских городов. В христианскую эпоху здесь трудились апостолы Павел и Иоанн Богослов. В 431 г. в Ефесе происходил III Вселенский Собор. Во второй половине IV столетия стал приходить в упадок. В XI в. был завоеван турками-сельджуками, но отбит греками. В 1288 г. турки опять взяли его и перебили всех жителей. В 1391 г. окончательно вошел в состав турецкой империи. – Примеч. пер.
(обратно)143
Кипр – остров в северо-восточном конце Средиземного моря, между берегами Малой Азии и Сирии. Во всю его длину тянется цепь Олимпийских гор. В древности славился своим плодородием, лесами и рудниками (медными). Родина апостола Варнавы и первый пункт проповеднической деятельности апостола Павла. Во время византийских императоров завоеван арабами, а в 1191 г. английским королем Ричардом Львиное сердце, продавшим его рыцарям-тамплиерам, а потом Иерусалимскому королю Гвидо Лузиньяну. После этого начались стеснения, гонения и преследования латинянами православных киприотов. В 1489 г. Кипр перешел во владение Венецианской республики, а в 1571 г. завоеван турками. – Примеч. пер.
(обратно)144
Богом здесь называется прп. Савва, конечно, по той благодати, какую сообщил ему Господь, как в Ветхом Завете богами названы израильтяне (Пс. 81:6; Ин. 10:34). – Примеч. пер.
(обратно)145
Corpus paroemiographum. II. Р. 479, 758.
(обратно)146
Таким образом, высший из подвигов – юродство – требует особенно тщательной предварительной подготовки. – Примеч. пер.
(обратно)147
Πρυτανείου – главное правительственное здание в Древней Греции, где горел священный огонь и происходили разные торжественные собрания. – Примеч. пер.
(обратно)148
Решению молчать.
(обратно)149
Разумеются ветхозаветные требования Моисеева закона, от которых христиане свободны (Гал. гл. 2–3). – Примеч. пер.
(обратно)150
Букв.: «скакать выше рва» – народная поговорка. – Примеч. пер.
(обратно)151
Патрокл – друг греческого героя Ахилла, смерть которого повергла последнего в безутешную скорбь (см.: Илиада, п. 23). – Примеч. пер.
(обратно)152
Σκώλον, букв.: «жало», «острие», но здесь лучше читать σκόλιον — «неровность».
(обратно)153
'Αλόμενος, в Ватопедском списке άλεωμενος. Данное чтение выглядит более подходящим. – Ред.
(обратно)154
«Все мудрецы различают в душе тричастную потребность» – разумную, раздражительную и вожделевательную. Разумная часть поражается болезнями: тщеславием, гордостью, возношением, завистью, ересью и т. д.; раздражительная – яростью, нетерпеливостью, печалью и т. д.; вожделевательная чревобесием, блудом, сребролюбием, скупостью и т. д. См.: При. Иоапнн Кассиан Римлянин. Собеседование XXIV, 15. – Примеч. пер.
(обратно)155
Геллеспонт – нынешние Дарданеллы. Здесь разумеются области, лежащие при этом проливе. – Примеч. пер.
(обратно)156
Выше уже замечалось, что византийское общество в это время было в высшей степени суеверно. – Примеч. пер.
(обратно)157
Разумеется предмет, напоминающий о Нем так или иначе.
(обратно)158
Разумеется Таинство Крещения.
(обратно)159
Corpus paroemiographum. 11:6. II. Керамевс.
(обратно)160
Мифологические морские богини, завлекавшие дивным пением прохожих, которые, не будучи в состоянии бороться с их очарованием, бросались в море и погибали. – Примеч. пер.
(обратно)161
Синай получает священную известность со времен синайского законодательства. Подвижники стали селиться здесь с первых веков христианства. Император Иустиниан по просьбе их в 527 г. устроил для них крепкий монастырь, существующий до сих пор. См.: Γρηγοριάδης. Ή ίερα μονή του Σινα. – Примеч. пер.
(обратно)162
Созерцание называется неведомым знанием потому, что открывает «сокровенные тайны», которых не может доставить никакое человеческое учение, а одна чистота души посредством просвещения Святого Духа. См.: При. Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование XIV, 9.
(обратно)163
Разумеется Бог, как крайняя цель стремления человеческого сердца. – Примеч. пер.
(обратно)164
То есть исполнение заповедей.
(обратно)165
Разумеется праматерь Ева. – Примеч. пер.
(обратно)166
Тело.
(обратно)167
Фаланга – строй древнегреческого войска, имевший форму четырехугольника и состоявший из нескольких шеренг. Преимущество этого строя, в отличие от построения походного, колонной (επικερως), то, что фаланга представляла собою труднопроницаемую для неприятеля массу, обрушивавшуюся на него при наступлении и более или менее гарантировавшую целость войска. – Примеч. пер.
(обратно)168
Святые отцы смотрят на гнев как на оружие, данное Богом против одного диавола. – Примеч. пер.
(обратно)169
См.: Творения св. Дионисия Ареопагита. – Примеч. пер.
(обратно)170
То есть людьми, удостоившимися видений. – Примеч. пер.
(обратно)171
Разумеется ев. Дионисий Ареопагит, обращенный ко Христу святым апостолом Павлом и поставленный им епископом Афинским. Скончался мученически в 95 г. Ему приписываются сочинения «О небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О божественных именах» и «О таинственном богословии». – Примеч. пер.
(обратно)172
При. Антоний Великий или Египетский, основатель монашества (251–356).
(обратно)173
Сет. Василий Великий. Беседа на псалом 44.
(обратно)174
То же самое мнение находим в творениях ев. Симеона Нового Богослова († 1021). – Примеч. пер.
(обратно)175
Патриарх Филофей не раз подчеркивает, что писал это произведение под особым воздействием при. Саввы. – Примеч. пер.
(обратно)176
Особая складка на груди вроде кармана, где в древности носили, особенно женщины, разные благовонные вещества. – Примеч. пер.
(обратно)177
Прп. Савва Освященный, основавший близ Иерусалима (в 13 верстах от него на восток, у потока Кедрон) лавру. Скончался в 532 г. – Примеч. пер.
(обратно)178
При. Мария Египетская, скончавшаяся в 522 г. в заиорданской пустыне и похороненная там на расстоянии восьми дней пути от Иерусалима. См.: Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Владимир, 1901. С. 127. – Примеч. пер.
(обратно)179
Монастырь св. Саввы Освященного (f 532 г.), существующий по настоящее время в тринадцати верстах от Иерусалима на восток, у потока Кедрон. – Примеч. пер.
(обратно)180
Разумеется, вероятно, глава святого Иоанна Крестителя. – Примеч. пер.
(обратно)181
Разумеется краткая жизнь человеческая. – Примеч. пер.
(обратно)182
Образ – душа, созданная по образу Божию; то, что по образу, – искаженное грехом богоподобие.
«Кто очистился от срамоты, какую произвел в себе грехом, возвратился к естественной красоте, чрез очищение как бы возвратил древний вид царскому образу» (Свт. Василий Великий. Творения. Т. I. СПб., 1911. С. 596). – Примеч. пер.
(обратно)183
Тело и ум. И у прп. Исаака Сирина говорится, что при «восхищении ума» (экстазе или исступлении) исчезает ощущение «различия между душой и телом», и ум погружается в созерцание открываемого Духом Святым (Слово 16). – Примеч. пер.
(обратно)184
«Когда ум совлечется ветхого человека и облечется в человека нового, благодатного, тогда зрит – главным образом во время молитвы – чистоту свою, подобную небесному цвету, которую старейшины сынов Израилевых наименовали местом Божиим (Исх. 24:10), когда Бог явился им на горе» (Прп. Исаак Сирии. Слово 16). – Примеч. пер.
(обратно)185
«Догматы, о которых говорят с недавней поры и которые всем известны и открыто проповедуются, содержались в Моисеевом Законе как тайны, кои сообщаются как залог лишь достойным созерцать их. Но как древле какой-нибудь иудей, не с благоговением слушающий пророков, говоривших, что Слово и Дух Божий соприсносущны и предвечны, затыкал свои уши, почитая запрещенным делом выслушивать то, что противно сему глаголу: Господь Бог Твой, Господь един есть, – так и ныне точь-в-точь поступает тот, кто без благоговения выслушивает тайны Духа, ведомые тем лишь, которые очищены посредством святого жития» (Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. втор. СПб., 1892 С. 227; и Ч. II. С. 683; 'Αγιορειτικός τόμος. Также: PG. Т. 150. Р. 1225). – Примеч. пер.
(обратно)186
То есть Ветхого Завета.
(обратно)187
Восстановление (αποχατάστασις) человечества и всей природы в подобное первому истинное и святое состояние. – Примеч. пер.
(обратно)188
Та же мысль, что и выше высказана, именно, что Пасха ветхозаветная была образом Пасхи новозаветной, а новозаветная Пасха является в свою очередь образом того общения с Богом, гораздо более тесного и преискреннего, которое будет в той жизни (Откр. 21). – Примеч. пер.
(обратно)189
Разумеется «понудил».
(обратно)190
Песнь Песней.
(обратно)191
Разумеется прп. Исаак Сирин, писатель VII в. (Творения иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сирианина. Слово 56. Сергиев Посад, 1911. С. 280–281). – Примеч. пер.
(обратно)192
Разумеются, вероятно, последователи Варлаама и Акиндина. – Примеч. пер.
(обратно)193
Гадир – остров и город в Испании, ныне Кадикс, самый крайний в древности пункт, дальше которого редко кому удавалось путешествовать. Смысл тот, что прп. Савва достиг верха добродетели. – Примеч. пер.
(обратно)194
Монастырь св. Иоанна Предтечи находился на западном берегу Иордана, «недошедшее Иордана, близ на пути» (Житие и хождение Даниила, русския земли игумена, 1106–1108. Изд. И. Глазунова. СПб., 1896. С. 21). По преданию, монастырь основан на месте Крещения Господня. Теперь развалины на расстоянии 5–6 верст от места впадения Иордана в Мертвое море к северу (Луг духовный / Сост. свящ. М. И. Хитров. СТСЛ, 1896. С. XXIX. См. также: Гейки К. Святая Земля и Библия. Описание Палестины и нравов ее обитателей. Т. 2. СПб., 1894. С. 651; Сказание о странствии и путешествии инока Парфения. М., 1856. Ч. IV. С. 107).
(обратно)195
То есть не запятнавшие образа Божия в своей душе пороками и страстями.
(обратно)196
О власти святых над зверями много рассказов также находится у прп. Иоанна Мосха в «Луге духовном», например в гл. 2. – Примеч. пер.
(обратно)197
Разумеется восточно-римская или Византийская империя – термин исторический, но условный, так как Римская (восточная) империя XIV столетия в территориальном отношении представляла собою только незначительную часть древней Римской империи (см.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза. СПб., 1892. Т. IV. С. 251). – Примеч. пер.
(обратно)198
Разумеются турецкие сторожа, охраняющие священные места и взимающие с поклонников известную плату. – Примеч. пер.
(обратно)199
Дамаск, город в Сирии, у подошвы Антиливана. Здесь получил крещение святой апостол Павел. После разрушения египетскими турками Антиохии (в 1268 г.) сюда переселился Антиохийский патриарх. – Примеч. пер.
(обратно)200
Антиохия Сирийская, главный город Сирии, основанный за 300 лет до Р. X. Раньше славился богатством и образованностью (в IV–VI вв.). Потом Антиохия пришла в упадок. Здесь в первый раз верующие во Христа получили название христиан. В Антиохии проповедовали апостолы Павел и Варнава, здесь был и апостол Петр (Гал. 2:11). Известные ее архипастыри: св. Игнатий Богоносец, св. Мелетий, архиеп., свт. Иоанн Златоуст и др. Ныне бедный турецкий городок Антакия (см.: Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия: В 4 вып. / Труд и издание архим. Никифора. М., 1891–1892. С. 47). – Примеч. пер.
(обратно)201
Остров Крит, или Кандия, – наибольший из греческих островов, находится в восточной части Средиземного моря на юго-западе от Морей. Длина его 160 англ, миль, а ширина – от 6 до 36 англ. миль. По всей длине его пересекает горная цепь, делящая его на две половины: северную и южную; последняя особенно гориста. В древности Крит славился своими лесами. В Деяниях апостольских упоминаются мыс Салмон (Деян. 27:7), на восточном конце острова, и гавани Хорошие Пристани близ г. Ласси и Финик – пристань на юго-западной стороне (Деян. 27:8-12). В последней апостол Павел останавливался во время своего путешествия в Рим. В последние годы своей жизни апостол Павел вместе с Титом посетил этот остров и, оставляя его, заповедал апостолу Титу довершить незаконченное и поставить по всем городам пресвитеров (Тит. 1:5). В 1204 г. Крит достался маркграфу Бонифацию Монферратскому, который уступил его венецианцам (ок. 1210 г.), под властью которых он находился до половины XVII столетия. Венецианцы по местам заселили его латинскими колонистами. Греческие епископы были постепенно вытеснены, но населению предоставлена свобода вероисповедания, и греческое духовенство получало посвящение от православных епископов. – Примеч. пер.
(обратно)202
Здесь разумеется сочинение блж. Феодорита Кирского «Φιλοθέων ίστορία» («История Боголюбцев, или Повествование о святых подвижниках»).
(обратно)203
Эврин – в древности пролив, отделявший остров Эвбею от Аттики и Беотии. – Примеч. пер.
(обратно)204
Пелопоннес – полуостров на юге Греции, соединявшийся с Элладой Коринфским перешейком, ныне Морея. – Примеч. пер.
(обратно)205
Патры – город в Греции у Коринфского залива, ныне Патрас. – Примеч. пер.
(обратно)206
Тенедос – остров в Эгейском море при входе в Дарданельский пролив. – Примеч. пер.
(обратно)207
Хероннес, или Хероннея, – город в древней Беотии (в Греции), ныне местечко Капрены. – Примеч. пер.
(обратно)208
Известно несколько городов этого имени. «Наша Гераклея» – Гераклея Фракийская, или Перинф, на берегу Мраморного моря, возле Константинополя; ныне Эрекли. – Примеч. пер.
(обратно)209
Вот правильное отношение к храмам Божиим! Человек, достигший верха добродетелей и христианского совершенства, считает нужным прибегать к святыне храмов Божиих. – Примеч. пер.
(обратно)210
Монастырь св. Диомида, согласно недавним открытиям, находился между так называемыми Золотыми Воротами и морем (в Иедикуле). Построен Константином Великим, богато одарен им и считался в древности одним из богатейших монастырей столицы (L’Abbe Μαήη. Les moines de Constantinople. Paris, 1897. P. 6, 31, 54, 58, 77). – Примеч. nep.
(обратно)211
Камень лидийский – пробирный камень (черный базальт или кремниевый сланец), употребляемый для пробы сплава золота. Свойства его впервые открыты лидийцами. – Примеч. пер.
(обратно)212
Православные греки главным образом основывались на учении веры, смотрели на царя как на образ Бога на земле. Отсюда глубокое благоговение к нему. Они называли его святым, божественным и т. д. См.: Скабалланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI в. С. 144. – Примеч. пер.
(обратно)213
Локоть – древняя мера длины, равнялся 24 пальцам. Царский локоть = 27 пальцам. Здесь говорится, конечно, метафорически. – Примеч. пер.
(обратно)214
Разумеются афонские отцы. – Примеч. пер.
(обратно)215
То есть в качестве послушника. – Примеч. пер.
(обратно)216
Βαλβίς, – барьер в цирке; в древности веревка, от которой состязавшиеся в беге начинали свой бег. – Примеч. пер.
(обратно)217
Вероятно, у них была тайная мысль видеть его впоследствии епископом или патриархом. – Примеч. пер.
(обратно)218
Это так называемый чин возношения панагии (см.: Γενεών Μ. Ό Άθως. Έν Κωνσταντινουπόλει. Σ. 42–45).
(обратно)219
См. во Введении: Состояние Византийской империи в XIV столетии. См. также: Ιωάννης Καντακουξηνός. Σ. 209–211.
(обратно)220
Лавра св. Афанасия расположена на южной конечности Святой Горы, у подошвы одного из отрогов главного горного хребта ее. Основана в 963 г. св. Афанасием на средства друга его императора Никифора Фоки. См.: Βλάχος. К. Ήχερσόνησος του άγιου ορούς ’Άθω. 1903. Σ. 169–183. – Примеч. пер.
(обратно)221
То есть протом. – Примеч. пер.
(обратно)222
Кинот (то κοινόν) – святогорская община. См.: Соколов И. Афонское монашество в его прошлом и современном состоянии. Петроград, 1904. С. 31. Примеч. пер.
(обратно)223
1342–1349 гг.
(обратно)224
То есть на вечную, будущую, а именно – умирает. – Ред.
(обратно)225
То есть 17 марта 1342 г. История Афона. Ч. III. Отд. втор. С. 176. – Примеч. пер.
(обратно)226
Геллеспонт – Дарданелльский пролив.
(обратно)227
Пропонтида – Мраморное море. – Примеч. пер.
(обратно)228
Я не спешил быть пастырем у Тебя и не желал бедственного дня, Ты это знаешь; что вышло из уст моих, открыто пред лицем Твоим (Иер. 17:16).
(обратно)229
В обители Χώρα С. II. С. 212–213. – Примеч. И. Керамевса.
(обратно)230
Византийские императоры до самых последних времен называли себя римскими, и сами греки называли себя римлянами (ромеи, ρωμαίοι). См.: Арсений (Иващенко), еп. Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные, от Рождества Христова. СПб., 1899. С. 928. – Примеч. пер.
(обратно)231
Это Андрей Палеолог, начальник возмущения в Фессалонике в 1846 г. Ιωάννης Καντακουζηνός. Т. II. Σ. 574–582. Т. III. Σ. 104–108. – Примеч. пер.
(обратно)232
Эти смуты, по словам исследователей этого времени, нанесли действительно такие язвы империи, что она уже не могла оправиться. См.: Арсений (Иващенко), еп. Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные, от Рождества Христова. СПб., 1899. С. 493. – Примеч. пер.
(обратно)233
См.: Лебедев А. И. Исторические очерки состояния византийской восточной Церкви от конца XI до середины XV века. М., 1902. – Примеч. пер.
(обратно)234
Говорится о Варлааме Калабрийском, который анафематствован Церковью в 1341 г. См.: Παπαμιχαήλ Г. Ό 'Άγιος Γρηγόριος ΥΙα,λαμ,ας. ΥΙετρούπολις. Αλεξάνδρειά. 1911. См. также: Acta Patriarchatus Constantinop. Fr. Miklos et Jos. Muller. T. I. № XCVI. P. 202. – Примеч. пер.
(обратно)235
Варлаам назывался православными новым защитником арианства и савеллианства, «безбожного и многобожного сочетания и рассечения божества» (История Афона. Ч. III. Отд. втор. С. 249). См. также: Acta Patr. Constantinopolitani Mikl.=Mull. T. 1. № CIX (6855–1347), февр., инд. XV. – Примеч. пер.
(обратно)236
Монах Григорий, по прозванию Акиндин, учившийся у Варлаама светским наукам. Сначала он был православным, но потом стал распространять лжеучение Варлаама, склонив к нему патриарха Иоанна Калекаса и царицу Анну. Патриарх на Соборе в 1345 г. отменил прежнее осуждение Варлаама, а прп. Григория Паламу с его последователями отлучил. Однако Собор 1347 г. осудил Иоанна Калекаса и лишил патриаршества. См.: Ό 'Άγ/ο^Γρ. Τίαλαμδίς. С. 101–126. – Примеч. пер.
(обратно)237
Патриарх Иоанн Калекас (XIV); 1333–1347. – Примеч. пер.
(обратно)238
Так же патриарх Филофей называет Акиндина и в другом своем произведении. См.: Вίοςκαί πολιτεία του εν αγίοις πατρος ημών Ίσίδορου ΤΙατριάρχου Κωναταντινοπόλεως. Σ. 86–87. – Примеч. пер.
(обратно)239
См.: Винделъбанд. История древней философии. СПб., 1898. С. 118–122. – Примеч. пер.
(обратно)240
Разумеется православных. Ср.: Acta Patr. Const. Т. I. № CIX. – Примеч. пер.
(обратно)241
То есть Акиндин.
(обратно)242
Патриарх Иоанн Калекас был главным вожаком образовавшейся возле царицы Анны партии лиц, враждебных Иоанну Кантакузину. – Примеч. пер.
(обратно)243
Петр, архиепископ Александрийский, мученически скончавшийся в 311 г. Он поставил Ария в сан диакона, но за уклонение в раскольническую партию отлучил его. – Примеч. пер.
(обратно)244
Александр, преемник ев. Петра на кафедре, окончательно отлучивший Ария, в то время уже достигшего пресвитерского сана, от Церкви. – Примеч. пер.
(обратно)245
Разумеется ересь Ария, осужденного Церковью в 325 г. – Примеч. пер.
(обратно)246
Последователи Варлаама и Акиндина. – Примеч. пер.
(обратно)247
Иконостаса.
(обратно)248
См. во Введении.
(обратно)249
Иоанн Кантакузин.
(обратно)250
Андроника III Палеолога, скончавшегося 15 июня 1341 г. – Примеч. пер.
(обратно)251
В 1347 г.
(обратно)252
Патриарха Иоанна Калекаса. Καντακουζ. Ч. II. Σ. 602–607. Ч. III. Σ. 180 (см. у Г. Паламихаила: Ό 'Άγιος Γρηγόριος ΙΙαλαμας). – Примеч. пер.
(обратно)253
Καντακουζηνός. Т. II. Σ. 209–213; П. Керамевс.
(обратно)254
Там же.
(обратно)255
Вступив беспрепятственно в Константинополь, Иоанн Кантакузин заключил с императрицей соглашение, по которому ее сын Иоанн Палеолог должен был признать его императором и в течение десяти лет считать старше себя. Кроме того, последний обязался жениться на его дочери. Таким образом, Иоанн Кантакузин царствовал вместе с Иоанном Палеологом. – Примеч. пер.
(обратно)256
Кантакузин об этом нигде не говорит, но Филофей и в другом своем труде, изданном уже ныне, именно в житии ев. Исидора, говорит то же самое.
(обратно)257
Вероятно, Матфей Кантакузин.
(обратно)258
Разумеется сан патриарха. – Примеч. пер.
(обратно)259
В обитель Γ'ης Χώρας (Кαντακουζηννός. Т. II. Σ. 213). Это один из знаменитейших монастырей древней Византии. Построен, вероятно, императором Юстинианом Великим (527–565 гг.), находился на месте нынешней мечети Кахрие-Джами (Les moines de Constantinople… par L’Abbe Morin. P. 22). – Примеч. nep.
(обратно)260
Божественная литургия. – Примеч. пер.
(обратно)261
То же.
(обратно)262
Собств., совершить.
(обратно)263
Даниил Столпник (ум. 489 г.). Память его 11 декабря. – Примеч. пер.
(обратно)264
Федим, епископ Амасийский (в III в.), рукоположивший св. Григория Неокесарийского. – Примеч. пер.
(обратно)265
Разумеется принятие монашества, к чему стремился Иоанн Кантакузин. – Примеч. пер.
(обратно)266
Немногие.
(обратно)267
То есть добродетелями (деятельными). – Примеч. пер.
(обратно)268
Говорит об авве Агафоне из «Отечника». – Примеч. П. Керамевса.
(обратно)269
Проказа.
(обратно)270
Вот мудрое отношение к заблуждающимся! Смысл тот, что чувство злобы всегда худо. – Примеч. пер.
(обратно)

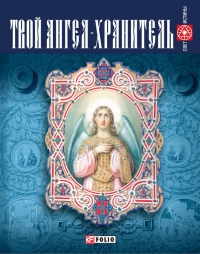






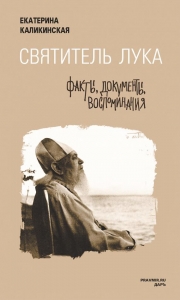
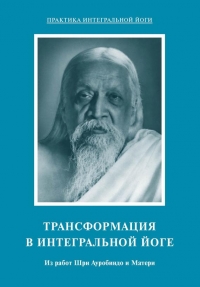



Комментарии к книге «Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон», Святитель Филофей Коккин
Всего 0 комментариев