Борис Константинович Зайцев Избранное
Предисловие «Странный» писатель
Творчество Бориса Зайцева относится к эпохе Серебряного века. Его современниками были те, кто привнес в Россию увлечение антропософией или всерьез интересовался харизматическим сектантством (Андрей Белый, Николай Минский), а то и сами были основоположниками сект (Александр Добролюбов). Борис Зайцев был знаком с этими людьми. Но писал иначе и о другом… Он был странен среди странных серебряновековцев.
Борис Зайцев родился в дворянской семье 2 февраля 1881 года. В Калуге окончил классическую гимназию и реальное училище. По настоянию отца поступил в Императорское Техническое училище, но через год был отчислен за участие в студенческих волнениях. Знание древних языков позволило ему поступить на юридический факультет Московского университета, но и там он проучился всего три года, а затем оставил учебу и всерьез увлекся литературным творчеством.
Он так и не осуществил мечту отца и не стал инженером. Однако именно отец ввел будущего писателя в особый мир литературы. «Столовая в барском доме, в деревне. Висячая лампа над обеденным столом, сейчас еще не накрытым. В узком конце его отец, веселый, причесанный на боковой пробор, читает детям вслух. По временам, когда очень смешно (ему), останавливается, вытирает платком негорькие слезы, увеселяющие, читает, читает дальше. Мы, дети, тоже хохочем, из-за чего, собственно? Но веселый ток идет от книги, и от отца…» – вспоминал Борис Зайцев. Один из комментаторов творчества писателя так отозвался об этих светлых образах детства: «С той восторженной детско-юношеской поры и начинается для Зайцева самая колдовская власть, какую он всю жизнь радостно приемлет, – власть книги».
Совсем молодой Зайцев-литератор становится заметен. В 1901 году при участии Леонида Андреева появляется его первая публикация. В 1902 году его новелла «Волки» печатается в «Книге рассказов и стихотворений» вместе с произведениями Горького, Бунина, Куприна, Андреева, Мамина-Сибиряка. О нем упоминают Валерий Брюсов и Корней Чуковский. Вероятно, уже тогда заметно различие духовных основ творчества православного классика Бориса Зайцева и общепризнанных сегодня классиков Серебряного века. Его самые близкие соратники в мире литературы – Бунин, Телешов, Шмелев. Вместе с ними писатель участвует в кооперативе «Книгоиздательство писателей», сообществе, которое отмежевывается от духовных экспериментов модернизма и заявляет о приверженности реалистическому направлению.
Вот как вспоминает Борис Зайцев свои беседы с Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус: «Мережковский завел общий разговор, характера, конечно, возвышенного, религиозно-философского. Гиппиус вдруг перебила его:
– Дмитрий, погоди… Погоди, я вот хочу спросить Зайцева…
Не помню в точности, как она выразилась. Был там только Христос и какая-то мушка. Как бы, по-моему, Христос поступил с мушкой, ползшей по скатерти, – что-то вроде этой чепухи.
Неожиданно для себя я вдруг внутренне вскипел и ответил с почти неприличной резкостью юного, замкнутого самолюбия, почуявшего ловушку, – ответил вроде того, что самый тон вопроса в отношении Христа считаю кощунственным, – и еще что-то в этом духе (с мужеством отчаяния, когда человек бросается вниз головой со скалы).
Но голова не разбилась, а эффект получился неожиданный: и Дмитрий Сергеич, и сама Гиппиус весело рассмеялись. Отпора мне никакого не было – нечего и связываться с младенцем» («Памяти Мережковского»).
Несмотря на свою обособленность, Зайцев сохраняет теплые отношения с товарищами по цеху и постоянно с ними сотрудничает. Однажды (1913), защищая убеждения коллег, он даже вступает в полемику со своим другом И. А. Буниным, выступившим с резкой критикой литературной деятельности модернистов и футуристов.
И все же он остается другим как для ищущих религиозно-духовных новаций, так и для «атеистов» советской страны. Вот как отозвался Горький о переложении Зайцевым жития Преподобного Сергия Радонежского, которое вы найдете в этой книге: «С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера “ культурные”. Б. Зайцев пишет жития святых».
Персонажи произведений Зайцева, странники, – словно метафора странности, которая и отличает его от литературной классики той эпохи. Страннические мотивы не покажутся случайными, если знать вторую часть биографии писателя. В 1919–1922 годах он отшельничает в деревне Притыкино, стараясь оградиться от крови и террора «нового мира». Но реальность касается его ощутимо грубо. В 1921 году его арестовывают, однако вскоре отпускают за несуразностью обвинений. В 1922 году он переносит тиф и вскоре уезжает за границу. На родину Зайцев больше не вернется.
Книгу, которую вы держите в руках, открывает «странный» рассказ «Аграфена». Его главный герой (Аграфена) странствует от первой любви, через трагедии и потери к встрече с Богом. Аграфена в светлые моменты ее жизни показана идущей «боковой тропкой большака, священным путем странников». В конце рассказа странная Аграфена совершает свой исход из жизни, наполненной страданиями: «Тогда она пала на колени, и внутреннее видение осенило ей душу; вся жизнь явилась ей в одном мгновении; все любви и муки понялись одинокими ручьями, сразу впавшими в безмерный и Божественный океан любви и данными ей как таинственные прообразы Любви единой и вечной. Из-за знакомых, дорогих когда-то лиц, к душам которых ее душа была прилеплена земной основой, восходя небесной к небу, выплыло новое, потопляющее всех единым светом Лицо, принимающее в сверхчеловеческое лоно».
Наиболее известные произведения Зайцева – путевые очерки «Афон» и «Валаам». В них место и время значения не имеют, потому что это повествование о людях, устремленных в вечность, – о монахах афонских и Валаамского монастырей. И все-таки это тоже история странствий. Читая эти путевые заметки, начинаешь догадываться о причинах непопулярности Зайцева при его жизни: он слишком сильно отличался от своих современников. Но прошло время, и теперь мы получили доступ к той части художественной культуры, которая так долго была в изгнании и сокрытии.
Кстати, ближе к концу жизни Борис Зайцев сделал перевод Дантова «Ада». Видимо, это и называется – многогранность.
Дмитрий ДайбовАграфена Повесть
I
На дальней заре своей жизни, семнадцати лет, стояла Груша в поле ранней весной. Пели жаворонки, было тихо и серо – апрель, под пряслом бледно зеленела крапива. Груша слабо вздохнула и пошла тропинкой от деревни к большаку. И когда она до него дошла, издали, от лесочка ледовского зазвенели колокольчики.
Сквозь светлую мглу утреннюю трудно было сразу разобрать, кто едет, но, видимо, тарантас, тройка; вероятно, из усадьбы господской кто.
Груша скромно шла сбоку большака, по тропинке богомолок; почему-то заиграло и забило ее сердце. Вот уже ближе, можно рассмотреть Азиата на пристяжке, как он шеей дугу вычерчивает, кучер Иван – ясно: едут со станции, везут… Через две минуты увидала и кого везут: в синей студенческой фуражке с белым верхом и темно-голубыми глазами «он» – худой и тоненький, с острым лицом и нежным цветом на щеках. Как ни быстро все было, успели они все же увидеть друг друга, обменялись вспыхивающим взором, и укатила тройка, только веселую серую пыль подняла. А Груша вдруг покраснела густо, малиново, когда уже никого не было, и стала что-то смеяться; обрывала полынь с канавки и пугала воробьев на дороге.
День же светлел, над озимью текли стекловидные струи; овсы зеленели, были черны пары.
II
С этих пор началось для нее новое. Та усадьба, куда раньше ходила она на поденную – обыкновеннейшее поместье, – стала особенной. Там где-то вглуби сидел «он», синеглазый и тонкий, занимался со своими книжками, но каждую минуту мог выйти к молотильному сараю, где возили золотую солому, в поле, к скотному.
Идя по полям, где весна расстилала свои зеленеющие одежи, думала Груша все об одном: вдруг его встретит. И это давало заманчивую силу путешествию с холстами к сажалке, где плескались утята – желтые, в пуху, или бродяжничанью в березовом леску за вениками.
Иногда по ночам он ей снился – в синеющей дымке; утром она просыпалась счастливая и измученная, в светлом тумане слышанных слов, счастья, дрожи.
А потом опять шла на работу, вспыхивая и глубоко рдея, и тайком высматривала, где бы можно было его видеть. Оказалось, он взялся бродить с ружьем за усадьбой, особенно по вечерам, на тягу. Уже не раз видали его над речкой или на бугре у мельницы, там он сидел, и охотился ли, ястребов стрелял или про что думал свое, сказать было нельзя: сидит и смотрит, бродит, песенку насвистывает и глядит далеко, точно и не сам он тут.
Так было и в тот вечер апрельский, алый и нежный; чуть вились комары, березки стояли в зеленом дыму, а Груша с бьющимся сердцем перебиралась через речку в рощу березовую, по шатучим кладкам. Было прозрачно; в плавной воде мелькнуло слабое Грушино отраженье, легко она перемахнула и с холодом в ногах пошла, похрустывая веточками под ногой, туда, где он. Он опирался на ружье – тоненький ствол чернел в деревьях – и ждал вальдшнепов…
– Здравствуйте, Груша!
– Здравствуйте!..
Она замялась. Точно что-то сказать хотела, да не могла.
– За охотой ходите…
Он улыбнулся. Стоял, краснел тоже, и вблизи от него, в зеленой мгле цвели ее милые карие глаза.
– Да, за охотой. Вальдшнепов караулю.
Он все улыбался, потом вдруг взял ее за руку. Она чуть отшатнулась, он прислонил ружье к березке, смутно обнял ее и глубоко поцеловал в губы.
III
Краснел май, пролетая в огненных зорях, росах; кукушки медово куковали, точно окуковывали молодую жизнь. Солнце вставало пламенным и пахучим, глубокими ароматами дымились луга под ним, и скаты розовели, окровавившись «зарей», медвянолипкой пурпурной травкой.
Очень ранними утрами нарывала Груша ландышей, белеющих и одуряющих, и бросала тихонько в «его» окошко во флигеле; ей казалось, что с ними идет от нее особенный душевный привет. И целый день в одинокой комнате сладко пахло белым, нежным.
Встречались они мало; больше он сидел за делом, «книжки читает», как говорили в усадьбе: около флигеля запрещалось громко разговаривать.
Но в июне начался покос, и он иногда приходил работать. Это было немного смешно – слишком он не умел справляться с вилами, навивкой возов, но когда на лугу, где Груша с девками сгребала сено, появлялся он, в белом кителе и с опаленным зноем лицом, сердце Груши, как всегда, падало. «Господи, надорвется, – думала, а он, напрягая все тонкое тело, с раскраснелыми щеками, подымал на вилах стопу сена. – Ахнет, сразу сердце оборвется, и конец». Но он не умирал, а посмеивался ей ласковым взглядом, и хоть она и от того раза почувствовала к нему тайную, трепетную близость, все же был он и безмерно далек. И когда после полного блестящего дня она возвращалась домой и ложилась спать в риге, мечтая о нем, тонкая грусть оплетала ей душу; весь он казался ей тогда царевичем из сказки – тем, чего не бывает и о чем томятся.
Уже кончался покос, часто по небу июньскому плыли белые, круглые облачка. Им выпало вместе ехать за реку, за оставшейся копенкой.
Груша вспыхивала и гнала рысью; телега гремела, они оба смеялись, так его бросало из конца в конец. Седые березы, под которыми они катили, струились длинными ветвями-прядями, будто посмеиваясь: «Знаем, мол, молодых этих ребят. Дай отъехать подальше, целоваться будут». И они на самом деле целовались, убирая эту бедную копенку, – шалили, вздрагивая и краснея.
Воз был почти уже навит, они устали и рядышком сели в тени за ним. Лошадь стояла покорно, душно пахло сеном, солнце сгибалось книзу. Незаметно наступил тот кроткий, предвечерний час, когда золотее все, умереннее и в зеркальной глубине светлого неба как бы чуешь правду чистую и бесконечную.
– Умучились вы очень, ветерком бы обдуло, – сказала Груша и глянула робко, будто стесняясь, что он так работал.
– Ничего, пустое.
Они сидели. Под тихую жвачку Прахонного умолкали их души. И снова, как в ночных мечтаниях, вдруг охватила ее темная печаль: точно облако встало. Что-то было в ней, а сказать она не умела, боялась.
Он сорвал травинку и откусывал кусочки. Потом сказал:
– Отчего так бывает, смотришь на небо, и облачка такие, – кажется, когда-то в детстве видел это, – а когда, не помнишь. И как тогда чудесно было… Вот и лето, и все, а тогда было другое.
Груше с этими словами показалось, что опять он не веселый и смеющийся, а тайный, далекий, – такой, как когда читает книги или смотрит часами в одно место.
– Вы на то лето опять приедете? – вдруг спросила она – и под сердцем прошло что-то. Он не ответил, потом произнес:
– Может быть.
«Может быть». А может, и нет?
Груша молчала. Долго они сидели так, без слов, а потом вдруг теплые слезы, светлые и соленые, подступили ей к глазам, с такой силой она поняла – никогда, никогда не быть им вместе, не знать счастья, кроме сейчашнего, – что уткнулась ему в рукав и плакала обильно, долго.
Понял и он; улыбался ласково, печально и гладил ее по затылку. Потом слабо поцеловал и встал.
IV
В августе убирали овес; было тихо, тепло, даже душно; много сереньких дней, когда куропатки срываются в кустах из-под ног и чертят воздух острыми крылами; а вечером спокойная луна, лилово-дымчатая, восходит над полями в меланхолии. Тогда унылее и пахучее полыни над дорогами и над кладбищем деревенским низко плывет лунь.
«Он» в такие вечера блуждал по дорогам на велосипеде; заезжал вдаль, к одинокому лесочку на взгорке, среди нив, клал «коня» рядом и глядел подолгу на гибнущий закат, на деревню, где жила Груша, и вид безмерных родных равнин вызывал одно, всегда одно и то же. Иногда поджидал у сворота тропинки Грушу, когда она возвращалась домой; спрятав велосипед в овсах, шел с нею рядом. Она напевала, а спелые овсы шелковели вокруг, сухо шелестели; иной раз тихую ночную птицу вспугивали они, двое, из-под ног.
Убывали дни, становилось их меньше до конца. Чаще пело Грушино сердце о разлуке. Точно сильнее и глубже вошел он в нее от этого, и когда, распрощавшись у риг, добредала она до дому, то глядела на загадочные облака над солнцем угасающим и думала, что так же растает и он, так же золотой, недосягаемо-чудесный, – и снова сладкие, смертные муки томили ее, по ночам она не спала, и отблеск того же нездешнего, светивший в нем, почил на ней.
А в последний вечер, когда целовал он ее на прощание и овсы шептали, обняла она его колени и не могла оторваться. После он уплыл в вечернюю мглу, а она стояла на коленях и молилась вслух полям, овсам, небу, Богоматери кроткой и милостивой, посетившей в тот вечер нивы. И ее голос был услышан; ее детское горе исходило слезами; как таяли облачки – таяла скорбь в ее сердце, оставалась заплаканная душа, посветлевшая и опрозраченная.
Он же покинул в это время те края, не возвращался больше и пребыл таинственным посетителем, пришедшим в жизнь Аграфены на ее ранней заре, чтобы растаять синеватым туманом, оставив за собой любовь, томленье, тихие восторги и несколько не слишком щедрых поцелуев.
V
Прошло четыре года. Аграфена жила в маленьком городе, занесенном снегом и тихом, у молодой барыни. Она была замужем, но с мужем разошлась и детей не имела; жить же в этой светлой квартирке, где всюду были белые отсветы снега из окон, ей нравилось.
Сильно топили; было тепло, а там, за стенами, стлались далекие снега, полусонный город, мятели; здесь же бродила легкой походкой маленькая барыня, выкармливая грудного, а другой мальчик ходил в гимназию – первый класс.
А Аграфене думалось, что, живя здесь, хлопоча в кухне, таская дрова, свежепахнущие, веселые, она ведет благочестивую, спокойную жизнь.
По субботам, отпросившись у барыни, бегала наискось в церковь через заснеженную улицу, увязая, обдаваемая острым и жгучим зимним духом, пила его, как дивное вино, в церкви скромно становилась сбоку, слушая «Свете Тихий…».
Пел хор гимназистов; светло мерцали и струились свечи, золотели, мигали. Сердце ее обнималось тогда благоговейной ясностью; и среди тихих напевов нежданно вставал некто дивный и грозный; случалось – вдруг пред лицом этих риз на иконостасе, от голоса отца Дмитрия, высокого, тонкого, похожего будто на Христа, веяло таким безмерным, что она в ужасе спрашивала себя: верю или не верю? Вдруг, если не довольно верю, не живу с мужем, посты плохо чту, – вдруг тогда и конец, и спасенья нет, ад и проклятье?
С этими вопросами обратилась она раз к барыне:
– У вас, может, у господ, и вовсе в Бога не веруют, а нам как?
Барыня улыбнулась, как всегда задумчиво и к Аграфе не ласково:
– В Бога я верю, Аграфена, вы не думайте. Насчет ада плохо умею сказать; объяснить не могу, а наверно, думаю, что нет. Нету такого ада, незачем: и здесь на земле достаточно.
Аграфена ушла к себе мыть чашки, все о том же думая: «На земле достаточно…» Так и барыня: спокойная, не сердится никогда, детей ласкает, а сама думает, и точит в ней что, – под глазами круги, блекнет здесь одна в этой тиши. Ночью, крестясь на лампадку, Аграфена слышала, как ворочалась, вздыхая, барыня; будто длинное что, неизбывное, томило ее; и в те долгие ночи зимой должна была она его изжить. Аграфена вздыхала, широким мужичьим крестом крестясь «за спокой» доброй барыни.
VI
Подошли Святки; бело-тихие, точно приплыли по безбрежным снегам. Барыня делала елку Коле; никого не было, кроме Аграфены; елка светло сияла в скромной квартирке. Барыня улыбалась, радовалась, что нравится Коле, и как всегда – бледная тень ходила по ее прозрачному лицу, а соседки-кухарки говорили Аграфене: «Вот смотри, к вам и отец Дмитрий не пойдет, потому твоя барыня безмужняя». И дальше рассказывали, все по-разному, одно: сзади лежала сердечная история.
Отец Дмитрий, однако, был; служил молебен, кропил, и не только Аграфена молилась, но крестилась и барыня.
Разоблачившись, отец Дмитрий завтракал; они с барыней говорили как два вежливых и всегдашних противника.
– У вас здесь весьма тихо, напоминает женский монастырь.
Барыня улыбалась.
– Это и есть монастырь.
Во взглядах отца Дмитрия было одновременно почтительное и внутренно-неодобряющее.
Потом опять забелели снега; синела по ночам лампадка в большой детской, барыня целые ночи бродила с грудным: он пищал, кис, было безмолвно, и если ночь выпадала лунная, голубело и там, в тихо сверкающем снеге; таинственное, слышное только ей одной, наполняло тогда квартиру и город; вспоминалось о далеких днях – любви и невозможности, и хотелось сесть в этой светлой ночи в волшебные сани, унестись по белеющим полям вместе с тем, который…
В кухне спала Аграфена; барыня, подходя к двери, улыбалась на нее; иногда даже смотрела по нескольку минут. «Знала она или не знала такое?» И вдруг ей казалось, что она прозревает одним взглядом в жизнь этой Аграфены и остро, подробно видит, что дано ей испытать, испить и пережить.
Тогда она ходила подолгу с грудным из угла в угол, погружаясь в лунные колонны и выходя из них, и седая печаль повивала ей голову: печаль, ровесница самому миру.
VII
Ветры подули, потекли снега, мощный и веселый дух ходил над землей, трубя и играя. Масленица была пышная, с роскошными лужами на улице, весенними ночными бурями и дождями. Не могла уже Аграфена быть монашкой зимней; бурно закипало по ночам сердце, томилась она и заплакала даже раз – ручьями, неизвестно о чем.
Но судьба ей была дана: в те же дни встретилась она с кучером Петькой, только что попавшим сюда на службу. Он был молод, черноус и остр. На дворе его боялись и не любили; очень больно умел сказать, сплевывал гениально, и, когда мчался в санках на Звездочке, глядеть дух занимало.
Аграфена так и зевала на него раз, когда он въезжал домой на взмыленной лошади, а он цыкнул, ловко перебрал вожжой, чтобы не задавить, и прорезал у самых ее ног, так что шарахнулась даже в подъезд.
– Эй, ты, малина!
И по тому, как он сказал это, поняла она: что бы ни велел этим голосом – удаль, наглость, сила в нем, – все она сделает.
К вечеру понадобилось достать дров из сарайчика; сумеречилось, сиреневело, чуть желтели огоньки фонарные; легким ходом пробежала Аграфена к знакомому месту, вся вздрагивая, внутренне холодея; вот и дрова, милые такие, пахучие – и там у каретного кто-то возится, пахнет оттуда дегтем, шорником, шлеей…
– Али потеряла что, молодка?
Острый запах цигарки, картуз ловкий, крепкие, как из жил, руки.
– Так уж, потеряла или нет, про то вам знать не приходится…
– Ой ли?
И все ближе он, жутко, голова мутит, – ясно: не уйдешь.
– Ой ли?
Дверка захлопнута, и как он дрожит, как целует, как наверное она знает, что уж это не то, что тогда, тихой весной, здесь кровь и огонь, огонь и беспощадность.
Через четверть часа бежала Аграфена через двор с дровами, домой, легко-пьяная и не себе уже принадлежащая. А Петька сплевывал, курил цигарку у ворот, и жадный, победный огонь лился из его глаз: весь свет казался ему добычей, а борьба – жгучей и опьянительной.
VIII
Летели дни, так же ходила барыня с ребенком, теплом веяло с неба, зазеленело все, – Аграфена горела. Казалось, не было лет сзади, нету впереди ничего, да и не надо – вся полна собой, кровавой своей любовью.
Поздно вечером, когда все засыпало, она тушила огонь на кухне и сидела в забытьи, глядя на звезды, а потом легко, сомнамбулически, ведомая властью светил любовных, выскальзывала на двор и, крадучись, к сеновалу. Здесь волны сена. О, как оно пахнет! И пока она лежала, в трепете ждала, майский месяц выползал из-за сада, заглядывал золотым лучом в слуховое оконце: там он видел слушавшую Аграфену, потом ловкие шаги – он.
Так, в майской тьме, задыхаясь на сене, трепеща от любви, зачала Аграфена новое бытие. Она почуяла это в такую же жгучую ночь, и Петру не сказала. Но уйдя от него, когда забелел восток, пошла не к себе на кухню, а за сарай, в сад. Тут было тихо; матовой пеленой одели росы траву, молодые яблони стояли все в цвету – белыми предутренними кораблями. Только вдали, где старая береза подымалась у забора, вдруг слабо завела свое курлыканье горлинка. Под сердцем Аграфены билась жизнь. Она стояла, точно предстала перед Богом, как покорный сосуд, скудельный сосуд Его благодати и ужаса, и некто тихою десницей навсегда отмахнул от нее время, когда была она беззаботной.
IX
С того дня Аграфена стала спокойнее, строже; даже барыня удивлялась: «Вы будто, Аграфена, поумнели», – говорила и посмеивалась. Аграфена краснела слегка, молчала. Но в душе у нее вставало нечто, чего раньше она не знала: будто тень от дальнего, жуткого доходила ей до ног и стремилась охватить всю: «Петя меня любит, надо б свадьбу сыграть, а чего-то боязно».
На дворе над нею зубоскалили, говорили, что вешается Петьке на шею, да Петька не такой дурак, чтобы дать себя бабе в кабалу: пусть бы глядела, неравно другую подцепит.
– Все, милая, изменщики они, все ироды, была б моя воля, всех бы их на каторгу наладила.
Аграфена сердилась:
– Петя не изменщик. Не лисица какая-нибудь. Лысая кухарка охала. Мало верила Петру, как и другим.
– Присматривай, девушка, присматривай. Наше дело женское.
И правда – этого Аграфена не могла отрицать – Петр стал как-то ускользчивей, мимолетней; в его острых глазах мелькало как бы чужое, тайное и скрываемое.
– Петя, знаешь ты, я за тебя в огонь и в воду, на адскую муку согласна. Вот дослужим здесь, повенчаемся, в деревню поедем… Господи, мальчик наш будет розовый, назову его Кириллом, буду люльку качать, ясного моего сокола поминать.
И она припадала к его ногам, плакала, целовала руки, но он был равнодушен.
– Наживу денег, уйду на Волгу. Эх ты, кура, кура. И ласкал буйно, небрежно, точно правда рожден был для другого: блеска, шума, вольно-безбрежной разбойницкой жизни.
Аграфене же нравилось все, даже что ее не замечал. Надрожавшись от восторга, жути за ночь, она шла в белую кухню и, слушая, как медленно ходит из угла в угол с грудным барыня, тяжело и сладко засыпала: без сновидений, с глубоким томлением.
X
В ночь начала июня, как назначено было, накинув платок и дрожа, озираемая тем же месяцем, что в дни счастья и зачатия заглядывал на сеновал, Аграфена кралась туда же, к своей заветной лесенке на сенник; как раньше, сопели внизу коровы, телятки бормотали детскими губами и чуть скрипели досточки лестницы. Вот и сено – душное и пьянительное, как сладкое луговое вино, – и то место, за поперечной балкой, что было ими облюбовано и где любили они так бурно. Но что? Или слух изменяет? Движенье. Возятся, хохочут. Поцелуй, такой же, там же…
– Петя! Смолкли.
Голос – злой, чужой.
– Какого дьявола по сеновалам шляешься? Или в службу нанялась?
– Петя…
Но остановилось сердце, нету ему ходу – видит она с ним там другую, блудящую девку Федосью, и он лезет от нее лохматый, с сеном в волосах.
– Прочь пошла, слышишь – вон!
– Петя, Петюшка, разве ж тебя не любила? Разве душу тебе не дала, Петя, родненький, за что?
Он не слушал. Схватил сильными руками и столкнул вниз с крутой лесенки, так что упала оземь, разбила верхнюю губу. И лежала долго в забытьи. А он запер дверь.
Много позже встала она медленно и пошла домой. Там сидела тихо, всю ночь у окна; было безмолвно в ее душе, стояла пустота, палимая бесплотным огнем. И только временами чуяла жажду какую-то, пила; потом слабо задремала, перед рассветом, сном тонким и больным, готовым каждую секунду лопнуть: проснувшись – сразу вспомнила, что выедено все у ней внутри и одна зияет огненная рана. Тогда стала плакать – медленными, безграничными слезами. Так застала ее барыня, выйдя утром в сереньком своем халате, бледная и сухенькая.
И как была она женщина, сразу поняла все.
– Не плачьте, Аграфена, не тужите. Вот полюбите еще, новое счастье узнаете.
Барыня положила руки на Аграфенину голову и говорила что-то глазами. Светлыми и скорбными, прошедшими через многие печали мира и вынесшими из них свое знание.
Так познала Аграфена первую свою женскую муку, огнепалимую и ненасытную. Муку отверженной.
XI
К новому году Аграфена родила. В это время она уже не жила у прежней барыни, которая внезапно уехала куда-то и навсегда пропала с ее глаз. Также не было и Петра; он ушел оттуда еще летом, чужой и недругом. Но теперь все это было для нее далеким, щемящим, над чем время возводило свои усыпляющие терема.
С девочкой на места не брали, поэтому пришлось отдать ее в деревню. Это тоже было горько, но необходимо. И Аграфена снесла это твердо, только бледнела.
Оставшись же одна, она стала внутренне собранной, готовой на нелюдимую тяжелую жизнь, и вступила в кочевое состояние женщины, переходящей от хозяев к хозяевам, видящей разные семьи, разные драмы, счастья и предательства – но хранящей суровую отчужденность и только временами плачущей, в одинокие ночи, о невозможном.
Так блуждала она довольно долго. Понемногу годы, утомляя своим волнообразным всплеском, качая на своих гребнях, ввели ее в возраст тридцати лет, когда жизнь кажется наполовину прожитой, в голове пробегает волос серебряный – глубже в лоб врезается морщина.
XII
Теперь место Аграфене вышло в доме госпожи Люце, в том же городе. Она была кухаркой; жила в подвальном этаже, в тесной кухне и видала оттуда медленную жизнь, протекавшую вокруг и наверху.
Госпожа Люце имела мастерскую; в ней шили и вязали чулки, жили мастерицы, и сама «тетушка Люце» вела скромное существование, весь день работая над сматыванием ниток. Хотя все с ней были приветливы, Аграфена дичилась и старалась быть в стороне, внизу у себя. Там жила старая няня, взрастившая госпожу Люце, и ее старик муж, Мунька. Этот походил на снежно-серебряную копну; двигался медленно, иногда в низенькой закопченной кухоньке разговаривал с Аграфеной. На нее это действовало тяжело: стоит Мунька старый-старый, восьмидесятилетний, как древнее привидение, и бормочет:
– Было это в пятьдесят пятом году. В Останкине тогда жил покойный император, Александр Второй.
Или:
– Много наших под Силистрией легло. И мы там с барином были.
Темная тень – годов, императоров, битв, войн – ложилась тогда на душу Аграфены. Казалось страшным дожить до такой старины; и когда не спалось, мысль настойчивей направлялась к тому: как же? Когда? Что будет «там»? И вначале, как ни билась, дух немел перед возможностью не быть, перед тем, что же будет, когда не будет ее? Прежние мысли об аде, о том, что «вдруг есть Бог» и покарает за грехи, ушли давно; с течением времени стал также проходить тот дикий ужас – а если убьют, от болезни внезапной умрешь, сгоришь, – от которого она холодела раньше.
Теперь, с годами и размышлениями, смерть представлялась надвигающейся мерным и торжественным ходом. Она шла неотвратимо, как крылатая царица, звучала бархатно-черным тоном. Но на фоне этого мрака просветленнее, трогательнее сияли видения прежних лет: дальний роман среди полей, с полузнаемым им, весною тихой, апрелем: слабо мерцающая где-то сейчас детская жизнь. Как давно было все это! Теперь Аграфене казалось, что ее жизнь примет ровное и бедное течение, будучи отдана этой девочке; но ей было назначено за первым переломом бытия узнать еще огни и печали передвечерия.
XIII
В ноябре, среди ранних диких мятелей в дом госпожи Люце приехала барышня Клавдия с братцем. Клавдия приходилась тетушке родственницей, сняла комнату себе и братцу отдельно – и стала ходить в музыкальное училище, а братец в гимназию. Клавдии поставили пианино в комнату, и теперь нередко в пустынной квартире бывал Бетховен и старые немцы. Под их звуки тетушка мернее вертела колесом и туманнее думала о днях былых, когда с покойным ныне мужем они вели ясную жизнь, в любви и дружбе.
Также в Аграфенину кухню сходили эти голоса. Она мало их понимала, но почему-то от того, что барышня умела играть, она казалась Аграфене не совсем обыкновенной: точно жило в ней смутное и слегка загадочное. А в то же время и простое: сбегала вниз к ней, могла хохотать, картошку ела с плиты недоваренную, наверху же вносила в жизнь тетушки некоторый кавардак. Но страннее всего был братец, совсем молоденький. Тоненький, тихий, часами просиживал он в своей комнате, что-то всегда рисовал, тщательно прятал, молчал и иногда вдруг густо и беспричинно краснел.
– Нашего Костю никогда не слыхать, – говорила тетушка. – Право, жив ли, мертв ли, не узнаешь.
Клавдия улыбалась – точно была с ним в заговоре.
– Он думает.
– Ах, Клаша, все-такось рано с этих пор думать. Братец же, если слышал, что при нем о нем говорят, имел неопределенный и полуневидящий вид, а потом, допив чай или кончив обед, вежливо благодарил и уходил в свою комнату. Занимался уроками, потом много мучительно рисовал, потом читал, ложился спать.
Утром в потемках вставал и шел в гимназию; и ноябрьские дни, заметая снегами улицы, свинцовой вереницей брели над городом; ведя нить жизни дальше, в глушь, в черноту ночей.
XIV
Аграфена уставала. Сзади стояли годы, оттуда сочилась черная влага, стекала в душу и скоплялась едкими каплями. Теперь она не могла бы рыдать исходя в буре слез, сухая печаль ложилась вокруг рта кольцом, въедающимся и маловидным снаружи.
Мысли о смерти приходили чаще; что-то недвижное и седое загораживало дорогу, тускнело все прежнее; прожитая жизнь казалась ненужной. Временами приятно было глядеть на камни, стены – как они тихо лежат и как долго! Как покойно! А иногда вдруг, перед вечером, когда бедные, северно-розовеющие тучки нежданно разлегались над закатом, что-то манило и слышны были точно слова – детские и обаятельные. Становилось возможным невозвратное; на минуту сердце замлевало, будто ожидая чего. Но закат гас, и опять только закопченная кухня, темень, Мунька. Сверху музыка Клавдина, томная и родная тучкам умирающим, да невидимый братец.
Мунька умер в очень глухую ночь. Уже много дней был он плох, лежал и стонал, закатывая глаза. Всем было ясно, что нельзя ему жить больше: отмерил восемьдесят лет и уходи. Няня давно приготовила ему смертные одежды, но по ночам о нем плакала. Он же лежал как серебряная копна, что-то бормотал и слабел, слабел.
В три часа с четвертью Аграфена вдруг, в беспроглядной тьме, соскочила с постели; жарко было, заливалось сердце бешеной дробью…
– Бабушка! – крикнула она няне. Не ответили. В соседней камере хрипело и возилось, свет вдруг резко ударил сквозь щель, лег тоненькой жилкой, и оттуда быстрые слова:
– Кончается. Барыню буди. В тоске кинулась она наверх.
– Барыня, голубушка, Мунька кончается! Тетушка Люце спала на широкой постели, со слабым отсветом лампадок; старинно и печально было в этой комнате. Стояло древнее трюмо, резное и в ночном поблескиванье призрачное; пахло сладковатым.
– Царство Небесное, Господи, упокой душу!
И как старый человек, видавший много видов, стала тетя Люце на колени.
Сразу зашумели в доме, и, пробегая мимо комнаты братца, Аграфена машинально отворила дверь и вошла. Он сидел на кровати, тоненький, белый, встревоженный; сзади мгновенно пал кусок света, бросил его в глаза Аграфене, и потом, когда она притворила, худенькое белое виденье с голыми ногами запало ей вглубь, вызвав странный темный удар.
– Что такое?
– Мунька помер.
Но теперь она не думала уже о мертвом; смутная сладость пронизала ее глубоко, до костей, и на черном фоне ночи, смерти, страха вдруг поплыло нагое тело, девичьей белизны, с тонкой, чуть рождающейся прелестью мужчины.
Аграфена выскочила и сбежала вниз; увидев в кухне огонь, свет в Мунькиной комнатке, его самого недвижно лежащим с тонкой повязкой смерти – она зарыдала, сама не зная от чего.
Древняя няня молилась, в дверь выглянула Клавдия в ночной кофточке, потом проковыляла тетя Люце. Ночь шла. Ее великие панихиды простирались завыванием ветров, свистом метели и безмерным мраком. Так продолжалось до утра.
XV
В сороковой день смерти Муньки няня с Аграфеной ездили на кладбище. Извозчику было шестьдесят, он знал все про всех в городе, и ему можно было бы не говорить, куда, собственно, едут. День был зимний. Глубокие снега, как и прежде, укрыли город; тихие санки плыли по ним. Аграфена глядела по сторонам. Давно не бывала она так далеко от своей норы, и теперь, когда с окраинных улиц виднелась вдали Ока, зимне-синеющие просторы и горизонты, леса в снежных инеях, – ей вдруг представилось, что жизнь широко раздвинута, там на огромных пространствах также обитают люди, также можно куда-то уйти, стоять в снеговых полях, дышать острым и опьяняющим воздухом прежнего.
От этих мыслей у ней затуманилась голова. Между тем близко было кладбище. Оно лежало почти за городом на широкой возвышенности, господствуя над облаком инеевых деревьев, оно казалось белым облаком.
С большой тишиной и серьезностью вошли женщины в его ворота; на них не было ничего написано, но сразу другой воздух охватил; еще прозрачнее, суше, таинственнее. Особенно деревья обольщали; о, как они замлели под белейшими ризами! Они рождали тишину и мир, холодный мир.
«Какой там Мунька теперь?» И нельзя было поверить, что не такой же, не хладно-серебряный, не пронизанный молчанием снегов и инеев.
На могиле женщины совершили обряды; были тут поминальные яства, кутья и изюм; птицы – красногрудые снегири – перепархивали в ветвях, осыпая белый туман; ожидали, когда они удалятся.
– Ты, милая, уйди теперь, дай мне одной побыть.
Старческими коленями стала няня в снег и начала молиться. Аграфена бродила меж могил и чувствовала себя в странном, морозном раю; точно вся полегчала и опрозрачнела. У ограды дальнего конца она остановилась. Над ней вились щеглы, она оперлась на снежный парапет и глядела долго на заречные дали. И вдруг в тишине снегов нежащее, острое виденье выплыло из глуби и наполнило ее сладкой болью. В этом не было ничего странного, но как раз та секунда сказала ей с беспредельной ясностью, что близко, близко…
Назад с кладбища Аграфена возвращалась одна. Проходя по плотине мимо катка на пруду, осененного вязами, она увидела братца; он скользил уверенно и стройно на американских коньках, а перед ним, убегая, несясь, летела девушка в бархатной шапочке. Аграфена чуть приостановилась; затем продолжала путь.
XVI
В воскресенье, с самого утра, Аграфена почуяла тоску. Она была одна; все ушли, и ее мысли, бродя за плавными снежинками, летевшими с неба пеленой, погружались во мрак. Тогда ей пришло на ум, что она может пить. Первый раз в жизни в тот день она пила и узнала туманный хмель, сладкую призрачность, встающую из него, – глубокую его рану.
К вечеру хмель ушел. Но остался трепет и как бы буйность. В полусумерках вернулся братец, и, как ей показалось в передней, острая мужская дрожь пробежала по нем. С тайной сладостью стала она мечтать, сидя в своей комнате, вспоминала, как хмур и беспокоен он, как таит в себе вскипающее, и опять с болью плыли перед ней ноги, белые, белые, как у девушки. В поздний час, за полуночью, она, задыхаясь, кралась через черный дом, полный сна, к его комнатке. Как и тогда – отворила, замкнула и дрогнула: заскрипела пружина на постели.
– Кто тут?
– Я.
Стало тихо, она подошла, прильнула, потопила его в себе – режущей сладостью утоляла свою любовь – такую плотскую, больную такую, темную, непонятную любовь.
Когда ранним утром, вблизи рассвета она уходила, серели пятнами окна; на постели лежало измученное тело – белый цвет и дикий, теплый запах зверей стоял. А она не могла наглядеться на него, не могла натрепетаться от острого, сорванного цветка: рождающегося мужчины.
Потом она проходила по пустым комнатам, на рассвете. Холодная тень, цвета пепла, легла ей на душу. Нечто темное встало, загородив дорогу. Так взяла она его.
XVII
Очень скоро узнала, что не на радость. По-прежнему был братец худ и жалобен с виду, а теперь стал еще и стыдиться. Когда, встречаясь днем, она длинно взглядывала на него, он вспыхивал и нырял скорее в свою комнату, а еще хуже получалось, когда приходил кто-нибудь.
К Клавдии часто забегали подруги: молодые барышни и гимназистки. Была между ними и та, с кем она его видела в зимний день на катке. С нею он почти не говорил; бледнел в ее присутствии, смущался. Аграфена, подавая, унося, рассматривала их обоих тяжелым взором, и мутное чувство селилось в ее сердце: сидят, смеются, может, любить уж начинают друг дружку, а того не знают, с кем он по ночам… Медленная злоба затопляла ее. О, как ненавидела она этих легоньких барышень, с духами и тонкими ножками – кому и жить только, чтобы целоваться да на балах плясать, – пусть бы сошли к ней, в подземную кухню, хлебнули ее горечи.
Когда братец бывал в гимназии, она, убирая его комнату, не раз разглядывала его вещи, и скоро увидала, что в бумагах появилась тайная карточка, портрет той. Аграфену обожгло, но она сдержалась и молчала, он же, как прежде, трепетал и бледнел, ходил на каток чаще и по тем улицам, где ничего ему не надо было. Перед Масленой однажды к вечеру налетели рои барышень, гимназисток: устраивался бал. «Стрекочут, – думала Аграфена, – все стрекочут». Как всегда, в этом было крайнее неодобрение. Весь вечер после них Клавдия с братцем разговаривали; волновались, спорили даже, что и как снаряжать. Аграфена же хмуро ворочалась, не могла заснуть, и опять мысль о вине и горьком хмеле вставала в ее мозгу.
В день бала братец с утра был не свой: точно решалось что-то для него. Напяливал мундир, доставал белые перчатки и душился. В восемь часов заехала та, и как вошла в комнату в платье своем белеющем, с легким духом вокруг и тоненькими девичьими ножками – показалась Аграфене невестой: сияющей и ослепительной.
– Ну, хороший мой человек, покажись! – Доброе лицо тетушки Люце расцвело улыбкой. – Хорошо оделась, ангел мой, очень хорошо!
Потом она лукаво глянула на братца.
– Вот бы, Костя, тебе невесту такую. Я бы благословила.
Костя вспыхнул, повалил стул и выскочил из комнаты.
Через четверть часа они уехали. Аграфена была бледна. Белое облако молодости, сияний, люстр приняло их. В бледно-зеркальном воздухе они носились до утра среди блистающих колонн, в вальсах и нежных танцах. Робко благоухала любовь. Ее окутывали тучи тканей, прозрачных и мятущихся, и вся эта юность была одним взлетывающим существом, в золоте огня.
Аграфена же томилась в черном прозябании, без сна. Тяжкие волны били в ее мозгу; сердце источало кровь. И когда силой воли унимала она его на мгновенье, с великой силою чувствовала, что иначе быть не может; надежды ей нет. Тогда будто черную сетку накидывали на нее, душили и стягивали, ей хотелось громко кричать, криком отчаянья и безнадежности добиваемого зверя, которого подымают на рогатину. Братец возвратился на рассвете, туманный счастием и полупьяный им. Аграфена деревянно отворяла дверь.
– Хороша невеста-то?
Он ничего не ответил, прошел к себе.
XVIII
Темны были ночи Аграфены, черны, черны. Дикие мятели крутили на улицах, собираясь погрести под собой город и бедную жизнь; но сердце, гибнущее в любви, мрачнее снежных ночей.
– Чем меня приколдовал, ангел мой белый, голубь сизокрылый? Голубь мой, Господи, пей мою кровь, жизнь мою возьми, всю меня!
Опять туман опьянял, братец отдавался, и шли буйные ночи и дни беспросветные, на дне которых вечно одно: не любить, не любить!
Иногда, измучившись вконец, Аграфена молила Бога, чтобы растоптал он ее жизнь, взяла скорее смерть – кончилась бы мука.
Но смерть не шла, братец не имел сил рвать, уступал голосу тела пробуждающегося и днем ненавидел еще острей, еще жестче был.
А уж в доме знали о их связи – кто посмеивался, кто шипел; не было недостачи в шпионах. Сама Клавдия стала серьезней: раз Аграфена, услышала кусочек фразы, которая не ей предназначалась, Клавдиной подруге, сидевшей с ней в столовой:
– Одну любит, а с другой живет.
Аграфена остро почуяла беду в этих словах; но, привыкши терпеть, не дрогнула и вошла спокойно.
Прошла неделя; стоял Великий пост. Снова, как тогда, в роковой день, Аграфена осталась одна в доме. В первый раз походило на весну. За день растопило даже лужи, розовый закат сиял в них пятнами, и опять багрянец над липами голыми сквозь сетку грачей говорил о несбыточном, пронзительном…
Вдруг звонок в прихожей. Аграфена кинулась. Он, братец. Но какой! Что с ним? Отчего губы дрожат и такой блеск, зеленый, в глазах?
– Мне тебя нужно, Аграфена. Молча прошли к нему в комнату.
– Я давно знал, что подлец. Слышишь? Давно. Аграфена качнулась слабо и взялась за ручку кровати.
– Я все время был подлецом. Я люблю не тебя… понимаешь, не тебя… Мучился… Хорошо это – тебе и ей разом в глаза смотреть? Легко? О-о…
И дальше – слова. Бессвязно, больно, а она все стояла, все смотрела, и стекленели ее глаза. Как чужая понимала она его, будто из другого государства.
А, однако, поняла. Да, душа его давно томилась одиноко, но теперь загажена его любовь, та тоже знает, чем был он, не мог он больше так, впотьмах, сказал. Тут упал он на подушки, на свою кровать-ложе, рыдая мальчишескими рыданиями. Аграфена же стояла, онемелая и мертвая, и не знала, что делать.
Он вскочил.
– Вон! Уходи, не могу, вон, вон.
И опять упал. Она ушла. Это был конец.
XIX
После того дня Аграфена смолкла сразу.
Братец заболел, скоро его увезли на неделю из города отдохнуть, а она прожила еще некоторое время у госпожи Люце в оцепенении.
Стояла ранняя весна; звонили звонаря к вечерним, от тихого звона тянуло давно забытым, детским, что безвестными тропами ведет к покаянию.
Аграфена говела. Скромным вечером, купив вербочек с белыми пушками, она пошла к исповеди. Небесные отсветы, розовые пятна облаков бродили по иконостасу. Там она на коленях перед стареньким отцом Досифеем поведала свои печали, плакала и взывала к Богу, прося дать сил. Отец Досифей крестил ее крестом в светлом курении ладана и голосом ясным, давно изведавшим, дал облегчение душевных тягот.
– Возвратись к дочери, ты мать, твое сердце полно чистой любви к ребенку. Проведи оставшуюся тебе часть жизни в служении ему.
Аграфена ушла светлая, тихая. Дома лежало письмо из деревни, где писали, что там становится трудно, девочка выросла, нуждается в уходе.
Аграфена сочла это за голос Провидения, таинственно воззвавшего к ней и направляющего в ему лишь ведомый путь.
Она пошла к госпоже Люце и сообщила, что оставляет место. Потом взяла свои вербочки, погрузила в стакан с водой и снесла в комнату братца, поставив на стол. Этим молчаливо хотела она дать чистое ныне, братское и страдальческое лобзание юноше, тайно сжегшему ее сердце. Она постояла довольно долго так, около этого бедного букета, и ее простая душа в тот миг расставания таинственно обручилась с душою жениха, прихода которого она так долго, тщетно ждала.
Опустившись на колени, она поцеловала край одеяла с постели, те места пола, где ступали его ступни, перекрестила все углы комнаты и вышла. Больше в эту сладкую и больную комнату она не возвращалась.
Через два же дня, когда госпожа Люце нашла себе вместо нее другую, она, собрав убогий свой скарб, навсегда покинула тетю Люце: и этот дом, и этот город.
XX
Уже в вагоне третьего класса, проезжая мимо полей и дымно-зеленых весенних лесов, она поняла, что тяжелое и огромное осталось сзади; а сейчас так тихо и просто покойно на душе, как не запомнит давно. «Ну, были разные дела, а теперь ничего нет, вот под яровое пашут, грачи ходят по комьям, зеленя взошли. Хорошие зеленя, нельзя ничего сказать, хорошие».
Напротив на лавке сидела баба во вдовьем платочке, черном с белым. Аграфене показалось, что и она теперь такая же вечная вдова. С этим нечто бело-траурное, ясное произошло в ее сердце.
От станции Ферязи до родной деревни считали тридцать верст. Она купила на базаре вдовий платочек, надела зипун, как богомолки, палку выломила толстую и боковой тропкой большака, священным путем странников, меряющих родимые пустыни, тронулась в путь.
О ты, родина! О широкие твои сени – придорожные березы, синеющие дали верст, ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный, и своих бедных сынов, бездомных Антонов-Странников ты берешь на мощную грудь, обнимаешь руками многоверстными, поишь извечной силой. Прими благословения на вечные времена, хвала тебе, Великая Мать.
Так брела Аграфена, широко ступая ногами в лаптях, упираясь рукой в длинный посох. И ее душа была раскрыта, детскими глазами глядело в нее вечно-синеющее небо, и ветерок-ласкатель звенел в ушах, опьянял. В горле стояли слезы; временами они текли из глаз, падали на землю и были очень, очень соленые; а их спутниками на лице шли морщины, прокладывавшиеся по нем, как овраги.
На полпути, у взгорья, откуда были видны с детства любимые Усты, село-приход, она приотдохнула под екатерининской березой. Вынула хлеб, пожевала и слегка заснула. Не прилегла даже, а полусидя, прислонясь к зеленому откосу. На лице ее в это время была спокойная улыбка, чуть печальная И в тот весенний час, в полудне пути от дому случайно задремав на большаке, она видела торжественный сон: мимо, по бледно-зеленым зеленям, медленно и не страшно шла черная монашка. В руках у нее сосуд. Подошедши, спросила: «Ты раба Аграфена?» Она ответила: «Я». Монашка постояла, медленно голову склонила, как бы приветствуя ее, и, неся свою чашу, как она ясно помнит, полную до краев, последовала дальше. Все это длилось недолго, через мгновение она проснулась. Солнце шло уже к низу, надо было торопиться. Взяв котомку и палку, полная странным сном и ясностью великой, Аграфена зашагала далее.
XXI
Она вернулась в Кременки на закате дня. По-прежнему лежала маленькая деревня на склоне косогора, в одну линию домов и глядела окнами за овраг, в сады арендатора. Такая же липкая и черная грязь была на улице, гусиная травка пустила свой зелененький ковер под вербами, ковыляли желтые утята, и неизвестные Аграфене дети кучкой глядели на нее, как желторотые скворцы.
А вот дом, что взрастил ее, – старуха мать к ней кинулась.
– Красавица ты моя, думала ль тебя увидеть уж? Все ждала, все глаза выплакала, тебя ждучи. Эх, состарилась, ласточка, уходилась.
– Теперь навсегда к вам, маменька, – Аграфене сладко и жутко, что ее, такую пожилую, обнимают и плачут с ней, как с ребенком. – Буду век свой с вами коротать. Что Анютка-то? Здорова ль?
А Анютку она не узнала б, если бы не здесь встретила. Только на мгновенье опять острым ножом полоснуло былое, Петр… но сейчас же ушло, и она матерински ласкала ее.
Ужинали, захлебываясь в рассказах; тут узнала она, как было трудно матери, как билась, недоимки выплачивала, – но теперь Аграфена решила, на свои мужицкие, могучие плечи она возьмет хозяйство и выведет на путь. После ужина долго не могла спать. В небе слабо сияли звездочки весенние, она вышла и прошла к ригам. Здесь тогда отуманивали конопельные духи, до этих риг провожал он ее тайной тропой. Теперь они угласто вырезались на закате гасшем, что алел с прежней нежностью, обольщением. Струйка дальних журавлей тянула к западу; их клекот, утопавший в красной мгле, был похож на зов: из дней далеких, прекрасных.
Аграфене жилось дома хорошо. В давно незнаемой работе под вольным небом она трудилась честно; ее тело, уставая за день, казалось ей легким. Как бы сохнуть начинало оно. Загорало под солнцем, принимало прекрасную силу крестьян. Она легко вскакивала в колымажку, держала ручку сохи и босиком, полурысцой поспевала за боронами. Крылатые дни неслись вереницей, благоухающей и здоровой. Колосилась рожь, догорал красный май; июнь жег сочным пламенем, вспаивал луга поемные, куда выезжали всей деревней повозками на несколько дней; там жили, как цыгане, косили и везли все сразу. Потом сухой июль; месяц белого жара, страды, бабьей муки. В длинной белеющей рубахе, обливаясь потом, жала Аграфена свою полосу, а Анютка подсобляла, таскала жбаны кваса из деревни и потом вязала. А дальше, в летне-золотеющие вечера июльские, они навивали снопами огромные возы и мирно везли их в риги. Анютка сидела наверху, напевала; кусала колосики, внизу шагала Аграфена, ласково и с думой глядела на нее: вот виден милый ей очерк, тонкой двенадцатилетней девочки. И пройдет четыре года, пять, как мать, погрузится она в муки и восторги любовные, как мать, припадет к чаше – что дано будет испить ей там? Кто скажет?
Подобные мысли туманили голову Аграфены; но о себе она знала, что такая жизнь, как она ведет, – без счастия и мыслей о нем, суровая рабочая жизнь женщины, отдающей себя, – есть наилучшая, честнейшая и самая ясная жизнь, как ни глубока печаль, коренящаяся в темных ее истоках.
XXII
В звонкий сентябрьский день, когда дымчаты дали, опалово-лиловое разливается в воздухе и кротки поля сжатые, Аграфена вела Анютку в усадьбу: старая барыня вызвалась отправить ее в город в школу вместе со своей воспитанницей. Ночью Анюта плакала, и сейчас покрасневшие ее глаза были овеяны ветром, на них набегала слеза.
Аграфене странным казалось подходить к той усадьбе, где когда-то, так давно, протекала ее любовь. Все поветшало; но бессмертно пахло осенью, амбарами, ссыпаемым зерном, молотьбой; барыня встретила их у мучных закромов, в черной кофте, с всегдашне спокойным и умным лицом. Аграфена поклонилась.
– Здравствуйте, вот девочку привела.
– Ну и хорошо.
Анютка стеснялась немного, но барыня опытно-ласковой рукой погладила ее, ободрила.
– Вот и хорошо. Кончит школу – место получит, в учительницы или еще куда.
Аграфена провела в имении с час; встречалась со знакомыми рабочими, признала даже Дамку, обратившуюся из щенка в старую, обильную сосками бабушку. Чувство тишины и тонкой печали, бледной и бесплотной, стояло в ее душе. Жаль было Анюту, она нежно ее целовала и, наконец, сдав верной женщине Саше, поблагодарив барыню, тронулась.
Чуть видные, молочно-пепельные облачка тянули в небе; гроздья рябин краснели, внизу лежал пруд: кристальный, глубокий, – зеркало. У его берега не могла Аграфена не остановиться, и, смотря на прозрачные отраженья в нем деревьев, облаков, на свой зыбко-облегченный облик, глянувший из глубины, прожила она мгновения бессознательной мудрости, когда вся жизнь взглянула в ответ оттуда, чуть заволокнутая легкой слезой, но также обожествленная и просиянная. Ее дни, скорби, утраты, та печаль расставания, что глодала ее сейчас, на мгновение были приняты в светлое лоно. И там преобразились.
Помолчав, вздохнув, улыбнувшись, она продолжала путь. Когда подходила к Кременкам, розовая заря разлеглась на западе; от нее веяло тонкой, скорбной осенью.
XXIII
Наступила зима, с ней деревня стала строже и монотонней. Мать много болела, Аграфене одной приходилось нести бремя тягот. Это ее закаляло. Волосы ее седели, но нечто морозное и суховатое в ней появлялось. Будто становилась она прозрачнее, всегдашний внутренний траур выводил на лицо ясные морщины, спокойную приветливость.
По Анюте она скучала, хотя знала, что ей живется не плохо; получала от нее иногда письма, которые читать было большой радостью. Но приходилось искать чужой помощи в чтении: «Пусть, пусть свету глотнет, – думала, – не то что мы, темные, будет».
А сама работала. Зима вышла тяжелая. Уже в ноябре лег снег, и к Святкам Кременки были занесены по уши. На улице ухабы изрыли дорогу так, что у самой Аграфениной избы была крутая яма; все хаты ощетинились соломой, которую набивали от крыши до полу, прорезая в ней для окон узкие люки; через них бедно лился внутрь свет. И долгие ночи проходили в завываниях мятелей или грозном блистании звезд на небе, чуть не трескавшемся от морозу. Большие морозы выпали на тот год; бродячие странники, число которых увеличилось заметно, замерзали на дорогах. Погибло шестеро детей из Осовки, шедших за три версты в школу.
Нередко по ночам Аграфене не спалось. Много дум приходило ей в голову, и характер их бывал серьезен. С большою силою она убеждалась, что эта часть ее жизни есть и последняя, но сколько ни думала о Боге, смерти и будущей жизни, никогда не могла додуматься до ясного. Иногда выходила на мороз, и зрелище синих, пылающих светил и глубокой порфиры неба, священных костров-созвездий говорило о великом и ангелическом. Чувство твердости, вечности наполняло ее.
Вспоминала она также свой дорожный сон; образ темной монахини, встретившейся на большаке, принял в ее сознании отблеск апокалипсиса.
Главной же точкой, как и в прежнее время, все была Анюта, дорогая и единая дочь, светлое упование стареющей жизни. О ней думала она еще чаще, нежели о смерти. Ее судьба была неизвестна и минутами радовала, минутами пугала.
XXIV
Так прожила она – ровно и холодно – пять лет. Успела за это время схоронить мать, видела, как безбрежная река уносит одних, старит других, сводит на брак юные пары, поселяет страдания в крепко сжившихся, увлекает с родины, привлекает давних бобылей и скитальцев, – и в своем безмерном ходе не знает ни границ, ни времен, ни жалости, ни любви, ни даже, как казалось иногда, и вообще какого-нибудь смысла.
Анюта тем временем вернулась милой девушкой и по хлопотам барыни получила место – сиделицей винной лавки в деревне Гайтрово, в пяти верстах.
XXV
Аграфена оставила свой дом и поселилась у ней. Смотрела за хозяйством, была как бы престарелой ключницей-матерью.
С Анютой жила подруга – Маня. Обе служили. Обе носили похожие голубенькие платьица, выдавали красноносым мужикам водку, хохотали весело, а потом Аграфена степенно поила их чаем из пузатых чашек: синих с золотыми крестами. На Святках ездили по очереди в гости, летом гуляли с учителем, пели во ржах «Укажи мне такую обитель». «Хохотушки, молоды, – Аграфена улыбалась. – Ну, дай им Бог, дай Бог». Но этот учитель сразу стал ей неприятен.
«Долгогривый, – решила, – и что патлы жирные – нехорошо».
– Мамаша, знаете, Иван Васильевич замечательно образованный человек. Он читал даже Каутского.
«Читал, читал, – Аграфена соображала свое, и мнения не меняла. – Хоть бы Господа Бога».
Девушки над ней смеялись весело и любовно; Анюта прибавляла:
– У меня мать консервативного образа мыслей. А он демократ.
Друг Каутского мог говорить разные вещи и бывал у них часто. Аграфена находила – чересчур часто. Анюта сначала хихикала, потом стала тише и серьезней, краснела и по ночам не спала долго – ворочалась, вздыхала. Аграфена соображала все это и тоже отмалчивалась. Но тревога подымалась в ней. Перед утром просыпалась она иногда, отирала пот со лба и внутренно крестилась; дай Бог Анюте, дай Бог.
XXVI
Хорошо в светлом лете ласточкам носиться над полями, ржам шуметь сухим шорохом и глубокие думы думать тысячью колосьев; так же счастливы темно-синие васильки в хлебах. Так же девичье сердце овеяно вечным и сладким безумием любви. Сплетя венок из васильков и скромной кашки душистой, девушка ходит тайными тропами среди ржей, обнимая его, и в ее глазах – Анютиных – цвет анютиных глазок; давно выцвело ее голубое прежде платьице, одевая серо-синеватым тоном. Ее жизнь раскрыта перед ней как великая небесная книга; за руку с милым, с другом Каутского, она убежала бы на край света. Но лучше – сбежать с зеленого откоса просто к иве, пруду серебряному и туда бросать венок и хохотать…
Венок тонет. Почему? О, думать об этом некогда, столько еще счастья впереди.
Так идет в полях, отражая вечные образы любви, любовь дочери – там почти, где много лет назад загадочно и обольстительно любила мать. А мать все это видит старою душою – как мелькает Анютин венок васильковый во ржах, как всегдашняя Офелия сидит у пруда; и матери кажется, что это ожили ее года, пришла далекая ее весна, и многолетние глаза вбирают со слезой – прощальный свет полей, солнца, которых скоро не будет.
XXVII
«Ты жила свои дни, девушка Анна, в любви; это были твои ранние дни – и опьяняющие. Но они прошли. Великое предначертанье повернуло от тебя лицо любви, любивший тебя полюбил другую. Это горе упало на твою детскую душу огненным попалением; а уже ты носила под сердцем росток нового человека. И не смогла снести этого. Кидалась к старой матери. Мать прокляла принесшего тебе несчастие; она ласкала тебя и утешала и на бледной заре сторожила твой сон. Ты спала бредя. Мать же в этих твоих стенаниях узнавала свою прежнюю муку и черные дни; острые ножи резали ее сердце. Так ты лежала сутки, в то время как твоя подруга уехала с человеком, любившим тебя ранее, и обручилась с ним кольцами».
«На вторые сутки, также перед зарей, мать задремала; проснувшись слегка, она увидела у твоего изголовья черную женщину в одеянии монашенки, в руках у которой был сосуд с темной влагой. И ты, Анна, припала к этому сосуду, жадно и долго пила. Он был опорожнен. Тогда монашенка медленно отошла и сказала матери: «Подаю тебе знак». Мать снова заснула. Ты же встала и прошла в предутренней росе к серебряному пруду – к той ветле, где сидела с ним. Там, подойдя, ты бросилась в светлую водную глубину. Она приняла тебя, и ты погибла. Мать же продолжала дремать в странном сне, как бы зачарованная. Когда проснулась, то сразу все поняла и ринулась искать тебя. Нашла твой белый платочек у омута и остановилась как вкопанная».
XXVIII
Любовь и смерть Анюты были для Аграфены как бы сном. Но и протирая глаза не могла она не убедиться, что все это на самом деле. Мужики сбежались, с лодки достали багром труп Анюты, уже слегка повитый водорослью. Прибежал батюшка; охал, утешал, но Аграфена не слушала. И не могла плакать. То, что наполняло ее, не равнялось слезам, а стояло за горизонтом человеческих слов и чувств. Она молча склонилась к умершей.
Два дня лежало тело Анюты у матери. Она сидела с ним рядом, молчала и не пускала никого. Ей казалось, что сейчас она знает нечто, чего сказать никому нельзя и чего все равно никто не поймет. Бледный же взор покойницы, быть может, понимает. Так сидя, она смотрела, как несколько дней назад, когда Анюта была еще больна. Тайна их немого разговора осталась между ними.
Потом надо было хоронить. Священник отказался. Аграфена отнеслась к этому равнодушно. На краю кладбища, за оградой, вырыли могилу.
Туда, без креста сверху, легла Анюта. Мать собственными руками засыпала над ней землю, вырубила из бедных берез два стволика, в белой естественной одежде, сбила крестом и водрузила. На него повесила малый венок. Затем долго ходила, ища дубовых ветвей. Нашедши, прибавила туда рябины и повесила также. Рябина алела вечной кровью на зелени дуба. Это нравилось Аграфене. И еще нравилось – старый святой обычай – насыпать зерен скромных на гребень могилы и давать ими пищу птенцам. А самой – сидеть поодаль и видеть, как вечные ветры овевают это место, как заходит солнце и прощально золотит дубовый венок – лавры смерти. Так испила Аграфена последнюю чашу жизни. После долгих лет, мук любви, ревности, рождения и материнства, страха смерти и печали прохождения она узнала скорбь разлуки. Но ее душа, опрозрачневшая и закалившаяся, не была наклонна к отчаянию. Она была почти готова к последнему очищению; одна часть ее присутствовала уже не здесь.
XXIX
Было утро. Тайное, тихое. Солнце медленно вышло к миру и сквозь бедные облака одело землю в светло-перловые облачения. Они реяли над полями бледно-зелеными, бродили мягкими пятнами.
Аграфена, возвращаясь в Кременки, все не могла вспомнить, где, когда было то же. И вдруг на повороте дороги, сразу волшебным манием раскрылась перед ней жизнь, и предстала светлая заря, семнадцатилетняя, когда на этом месте впервые увидала она синеглазого посетителя ее жизни. Сейчас, немолодой женщиной, подавленной тягостями, она вдруг затрепетала, как от таинственного тока, пришедшего к ней из тех дальних глубин. Волнение ее росло.
Задыхаясь, Аграфена остановилась: вдруг показалось ей, что земля под ногами легче, все легче, волны божественного, ослепляющего нисходят навстречу.
Тогда она пала на колени, и внутреннее видение осенило ей душу; вся жизнь явилась ей в одном мгновении; все любви и муки понялись одинокими ручьями, сразу впавшими в безмерный и божественный океан любви и данными ей как таинственные прообразы Любви единой и вечной. Из-за знакомых, дорогих когда-то лиц, к душам которых ее душа была прилеплена земной основой, восходя небесной к небу, выплыло новое, потопляющее всех единым светом Лицо, принимающее в сверхчеловеческое лоно.
«Господи, Господи, Ты явился мне, Ты все у меня взял, вот я нищая перед Тобой, но я познала Тебя в великой Твоей силе, Господи, я вижу Твою славу, Господи, возьми меня, я Твоя, я Тебя люблю».
В эти минуты она познала свою жизнь до последнего изгиба, приняла ее и сознала, что на той высоте, куда взнесло ее сейчас божественное дуновение, жить она больше не может.
XXX
Весь тот день, весь вечер провела Аграфена молча. Строго, торжественно было в ее душе.
Она умылась, одела чистую белую рубашку и легла на ночь, скрестив руки. Теперь она знала все и ждала.
Пред зарей закричали петухи. Стало сереть, серебриться, дымно-розоватые пятна выступили над садами. Улица была тиха. Спали собаки, куры; пыль в серебре росы лежала на улице толстым слоем.
Тогда сквозь утреннее безмолвие неспавшая Аграфена услыхала приближение. Повернув голову, так что стал виден угол переулка, она заметила, что, не подымая уличной пыли и не будя собак, под молчащими ветлами к ней идет черная фигура. Она ее узнала. И еще ступенью ровнее стало в ее душе. Монахиня приближалась. В руках держала сосуд.
«Здравствуй, раба Аграфена». – «Здравствуй». – «Готова ли?» – «Готова». Монахиня ей поклонилась. «Вкуси». Аграфена медленно приподнялась, припала губами к чаше и долго пила. «Слышишь ли Мою сладость? Идешь ли?» – «Слышу, – ответил наполовину не ее голос. – Иду».
Монахиня подала ей руку, она взяла ее – медленно-медленно затянулось все туманными завесами, как бы сменялись великие картины, бренные на вечные, и чей-то голос сказал: «Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфены, вкусить причастия вечной жизни».
Это были последние слова.
1908 г.Священник Кронид Рассказ
О. Кронид, крепкий, шестидесятилетний сильный человек, идет в церковь. Много лет он живет уж тут, мужики его уважают и зовут Кроном; a он исправно ходит нa службу, возвращается домой, венчает, хоронит, звонит в колокола с приближенными дьячками и стариками, и куда-то ведет зa собой приход.
Служить вечерню после сна днем не очень легко. Кроме того, Великий пост – время трудное; в церкви Бог знает сколько народу; много рваного мужичья, худых баб, исповедей; часто отрыгивают редькой и постным маслом, – a потом идут все грехи. Какие у них грехи? Все одно и то же бабье мямленье, поклоны, a мужики все ругались в году, пили водку.
Старый Крон и не жалуется, он человек рабочий, честный; тридцать лет попом, имеет камилавку, служит быстро и просто, как научила деревня.
Не один он действует тут; зa его плечами вдаль идут поколения отцов, пращуров; все они трудились здесь. Крон помнит деда Петра; тот видел еще французов; a Петров отец от своего слыхал, как строили каменную церковь, в которой служит теперь Крон, как помещик землю дарил и насаждал «поповку», где теперь притч и жены-мироносицы. Много старых, морщинистых стариков перемерло нa Кроновом веку, – с некоторыми из них он ребенком играл в лапту, – и всех он просто и хорошо хоронил, нa кладбище зa селом. Иногда вспоминает он их дедов, тех, с кем жил его отец и дед, и еще много других, кого не знает, но которые были тогда, и неизвестными ушли отсюда – все в одно место, туда же нa кладбище, где и о. Петр, Никодим и другие.
У самого Крона пять сыновей – семинаристы, все здоровые, хорошие дубы. Крон, думая о них, мечтает, где они будут жить, плодиться, служить; как бы им преподать свою мудрость, – жизнь трудна, какой приход, какой притч? Выйдут ли в своих, будут ли твердыми попами?
Только трудно их доставлять домой нa Пасху, дорог нету, вода, грязь, в низком месте лошадь тонет чуть не по уши. Придется самому ехать, туда еще кой-как можно, крутобрюхие лошаденки дотащут, но в городе отец Крон уже задумывается; все теплей и теплей, большая вода должна шуметь теперь по логам. А пятеро двуногих ждут, им тоже хочется домой, поржать нa весенней свободе; дома пекут куличи, ждет мамашa, приволье, церковь.
Тогда Крон берет верховых. Седел нет, конечно. Стелют попонки, тяжело наваливаются нa лошадей – едут. Впереди отец Кронид, сзади дети. Хорошо, что не в санях: сейчас же зa городом, в пяти верстах, надо вплавь; лошади вытягивают вперед морды, как плывущие крысы; Крон подбирает рясу, попята гогочут сзади и тоже плывут. Крон важен: все-таки шестая неделя, духовный человек верхом – как бы не вышло смешно. Но знакомые мужики в деревнях кланяются, как всегда, только ребятишки бегут сзади и визжат.
Дома просторное поповское житье, плодоносная матушка, весна и шум; могущественно вздуваются куличи; пруд целиком взломан и изгроможден рыхлым льдом; но тепло идет, и выпуклые взгорья горячо мокнут в свете. Большая суетня у матушки; много бегают по кладовым с маслами и всякими значительными снадобьями для булочного дела.
Семинарам все свое тут; a Крон в это время работает уже в церкви; ему теперь много надо молиться и хлопотать; то читать Евангелие, то опять причащать и исповедовать. Дни идут в служении; a ночи темны нa Страстной – только гудят вечные потоки дa в небе пылают звезды нa черном бархате. По дороге домой из церкви нехитро и оступиться в лужу, но идти приятно: сзади дети, пятеро начинающих басков; в церкви они помогали, хорошо пели и давали ноту силы службе. Есть нa кого опереться, когда станет тяжко от годов.
«Молодая армия», – думает Крон, a дома уж торжественно, матушка всесильная одолела все заботы Пасхи, раскрасила яйца в победные цвета и спокойна: хотя б и Страшный суд.
Но и воскресенье близко; весна далеко ушла зa это время, все уж серо, парно; время погожее, заутреня должна бы быть хорошей и благодатной. Все дьячки, старосты, дьякона готовятся: это их день, верхняя точка жизни. И всюду по деревням идут сборы: топят бани, где поглуше, моются прямо в печках, залезая в узкое жерло, как черви; с мужицких тел, жестких, в едком соку, смывают многомесячную грязь; вытаскивают чистые рубахи, даже белые, с красной ластовицей под мышкой, подстригают затылки; поплевав, скоблят шею обломком косы. В глухих углах бабы напяливают нa головы рогатые кички, в ушах у них утиные пушки. Громаднейшее всемужицкое тело копошится по стране, тащит пасхи в церковь, ждет яркого и особенного дня.
В очень черной ночи церковь видна далеко; слишком светлы окна. Рано, задолго до торжественного часа, все полно, и Кронид ведет древнее служение; запоздалые с пасхами подходят летними тропами; пока Крон читает и молится, в теплой ночи неустанно гудят ручьи, полным тоном, как могучие трубы, a звезд вверху без счету; они неожиданно встают от горизонта, заполняют тьму над головой и так же сразу пропадают у другого края неба. В минуту, когда двери растворяются и выступает из церкви ход с гимном, кажется, что светлая волна трижды опоясывает во мраке церковь, под слитный бой колоколов, с пением, и снова вливается внутрь. Теперь у всех в руках свечи; капает, и пот стекает по мужицким лицам; временами через плечи идет из рук в руки вперед свечечка; перед иконами блестят целые пуки.
К часу двум люди устают; Христа встретили, попели, постояли со свечками, но страшно жарко, a обедня длинна. Когда-то святить пасхи? Два часа, народ устал. Вот в толпе с кружкой седенький человек, «благочестивейший», с дрожащими руками и ястребиным носом; зa благочестивейшим просто парень с тарелочкой, и идет сбор; мужики жертвуют, считают свои копейки и дают от сердца, но серьезно; соображают, берут сдачу. Солнце ближе подходит к востоку, в церкви народу меньше; много молодежи в ограде нa лавочках; детишки смелей снуют между взрослых, кой-кто у печки примостился даже спать; толкутся, блеск и фейерверк гаснет, a земля встречает своего бога в силе и свете. Только благочестивейший без умолку звенит денежками у прилавка, точно собирается продавать Воскресшего; выдает свечки и двигает вырезанными ноздрями.
Часа в четыре разбредутся.
Этот день для Крона труден; спать уж почти некогда, в девять надо выезжать зa данью. Запрягают поповскую тележку; рядом с Кроном краснощекий юнец, в сюртуке, с огромными руками. Там, нa месте действия, он будет раздувать батюшке ладан, петь и конфузиться помещиков.
О. Кронид прочно сидит в тележке; солнце греет; над пашней струение, плавь, земля тает в свете. Юноша жмется к батюшкину боку – ему в профиль видны крепкие Кроновы брови и ласковая под солнцем борода.
В усадьбе Крона почитают зa основательность, зa ум; в столовых, со свечкой перед образом, он из года в год поет, молится, дает целовать крест и ловким движением заправляет волосы после молебна; затем разговляется. Юноша – нa краю стула и стыдится своих рук. Один год говорят о Толстом, другой – о войне, о разных случаях в уезде: кто где умер, кто как хозяйничает: выпивают, но Крон неуязвим; юноша часто поправляет белый галстучек и проглатывает победоносно, страшно перекатывая кадыком.
Потом Крон уезжает и так же работает у всех помещиков, мудро беседует и временами поглядывает нa юношу: не перегружен ли.
В это время деревни выглядят моложе, нa взгорьях под теплым солнцем катают яйца из желобков, пестрыми группами. Девки сплошь в красном; нa желто-зеленом откосе они кольцом вокруг качелей; нa веревках, под тягу сильного ветра, кумачные пятна высоко взлетают кверху.
Уже пора бы и сеять, земля ждет, все знают, что хороши ранние посевы, но нельзя, праздник. Праздник целую неделю, и в это время грешно и немыслимо не напиваться, не лежать под заборами. С полдня до вечера девки голосят песни, из села в село катят подводы – гости, a время уходит; и сам Крон недоволен.
По очереди нa Пасху деревни «подымают иконы». Это значит, впереди Крон с дьяконом, a сзади несут хоругви; идут веселой гурьбой по дороге, поют «Христос Воскресе»; теплый ветер хорошо дует сбоку, хоругвеносцы храбро потеют, a дома все ждут. И назад, когда Крон уедет нa лошади, иконы и знамена несут полем, напрямки. В начинающемся вечеру бредут по жнивью, путаясь и голося во всю силу. Лица красны, золото горит нa иконах при светлом весеннем ветре, и древки смутно ходят в воздухе. Это уж время тихой и пылающей весны. Уже ели цветут; нa угрюмом дереве появились бледно-зеленые цветочки; странно находить эти мелкие живодышащие существа в черной хвое. В местах, где сыро и припаривает, в сереньких осинничках водятся фиалки; слабый приторный запах идет волной, a они стоят, нежные, обратив к югу и солнцу фиаловые головки, как милые феи; но скоро гибнут, если сорвать. Вечерами в темноте тянут из дальних мест кулички нa озера; они летят один зa другим нa минутном расстоянии, и тихо стонут, чтобы не потеряться.
Солнце греет, стада вышли в поле. Целый день они бродят, щиплют мелкую травку теплыми губами; коровы колыхают боками и высовывают по временам добрый язык; крошечные ребята под бледно-лазоревым небом тащат из деревни пастухам полудновать, a назад бредут по жнивью задумчиво и бесхитростно; поднимают палки, навязывая нa них тряпочки-хоругви – поют что-то свое, потом ловят в ручье гольчиков; над ними же струится светлый весенний ток; анютины глазки распускаются по оврагу. Деревни бледнее и тише, солома нa крыше голубоватее, и бревна в избах будто дышат.
В день Егория Крону работа: зa деревней, в поле бывает молебен – благословение гуляющему скоту. В коровах есть задушевность, лошади покойны, и важны, как добрые работники, только жеребятки ветрообразны: легко нa длинных тоненьких своих ножках передуваются они с места нa место. Стоят молчаливые бабы; Пасха прошла уже, время серьезное и нужное, красных нарядов нету; лица больше в морщинках, со светлыми голубыми глазами, и зубы стерты наполовину, ровно, как у лошадей. Они сердечно знают своих скотов, смотрят нa них, думают о чем-то, пока Крон читает перед столиком и молится. Потом кропит всех святой водой и отпускает нa мирный отгул.
Солнце встает все раньше и очень хорошо греет землю; радостная весна. Сам Крон, владелец ста десятин, доволен и не жалуется; сверху гремело уже раз, при глубочайшем тепле и могущественных тучах; блистало, трахало благодатно и раскатисто, a перед ударом бледная молния осеняла траву.
– Экая сила, – говорил о. Кронид и крестился.
Потом все уносилось, словно чья-то забавa нa небе, но нa полях овес всходил веселее, и внизу по лугам трава тучнела. Земля становилась парной гущей, ползла под ногой. Но нa другой день опять выходило нa небо солнце, сразу все сохло и произрастало в глубине.
После обеда, перед сном, Крон выходил нa скамеечку у пруда. Большой пруд, перед нежилой усадьбой нa той стороне, лежал горячим зеркалом, и местами солнце пронизывало его воду; там были теплые, зеленоватые пятна. Крон сидел и смотрел, a в пруду горизонтально дремали карпы, такие же старые, как он сам; временами мягкие плотвички подходили к самому верху, высовывались, пускали круги. В движениях рыб была лень, и Крон чувствовал тогда свои годы и силу весны. Он вставал, прохаживался вдоль пруда, думал, шел домой. Дорогой размышлял об аренде; отработают ли мужики из Костенки долг? Давать ли Егорьевне рубль или надует? И правда, дома ждали всякие клиенты, a вечером надо хоронить девочку у Петра Константинова. Последнее время много ребят поумирало, «все живот». Маленькие гробики легко и быстро тащат нa кладбище нa горе, в дальний угол; здесь много детских холмиков; среди них трава, a рядом канавa с полынью. Очень далеко видно отсюда; славная страна лежит вокруг, как золотое блюдо; Крон неторопливо воскуряет ладан, смотрит вдаль; в мерном полете кадильница сначалa подымается над горизонтом в небе, потом уходит вниз. С четырех сторон идет несильный ветер, дымок бледно и покорно стелется, сизеет. Сзади плачет баба; красный юноша подпевает. Скоро опускают гробик – и конец.
Крон проходит могилами: деревянные кресты местами набок, заросли травой; деревьев нa кладбище нет, вольный воздух от земли до неба. Между крестами спокойно ходит ветер, иногда ласточка садится отдохнуть.
Крон останавливается у отца и крестится; здесь вырезано даже имя; сейчас, при опускающемся милом солнце, нa памятнике горит свет; высоко в небе реют стрижи, ударяя полетом к речке в лугах.
Близко Троица, a там, через неделю – ярмарка. Веселая Троица выпадает в светлый день. Пыльно по дороге, и солнце наверху горит, a небо радостно-сине, как было ужасно давно, в детстве. Шумящие, дорогие березки стоят в церкви; тайная любовь зреет в молодежи. Во всех избах перед образами деревца; когда они начинают сохнуть, особенный запах появляется в скудном человечьем жилье; ветерок через окошко шевелит ветки, a из ребячьих времен вспоминаются сердитые клещуки, что расползались с праздничных кустов. В лесу, в диких местах, девки завивают венки – связывают березки верхушками; получается свод; a они загадывают, скоро ли завянет. Детишки ищут в низинах пеструю траву кукушку; она растет печальная и странная, непонятным цветком; маленькие девочки выкапывают ее, одевают в платьице и хоронят, как нежившую куколку. Липы и дубы стоят кругом в молчании.
Уже много травы отрасло нa лугах, и скоту веселее ходить по пару. Низкий старик Карпыч загорает под солнцем; длиннейший кнут ползет зa ним змеей, лицо его коричнево, a волосы снегообразны. Странно видеть это серебро нa крутом пастушьем теле; ветер слабо шевелит его локоны, когда он без шапки; нa темени розовеет апостольский кружок. Едет ли он полудновать домой, нa лошади, верхом, в зипуне, стоит ли часами около стада, коренастый, как хороший боровик, – всегда светлы и полные полевого ветра его глазки; иногда они слезятся; но слеза только омывает их.
Нa ярмарку съезжается деревня со всех концов. Зa Кроновым селом, нa выгоне, разбивают палатки; кишат телеги, оглобли торчат кверху; стоит пыль и бурленье, пахнет дегтем, визжат поросята, и издали мужицкий праздник похож нa лагерь гуннов. Теплые коровы дышат, жуют и печально смотрят влажными глазами: трудно жить впроголодь, надо уступать. Кровавые прасолы валяются в траве зa ярмаркой, у дорог, чтобы перехватывать скотину и скупать до торга.
Часа в два-три выходит посмотреть и Крон; нa ярмарке бродят уже три жиденьких иерея из округи; жалобнее всех один; косы сзади у него еще не отрасли, грудь узка, ряса путается; рядом мощная матушка в мантильках и шляпке с цветами. Ветер треплет красные цветы и вот-вот выдует душу и мозг из плоскогрудого отца. Он потеет и покупает жене гребенку. А Крон умными грудными звуками беседует у бакалея, здоровается с урядником. Бедная «сельская полиция» – в пыли и ссохлась от старости, она ежеминутно пребывает в разъездах, трясется нa казацком седле и дрожках из волости в волость, загорает, a нa ярмарках лущит подсолнухи и уныло беседует с помещиками из либералов.
У бакалея Крон выпивает даже чаю, держа блюдечко в крепких волосатых руках; он ищет пакли для школы; но пока идут разговоры и торгуют подсолнухами, вдруг сбоку налетает гроза. Могучий дождь душит землю и радостно соединяется с ней, быстро мокнут люди, набрасывают нa себя рогожи, прячутся под телеги; с лошадей льет; живой пар идет от них. В черных тучах наверху обнажается огненная змея, слепящий удар разрывает воздух; издалека, с почерневшей земли исходит сладкий запах; трава слабеет под грозой, млеет.
Крон скрылся у бакалея и посмеивается нa дождь; наверху над ним парусина быстро промокла, но он не беспокоится и без шляпы выставляет под дождь голову.
Через полчаса тучи уже нет; облака, грудами в золотистом свете, курятся и текут. Алмазные капли прорезывают сверху вниз воздух, и божественная радуга висит нa небе. Крон в солнечных лучах идет домой и подбирает рясу. Дома, у забора, жемчужно-белый жасмин цветет растрепанными шапками, и к отцу Крониду плывет душный запах. Вечер блистает. Из-под кухни выскочил галопом кофейный пес Каштан. Он бежит увальнем, тело его огромно и мягко; он тепел в движениях, голова его медвежья, с кругленькими желтыми глазами; весь он, как добрый резвящийся черт. Крон гладит его по голове и проходит в дом.
Нa другой день, перед вечером, небо прозрачно. Утихли ветры, и в облаках любовь и благозвучие. Крон выходит к реке; рыба плещет; заливной луг сочен и девствен; уже цветут звоночники, цветы покоса. Крон предощущает сено и сладкие запахи. Безмятежные кулички бегут по отмелям. В лознике, который пахнет так же, как и когда Крону было девять лет, нa песочке возятся ребята. Старший учит их плавать. Худенькие тела весело трепещут в лучах, пищат и боятся глубины, a потом сразу появляются нa берегу розовые рубашки, будто вместо голых тел выросли светлые цветы.
Крон медленно подымается нa гору зa рекой и бредет тропинкою среди молодых ржей; ему надо в Дмитрово, здесь близко прямиком. Пройдя ржи, он останавливается у луговины пара: довольно жарко еще идти, он хочет отдохнуть. Снимает шляпу; полуседые волосы свешиваются вниз. Как старый пастырь, он глядит вниз нa село и думает о чем-то. Вдруг слышит сзади слабый шорох. Нa краю зеленейшего клевера стоит зайчик; он выбежал веселым галопцем нa теплую зорю и, увидев Крона, замер. Вот он поднялся нa задние лапки, двигает ушами, и усы его беспокойно ходят. Все серое слабенькое тельце подрагивает и полно святого любопытства. Крон молчит и улыбается. Зайчик прыгает и медленными скачками, не боясь, пробегает в десяти шагах; высоко подбрасывает задом нa фоне бледно-прозрачного неба.
Батюшка все улыбается и встает. Он медленно идет по тропинке паром и овсами далее и через несколько минут снова оборачивается назад. Но зайчишки уже нет, и только село в низине дымится и лежит в вечернем свете.
Нa заре, возвращаясь домой, отец Кронид слышит первого перепела. Он мягко трещит и предвещает знойный июнь и ночи сухороса.
1905 г.Улица Святого Николая Очерк
I
Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления – это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает «Прага», сладостный магнит. В цветах и в музыке, бокалах и сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая и талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке Дмитровской, Звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади – зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром – кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто – и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием тайно-прельщающим над кристаллом снегов. Не навсегда! Не навсегда! Там февраль, там и март с теплым ветром, с буйным дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над Арбатом, ведущим к югу, к Брянску, Киеву, Одессе. И поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по тротуару, приветствуя весну и милых женщин. А поэт бирюзоглазый, улетающий и вечно проносящийся и в жизни, и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом – там – в конце, где он спускается к Москва-реке, в ней утопая. Смутны, и волнующи, и обещающи закаты эти! Чище, и хрустальнее, и дивно-облегченнее те миры, что там рисуются, в фантазмах златоогненных.
А когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах вокруг Арбата, и зеленое благословение выльется – душистым, милым оперением. В старых тополях грачи вьют гнезда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах, и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком – локоны девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки.
Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под огнем небесным. Налетает пыль – тучкой азиатской. И к вечеру Арбат замучен. Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам своим легчайшим. Но нет поэтов – ни златоволосого, бегущего Арбатом слева, ни бирюзоглазого – Арбатом справа. Улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают целые квартиры в домах, с лифтами, – кто на море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались за границу. «Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!» И многих обитателей Арбата поразносят и международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой бабушки Европы. Сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бакалейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не подозревая о Карлсбадах и об ожиреньях сердца. Священники звонят в церквах Арбата – Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явленный – спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах парчовых, вековечных, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и бедноту. Привыкшие к молебнам, требам, к истовому пению и жизни истовой, замедленной в бездвижности, и с ожиреньем сердца.
Гудят колокола, поют хоры, гремит трамвай, звенит румын в летнем зале «Праги» пышноволосой. Солнце восходит, солнце заходит, звезды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно. Строят дома – сотни квартир с газом и электричеством; новые магазины – роскошь новая; новые мостовые, новый, нерусский шик города. Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся и пьют, и накопляют, ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного святителя – Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна и лето, осень, хлад и жар, и мленье и закаты – все себе равно, или кажется таким.
II
Первые грозы, полумладенческие бури! Немотствовавший великан пытается сказать, выкрикивает и грозит, и смутно встряхивается – впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фабрик – демонстрации идут Арбатом. «Господа» банкеты собирают, и изящно бреют русское самодержавие, между икрой и балыком, меж «Эрмитажем» и «Прагою». Ах, конституция, парламент, Дума, новая Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизнь вверх дном перевернуть. И митинги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одном: вперед, вперед!
А там дружинники уже засновали по Арбату – и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные – для баррикад. Веселый рыцарь, Дон-Жуан и декадент, он же – издатель, и спирит, и мистик, собственноручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского; флаг – юбка женина. Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и студенты пробуют себя: вместо «Моравии», где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из маузеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых с петель, опутанных проволокой телефонною. Седой и старенький извозчик, годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на св. Николая, затруднен теперь: от баррикады – лишь до баррикады. А там нужно санки перетаскивать. Да и под пулю угодишь, как раз. Но все-таки он ездит, ровный и покойный, как патрон его, святой из Мирликии. Поэт златоволосый не сражается, но на словах громит, анафематствует жандармов, губернатора, властей – заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый ждет пришествия иной культуры, вспоенной громами бурь, кипением и массой. Но массе – еще рано. Еще сильно былое, крепок штык, тверда шеренга. И в декабрьский день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнелями семеновцев. Бегут папахи. Спрятались и маузеры, и карабины. Москва затихла. Молодежь по тюрьмам, кое-кто погиб. Серо, туманно, пасмурно и на Арбате. Будто б окончился спектакль, где нашумели, наскандалили ребята, а в конце прогнали их. И вот – распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, ездят патрули и гвардейцы офицеры, победители на нынче, пьянствуют по «Метрополям», «Прагам», «Эрмитажам». Лавочки открылись на Арбате, магазины, снова свет, и сутолока, веселье, блеск – одним забава – труд, забота для других. А седенький извозчик снова невозбранно проплывает по Арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится и крестится на углу Серебряного, где Николай Явленный. Священники же рады, что все кончилось: опять привычное, все то же, вековое, и непотрясаемое.
Положим, что есть Дума, что там говорят и критикуют, и постановляют. Но ведь это так, все только так, для формы. Прежнее – все то же. И городовой, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. И лик св. Николая в трех церквах все тот же – строгий и покойный лик.
И снова – строятся дома, фабрики, возрастают, везут зерно на вывоз и приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе; и кафе его сияют, и огромный дом воздвигнется на углу Калошина, с бронзовым рыцарем в нише. Рыцарь задумчив, задумчив рыцарь. И стало уже тесно в «Праге» – думают надстроить новое святилище – выводят стены. И как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели и декаденты, процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И темной, светлой, тонкой, уснащенной и скользящей, нежной и летящей! Поэт золотовласый улетел в Париж изгнанником – за резкости о троне. Но другие мифотворствуют и богоборствуют, и препираются, и лекции читают, а иные, как поэт бирюзоглазый, все чего-то ждут. Идет ли? Не идет ли? Начинают уставать, и хриплые рога услышал уже кто-то. Ах, да так ли все благополучно? Нет ли тлена легкого, но острого под танцем жизни?
И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Арбате, смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за собой влекущий – над великой пустотой поднявшийся: танго.
И пляшут его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утомление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы сладкий плен полуразврата-полукрасоты.
III
Страшный час, час грозный. Смертный час – призыв. Куда? Вперед. Вперед, и в ногу, в ногу, и под барабан. Вперед. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель и, смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжко марширует сапогом тяжелым: раз-два, раз-два! А черно в сердце, и мила Москва, и горько – уходить. Идет Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой, ненароком перекрестится – и далее шагает. Раз-два, раз-два. Вот и Спасопесковский, с красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, с позолоченной главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы блестят; а там – дорожка ниже, ниже, на Москва-реку к вокзалу – голову клони, солдат. Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще и аккуратные; там снова – бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя, во мгле слепой, на жертву. Велика твоя повинность родине.
Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет – из-под полы, и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. А пока – поблекли «Праги», «Метрополи», «Эрмитажи», и все блекнут, задыхаясь в худосочии. Голубки все реже мчатся по Тверской, Арбату. И все больше лазаретов – знак кровавого креста над ними, знак печали-милости, – и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг Арбата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людьми в халатах, с лицами серо-бледнеющими, и в повязках, и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет – и все как было и как будет – тихий затон в буре страшной.
Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бессчетна смерть, в поле реющая – и в лесах, горах, ущельях и окопах. Волна мрака накопилась, облака и тучи, и гремит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и других зовет; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет. И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных, по трамвайной линии, из-за реки.
Сердобольные ж хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, музицируют и умиляются на «мощь героя серого». Серый же герой еще покорен. Все еще вытягивается и козыряет, и безмолвно умирает на полях далеких, неизвестно за кого и за что. Но еще крестится, на углу Серебряного, на древний образ Николая Чудотворца, глядит еще почтительно на две иконы, что под тротуаром, – святитель Николай, спасающий матроса и освобождающий пленного в темнице. Слушает еще и всенощные, и обедни на полях Галиции, и в Польше, и под Ригой.
Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. И бесподдержно, и вдруг бесповоротно расползается сам трон, и нету больше древних генералов, губернаторов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла монархии.
Все быль, сон былой – и новый сон уж начинается, пока лишь многословно-легкомысленно-пустопорожний. Молчали долго – и заговорили! Хочется сказать, и здесь и там, у памятника Скобелеву и под Пушкиным, и на Арбатской площади, и где угодно. Все серые шинели, серые герои, и один лепечет за другим, все тем же еще получленораздельным звуком, все о том же, о войне, свободе, революции. О том же говорят, и так же длинно, но изящнее и грамотнее, и бесконечные политики с Арбата, адвокаты, инженеры и военные, ныне страной правящие. О русские интеллигенты, о слова, слова, прекраснодушие, приятность, барственность, народолюбие! Сурова жизнь, и не приятна, и не прекраснодушна. Но профессора, экономисты из соседних переулков, получившие портфели министерские, гласные свободной Думы, из домовладельцев и врачей, еще надеются на что-то, думают управиться с героями в шинелях серых, воевать до одоления врага и все тому подобное. Лишь более прозорливые, из богатых, денежки пересчитав, проверив – утекают, кто в Японию, а кто на запад.
И вовремя, и вовремя! Ведь надоело словопрение, шатание, незнание. И надоело жить в окопах, видеть смерть и ждать ее, и надоело зрелище богатых рядом с бедными, и так отлично – прекратить все это, отобрать, что можно, поделить, с кем нужно, и, на белый свет провозгласивши братство всех трудящихся, из ничего стать всем. И вал растет, буря идет. Поделена земля, и допылали те усадьбы, что нетронуты двенадцать лет назад. Разведен скот, диваны вытащены, зеркала побиты, и повырублены кое-где сады. Библиотеки отпылали, сколько надо – в пламени ль пожаров, в мирных ли цигарках. И ты идешь домой, серый герой, трудно ведь на войне сидеть, когда в Рязанской, Тульской и Тамбовской, дома, добро делят. Ну-ка, господин буржуй, иди кому угодно, под шрапнели, в мерзлые окопы, в вонь, ко вшам, на смерть? И облепились уже вагоны воинами без щитов, пустеет дикое и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться – да не там – не так.
И ты увидел, наконец, Арбат, опять войну – не детскую, как прежде, не задорно шуточную, нет, но настоящую войну, братоубийственную, с треском пулеметов, с завыванием гранат. Туго пришлось тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости, изящной жизни. Неделю ты прислушивался, как громили бомбами – ныне не Пресню уж, а самый Кремль. И за дверьми, за ставнями шептал: «Не может быть, нет, невозможно!»
Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрьские, спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и декретов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, магазины и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и бриллианты.
Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных lux’ов, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожиреньем сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном дьявольски-бесовском танце. Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооруженных, тех же серых все героев; заработала машина смерти; заработала машина голода. И прежние подвальники, и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетенная, из щелей повыползала, из темных нор своих, и вверх задвигалась. «Попировали, и довольно! Нынче наш черед!»
Выходи, беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день.
IV
В январе толпы героев серых, возвращающихся с брани. Ночью, отлипая смутными гурьбами от площадок, крыш вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как до Брянского, хмурые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом неслабнущим в темноте Арбата, к площади. «Эй, товарищ, как к Рязанскому?» Все Русь и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов – все спешат домой, подальше от окопов, смерти хладной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремятся на родину – в ту же мразь беспросветную. Арбатский житель, с ними повстречавшись, пожимается, карманы попридерживая – впрочем, пусто в них, как и в желудке, – но сермягам и не до его карманов. Может быть покоен. А последнее пальтишко стащут с него в переулке, вежливо прикладывая дуло револьвера к уху. Ну что ж, давать, так отдавать! Все равно, нету ничего. Ни дров, ни хлеба, ни угла – скитайся, голь, святая бедность! И скитаются и мерзнут темной ночью, в сумраке пустынных ветров.
Но и утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, призакончились убийства, грабежи и казни – солнце продирается в туманах инея, в огнезлатистых пеленах, столбах жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что дышит. Как много серебра, как дешево оно! И на усах, и на обмызганных воротниках пальтишек людей жизни новой. Люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в куртках кожаных и френчах будут создавать величие и благоденствие страны. Вперед, вперед! К светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье всесветное. А пока что все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бранятся. Барышня везет на саночках поклажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимоненное. А магазины, запертые сплошь, уныло мерзнут промороженными стеклами. И лишь «Закрытые распределители» привлекают очереди мизераблей дрогнущих – за полуфунтом хлеба. Да обнаженные витрины двух иль трех советских лавок выставляют пустоту свою. Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто: как раз в морозной мгле ты угодишь под серо-хлюпающий, грузный грузовик с торчащими на нем солдатами, верхом на кипах, на тюках материи, иль на штанах, сотнями сложенных. А может задавить автомобиль еще иной легкий, изящный. В нем, конечно, комиссар – от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, через товарищей из слесарей, до спецов, совнархозов – эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как велико! И сиянье славы и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах, или личность темная, неясная. В санях, за полостью – или второстепенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, вязать. С утра весь день будут носиться по Арбату резвые автомобили, снеговую пыль взрывая и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот робкий, разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, семьями тусклыми, везут свои пайки в салазках; женщины бредут с мешками за плечами – путешественницы за картофелем, морковью. В переулках близ Смоленского торгуют молоком, дровами, яйцами. Мальчишки выкликают: «Папиросы рассыпные – „Реже“, „Ява“, „Ира“! И краснощекие красноармейцы, молодые люди в галифе, брито-сытые, с красной пентаграммой на фуражках, отбирают себе «Иру». Полусумасшедшая старуха, в рваной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредет с палкой и бессмысленно бормочет: «Помогите! Помогите!» – и протягивает руку. Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты – близ Никольского. А у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старо-военном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седенькими, тупо-заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру!» Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице, и цепенеет, в седой изморози, на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальники; зеркала нежно и небесно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, выселяется и тащит на Смоленский кружева, браслеты, чашки, шали, юбки, мундштуки, подсвечники и кольца, и спускает мужичкам, красноармейцам, спекулянтам, чтобы купить проклятой пшенки, радости советской. И все ждет и надеется: «Ну, теперь уж близко!» «Слышали – ведь заговор. Нет-с, когда и среди них пошли раздоры, это агония!» Но от разговоров не слабей морозы, не дешевле дрова краденые – и дороже пшенка.
И теперь узнал поэт золотовласый, что есть печка дымная, что есть работа в одной комнате с женой и дочкой, что есть пуд картошки мерзлой, на себе тащимой с Курского вокзала. Но все так же, не теряя жизненности, силы и веселья, пробегает он по правой стороне Арбата, ловя взоры девушек. По левой же – все так же пролетает и поэт бирюзоглазый, сильно поседевший, в пальто рваном и шапчонке тертой, – он спешит на лекцию, на семинарий, в пролеткульт и пролетдрам, политотдел и наробраз, и в словах новых будет поучать людей новейшим, старым откровениям писаний.
Так идет, скрипит, стонет и ухает, гудит автомобилями, лущится семечками, отравляется денатуратом, выселяется и арестуется, жиреет и околевает с голоду жизнь на улице-долине, в улице, ведущей от Николы Плотника к Николе на Песках и далее к Николаю Явленному. Средь горечи ее, стонов отчаяния, средь крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека, и животного – всегда, в субботний день пред вечером, в воскресный – утром, гудят спокойные и важные колокола троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы. На зов их собирается различный люд. И старый, молодой, и бедный, и богатый. Из холодающих углов идут старухи, чья судьба недолга; из уплотненных, некогда покоев важных – фрейлины, аристократки. Лавочники лысые и мелкие служащие, и девушки какие-то, из скромных – может быть, из тех, что надрывались днем, таща бревно, работая на кухне, добывая пшенку. Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек невидный и несильный, перекрестит лоб. И матери, и сестры, и невесты, что оплакивают ближних, пожранных свирепой жизнью. Наконец, даже и ты, солдат красноармеец, воин новой жизни. Все сюда собрались, все равны здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния пред Богом.
Служат старые священники. Есть, впрочем, также молодые, но иные уж, чем раньше; все иное. Все попроще, побледней и будто строже. Будто многое отмылось, вековое, цепенившее. И будто бы Никола сам, помощник страждущим, ближе сошел в жизнь страшную.
Колокола звонят. Свечи теплятся. Ризы сияют на иконах, хор поет. Любовь, спокойный, светлый мир зовет. «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою Вы». И снова, и снова, как Рахиль древняя, как Мария Матерь Господа, омывает мать слезами постаревшее свое лицо, мать над сыновним трупом, над женихом невеста, и сестра над братом. И сердца усталые, души, в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемогшие под грузом убиенных – все идут сюда, быть может, и палач и жертва, и придут, доколе живо сердце человеческое.
Хор поет призывно: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, прислуживают при служении.
V
Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремленья – это ты, Арбат. Ты и шумел и веселился, богател и беззаботничал – ты поплатился. По тебе прошли метели страшные, размыли тебя и замертвили, выели все тротуары твои, омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, холодом, голодом, казнями пронеслись по жителям твоим и многих разметали вдаль. Залетел опять, как некогда, поэт золотовласый в чуждые края; умчался и поэт бирюзоглазый к иностранцам. Многие поумирали. А кто выжил, кто остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. Из детей стали мужами. Окрепли, закалились, поседели. Некогда уж больше веселиться и мечтать, меланхоличничать. Борись, отстаивай свой дом, семью, детей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась, карая, взвешивая, встряхивая, – стала тихнуть. Утомились воевать, и ненавидеть; начал силу забирать обычный день – атомная пружина человечества. Снова стал ты изменяться, сам Арбат. И с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высот Калошина, что человек опять закопошился за витринами магазинов и за дверками лавчонок, мастерских; что возится и чинит плотник, и стекольщик заменяет пулями пробитый бем на новый, и старательно расписывает живописец вывеску над булочной. Вновь толпа нарядней. Вновь стремятся женщины к одеждам, а мужчины к деньгам. Вновь по вечерам кафе сияют, и из книжных магазинов книги смотрят, и извозчики снуют. Блестит Арбат, как полагается, по вечерам. И тот же Орион, семизвездием тайнопрельщающим, ведет свой путь загадочный в пустынях неба, над печально-бурной сутолокой людей.
А ты живешь в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливцев. Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанные, столь поруганные. Слушай звон колоколов Арбата. В горестях, скорбях суровых пей вино благости, опьянения духовного, и да будет для тебя оно острей и слаще едких слез. Слезы же приими. Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата.
И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет. Так расцветет мой дом, но не заглохнет.
А старенький, седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на санках по Арбату на клячонке Дмитровской, тот немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не боялся пуль и лишь замолк на время, он уж едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому.
Москва, 1921 г.Уединение Очерк
Павлу Муратову
О beata solitudo! О sola beatitude![1]
Грохот и ветер, пыль рушащегося. Кровь, голод и сытый жир. Речи, собрания. Шум разговоров. Вдруг человек остановится, прочитает стихи. Лишь сонет прочтет. Задумается. И захочет на минуту быть один. Тут же, у стола, в час ночной, в смутном громе событий и пустяков, вот уже основал малый скит на базаре, в проходной комнате, в уплотненном логове. Прозвенит в нем к заутрене бледно-серебряным стихом Петрарка. И рука Лауры проплывет, в шелковой перчатке, шитой золотом.
Это уединение. Час стояния тихого – и ответа. Как живешь, человек? Помолчи. И будь скромен. Не думай, что такой уж подвиг – замечтаться над стихом. В ином подвиг. Тебе – далеко! Очень далеко тебе до подвига. Но побудь в своей киновии придорожной. Седьмой этаж. Окно растворено на переулок. Гигантский тополь под окном, с мелочно-зеленеющей листвой. Несколько галок, очень смирных, жирноблещущих крылами. Небо смутно-пепельное; да две башни вдалеке, два близнеца музея Исторического. Московский летний вечер. Сидят и говорят – у самовара за столом. В блюдечке вишни спелые. И древняя икона красно-золотеет на стене. Жена выходит из соседней комнаты. Слегка подведены глаза, слегка духи, слегка изящество; походкой легкой, отдаленной удаляется из дома. – До свиданья! Пустынен дом и холодеет несколько. Ушла жена. Куда? Зачем? Быть может, и за пустяком. Быть может, нет. Но дом один. И галки перелетывают в тополе ветвистом. Синий вечер. Ты идешь в лиловеющей полумгле, с бледно зажегшимся шаром электричества. И ты один, пустынен, легок и неслышен в пестрой сутолоке бульвара, в море лиц, фигур, желаний и сердцебиений. Не одна жена уходит. Жизни начинаются, текут, расходятся. Ты же медленно идешь уже по переулку, вспоминаешь что-то о себе и своей жизни и не знаешь, вспомнишь ли, да нужно ли и вспоминать? Обгоняет пара. Это древнее, все то же, милое и жаркое. Ты помнишь? Ночь, приветствуй сердце. Ликом ясным и прохладным нас овей.
…ma questa altera Tacita, stanca, dopo se mi chiama[2].Священник просто произносит в алтаре: «Мир всем!» И дальше: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Где лазурь, сияние, весна? Нельзя без них ведь. Там же. Все в напеве, в символе, в мистерии. В ней выступаем мы за жизнь, мы любим. Где любовь, когда мы вышли? Усмотрю ли брата в звере? И отдам ли душу прокаженному?
О смутные утра и ночи тяжкие, тяжелые раздумья. Кровь вскипает. Нету кротости. И Ты далек тогда, Ты, смерть за нас приявший.
Быть может, мы народ полюбим? Мы, выросшие на народолюбии, воспитанные на Платонах Каратаевых, Живых Мощах?
Быть может.
Видели вы смерть?
День весенний. Переулок Палашевский. Сильно каплет с крыш, и лужи, и лазурь. Бежит народ, и выстрелы. «Ограбили!» Матрос вталкивает девочку в калитку. Бледное лицо, злое. И вдруг тихо стало, уж не бегут, идут все мрачные, и только солнце светит. В тишине и пустоте из ворот дома выезжают розвальни. На них поклажа. Укрыта некиим брезентом. Да, но странно, ноги выглянули. «Что такое?» – «Не видишь – люди!» Лошадь тяжко влегла в хомут свой; солдат шагает рядом. «Да что, за что?» – «Вон, во дворе прикончили, у стенки. Больше ничего». Прохожий сумрачен, и зол, и стыден. Солнцу же не стыдно. И конек мужицкий среди бела дня везет по улицам Москвы тела казненных.
Или так: ветер, буря, тьма кудлатая. Вокзал малого городка. Поезд. Вой толпы осаждающей. Лезут и лезут все, безымянные, в черноте, под блеск фонаря задуваемого. Бабы и бабы, и мужики, узлы, дети. Где начало их, где их конец? Слова, рев ругательств. Темная ночь! Выпустила ты всех нас, детей своих, смутною хлябью. Мы – это ты. Ты – мы. Нас ветер подхватывает, приклады толкают, и мы изрыгаем себя, в тебя, с яростью. Р-раз, р-раз! Как сухо, резко. Противный звук. Точно раскололось что-то. Вновь гудение, и поезд в лохмах тел скучно удаляется к реке, к мосту железному, и скучно, на перроне обширном такая же толпа осталась, ей в лицо бьет тот же ветер, пасмы хмурой ночи. Что ж, недалек рассвет ноябрьский. Мрак в теле зябнущем. А посереет на востоке, выдвинется низенькое, красноватое строение – вокзал; даль серая, бесплодное заречье. В суетне присмотришься к носилкам. Тут же водрузились, у дверей. Молодой человек, ничком, стриженный, с виском простреленным. Собака обнюхивает; ноги разутые из-под шинели. Да, по нечаянности. Народ пужали. Разве сладишь с ними? Ну, понятно, надо бы повыше, через головы. Не разберешь в проклятой мгле. – А сапоги? – Сапоги новые. Не пропадать же. Сотня косых. – Э-эх, ироды! Мальчишка ведь. – Чего там! Красный крест, сестра дежурная, двое носильщиков. И ничего не было, все выдумка ночи неистовой, толпы неистовой черно-пронзающего ноября. Ну, несись, черный корабль ночей ноябрьских, лети вперед, морем вскипающим, корабль страданий, бед, к берегам новым, кровавя след за собой. Твори судьбу. Страшен ты, да и велик, путь твой – не тропиночка, бег твой – крылатый скок. А над бегом, и над бурей, и над грохотом – небо превечное с ночною синью и звездой недвижною. Звезда бессмертная! Твердь золотая над смерчем.
Мещанский домик, в том же городишке, ночь, теплая комната и постель мягкая. Пахнет чуть сладковато. Часы тикают. За окном же ночь синяя, с легким морозцем мартовским, со звездой, крупно-блещущей в уголке окна. За перегородкой тоненькой девичьи голоса, негромко, как бы боязливо. – Ну, а по-твоему, душа бессмертна? – Конечно. Так и Петр Андреевич говорит. Тело умрет, а дух вновь воплотится с тем, чтоб совершенствоваться. Если прожил недостойно, то душе труднее вознестись. – Петр Андреевич уж всегда о чем-нибудь таком пророчествует. – Не пророчествует, а наверно, это правда. Нет, душа не может умереть. Ведь и любовь бессмертна. Тихо за окном. Пустынна и голубовата улица с садами за забором. Полночь бьет. Звезда в стекле дробится, искрится, уходит. Уединение Воклюза, Copгa, жизнь Петрарки. Отдаленные прогулки по холмам в Провансе. И ручьи. И реки светлые. И светлый воздух, светлые стихи. Все – сон. Все – нежность, стон любви, томленье смерти. Но ведь жизнь свирепа? Да и будет ли мягка? Мы любим. А не любят – нас. За что же и любить? Как будто не за что. Нам – не любовь. Но мы не захолустье. Великий, мировой путь, это мы. Смерть – наш хозяин; кровь – утучнение полей; стон – песня. И для чего-то нужны мы.
Любитель просвещения, мужик черноволосый, библиотекой нашей восхищавшийся, встречает на вокзале. Вечер. За Окой садится солнце. Мутно-розовеет. У телеги Ким увязывает вещи. Почитатель пожимает руку, ухмыляется.
– Ну как же, просто на телеге, да на этакой. Э-эх, народ неблагодарный! Да ведь это просвещенье! Ведь познания какие… книги! Это ведь понять, осмыслить, значит… А они еще неблагодарны…
Тут он умиляется до крайности, вдруг снова схватывает руку – и целует. Вот так раз! В смущении собрался закурить – нет спичек. Поклонник снова взвыл.
– Нет спичек! Ну скажи, пожалуйста, у нашего у барина…
И далее, и далее. Когда чрез несколько минут уж едем, догоняет. Весь вспотел, зубы блестят, лицо сияет, черные патлы свисают.
– На дорожку-то… Далече…
Тычет мне три спички.
– У нашего у барина… без спичек… Ну, скажи, пожалуйста.
Русь, ширь и мгла! Сумрак синеющий, реянье звезд, поле пустынное, шорохи ветра, Млечный Путь в небе, светло-туманный. Гремит телега. И пылит. Нас догоняют парою. И обгоняют – с гиком, свистом.
– Эй-й, барин, держись, бар-р-рин!
Злобно, дерзко. Кто я им? Они кто? Видно, выпивши. Баба визжит в телеге, и катят дальше, полем пустынным, русская вольница, русская злоба. Мы трусцой догоняем. Хохот. Визг, матерщина. Все на нас, на мой облик, на то, что я в шляпе, в пальто.
– А барынька…
И опять скачут. Из поля дикого дикие песни, вой дикий. Ветер же бледно шуршит, ласково, песней свирельной, столь легкой, столь нежной. По воздушным клавишам несется перстом девичьим… Их раздражает, когда, догнавши, я приказываю остановиться, чтобы ждать удаления. Мне скучно с ними. Им – обидно, давнею обидой, может быть, и вековою. И безбрежные поля, в ночи синеющей, вновь оглашают они.
– А барынька…
В малом лесочке – полдороги до дому – они останавливаются. Здесь нередко грабят. Место пустынное. Здесь не услышат, не узнают. Дорогу заслонили – не объедешь. Опять стоим. Закуриваю папироску. И у них огонь, и снова брань, снова сердиты, что не хочу к ним подъехать. Вдруг хлестнули по коням, по рытвинам лесной дороги покатили, зверски прыгая в телеге на толчках. Едем все шагом. Выезжаем – поле ровное, прозрачной сини; и все тот же ветерок берет арпеджио перстами девичьими.
Пофыркивает лошадь. И телега наша погромыхивает. Где ж те? Исчезли, сгинули? Звезды бледнеют. Серебряное, тихое прошло по ночи. Перепел – пить-перевить, пить-перевить. Ветерок загасил Млечный Путь. Идет рассвет. Скоро ли? Скоро ль? Никто не оскорбляет уж раздольных мест, светлых одежд предутренних, сребродышащих. Вновь ты, земля, – да небо, да Господь. Значит, так и надо? Пролететь телеге дикой в ночи синей – сгинуть. Может быть, и надо. Звезды забелеют чище пред рассветом и прозрачней сумрак, пряней конопляный дух вблизи деревни. Сердце – таешь ли, иль ужасаешься? Звезда проходит в горних. Дикарь бунтует. Все под покровом ночи. Одинокая ночь города. В комнате сумрачно. Под красным колпачком из шелка пятно света на столе. Угасли окна через улицу; и лишь упорный труженик внизу все строчит что-то, пишет, и спины не разгибает. Редко удается, но и хорошо работать в час уединения. Единый господин себе, едина воля, сладостен покой. Живее мысль играет – отделенная, но и всему родная. Все – мое, доступно, охватимо. И когда устанет голова, то возьми ключ и тросточку, шляпу надень, никого не будя, тихо сойдешь лестницей, где кошка прыгнет, в переулок, что к Арбату. Как все знакомо здесь! И старо, и ново, мило, грустно, кладбище и росток жизни. В младости летали на извозчиках, мечтали над закатами, ходили на свиданья, неслись в туманно-пестрой жизни. Видели позже мрак и разорение, и окна заколоченные, тротуары выбитые. Горестных стариков с милостынкой; старух полубезумных. Видели ряды салазок с кладью, надрывающихся женщин, тащущих бревно украденное – для печурок; и народ, в поте лица бредущий серединой улицы, сугробами. Брели и сами, волоча трубу, диваны, старый шкаф. Но уходит все, меняется, проносится; и жизнь не ждет, и час идет.
Все спят. Здоровые и сытые, больные и замученные. Луна блестит. Арбат в луне сияет, золотеет крест на церкви Николая; одинокие шаги стучат… Мир, отдохни! Завтра жизнь новая, новые страсти, тяготы, мучения. Но сейчас луна так светит. Так высоко, чисто в небе, так безбрежно в сердце.
Мимо Николая Чудотворца, что с иконою на улицу, пройдешь в церковный двор. Увидишь там бассейн, старинный, где журчит вода, и мох, и плесень, точно бы родник Ютурны в Риме. Закоулком, мимо домиков едва дышащих выйдешь в новый переулок, вновь в ворота и наискось пересечешь развалины домов, среди травы и свежей поросли. Фундаменты видны еще под грудой кирпичей. Вот и тот дом, где жил, маленький гроб отшедшего, руины бурнопламенной эпохи. Лишь кошки, как на форуме Траяна. Лишь луна и тишина, и сокращенный разрушеньем путь, и блеск стекла в куче развалин. В печали, небрежении лежишь, мой город. Но из пепла возродишься. Но ты жив, хоть и немотствуешь.
Рука судеб. Воля Божеств. Синяя твердь, пустынное море. Звон светло-серебряный стиха Петрарки. Дай любви – вынести. Дай веры – ждать.
Москва, 1921 гПреподобный Сергий Радонежский Переложение жития
Предисловие
Св. Сергий родился более шестисот лет назад, умер более пятисот. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России.
Как святой, Сергий одинаково велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность – сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда тa особая любовь и поклонение ему в России, безмолвная канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому. Сергий жил во времена татарщины. Лично его она не тронула: укрыли леса радонежские. Но он к татарщине не пребыл равнодушен. Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой зa Россию и благословил Димитрия Донского нa ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный оттенок. В поединке Руси с ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России.
Дa, Сергий был не только созерцатель, но и делатель. Правое дело, вот как понимали его пять столетий. Все, кто бывали в Лавре, поклоняясь мощам Преподобного, всегда ощущали образ величайшего благообразия, простоты, правды, святости, покоящейся здесь. Жизнь «бесталанна» без героя. Героический дух средневековья, породивший столько святости, дал здесь блистательное свое проявление.
Автору казалось, что сейчас особенно уместен опыт – очень скромный – вновь, в меру сил, восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим дела и жизнь великого святителя и провести читателя чрез ту особенную, горнюю страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей звездой.
Присмотримся же к его жизни.
Париж, 1924 г.Весна
Детство Сергия, в доме родительском, для нас в тумане. Все же общий некий дух можно уловить из сообщений Епифания, ученика Сергия, первого его биографа[3].
По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр Ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских, как доверенное, близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распущенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей напротив, можно думать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчиком Сергия (a тогда – Варфоломея) посылали зa лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обротать. И подведя к какому-нибудь пню, ухватив зa челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И конечно, не был барчуком.
Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были «страннолюбивы». Помогали бедным и охотно принимали странников. Вероятно, в чинной жизни странники – то начало ищущее, мечтательно противящееся обыденности, которое и в судьбе Варфоломея роль сыграло.
Есть колебания в годе рождения святого: 1314–1322. Жизнеописатель глухо, противоречиво говорит об этом.
Как бы то ни было, известно, что 3 мая у Марии родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого.
Особенный оттенок, отличающий его, лежит нa ребенке с самого раннего детства.
Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте в церковную школу вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются, и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.
И вот деревенская картинка, так близкая и так понятная через шестьсот лет! Забрели куда-то жеребята и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать, наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу, быть может, у прибрежья озера ростовского и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело – этою чертой отмечена вся его жизнь.
Теперь он – очень удрученный неудачами – нашел не то, чего искал. Под дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.
– Что тебе надо, мальчик?
Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.
И под тем же дубом стал старец нa молитву. Рядом с ним Варфоломей – через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-зa пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.
– Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.
О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание.
Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо.
А гостя накормили, зa обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Св. Писание и одолеет чтение. Затем прибавил: «Отрок будет некогда обителью Пресв. Троицы; он многих приведет зa собой к уразумению Божественных заповедей».
С этого времени Варфоломей двинулся, читал уже любую книгу без запинки, и Епифаний утверждает – даже обогнал товарищей.
В истории с его учением, неудачами и неожиданным, таинственным успехом видны в мальчике некоторые черты Сергия: знак скромности, смирения есть в том, что будущий святой не мог естественно обучиться грамоте. Заурядный брат его Стефан лучше читал, чем он, его больше наказывали, чем обыкновеннейших учеников. Хотя биограф говорит, что Варфоломей обогнал сверстников, но вся жизнь Сергия указывает, что не в способностях к наукам его сила: в этом ведь он ничего не создал. Пожалуй, даже Епифаний, человек образованный и много путешествовавший по св. местам, написавший жития свв. Сергия и Стефана Пермского, был выше его как писатель, как ученый. Но непосредственная связь, живая, с Богом, обозначилась уж очень рано у малоспособного Варфоломея. Есть люди, внешне так блестяще одаренные, – нередко истина последняя для них закрыта. Сергий, кажется, принадлежал к тем, кому обычное дается тяжко, и посредственность обгонит их – зато необычайное раскрыто целиком. Их гений в иной области.
И гений мальчика Варфоломея вел его иным путем, где менее нужна наука: уже к порогу юности отшельник, постник, инок ярко проступили. Больше всего любит он службы, церковь, чтение священных книг. И удивительно серьезен. Это уже не ребенок.
Главное же: у него является свое. Не потому набожен, что среди набожных живет. Он впереди других. Его ведет – призвание. Никто не принуждает к аскетизму – он становится аскетом и постится среды, пятницы, ест хлеб, пьет воду, и всегда он тихий, молчаливый, в обхождении ласковый, но с некоторой печатью. Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдает последнее.
Замечательны и отношения с родными. Конечно, мать (a может, и отец) давно почувствовала в нем особенное. Но вот казалось, что он слишком изнуряется. Она его упрашивает не насиловать себя. Он возражает. Может быть, из-зa его дарений тоже выходили разногласия, упреки (лишь предположение), но какое чувство меры! Сын остается именно послушным сыном, житие подчеркивает это, дa и факты подтверждают. Находил Варфоломей гармоничность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с тоже, очевидно, ясными родителями. В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском. Если бы он был блаженным, то нa русской почве это значило б: юродивый. Но именно юродство ему чуждо. Живя, он с жизнью, с семьей, духом родного дома и считался, как и с ним семья считалась. Потому к нему неприменима судьба бегства и разрыва.
А внутренно зa эти годы отрочества, ранней юности в нем накоплялось, разумеется, стремление уйти из мира низшего и среднего в мир высший, мир незамутненных созерцаний и общенья непосредственного с Богом.
Этому осуществиться надлежало уж в других местах, не там, где проходило детство.
Выступление
Трудно вообще сказать, когда легка была жизнь человеческая. Можно ошибиться, называя светлые периоды, но в темных, кажется, погрешности не сделаешь. И без риска станешь утверждать, что век четырнадцатый, времена татарщины, ложились камнем нa сердце народа.
Правда, страшные нашествия тринадцатого века прекратились. Ханы победили, властвовали. Относительная тишина. И все же: дань, баскаки, безответность и бесправность даже пред татарскими купцами, даже перед проходимцами монгольскими, не говоря уж о начальстве. И чуть что – карательная экспедиция: «егда рать Ахмулова бысть», «великая рать Туралыкова», – a это значит: зверства, насилия, грабеж и кровь.
Но и в самой России шел процесс мучительный и трудный: «собирание земли». Не очень чистыми руками «собирали» русскую землицу Юрий и Иван (Калита) Даниловичи. Глубокая печаль истории, самооправдание насильников – «все нa крови!». Понимал или нет Юрий, когда при нем в Орде месяц водили под ярмом его соперника, Михаила Тверского, что делает дело истории, или Калита, предательски губя Александра Михайловича? «Высокая политика», или просто «растили» свою вотчину московскую– во всяком случае уж не стеснялись в средствах. История зa них. Через сто лет Москва незыблемо поднялась над удельною сумятицей, татар сломила и Россию создала.
А во времена Сергия картина получилась, нa пример, такая: Иван Данилыч выдает двух дочерей – одну зa Василия Ярославского, другую – зa Константина Ростовского, – и вот и Ярославль, и Ростов подпадают Москве. «Горько тогда стало городу Ростову, и особенно князьям его. У них отнята была всякая власть и имение, вся же честь их и слава потягнули к Москве».
В Ростов, воеводою, прибыл некий Василий Кочева, «и с ним другой, по имени Мина». Москвичи ни перед чем не останавливались. «Они стали действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие ростовцы принуждены были отдавать москвичам свои имущества поневоле, зa что получали только оскорбления и побои и доходили до крайней нищеты. Трудно и пересказать все, что потерпели они: дерзость московских воевод дошла до того, что они повесили вниз головою ростовского градоначальника, престарелого боярина Аверкия… и оставили нa поругание. Так поступали они не только в Ростове, но по всем волостям и селам его. Народ роптал, волновался и жаловался. Говорили… что Москва тиранствует».
Итак, разоряли и чужие, и свои. Родители Варфоломея, видимо, попали под двойное действие, и если Кирилл тратился нa поездки в Орду с князем (a к поездкам относились так, что, уезжая, оставляли дома завещания), если страдал от «Туралыковой великой рати», то, конечно, Мины и Кочевы тоже были хороши. Нa старости Кирилл был вовсе разорен и лишь о том мечтал, куда бы выйти из Ростовской области.
Он вышел поселенцем в село Радонеж, в 12 верстах от Троице-Сергиевой лавры. Село Радонежское досталось сыну Калиты, Андрею, a зa малолетством его Калита поставил там наместником Терентия Ртища. Желая заселить дикий и лесистый край, Терентий дал переселенцам из других княжеств льготы, что и привлекло многих. (Епифаний упоминает густые имена ростовцев: Протасий Тысяцкий, Иоанн Тормасов, Дюденя и Онисим, и др.)
Кирилл получил в Радонеже поместье, но сам служить уже не мог, по старости. Его замещал сын Стефан, женившийся еще в Ростове. Младший сын Кирилла Петр тоже женился. Варфоломей продолжал прежнюю жизнь, лишь настоятельней просился в монастырь. Если всегда его душа была отмечена особенным влечением к молитве, Богу и уединению, то можно думать, что и горестный вид жизни, ее насилия, неправды и свирепость лишь сильнее укрепляли его в мысли об уходе к иночеству. Возможно, что задумчивый Варфоломей, стремясь уйти, и чувствовал, что начинает дело крупное. Но представлял ли ясно, что задуманный им подвиг не одной его души касается? Что, уходя к медведям Радонежским, он приобретает некую опору для воздействия нa жалкий и корыстный мир? Что, от него отказываясь, начинает длительную многолетнюю работу просветления, облагораживанья мира этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком был он скромен, слишком погружен в общенье с Богом.
В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух Варфоломея.
Отец просил его не торопиться.
– Мы стали стары, немощны; послужить нам некому; у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебе.
Варфоломей послушался. Св. Франциск ушел, конечно бы, отряхнул прах от всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и молитвы подвига. Варфоломей сдержался. Выжидал.
Как поступил бы он, если бы надолго затянулось это положение? Наверное, не остался бы. Но, несомненно, как-нибудь с достоинством устроил бы родителей и удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу, складывалась и судьба, естественно и просто, без напора, без болезненности: родители сами ушли в монастырь (Хотьковский, в трех верстах от Радонежа; он состоял из мужской части и женской)[4]. У Стефана умерла жена, он тоже принял монашество, в том же Хотькове. А затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел.
Он так и сделал. Верно, все-таки привязан был к семье: и в этот час, последний пребывания в миру, вспомнил о Петре, брате, имущество оставшееся завещал ему. Сам же отправился в Хотьков, к Стефану. Как будто не хотелось действовать и тут без одобренья старшего. Стефана убедил, и вместе тронулись они из Хотькова в недалекие леса.
Лесов тогда было достаточно. Стоило пожелать, и где угодно можно было ставить хижину, копать пещеру и устраиваться. Не вся земля принадлежала частным лицам. Если собиралось несколько пустынников и нужно было ставить церковь, прочно оседать, то спрашивали разрешения князя и благословенье у местного святителя. Освящали церковь – и обитель возникала.
Варфоломей и Стефан выбрали место в десяти верстах от Хотькова. Небольшая площадь, высившаяся как маковка, позже и названная Маковицей.
(Преподобный говорит о себе: «Аз есмь Сергие Маковскый».) Со всех сторон Маковица окружена лесом, вековыми соснами и елями. Место, поразившее величием и красотой. Летопись же утверждает, что вообще это особенный пригорок: «Гл аголеть же древний, видяху нa том месте прежде свет, a инии огнь, a инии благоухание слышаху».
Тут братья поселились. Сложили из ветвей шалаш («прежде себе сотвориста одриную хизину и покрыста ю»), потом срубили келиику и «церквицу». Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, нa Маковице, пригласив плотника со стороны, и учились рубить избы «в лапу». В точности мы этого не знаем. Но в подвижничестве Сергия дальнейшем это плотничество русское и эта «лапа» очень многознаменательны. В сосновых лесах он возрос, выучился ремеслу, через столетия сохранил облик плотника-святого, неустанного строителя сеней, церквей, келии, и в благоуханье его святости так явствен аромат сосновой стружки. Поистине Преподобный Сергий мог считаться покровителем этого великорусского ремесла.
Как осторожен и нетороплив Варфоломей в выполнении давнего намеренья, так же он скромен и в вопросе с церковью. Как назовут ее? Он обращается к Стефану. Стефан вспомнил слова таинственного старца, встреченного им под дубом: церковь должна быть во имя Св. Троицы. Варфоломей принял это. Так дело его жизни, столь уравновешенно-покойное, приняло покровительство Триединства, глубочайше внутренно уравновешенной идеи христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери. Но все-таки в пустынях Радонежа не Пречистая и не Христос, a Троица вела святого.
Митрополит Феогност, к которому отправились они пешком, в Москву, благословил их и послал священников с антиминсом и мощами мучеников – церковь освятили. Братья продолжали жить нa своей Маковице. Но жизнь их не совсем ладилась. Младший оказался крепче и духовней старшего. Стефану пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошел в монахи под влиянием смерти жены. Возможно (и почти наверно) – у него характер тяжкий. Как бы то ни было, Стефан не выдержал суровой и действительно «пустынной» жизни. Ведь уединение полнейшее! Едва достать необходимейшее. Пили воду, ели хлеб, который приносил им временами, вероятно, Петр. Даже пройти к ним нелегко – дорог дa и тропинок не было.
И Стефан ушел. В Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. Варфоломей же в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.
Отшельник
Недалеко от пустыни жил игумен-старец Митрофан[5], которого Варфоломей, по-видимому, знал и ранее. В летописи есть упоминание, что Варфоломей «нa обедню призываша некоего чюжого попа суща саном или игумена старца, и веляше творити литургию». Возможно, именно игумен Митрофан и приходил к нему для этого. Однажды он попросил игумена пожить с ним в келии некоторое время. Тот остался. И тогда отшельник открыл желание свое – стать иноком. Просил о пострижении.
Игумен Митрофан 7 окт. постриг юношу, В этот день Церковь празднует свв. Сергия и Вакха, и Варфоломей в монашестве стал Сергием – воспринял имя, под которым перешел в Историю.
Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия св. Тайн. Затем остался нa неделю в келии. Каждый день совершал литургию, Сергий же семь дней не выходя провел в «церквице» своей, молился, ничего не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. Всегда такой трудолюбивый, теперь Сергий, чтобы не развлечься, прекратил всякое «поделие». С уст его не сходили псалмы и песни духовные. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения нa жизнь пустынную.
– Ты уже уходишь и оставляешь меня одиноким. Давно я желал уединиться и всегда просил о том Господа, вспоминая слова пророка: се удалихся бегая, и водворихся в пустыне. Благослови же меня, смиренного, и помолись о моем уединении.
Игумен поддержал его и успокоил сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов.
Можно думать, что это – труднейшее для него время. Тысячелетний опыт монашества установил, что тяжелее всего, внутренне, первые месяцы пустынника. Нелегко усваивается аскетизм. Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы зa организованность человеческой души, зa выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический подвиг – выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток божественного беспрепятственней бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним. Кроме избранничества, благодати, здесь культура, дисциплина. Видимо, даже натуры, как у Сергия, ранее подготовленные, не так скоро входят в русло и испытывают потрясения глубокие. Их называют искушениями.
Если человек так остро напрягается вверх, так подчиняет пестроту свою линии Бога, он подвержен и отливам, и упадку, утомлению. Бог есть сила, дьявол – слабость. Бог – выпуклое, дьявол – вогнутое. У аскетов, не нашедших еще меры, зa высокими подъемами идут падения, тоска, отчаяние. Ослабшее воображение впадает в вогнутость. Простое, жизненно-приятное кажется обольстительным. Духовный идеал – недостижимым. Борьба безнадежной. Мир, богатство, слава, женщина… и для усталого миражи возникают.
Отшельники прошли через это все. Св. Василий Великий, вождь монашества, оставил наставление пустынникам в борьбе со слабостями. Это – непрерывное тренированье духа: чтение слова Божия и житий святых, ежевечернее размышление о своих мыслях и желаниях зa день (examen de conscience католиков), мысли о смерти, пост, молитва, воспитание в себе чувства, что Бог непрерывно зa тобою смотрит, и т. д.
Св. Сергий знал и пользовался наставлениями кесарийского епископа, но все же подвергался страшным и мучительным видениям. Жизнеописатель говорит об этом. Возникали пред ним образы зверей и мерзких гадов. Бросались нa него со свистом, скрежетом зубов. Однажды ночью, по рассказу Преподобного, когда в «церквице» своей он «пел утреню», чрез стену вдруг вошел сам сатанa, с ним целый «полк бесовский». Бесы были все в остроконечных шапках, нa манер литовцев[6]. Они гнали его прочь, грозили, наступали. Он молился. («Дa воскреснет Бог, и дa расточатся врази Его».) Бесы исчезли.
В другой раз келия наполнилась змеями – даже пол они закрыли. Снаружи раздался шум, и «бесовские полчища» как будто пронеслись по лесу. Он услышал крики: «Уходи же, прочь! Зачем пришел ты в эту глушь лесную, что хочешь найти тут? Нет, не надейся долее здесь жить: тебе и часа тут не провести; видишь, место пустое и непроходимое; как не боишься умереть здесь с голоду или погибнуть от рук душегубцев-разбойников?»
Видимо, более всего подвергался Сергий искушению страхом, нa древнем, мило-наивном языке: «страхованием». Будто слабость, куда он впадал, брошенный братом, была: сомнение и неуверенность, чувство тоски и одиночества. Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келии? Страшны, наверно, были осени и зимние метели нa его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков Сергий. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив». Прохладный и прозрачный дух. И с ним Божественная помощь, как отзыв нa тяготенье. Он одолевает.
Другие искушения пустынников как будто миновали его вовсе. Св. Антоний в Фиваиде мучился томленьем сладострастия, соблазном «яств и питий». Александрия, роскошь, зной Египта и кровь юга мало общего имеют с Фиваидой северной. Сергий был всегда умерен, прост и сдержан, не видал роскоши, распущенности, «прелести мира». Святитель-плотник радонежский огражден от многого – суровою своей страной и чинным детством. Надо думать, что вообще пустынный искус был для него легче, чем давался он другим. Быть может, защищало и природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. В нем решительно ничего нет болезненного. Полный дух Св. Троицы вел его суховатым, одиноко-чистым путем среди благоухания сосен и елей Радонежа.
Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время. Епифаний не ручается зa точность. Просто и прелестно говорит он: «Пребывшу ему в пустыни единому единствовавшу или две лете, или боле или меньши, Бог весть». Внешних событий никаких. Духовный рост и созревание, новый закал пред новою, не менее святой, но усложненной жизнью главы монастыря и дальше – старца, к голосу которого будет прислушиваться Русь. Быть может, посещенья редкие и Литургии в «церквице». Молитвы, труд над грядкою капусты и жизнь леса вокруг: он не проповедовал, как Франциск, птицам и не обращал волка из Губбио, но, по Никоновской летописи, был у него друг лесной. Сергий увидел раз у келии огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал – с детских ведь лет был, как родители, «странноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным.
Но сколь ни одинок был Преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот стали являться люди, прося взять к себе, спасаться вместе. Сергий отговаривал. Указывал нa трудность жизни, нa лишения, с ней связанные. Жив еще был для него пример Стефана. Все-таки – уступил. И принял нескольких: немолодого, с верховьев реки Дубны Василия Сухого. Земледельца Якова, братия называла его Якута; он служил вроде рассыльного. Впрочем, посылали его редко, в крайности: старались обходиться во всем сами. Упоминаются еще: Онисим, дьякон, и Елисей, отец и сын, земляки Сергия, из Ростовской земли. Сильвестр Обнорский, Мефодий Пешношский, Андроник.
Построили двенадцать келий. Обнесли тыном для защиты от зверей. Онисима, чья келия находилась у ворот, Сергий поставил вратарем. Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород.
Жили тихо и сурово. Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду, обувь, был, по Епифанию, для всех «как купленый раб». И наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря нa скудную пищу (хлеб и вода), был очень крепок, «имел силу противу двух человек».
Был первым и нa службах. Службы начинались в полночь (полунощница), затем шли утреня, третий, шестой и девятый час. Вечером – вечерня. В промежутках частые «молебные пения» и молитва в келиях, работы в огородах, шитье одежды, переписыванье книг и даже иконописание. Литургию служить приглашали священника из соседнего села, приходил и Митрофан, постригший в свое время Сергия. Позже он тоже вошел в состав братии – был первым игуменом. Но прожил недолго, вскоре умер.
Так из уединенного пустынника, молитвенника, созерцателя вырастал в Сергии и деятель. Игуменом он еще не был и священства не имел. Но это уже настоятель малой общины, апостольской по числу келии, апостольской по духу первохристианской простоты и бедности и по роли исторической, какую надлежало ей сыграть в распространении монашества.
Игумен
Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Он вел линию ясную, хоть и не так суровую и менее формалистическую, чем, напр., Феодосий Киево-Печерский, ставивший подчинение себе основой. Феодосий требовал точнейшего исполнения приказаний. Но Феодосий, не снимавший власяницы, выставлявший себя нa съеденье комарам и мошкам, был и в аскетическом подвиге страстнее – это опять иной облик. Жизненное же и устроительное дело Сергия делалось почти само собой, без видимого напора. Иногда же, как в истории с игуменством, как будто даже против его воли.
Монастырь рос, сложнел и должен был оформиться. Братия желала, чтобы Сергий стал игуменом. А он отказывался.
– Желание игуменства, – говорил, – есть начало и корень властолюбия.
Но братия настаивала. Несколько раз «приступали» к нему старцы, уговаривали, убеждали. Сергий сам ведь основал пустынь, сам построил церковь; кому же и быть игуменом, совершать литургию.
(До сих пор приходилось приглашать священника со стороны. А в древних монастырях обычно игумен был и священником.)
Настояния переходили чуть не в угрозы: братия заявляла, что, если не будет игумена, все разойдутся. Тогда Сергий, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно.
– Желаю, – сказал, – лучше учиться, нежели учить; лучше повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно Богу; святая воля Господа дa будет!
И он решил не прекословить – перенести дело нa усмотрение церковной власти.
Митрополита Алексия в то время не было в Москве. Сергий с двумя старейшими из братии пешком отправился к его заместителю, епископу Афанасию, в Переславль-Залесский.
Явился он к святителю рано утром, перед литургией, пал нa колена и просил благословения. В век, когда святые ходили пешком и когда к Лавре вряд ли и проезжая была дорога, когда к епископу, наверно, обращались без доклада, мало удивляет, что епископ спросил скромного монаха, запыленного, в грязи, кто он.
Все же имя Сергия было ему известно. Он без колебаний повелел принять игуменство. Сергий уж не мог отказываться. Все произошло просто, в духе того времени. Афанасий со своими священнослужителями тотчас пошел в церковь, облачился, велел Сергию вслух произнести Символ веры и, осенив крестом, поставил в иподиакона. Зa литургией Сергий был возведен в иеродиакона. Священство получил нa другой день. И еще нa следующий – сам служил литургию, первый раз в жизни. Когда она окончилась, епископ Афанасий произнес над ним молитвы, полагающие во игумена. Затем, после беседы в келии, отпустил.
И Сергий возвратился, с ясным поручением от Церкви – воспитывать, вести пустынную свою семью. Он этим занялся. Но собственную жизнь, в игуменстве, не изменил нисколько: так же продолжал быть «купленым рабом» для братии. Сам свечи скатывал, варил кутью, готовил просфоры, размалывал для них пшеницу.
В пятидесятых годах к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской области, прослышав о его святой жизни. Симон – первый принес в монастырь и средства. Они позволили построить новую, более обширную церковь Св. Троицы.
С этих пор стало расти число послушников. Келии принялись ставить в некотором порядке. Деятельность Сергия ширилась. Был введен богослужебный устав Феодора Студита, тот же, что и некогда в Киево-Печерской лавре.
Сергий постригал не сразу. Наблюдал, изучал пристально душевное развитие прибывшего. «Прикажет, – говорит Епифаний, – одеть пришельца в длинную свитку из грубого, черного сукна и велит проходить какое-нибудь послушание, вместе с прочими братиями, пока тот не навыкнет всему уставу монастырскому; потом облечет его в одежду монашескую; и только после испытания пострижет уже в мантию и даст клобук. А когда видел, что который-либо инок опытен уже в духовном подвиге, того удостоивал и св. схимы».
Несмотря нa постройку новой церкви, нa увеличение числа монахов, монастырь все строг и беден. Тип его еще – «особножитный». Каждый существует собственными силами, нет общей трапезы, кладовых, амбаров. Несомненно, кое-что из собственности появилось – напр., у арх. Симона, у Пересвета и др. До времени Сергий не запрещал этого. Но зa духовной жизнью братии наблюдал пристально и вел ее. Во-первых, был духовником – ему исповедовались. Он определял меру послушания сообразно силам и способностям каждого. Это – внутреннее его общение. Но следил и зa внешней дисциплиной. Было положено, что у себя в келии инок проводит время или зa молитвой, или зa размышлением о своих грехах, проверкой поведения, или зa чтением святых книг, переписыванием их, иконописью – но никак не в разговорах.
По вечерам, иногда даже ночью, окончив свои молитвы, Преподобный обходил келии и заглядывал в «волоковые» оконца[7]. Если заставал монахов вместе, то стучал им палкою в окошко, a наутро звал к себе, «увещевал». Действовал спокойно и не задевая, более всего стараясь убедить. Но иногда налагал и епитимии. Вообще же, видимо, обладал даром поддерживать благообразный и высокий дух просто обаянием облика. Вероятно, как игумен, он внушал не страх, a то чувство поклонения, внутреннего уважения, при котором тяжело сознавать себя неправым рядом с праведником.
Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и в игумене. По известному завету aп. Павла, он требовал от иноков труда и запрещал им выходить зa подаянием. В этом резкое отличие от св. Франциска. Блаженный из Ассизи не чувствовал под собой земли. Всю недлинную свою жизнь он летел, в светлом экстазе, над землей, но летел «в люди», с проповедью апостольской и Христовой, ближе всех подходя к образу самого Христа. Поэтому и не мог, в сущности, ничего нa земле учредить (учредили зa него другие). И труд, то трудолюбие, которое есть корень прикрепления, для него несущественны.
Напротив, Сергий не был проповедником, ни он и ни ученики его не странствовали по великорусской Умбрии с пламенною речью и с кружкою для подаяний. Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча самим собою, «тихим деланием», но не прямым миссионерством. И в этом «делании» наряду с дисциплиною душевной огромную роль играл тот черный труд, без которого погиб бы он и сам, и монастырь его. Св. Сергий, православный глубочайшим образом, насаждал в некотором смысле западную культуру (труд, порядок, дисциплину) в радонежских лесах, a св. Франциск, родившись в стране преизбыточной культуры, как бы нa нее восстал.
Итак, Сергиева обитель продолжала быть беднейшей. Часто не хватало и необходимого: вина для совершения Литургии, воска для свечей, масла лампадного для переписывания книг, не только что пергамента, но и простой харатьи[8]. Литургию иногда откладывали. Вместо свечей – лучины. Образ северный, быт древний, но почти до нас дошедший: русская изба с лучиной с детства нам знакома и в тяжелые недавние годы вновь ожила. Но в Сергиевой пустыни при треске, копоти лучин читали, пели книги высшей святости, в окружении той святой бедности, что не отринул бы и сам Франциск. Книги переписывали нa берестах – этого, конечно, уж не знал никто в Италии блаженно-светлой. В Лавре сохранились до сих пор бедные деревянные чаша и дискос, служившие при Литургии, и фелонь Преподобного – из грубой крашенины с синими крестами. Питались очень дурно. Нередко не было ни горсти муки, ни хлеба, ни соли, не говоря уже о приправах – масле и т. п.
Следующие два рассказа изображают материальное положение монастыря и роль игумена – верно, немыслимую для Западa.
В одну из затруднительных полос пр. Сергий, проголодав три дня, взял топор и пошел в келию к некоему Даниилу.
– Старче, я слышал, что ты хочешь пристроить себе сени к келии. Поручи мне эту работу, чтобы руки мои не были без дела.
– Правда, – отвечал Даниил, – мне бы очень хотелось построить их; у меня все уже и для работы заготовлено, и вот поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого.
– Эта работа не дорого тебе обойдется, – сказал ему Сергий, – мне вот хочется гнилого хлеба, a он у тебя есть; больше этого с тебя не потребую. Разве ты не знаешь, что я умею работать не хуже плотника? Зачем же тебе звать другого плотника?
Тогда Даниил вынес ему решето с кусками гнилого хлеба («изнесе ему решето хлебов гнилых посмагов»)[9], которого сам не мог есть, и сказал: вот, если хочешь, возьми все, что тут есть, a больше не взыщи.
– Хорошо, этого довольно для меня; побереги же до девятого часа: я не беру платы прежде работы.
И, крепко подтянув себя поясом, принялся зa работу. До позднего вечера пилил, тесал, долбил столбы и окончил постройку. Старец Даниил снова вынес ему гнилые куски хлеба как условленную плату зa труд целого дня. Только тогда Сергий поел.
Итак, игумен, духовник и водитель душ в личном своем деле оказывался последним, чуть что действительно не «купленым рабом». Старец Даниил начинает с того, что опасается, как бы Пр. Сергий не «взял слишком дорого». Почему он решил, что Сергий возьмет дорого? Почему допустил, чтобы игумен трудился нa него целый день? Почему просто не поделился своим хлебом? (Даже не «поделился»; сказано, что сам он этого хлеба не мог есть.) Не указывает ли это, что сквозь воспитание и воздействие Преподобного в отдельных иноках прорывалось самое обычное, житейское, до черствости и расчета? Старец, приходивший к Сергию нa исповедь, зa душой и благочестием которого тот следит, считает правильным заплатить ему зa труд целого дня негодным хлебом – плотник из села к нему и не притронулся бы. А Сергий, очевидно, выделяет деятельность духовную, водительную, от житейских отношений. Скромность – качество его всегдашнее. Здесь блистательное проявление его.
Другой рассказ связан тоже с бедностью монастыря, силою веры, терпением, сдержанностью самого Сергия рядом с большей слабостью некоторых из братии.
В один из приступов нужды в обители нашлись недовольные. Поголодали два дня – зароптали.
– Вот, – сказал Преподобному инок от лица всех, – мы смотрели нa тебя и слушались, a теперь приходится умирать с голоду, потому что ты запрещаешь нам выходить в мир просить милостыни. Потерпим еще сутки, a завтра все уйдем отсюда и больше не возвратимся: мы не в силах выносить такую скудость, столь гнилые хлебы.
Сергий обратился к братии с увещанием. Но не успел он его кончить, как послышался стук в монастырские ворота; привратник увидел в окошечко, что привезли много хлеба. Он сам был очень голоден, но все же побежал к Сергию.
– Отче, привезли много хлебов, благослови принять. Вот, по твоим святым молитвам, они у ворот.
Сергий благословил, и в монастырские ворота въехало несколько повозок, нагруженных испеченным хлебом, рыбою и разной снедью. Сергий порадовался, сказал:
– Ну вот, вы алчущие, накормите кормильцев наших, позовите их разделить с нами общую трапезу.
Приказал ударить в било, всем идти в церковь, отслужить благодарственный молебен. И лишь после молебна благословил сесть зa трапезу. Хлебы оказались теплы, мягки, точно только что из печки.
– Где же тот брат, что роптал нa заплесневевшие хлебы? – спросил Преподобный зa трапезою. – Пусть войдет и попробует, какую пищу послал нам Господь.
Спросил и о том, где же привезшие. Ему ответили: по словам возчиков, это – дар неизвестного жертвователя. А возчики должны ехать дальше, не имеют времени остаться. И они уже уехали.
Случай с хлебами, прибывшими так вовремя, остался в памяти у братии и перешел в житие как проявление Промысла, поддержавшего Преподобного в тяжелую минуту. Нас же он подводит уж вплотную к чудесам его.
Св. Сергий – чудотворец и наставник
Можно рассуждать так: Бог тем более поддерживает, окрыляет и заступается зa человека, чем больше устремлен к нему человек, любит, чтит и пламенеет, чем выше его духопроводность.
Ощущать действие этого промысла может и просто верующий, не святой. Чудо же, нарушение «естественного порядка» (внешней, тонкой пленки, где все совершается по правилам и под которой, глубже, кипит царство сил духовных) – чудо «просто смертному» не дано (как не дано ему и истинных видений). Чудо есть праздник, зажигающий будни, ответ нa любовь. Чудо – победа сверхалгебры, сверхгеометрии над алгеброй и геометрией школы. Вхождение чудесного в будни наши не говорит о том, что законы буден ложны. Они лишь – не единственны. То, что называем мы «чудесным» – совершенно «естественно» для мира высшего, чудесно же лишь для нас, живущих в буднях и считающих, что, кроме буден, ничего и нет. Для моллюска чудом было бы услышать музыку Бетховена, для человека в некотором смысле чудо – капелька воды под микроскопом (простым глазом не видно!), видение будущего и физически невидимого, и главное чудо, наименее приемлемое – мгновенная отмена нашего маленького закона: воскресение по смерти. Это, конечно, величайшая буря любви, врывающаяся оттуда, нa призыв любовный, что идет отсюда.
Даже Преп. Сергий в ранней полосе подвижничества не имел видений, не творил чудес. Лишь долгий, трудный путь самовоспитания, аскезы, самопросветления приводит его к чудесам и к тем светлым видениям, которыми озарена зрелость. (Замечательно, что пугающих видений, ужаса, потрясавшего юные годы отшельничества, – нет в старости Сергия, когда дух его приобрел абсолютную гармоничность и просветленность.) В этом отношении, как и в других, жизнь Сергия дает образ постепенного, ясного, внутренне здорового движения. Это непрерывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом, – не его путь.
Спокойно, внутренне дозрев, он совершает чудо с источником. Оно связано с обычными, житейскими делами. Пока Преподобный жил один нa своей Маковице, вопрос о воде не смущал его. Был ли около монастыря маленький родник, недостаточный для многих? Или родник вообще был не так близко и, не смущая Сергия, вызывал недовольство братии, – неизвестно. Во всяком случае, появились разговоры, что носить воду трудно.
Тогда Сергий, взяв одного из иноков, спустился вниз от обители и, найдя небольшую лужу дождевой воды, стал пред ней нa молитву. Он молился, чтобы Господь дал им воду, как некогда послал ее по молитве Моисея. Осенил место крестным знамением, и оттуда забил ключ, образовав ручей, который братия назвала было Сергиевой рекой. Но он запретил называть его так.
Второе чудо Сергия относилось к ребенку. В это время многие уже знали о нем как о святом и приходили с поклонением и зa советами, a главное, со своими бедами. Епифаний рассказывает, как один человек принес ему тяжелобольного своего ребенка. Пока он просил Сергия помолиться зa него и пока Преподобный готовился к молитве, ребенок умер. Отец впал в отчаяние. Стал даже укорять Сергия: лучше бы уж ребенок умер дома, a не в келии святого: по крайней мере, вера не убавилась бы.
И отец вышел, чтобы приготовить гробик. А когда вернулся, Сергий встретил его словами:
– Напрасно ты так и смутился. Отрок вовсе и не умирал.
Ребенок был теперь действительно жив. Отец пал к ногам Сергия. Но тот стал успокаивать его и даже убеждать, что дитя просто было в сильном припадке, a теперь обогрелось и отошло. Отец горячо благодарил Преподобного зa его молитвы. Но тот запретил ему разглашать о чуде. Узналось же это впоследствии, утверждает бл. Епифаний, от келейника Пр. Сергия. Его рассказ и приводит Епифаний.
Он передает еще о тяжелобольном, который три недели не мог спать и есть и которого исцелил Св. Сергий, окропив святой водой. О знатном вельможе, бесноватом, привезенном с берегов Волги, куда уже проникла слава Сергия как чудотворца. Вельможу повезли насильно. Он слышать не хотел о Сергии, бился, рвался, пришлось сковать его цепями.
Уже перед самою обителью он в ярости разорвал цепи. Крик слышали в монастыре. Сергий велел ударить в било и братии собираться в церковь. Начался молебен – о выздоровлении. Понемногу он стал успокаиваться. Наконец Преподобный вышел к нему с крестом. Лишь только осенил его, тот с воплем бросился в лужу: «Горю, горю страшным пламенем!»
И выздоровел. Позже, когда рассудок вернулся к нему, его спросили, почему он бросился в воду. Он ответил, что увидел «великий пламень», исходивший от Креста и объявший его. Он и хотел укрыться в воде.
Такие исцеления, и облегчения, и чудеса широко разносили славу Сергия. К нему, как мудрецу и святому, шли люди разных положений – от князей и до крестьян. Пусть рос и богател монастырь, Сергий оставался тем же простым с виду «старичком», кротким и покойным утешителем, наставником, иногда судьей.
Житие приводит два случая, когда чрез Сергия как бы действовали и силы карающие.
Вблизи монастыря богатый отобрал у бедного свинью. Потерпевший пожаловался Сергию. Тот вызвал обидчика и долго убеждал возвратить взятое. Богатый обещал. Но дома пожалел и решил не отдавать. Была зима. Свинью он только что зарезал, она лежала у него в клети. Заглянув, он видит, что вся туша уж изъедена червями.
Другой рассказ – о внезапной слепоте греческого епископа, сомневавшегося в святости Сергия, – слепоте, поразившей его, как только он подошел к Преподобному в ограде монастыря. Сергий должен был зa руку ввести его к себе в келию. Там он признался в своем неверии и просил заступничества. Сергий, помолившись, исцелил его.
Вероятно, таких «посетителей» и «просителей заступничества» было много. Несомненно, очень многие приходили просто зa советами, каялись в делах, томивших душу: обо всем не может же сказать Епифаний. Он передает о наиболее запомнившемся.
Вообще в живой душе крепко сидит стремленье к очищению и «направлению». Нa наших глазах совершались бесконечные паломничества в Оптину – от Гоголя, Толстого, Соловьева, со сложнейшими запросами души, до баб – выдавать ли замуж дочку дa как лучше прожить с мужем. А в революцию и к простым священникам приходили каяться красноармейцы – и в кощунствах, и в убийствах.
С половины жизни Сергий выдвинулся нa пост всенародного учителя, заступника и ободрителя. В его времена «старчества» еще не было. «Старцы» в православии явились поздно, в XVIII веке, с Паисием Величковским. Но самый тип «учительного старца» древен, он идет из греческих монастырей, и у нас в XV веке известен, например, учительный старец Филофей Псковский.
В позднейших монастырях старцы выделились в особый разряд – созерцательных мудрецов, хранящих традицию истинного православия, мало прикасающихся к монастырской жизни.
Сергий был и игуменом, и, как увидим, – даже и общественным и политическим деятелем. Но может считаться и основоположником старчества.
Общежитие и тернии
Не совсем ясно, были ли, при жизни Сергия, у обители его жалованные села. Скорее – нет. Считается, что запрета принимать даренья он не делал. Запрещал просить. На крайней же, францисканской точке (ее не выдержали сами францисканцы), видимо, и не стоял. Непримиримые решения вообще не в его духе. Быть может, он смотрел, что «Бог дает», значит, надо брать, как принял он и повозки с хлебом, рыбою от неизвестного жертвователя. Во всяком случае, известно, что незадолго до смерти Преподобного один галичский боярин подарил монастырю половину варницы и половину соляного колодезя у Соли Галицкой (нынешний Солигалич).
Монастырь не нуждался уже теперь, как прежде. А Сергий был все так же прост – беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные «отличия» его вообще не занимали. Но этого он не подчеркивал. Как удивительно естественно и незаметно все в нем! Отделяют пятьсот лет. О, если бы его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Такой он даже нa иконе – через всю ея условность – образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России. Все – возведенное к предельной легкости, чистоте.
Долго прожившие с ним старцы говорили Епифанию, что никогда Преподобный не носил новой одежды, но «сермяжную ткань из простой овечьей шерсти, дa притом ветхую, которую, как негодную, другие отказывались носить». Чаще всего шил сам одежду. «Однажды не случилось хорошего сукна в его обители; была одна лишь половинка, гнилая, какая-то пестрая („пелесоватая“) и плохо сотканная. Никто из братии не хотел ею пользоваться: один передавал другому, и так обошла она до семи человек. Но Пр. Сергий взял ее, скроил из нее рясу и надел, не хотел уже расставаться». Через год она развалилась вовсе.
Ясно, что по виду нетрудно было принять его зa последнего из монастырских послушников.
Привожу почти дословно рассказ Епифания. Он просто и ярко рисует святого в обители. Многие приходили издали, чтобы только взглянуть нa Преподобного. Пожелал видеть его и один простой земледелец. При входе в монастырскую ограду он стал спрашивать братию: где бы повидать их славного игумена? А Преподобный в это время трудился в огороде, копая заступом землю под овощи.
– Подожди немного, пока он выйдет оттуда, – отвечали иноки.
Крестьянин заглянул в огород через отверстие забора и увидел старца в заплатанной одежде, трудившегося над грядкой. Он не поверил, что этот скромный старичок и есть тот Сергий, к которому он шел. И опять стал приставать к братии, требуя, чтобы ему показали игумена. «Я издалека пришел сюда, чтобы видеть его, у меня есть до него важное дело.» «Мы уже указали тебе игумена, – ответили иноки. – Если не веришь, спроси его самого.»
Крестьянин решил подождать у калитки. Когда Пр. Сергий вышел, иноки сказали крестьянину:
– Вот он и есть, кого тебе нужно. Посетитель отвернулся в огорчении.
– Я пришел издалека посмотреть нa пророка, a вы показываете какого-то нищего! Но я не дожил еще до такого безумия, чтобы счесть этого убогого старичка зa знаменитого Сергия.
Иноки обиделись. Только присутствие Преподобного помешало им выгнать его. Но Сергий сам пошел ему навстречу, поклонился до земли, поцеловал. Потом повел зa трапезу. Крестьянин высказал свою печаль; не пришлось ему видеть игумена.
– Не скорби, брате, – утешил его Преподобный, – Бог так милостив к месту сему, что никто отсюда не уходит печальным. И тебе Он скоро покажет, кого ищешь.
В это время в обитель прибыл князь со свитою бояр. Преподобный встал навстречу ему. Прибывшие оттолкнули крестьянина и от князя, и от игумена. Князь до земли поклонился святому. Тот поцеловал его и благословил, потом оба они сели, a все остальные «почтительно стояли вокруг».
Крестьянин ходил среди них и все старался рассмотреть, где же Сергий. Наконец снова спросил:
– Кто же этот чернец, что сидит направо от князя?
Инок с упреком сказал ему:
– Разве ты пришлец здесь, что не знаешь Преподобного отца Сергия?
Только тогда понял он свою ошибку. И по отъезде князя бросился к ногам Сергия, прося прощения.
Разумеется, «нищий» и «убогий старичок» не был к нему суров. У Епифания приведены его слова:
– Не скорби, чадо; ты один справедливо рассудил обо мне, ведь они все ошибаются.
Есть мнение, что Епифаний даже сам наблюдал эту сцену, потому так тщательно и написал ее.
Как удивительно прост и серьезен в ней святой! Конечно, «житие» всегда иконность придает изображаемому. Но насколько можно чувствовать Сергия, чрез тьму годов и краткие сообщения, в нем вообще не было улыбки. Св. Франциск душевно улыбается – и солнцу, и цветам, и птицам, волку из Губбио. Есть улыбка – теплая и жизненная – у св. Серафима Саровского. Св. Сергий ясен, милостив, «страннолюбив», тоже благословил природу, в образе медведя близко подошедшую к нему. Он заступился перед братией и зa простого человека. В нем нет грусти. Но как будто бы всегда он в сдержанной, кристально-разреженной и прохладной атмосфере. В нем есть некоторый север духа.
Мы видели, что князь приехал к Сергию. Это уж время, когда «старичка» слышно нa всю Россию, когда сближается он с митр. Алексием, улаживает распри, совершает грандиозную миссию по распространению монастырей.
Между тем в собственном его монастыре не все спокойно – именно идет борьба зa и против общежития.
Исторически к нам пришло монашество особножитное из Греции. Антоний и Феодосий Печерские ввели общежитие, но позже вновь оно было вытеснено особностью, и Пр. Сергию принадлежит заслуга окончательного восстановления общежития.
Это далось ему не сразу.
Вначале монастырь нa Маковице тоже был особножитный. Уже упоминалось, что до поры до времени Пр. Сергий дозволял монахам даже некоторую собственность в келиях. Но с ростом монастыря и братии это становилось неудобным. Возникала разность в положении монахов, зависть, нежелательный дух вообще. Преподобный хотел более строгого порядка, приближавшего к первохристианской общине. Все равны и все бедны одинаково. Ни у кого ничего нет. Монастырь живет общиною.
В это время Сергий, игумен, друг митрополита Алексия, уже чувствовал, что дело Лавры – дело всероссийское и мессианское. Обитель-родоначальница сама должна принять неуязвимый облик.
Житие упоминает о видении Преподобного – первом по времени, – связанном именно с жизнью обители.
Однажды, поздно вечером, стоя у себя в келии, как обычно, нa молитве, он услышал голос: «Сергий!» Преподобный помолился и отворил оконце келии. Дивный свет льется с неба, и в нем Сергий видит множество прекрасных, неизвестных ему раньше птиц. Тот же голос говорит:
– Сергий, ты молишься о своих духовных детях: Господь принял твою молитву. Посмотри кругом – видишь, какое множество иноков собрано тобою под твое руководство во имя Живоначальныя Троицы.
А птицы летают в свете и необычайно сладостно поют.
– Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя они не оскудеют.
Преподобный в великой радости позвал арх. Симона, жившего в соседней келии, чтобы и ему показать. Но Симон застал лишь конец видения – часть небесного света. Об остальном Преподобный ему рассказал.
Это видение, быть может, еще больше укрепило Сергия в необходимости прочных, правильных основ – и для его монастыря, и для рождающихся новых.
Полагают, что митр. Алексий помогал, поддерживал его намерения – был зa реформу. А в самом монастыре – многие против. Можно думать, что митр. Алексий проявил тут некоторую дипломатию: по его просьбе патриарх Кир Филофей прислал Пр. Сергию послание и подарки – крест, параманд и схиму. В грамоте ясно советовалось ввести общежитие («Но едина главизна (правило) еще не достаточествует ти: яко не общее житие стяжаете». И далее: «Потому же и aз совет благ вам даю: послушайте убо смирения нашего, яко дa составите общее житие».) Такая грамота укрепляла положение Сергия как реформатора. И он ввел общежитие.
Не все были довольны им в монастыре. Некоторых это и связывало, и стесняло. Кое-кто даже ушел.
Деятельность Сергия нововведение расширяло и усложняло. Нужно было строить новые здания – трапезную, хлебопекарню, кладовые, амбары, вести хозяйство и т. п. Прежде руководство его было только духовным – иноки шли к нему как духовнику, нa исповедь, зa поддержкой и наставлением. Теперь он как бы отвечал зa самый быт монастыря.
Все способные к труду должны были трудиться. Частная собственность строго воспрещена.
Чтобы управлять усложнившейся общиной, Сергий избрал себе помощников и распределил между ними обязанности. Первым лицом после игумена считался келарь. Эта должность впервые учреждена в русских монастырях пр. Феодосием Печерским. Келарь заведовал казной, благочинием и хозяйством – не только внутри монастыря. Когда появились вотчины, он ведал и их жизнью. Правил и судебные дела. Уже при Сергии, по-видимому, было собственное хлебопашество – вокруг монастыря являются пахотные поля, частью обрабатываются они монахами, частью наемными крестьянами, частью – желающими поработать нa монастырь. Так что у келаря забот немало.
Одним из первых келарей Лавры был преп. Никон, позже игумен.
В духовники назначали опытнейшего в духовной жизни. Он – исповедник братии. Савва Сторожевский, основатель монастыря под Звенигородом, был из первых духовников. Позже эту должность получил Епифаний, биограф Сергия.
Зa порядком в церкви наблюдал экклезиарх. (Исполнение церковного устава. Вначале Студийский[10], более простой, a теперь Иерусалимский, более торжественный: литургию совершали каждый день, т. к. священников было уже достаточно.) Меньшие должности: параэкклезиарх – содержал в чистоте церковь, канонарх – вел «клиросное послушание» и хранил богослужебные книги.
Порядок жизни в келиях остался прежний: молитва и работа. Как обычно, Сергий первый подавал пример. Мы видели уже, как крестьянин застал его в огороде. Кроме того, шил обувь и одежду братии. Готовил «кануны», особый вид кутьи. Нигде не говорится, что он переписывал книги, занимался иконописью. Это подтверждает, что книжным человеком Преподобный не был никогда. Сергий – плотник, огородник, пекарь, водонос, портной и не художник, не «списатель». А в монастыре именно явились и иконописцы, и «списатели». Племянник Сергия Феодор, в юности постриженный, овладел иконописью в Лавре. И есть мнение, что искусство иконописи перенесено оттуда в Андрониев монастырь, в Москве, где жил и знаменитый Андрей Рублев.
«Списание книжное» в Лавре процветало. В ризнице осталось много книг и оплетенных в кожу рукописей того времени. Например, Евангелие пр. Никона; Служебник, писанный его же рукой в 1381 г., нa пергаменте; «Поучения Аввы Дорофея», 1416 г., «рукою многогрешного инока Антония»; «Лествица», 1411 г., «списанная рукою грубого и худого, странного, последнего во иноцех, смиренного многыми грехи Варлаaмa».
И многие другие, некоторые с удивительными заставками в красках и с золотом – например, Псалтырь, писанная при игумене Никоне.
Так жили и трудились в монастыре Сергия, теперь уже прославленном, с проложенными к нему дорогами, где можно было и остановиться, и пробыть некоторое время – простым ли людям или князю. «Странноприимство» ведь традиция давнишняя самого Преподобного, вынесенная еще из мира, от родителей. А теперь она давалa повод правильно тратить избытки накоплявшиеся. Считают вероятным, что первая лаврская богадельня возникла при Сергии. Во всяком случае, он зачинатель монастырской благотворительности. А она возможна только при общежитии.
Однако – мы уже говорили – в этой чинной и спокойной общине не все шло гладко. Не все в братии были святые, как игумен Сергий. В сущности, с первых шагов «пустынной» жизни Преподобный жил именно с людьми, хотя и в облике монашеском. Ушел же некогда от него брат Стефан. Другие угрожали, что уйдут, когда он не хотел принять игуменства, когда бывало голодно в обители. Третьи ушли при введении общежития. Были недовольные и из оставшихся. Какая-то глухая борьба шла. Она и объясняет то тяжелое событие, которое произошло в монастыре.
Мы ничего не знаем ясно о «трениях» из-зa общежития. Ни Епифаний, ни летопись ничего не говорят об этом – может быть, Епифаний и нарочно пропускает: легче говорить о светлом, чем о «слишком человеческом». И рассказ о происшедшем не вполне подготовлен, слишком внезапно выплывает с фона неразработанного.
Связан он опять со Стефаном.
Раз нa вечерне – Пр. Сергий сам служил ее, был в алтаре – Стефан, любитель пения, стоял нa клиросе. Преподобный услыхал голос брата, обращенный к канонарху.
– Кто тебе дал эту книгу?
– Игумен.
Нa это Стефан резко, в раздражении:
– Кто здесь игумен? Не я ли первый основал это место?
И в таком роде далее. («И ина некая изрек, их же не лепо бе».) Что именно «не лепо бе», нам неизвестно.
Дослужив службу, Преподобный не вернулся в келию. Он вышел из монастыря и пешком двинулся по пути в Кинелу, никому ни слова не сказав. Оставлял обитель, им основанную, чуть не собственноручно выстроенную, где провел столько святых лет, – из-зa резких слов собственного брата? Это, разумеется, не так. Мы знаем ясность и спокойствие Сергия. Поступок «нервный», вызванный внезапным, острым впечатлением, совсем не идет Сергию – не только как святому, смиренно бравшему от Даниила гнилой хлеб, но и характеру его человеческому, далекому от неожиданных, порывистых движений. Конечно, случай в церкви – лишь последняя черта. Конечно, Сергий давно чувствовал, что им недовольны некоторые, не один Стефан, зa общежитие, зa подвиг трудной жизни, куда звал он. И что надо что-то сделать.
С точки зрения обыденной он совершил шаг загадочный. Игумен, настоятель и «водитель душ», как будто отступил. Оставил пост. Оставил и водительство. Трудно представить нa его месте, напр., Феодосия Печерского. Конечно, он смирил бы недовольных. Нельзя думать, чтобы и у католиков произошло подобное. Виновных наказали бы, a игумен, ставленный самим архиепископом, никак не бросил бы монастыря.
Но русский смиренный и «убогий» старичок, которого и крестьянин-то приезжий не хотел признать игуменом, – в хмурый вечер вышел с палкою из Лавры, мерил старческими, но выносливыми) плотницкими ногами к Махрищскому монастырю дебри Радонежа. Никому он не сдавался, ни пред кем не отступал. Как можем мы знать его чувства, мнения? Мы можем лишь почтительно предполагать: так сказал внутренний голос. Ничего внешнего, формального. Ясная, святая вера, что «так будет лучше». Может быть, вопреки малому разуму, но – лучше. Чище. Если зажглись страсти, кто-то мне завидует, считает, что ему надо занять место мое, то пусть уж я уйду, не соблазняю и не разжигаю. Если меня любят, то любовь свое возьмет – пусть медленно. Если Бог так мне повелевает, значит, Он уж знает – нечего раздумывать.
И вот глухая ночь застала нa пути – молитва в лесу, краткий сон. Разве боялся Св. Сергий леса этого – пустынник, друг медведей? А наутро, как и некогда перед епископом в Переславле-Залесском, забрызганный и запыленный, он у врат Махрищской обители. Ее игумен-основатель, постриженник Киево-Печерской лавры и друг Преподобного, Стефан, узнав, что Сергий посетил его, велел ударить в «било» и со всей братией вышел. Они кланяются до земли друг другу, ни один не хочет подыматься первый. Но Сергию пришлось уступить. И он встает, благословляет, – дорогой, почетный гость в монастыре. Он остается у Стефана некоторое время. А затем, с монахом Симоном, опять пешком, опять лесами, трогается в новые края, для основания новой пустыни. Он и нашел их, нa реке Киржач. Там Пр. Сергий поселился.
Но недолго пробыл в одиночестве. Разумеется, произошло смятение нa Маковице. Большинство было огорчено – глубоко. Отправились зa преподобным. В Махрищском монастыре один из иноков узнал, что Сергий ушел дальше. Он вернулся в Лавру, рассказал об этом. И мало-помалу нa Киржач стали пробираться преданные Сергию. Так было с ним всегда: любовь, почтение и поклонение к нему влекли. Он никого не приневоливал.
Но если и хотел, не мог уйти от подлинной своей славы – чистой и духовной. Нигде в лесах один остаться он не мог, хотя всегда искал уединения, всегда отказывался властвовать и более всего молился и учил, работал.
Он взялся зa топор и нa Киржаче. Помогал монахам строить келии, копал колодезь, просил митр. Алексия поставить церковь – и поставил. Помогали в этом и со стороны, конечно, присылали подаяния. Ввел общежительный устав и здесь.
Но этим дело все-таки не кончилось. В Лавре не мирились с тем, что его нет. Старцы отправились к митрополиту, прося о воздействии. Может быть, и его уход изобразили не совсем точно, смягчили. Все же очевидно, что без Сергия им было неприятно. Митрополиту это тоже мало нравилось. И он отправил двух архимандритов, Павла и Терентия, с увещанием к Сергию. Вероятно, это был полусовет, полуприказ. Возник из-зa просьбы братии. Как ничего внешнего – в уходе Сергия, так же свободно, в сущности, и возвращение. Сергий пробыл нa Киржаче три-четыре года. Митрополит мог бы давно силой возвратить его оттуда. Этого не случилось. Оба ждали, чтоб назрело время, разрешили жизненную трудность в духе вольности и любви. Правда, Алексий предлагал Сергию удалить недовольных общежитием. Но к этому не прибегали. Это не стиль Сергия. Ведь если бы он захотел, гораздо раньше мог бы сделать это, – Алексий глубоко чтил его.
Киржачский монастырь был освящен и назван Благовещенским. Митрополит прислал церковную утварь, рукоположил в «строители» ученика Сергия – Романа.
А Сергий возвратился в Лавру. Епифаний вновь подробно, как бы очевидцем, описал нам это возвращение: «Умилительно было видеть, как, одни со слезами радости, другие со слезами раскаяния, ученики бросились к ногам святого старца: одни целовали его руки, другие – ноги, третьи – самую одежду его; иные, как малые дети, забегали вперед, чтобы полюбоваться нa своего желанного авву, и крестились от радости; со всех сторон слышались возглашения: Слава Тебе, Боже, обо всех промышляющий! Слава Тебе, Господи, что сподобил Ты нас, осиротевших было, вновь увидеть нашего отца…» И дальше в столь же патетическом тоне.
Если тут есть след и собственного красноречия (к чему вообще склонен Епифаний), то, несомненно, возвращение святого, чистого и знаменитого игумена в обитель, им основанную, им про славленную, игумена, ни зa что обиженного, не могло и не взволновать. В общем, сцену эту мы прекрасно видим.
Стефан тут не присутствовал. Был ли он в Москве, в своем монастыре Богоявленском? Неизвестно. Знаем лишь, что после смерти Сергия он снова в Лавре. От него знал Епифаний и о детстве Преподобного.
Сергий победил – просто и тихо, без насилия, как и все делал в жизни. Не напрасно слушался голоса, четыре года назад сказавшего: «Уйди». Победа пришла не так скоро. Но была полна. Действовал он тут не как начальник, как святой. И достиг высшего. Еще вознес, еще освятил облик свой, еще вознес и само православие, предпочтя внешней дисциплине – свободу и любовь.
Преподобный Сергий и Церковь
История ухода Преподобного подводит к отношениям его с церковью, его месту в православии.
Можно так вкратце определить положение церкви времен Сергия: мир в идеях, действенность в политике.
Идейных разномыслий мало. Стригольники не сильны. Раскол, жидовствующие, Иосиф Волоколамский, Никон и старообрядцы – все придет позднее. Не от кого защищаться, не нa кого нападать. Но есть русские князья и есть татары, есть вообще Россия, едва держащаяся, чуть не поглощаемая. И национальная задачa – отстоять ее. Борьба зa государство. Церковь вмешана в нее глубоко.
Два митрополита, оба замечательные, наполняют век: Петр и Алексий. Игумен ратский Петр, волынец родом, первый митрополит русский, основавшийся нa севере – сначалa во Владимире, потом в Москве. Петр первый благословил Москву. Зa нее, в сущности, положил всю жизнь. Это он ездит в Орду, добывает от Узбека охранительную грамоту для духовенства, непрерывно помогает Князю, закладывает с ним в 1325 г. первую каменную церковь, гордость нашего Кремля – Успенский собор. Архангельский, с гробницами царей, монастырь Спаса нa Бору (единственные каменные стены, уцелевшие с тех пор) – все нас подводит к легендарному палладиуму Москвы – святому митрополиту Петру, тоже «собирателю», борцу, политику, миссионеру и целителю, судье и дипломату. Петр не видал еще свободы. Нa своих крепких и первосвятительских плечах он вынес самые тяжелые, предрассветные времена родины. Но не погнулся, не поддался.
Митрополит Алексий – из сановного, старинного боярства города Чернигова. Отцы его и деды разделяли с князем труд по управлению и обороне государства. Нa кафедре митрополита всероссийского Алексий шел воинственным путем, это ecclesia militans[11], преемственный советник трех князей московских, руководитель Думы, дипломат в Орде и ублажатель ханов, суровый и высокопросвещенный пастырь, карающий, грозящий отлучением, если надо. Нa иконах их изображают рядом: Петр, Алексий, в белых клобуках, потемневшие от времени лица, узкие и длинные, седые бороды… Два неустанных созидателя и труженика, два «заступника» и «покровителя» Москвы.
Пр. Сергий при Петре был еще мальчиком, с Алексием он прожил много лет в согласии и дружбе. Но Св. Сергий был пустынник и «молитвенник», любитель леса, тишины– его жизненный путь иной. Ему ли, с детства отошедшему от злобы мира сего, жить при дворе, в Москве, властвовать, иногда вести интриги, назначать, смещать, грозить! Нет, он послушный сын Церкви, но не генерал ее. Очарованье православия – не полководец. Святой, но не хранитель догматов. Митрополит Алексий часто приезжает в его Лавру – может быть, и отдохнуть с тихим человеком от борьбы, волнений и политики. А Сергий не имеет ни малейшей склонности к Москве. Он никуда не ездит, только ходит, но туда лишь, куда вызывают или если обстоятельства велят.
Замечателен один его вызов – митрополитом Алексием.
Алексий чувствовал себя тогда уже стареющим и слабым – размышлял, кому передать кафедру по смерти. Некогда Феогност заранее наметил и его – себе нa смену. Но теперь положение сложнее: великий князь Димитрий очень хотел возвести в митрополиты Новоспасского архимандрита Михаила (его прозвали почему-то Митяем). Алексий этого не одобрял. Говорил: «Митяй еще недавний монах, надобно ему запастись духовным опытом и потрудиться в монашестве».
Без одобрения патриарха он Митяя благословить не хотел. При этом один митрополит – Киприан – для Западной Руси уж был, его поставили по желанию литовских князей. После Алексия он должен был стать Всероссийским, жить в Москве. Но его не хотел великий князь. Митяй считался гордым и самонадеянным, Алексий, вероятно, чувствовал, что недостоин он занять кафедру св. Петра. Киприан не подходил вел. князю – тот хотел верного и знакомого человека. Дa Киприан считался и врагом Алексия.
Зная чистоту, святость, славу Сергия, Алексий его выбрал.
Когда явился Сергий, то Алексий велел принести золотой «парамандный» крест[12] митрополичий, с драгоценными камнями. Отдал его Преподобному. Но святой просто ответил:
– От юности я не был златоносцем, a в старости тем более желаю пребывать в нищете.
– Знаю, – ответил митрополит, – всегда ты жил так. Но теперь покажи послушание, прими от меня этот крест.
И сам надел его нa Сергия, «как бы в знак обручения святительского сана». Объяснил, что Киприану он не может доверять, a его, Сергия, прочит нa свое место. И это одобряют все, от простых людей до князя. Сначалa он получит сан епископа, a затем митрополита.
Из предыдущей жизни Сергия мы знаем, что хотел он только уйти из родительского дома в лес и быть постриженным в монахи. Игумена Митрофана, старичка, постригавшего юношу нa безвестный подвиг, он позвал некогда сам. Епископ Афанасий возводил его в игумены после великого сопротивленья. Но прославленный митрополит Алексий, его личный друг, Кремль, золотой крест в драгоценностях и сан митрополита – здесь поседелый, скромный, но и опытный уже Сергий проявил такую твердость, что сломить ее не удалось Алексию. Он отказался наотрез. В конце беседы сказал другу и начальнику:
– Если не хочешь отгонять моей нищеты от твоей святыни, то не говори больше об этом. Не дозволяй и другим побуждать меня, невозможно найти во мне то, чего желаешь ты.
Сергий уходил уже однажды нa Киржач. И теперь мог взять посох, нa шестом десятке лет так же спокойно и не говоря ни слова тронуться в далекие леса. Алексий понял это. Не настаивал и отпустил. Так было лучше. Сергий лучше всякого другого знал себя, мог делать только то, к чему был призван. И как всегда, внутреннему голосу больше всего придавал цены.
Он никогда не восставал нa Церковь и глубоко почитал иерархию. Но убедил Алексия, что и для Церкви лучше, если он будет делать свое дело.
Так что свою церковную «карьеру» он пресек. Спокойно удалился от того, чего другие добивались так усердно.
И только выиграл нa этом. Когда Алексий умер (1378 г.), началась десятилетняя борьба зa митрополичью кафедру. Действующие лица ее: Митяй, еп. Дионисий, Киприан, арх. Пимен. Это печальные страницы Церкви. Русские показывают себя здесь не лучше греков, греки в патриарших канцеляриях открыто продают митрополию. Ярче, интереснее других все же Митяй, бурный и «дерзкий» духовник вел. кн. Димитрия, a затем условно князем же (до утверждения патриархом) «назначенный» митрополитом. Его фигура не совсем ясна и необычна. Никонова летопись клеймит его (нa митрополичьем дворе «незнаемо здея страшно некако и необычно«), другие думают, что, наоборот, арх. Михаил[13] был человек больших талантов и пытался обновить Церковь.
Как бы то ни было, все претенденты, грызшие друг друга, всячески старались привлечь к себе Сергия – его авторитет моральный. Сергий был против Митяя – в этом следовал Алексию и всему складу образа собственного: был ли Митяй просто великим честолюбцем или же и даровитым реформатором, во всяком случае духу Сергиевой простоты и скромности никак не отвечал. Сергий обновлял свой монастырь любовью, миром. А Митяй наказывал не только архимандритов, но и епископов. Нa Дионисия Суздальского кричал: «Я спорю твои скрижали». Такому нраву у монаха вряд ли Преподобный мог сочувствовать.
В борьбе Митяя с Дионисием Сергий встал нa сторону последнего: когда его арестовали, Преподобный поручился зa него. Епископа освободили. Это – дело тишины и доброты святителя. Дионисий доброты не оправдал. Он тотчас же обманул («преухитрил«) вел. князя – вновь, несмотря нa обещанье не ходить, – Волгой бежал в Константинополь добиваться митрополии. Это страшно раздражило Митяя нa Сергия. Он грозил разрушить его монастырь.
«Преподобный же игумен Сергий рече: молю Господа Бога моего сокрушенным сердцем, дa не попустит Митяю хвалящусь разорити место сие святое и изгнати нас без вины».
Митяю ничего не удалось сделать. Неожиданно в Константинополе он умер, греки же зa деньги возвели в митрополиты его спутника арх. Пимена, у которого и началась борьба с Киприаном. Роль митр. западных церквей Киприана во всех этих интригах тоже не из светлых. И он тоже обращался к Сергию в тяжелые минуты (когда в восьмидесятых годах его с позором, обобрав, какой-то боярин Никифор выгнал из Москвы, нa жалких клячах, «в обротех лычных», без обуви и без сорочек). Сохранилось несколько его посланий к Сергию. Он жалуется, просит помощи и утешения. Вот именно утешить Сергий мог. И сделал это. Тут он в своей области, и видно еще раз, как мудро и со знанием себя, своего дела и судьбы он поступил, сняв парамандный крест митрополита.
Сергий и государство
Преподобный Сергий вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. Времена Батыя, разорения Владимира, Киева, битва при Сити – все далеко. Идут два процесса, разлагается Орда, крепнет молодое русское государство. Орда дробится, Русь объединяется. В Орде несколько соперников, борющихся зa власть. Они друг друга режут, отлагаются, уходят, ослабляя силу целого. В России, наоборот, – восхождение. Некогда скромная Москва (выражение жития: «честная кротостью» и «смиренная кротостью«), катясь в истории как снежный, движущийся ком, росла, наматывая нa себя соседей. Это восхожденье трудное, часто преступное. Мы знаем, как в свирепой борьбе Москвы с Тверью Юрий (брат Ив. Калиты) ведет против тверичей татар. И Калита татарами же усмирял восставшего Александра Михайловича. Попутно и свое добро растил: Углич, Галич, Белозерск перешли к нему. Знаем, как Юрий удушил рязанского князя Константина, взятого отцом и жившего в плену. Как происками москвичей гибли в Орде князья тверские. Вся их история полна трагедий. Шекспировским ужасом веет от старого Михаила Тверского, которому в Орде надели ярмо нa шею и водили месяц, выставляя нa «правеж». Потом – убили. Развязка здесь тоже шекспировская: его сын, Димитрий Грозные Очи, в той же ставке ханской убивает Юрия, убив своего отца – сам погибает. А другой тверской князь, знавший, что идет в Орду нa гибель, и пошедший все же? Волга не хотела пропускать его. Пока плыл он русскими землями, ветер был противный – повернулся, лишь когда Россия кончилась. В Орде князь мужественно ждал погибели. Последние три дня молился и пред самой казнью ездил все нa лошади, спрашивал: «Когда ж меня убьют?»
При поэтическом подходе тверитяне затмевают хитрых и коварных москвичей. В них все же есть дух рыцарский, быть может, и ушкуйнический. Московские Даниловичи – лишь политики и торгаши. Но тверитяне взяли ложную линию движения – она их привела к погибели. Делу же общерусскому они вредили. А москвичи, сознательно или нет, шли большаком русской государственности – и себя связали с нею навсегда.
Союзницей москвичей была и Церковь. Митрополитов Петра и Алексия мы уже поминали. Для них борьба зa Москву была борьбой зa Русь. Петр, но преданию, предсказал Москве величие. Но жил во времена безраздельной и могущественной еще Орды. Алексий уже видел проблески. А Сергию довелось благословить нa первое поражение татар.
Преподобный не был никогда политиком, как не был он и «князем церкви». Зa простоту и чистоту ему дана судьба, далекая от политических хитросплетений. Если взглянуть нa его жизнь со стороны касанья государству, чаще всего встретишь Сергия – учителя и ободрителя, миротворца. Икону, что выносят в трудные минуты и идут к ней сами.
Разумеется, не в молодые годы выступал он так. Первое упоминание – 1358 г., при Иване, сыне Калиты. Преподобный путешествует в Ростов, родной свой город, убеждает Константина Ростовского признать над собой власть великого князя. Но через два года Константин выхлопотал себе в Орде грамоту нa самостоятельный удел – и в 1363 г. Сергий вновь идет нa «богомолие к Ростовским чудотворцам» – видимо, вновь убеждает Константина не выступать против великого князя. И это снова удалось ему.
В 1365 г. князь Борис Константинович Суздальский захватил у своего брата Димитрия Нижний Новгород. Димитрий признавал главенство московского князя (Дм. Донского) и пожаловался ему нa брата. Москве никак не могло нравиться, чтобы Борис устраивался в Нижнем самовольно. И распоряжением Алексия Преп. Сергий снова послан миротворцем. Но с Борисом трудно было сладить даже Сергию.
Пришлось действовать строже: он закрыл церкви в Нижнем. Димитрий двинул войско. Борис уступил. Это единственный случай, когда Сергий вынужден был наказать. По тем кровавым временам какое, в сущности, и наказанье?
В этих выступлениях Сергием руководил Алексий. Мы приближаемся к тем действиям общественным святого, которые предприняты по смерти митрополита.
Несколько слов истории. Главным предметом внутрирусской драмы в этот век была борьба Москвы и Твери. Началась она при братьях Юрии и Иване (Калите) Даниловичах, a кончилась при Димитрии, победою Москвы. Княжение Калиты, несмотря нa Тверь, – первое сравнительно покойное. Удaвалось отклонять татар от экзекуций. Приходилось зато раболепствовать перед ними. Политика Алексия и Димитрия впервые попыталась взять иное направление, самозаконное. Для этого надо было сломить Тверь.
Первым открытым выступлением Димитрия в самодержавном духе было возведение «каменного города Москвы», т. е. Кремля (1367 г.). Ясно, делалось это не зря. «Всех князей русских стал приводить под свою волю, a которые не повиновались его воле, – говорит летопись, – нa тех начал посягать».
В это время главным «внутренним» его противником был внук Михаила Тверского, тоже князь Михаил, женатый нa сестре Ольгерда Литовского, последний яркий представитель буйного трагического рода. Дважды водил он под Москву литовцев. Димитрий отсиживался в каменном Кремле. Больше того, Михаилу удалось выхлопотать себе великокняжеский ярлык, но Димитрий уж не так с Ордой считался. Приводил к присяге и владимирцев, и других, не обращал внимания ни нa какие ярлыки. Переломилась психика. Проходил страх, ясным становилось, что Москва есть Русь. Петр и Алексий угадали, Михаил же делал противонациональное. Общественное мнение не зa него.
И когда в 1375 г. Димитрий двинулся нa «узурпатора», его поддерживало все «великорусское сердце»: князья и рати суздальские, нижегородские, ростовские, смоленские и ярославские и др. Он взял Микулин, осадил Тверь, вынудил Михаила к унизительному миру и отказу от всех притязаний.
В Орде между тем выдвинулся Мамай, стал ханом. К поражению Твери спокойно отнестись Мамай не мог – слишком заносчив становился Димитрий. Мамай посылал карательные отряды нa нижегородцев, новосильцев зa их помощь Димитрию. В 1377 г. царевич Арапша разбил суздальско-нижегородскую рать нa реке Пьяне, разграбил Нижний. В следующем – выслал мурзу Бегича против Димитрия. Но Димитрий энергичным маршем зa Оку предупредил его. 11 авг. нa Воже татары в первый раз были разбиты.
Мамай решил вообще покончить с непокорным Димитрием, напомнить «времена батыевщины». Собрал всю волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с генуэзцами, литовским князем Ягелло – летом заложил свой стан в устье реки Воронежа. Поджидал Ягелло.
Время для Димитрия опасное. Митрополит Алексий уже умер. Димитрий действовал нa собственный страх. В Москве вовсе не было митрополита – Михаил (Митяй) уехал к Патриарху.
Здесь и выступает снова Сергий. Т. е. сам он никуда не выступает, a к нему в обитель едет Димитрий зa благословением нa страшный бой.
До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял пред трудным делом: благословения нa кровь. Благословил бы нa войну, даже национальную, Христос? И кто отправился бы зa таким благословением к Франциску? Сергий не особенно ценил печальные дела земные. Самый отказ от митрополии, тягости с непослушными в монастыре – все ясно говорит, как он любил, ценил «чистое деланье», «плотничество духа», аромат стружек духовных в лесах Радонежа. Но не его стихия – крайность. Если нa трагической земле идет трагическое дело, он благословит ту сторону, которую считает правой. Он не зa войну, но раз она случилась – зa народ и зa Россию, православных. Как наставник и утешитель, «Параклет» России, он не может оставаться безучастным.
18 августа Димитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами приехал в Лавру. Вероятно, это было и торжественно, и глубоко серьезно: Русь вправду собралась. Москва, Владимир, Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков с Андреем Ольгердовичем – впервые двинуты такие силы. Тронулись не зря. Все это понимали. Начался молебен. Во время службы прибывали вестники – война и в Лавру шла, – докладывали о движении врага, предупреждали торопиться. Сергий упросил Димитрия остаться к трапезе. Здесь он сказал ему:
– Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном; но многим, без числа, сотрудникам твоим плетутся венки мученические.
После трапезы Преподобный благословил князя и всю свиту, окропил св. водой. Замечательно, что летопись и тут, в минуту будто бы безнадежную, приводит слова Сергия о мире. Преподобный будто пожалел и Русь, и все это прибывшее, должно быть, молодое и блестящее «воинство». Он сказал:
– Тебе, господин, следует заботиться и крепко стоять зa своих подданных, и душу свою зa них положить, и кровь свою пролить, по образу Самого Христа. Но прежде пойди к ним с правдою и покорностью, как следует по твоему положению покоряться ордынскому царю. И Писание учит, что если такие враги хотят от нас чести и славы– дадим им; если хотят золота и серебра – дадим и это; но зa имя Христово, зa веру православную подобает душу положить и кровь пролить. И ты, господин, отдай им и честь, и золото, и серебро, и Бог не попустит им одолеть нас: Он вознесет тебя, видя твое смирение, и низложит их непреклонную гордыню.
Князь отвечал, что уже пробовал, и безуспешно. А теперь поздно.
– Если так, – сказал Сергий, – его ждет гибель. А тебя – помощь, милость, слава Господа, Димитрий опустился нa колени. Сергий снова осенил его крестом.
– Иди, не бойся. Бог тебе поможет.
И, наклонившись, нa ухо ему шепнул: «Ты победишь».
Великий князь «прослезился». Так это или нет, теперь сказать уже трудно, a поверить следует: Димитрий шел действительно нa «смертный бой». Есть величавое, с трагическим оттенком – в том, что помощниками князю Сергий дал двух монахов-схимников: Пересвета и Ослябю. Воинами были они в миру и нa татар пошли без шлемов, панцирей – в образе схимы, с белыми крестами нa монашеской одежде. Очевидно, это придавало войску Димитрия священно-крестоносный облик. Вряд ли двинулись бы рыцари-монахи в мелкую войну из-зa уделов.
20-го Димитрий был уже в Коломне. 26—27-го русские перешли Оку, рязанскою землею наступали к Дону. 6-го сентября его достигли. И заколебались. Ждать ли татар, переправляться ли?
Каков бы ни был Димитрий в иных положениях, здесь, перед Куликовым полем, он как будто ощущал полет свой, все вперед, неудержимо. В эти дни – он гений молодой России. Старшие, опытные воеводы предлагали: здесь повременить. Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский. Димитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь был отрезан, значит, все вперед, победа или смерть.
Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем. И вовремя послал вдогонку князю грамоту: «Иди, господин, иди вперед, Бог и Св. Троица помогут!»
8 сентября 1380 года! Хмурый рассвет, Дон и Непрядва, Куликово поле и дух Слова о полку Игореве. Русь вышла снова в степь, мериться со зверем степи. Как все глубоко напряженно и серьезно! Перед сражением молятся. Читают «ратям» грамоту Преподобного. Над ставкой черный стяг великокняжеский с золотым образом Спасителя. Осенние туманы, медленный рассвет, хладно-серебряный. Роса, утренний холод. Зa Непрядвой не то стоны, не то грохот дальний. Люди умываются, подтягивают у коней подпруги, надевают чистые рубахи и в последний раз оружие свое страгивают. Строятся. Идут нa смерть. Грусть и судьба – и неизбежность. Ясно, что возврата нет.
Единоборство Куликова поля вышло из размеров исторических. Создало легенду. В ней есть и несуразное. Подробности пусть отпадут, но, разумеется, миф лучше чувствует душу события, чем чиновник исторической науки. Можно отвергать известие, что Димитрий отдал мантию великокняжескую Бренку, a сам дрался простым воином, что, раненный, был найден нa опушке леса после тридцативерстного преследования. Вряд ли мы знаем, сколько войска было у Мамая, сколько у Димитрия, но уж конечно, битва-то была особенная и с печатью рока – столкновение миров.
К полудню показались и татары. Димитрий выехал драться лично, «в первом суйме», передовой стычке. Таков обычай. Ранен не был, но доспех помяли. Тут же, по преданию, нa зов татарского богатыря выскакал Пересвет, давно готовый к смерти, и, схватившись с Челибеем, поразив его, сам пал.
Началась общая битва, нa гигантском по тем временам фронте в десять верст. Сергий правильно сказал: «Многим плетутся венки мученические». Их было сплетено немало. Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в церкви. Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы. А в конце сказал: «Мы победили».
С детства навсегда запомнился рассказ о Куликовской битве. Как прорвали «сыроядцы» русский фланг и наши стали отступать, a рядом в роще из засады наблюдали – князь Владимир Серпуховский с воеводою Боброком и запасным корпусом. Как рвался и томился князь, Боброк же сдерживал: «Погоди, пусть ветер повернет нa них». Как все сильней бежали русские и били их татары, но Боброк выдержал, пока враги не обнажили тыл – тогда ударили в него. Тут начался разгром Мамая. У татар не было резервов. Дикари безудержно кинулись нa Европу, и Европа вместе с воодушевлением показалa и древнейше ей известный, с Аннибала, маневр охвата фланга.
Преследованье, вероятно конницей, шло целый день, до реки Красивой Мечи. Предсказанье Сергия исполнилось: Димитрий возвратился в Москву победителем и вновь посетил Преподобного. Служили вновь молебны, но и панихиды. Потери были колоссальны. Церковь не забыла убиенных. С тех пор по всей России служатся особенные панихиды, в «Дмитриевские субботы», около 26 октября, дня св. Димитрия – отголосок той великой грусти, что сопутствовала битве.
Самая победа – грандиозна, и значение ее прежде всего моральное: доказано, что мы, мир европейский, христианский, не рабы, a сила и самостоятельность. Народу, победившему нa Куликовом поле, уже нельзя было остаться данником татарщины.
Но не быстра история. Жизнь поколения – ничто. Ни Преп. Сергий, ни Димитрий не дождались полного торжества России, оно замедлилось нa годы. Они же вновь стали свидетелями ужасов: нагрянул Тохтамыш. Димитрий не успел отбить его, бежал нa север. Кремль был предательски захвачен, все укрывшиеся перебиты, пригороды выжжены, монастыри Симонов, Чудов, Андрониев разграблены. Погибли Боровск, Руза и Можайск, Звенигород. Когда Димитрий, собиравший «рати» в Костроме, вернулся, от Москвы остались лишь развалины. Кремль полон трупов – зa очистку заплатил он 300 руб., по рублю зa 80 трупов.
Сам Преподобный с братией должен был удалиться – «и от Тохтамышева нахождения – бежа во Тферь».
Трагическая неудача стоила России новой дани, Димитрию – вновь путешествий, унижений и низкопоклонства. Татары Тохтамыша не добрались до монастыря Сергия. Он возвратился.
Глубокой осенью 1385 г. пешком идет святой в Рязань, миротворцем к Олегу Рязанскому – давнишнему, упрямому врагу Москвы, союзнику Твери, Мамая и Ольгерда. Олег был крепкий, вероломный, закаленный в трудных временах князь типа тверитян. Вся жизнь его прошла в интригах и походах. Ему случалось бить и москвичей, терпеть и «нахождения» татар. Чтобы спасать своих рязанцев, живших нa пути татарском в глубь России, – унижаться, предавать. Быть может, его старость, после бурной и тяжелой жизни, была нелегка. Как бы то ни было, победил Сергий – старичок из Радонежа, семидесятилетними ногами по грязям и бездорожью русской осени отмеривший верст двести!
Вот рассказ летописи:
«Преподобный игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словесы… беседовал с ним о пользе душевной и о мире, и о любви. Князь же великий Олег преложи свирепство свое нa кротость и утишись, и укротись, и умились вельми душою, устыде бо столь свята мужа, и взял с Великим Князем Дмитрием Иванычем вечный мир и любовь в род и род». Так было и нa самом деле. Чтобы закрепить союз, Олег женил нa дочери Димитрия своего сына.
А в жизни Преподобного это последний выход в область «государства».
Как ободритель и как миротворец, Сергий выступал всегда от Москвы, значит – и России. Подымал свой крест и свой негромкий, но правдивый голос только зa дела правдивые. Меньше всего был он орудием – власти ли церковной или государственной. Бедность, старость, простота и равнодушие к успехам, вечное стоянье «пред лицом Бога», труд, молитва, созерцание делали его так же свободным, как и Феодосия Печерского, не побоявшегося назвать князя Святослава, зa убийство брата, Каином. Св. Сергию не приходилось обличать. Но Радонежского отшельника, отринувшего митрополию, ясно намекавшего Алексию, что уйдет в леса; игумена, приютившего опального Дионисия; открытого противника Митяя; святого, прежде чем благословить Димитрия, советовавшего избежать войны, – можно ли было Сергия заставить сделать что-нибудь такое, что противилось бы «гласу Божию», который шел к нему так невозбранно?
Уж конечно нет.
Князь Святослав раз погрозил Феодосию, что сошлет его. Тот ответил:
– Я этому рад. Для меня это лучшее в жизни. Нагими пришли мы в мир, нагими и выйдем из него.
Жизнь преп. Сергия слагалась и покойней, и ясней. Никто ему не угрожал. Но, если бы пришлось, он нa своем спокойном и немногословном языке нашел бы нужные слова – ответил бы не хуже Феодосия.
Но наступал уже закат. В его судьбе этого не понадобилось.
Вечерний свет
Люди борьбы, политики, войны, как Димитрий, Калита, Олег, нередко к концу жизни ощущают тягость и усталость. Утомляют жалкие дела земли. Страсти расшатывают. Грехи томят. В то время многие князья нa старости и вблизи смерти принимали схиму – крепкий зов к святому, после бурно и греховно проведенной жизни.
Димитрий сгорел рано. Его княженье было трудным и во многом неудачным. Он умирал в момент удачи Тохтамыша – преждевременно надломленный всей ношей исторической. После Куликова поля он сближается теснее с преподобным: в 1385 г. Сергий крестит его сына, в 1389-м, умирая, Димитрий пишет завещание «перед своими отцы, перед игуменом перед Сергием, перед игуменом перед Савостьяном». В этом завещании особенно подчеркивается единовластие – идея, зa которую Димитрий воевал всю жизнь. Он уже считает себя русским государем. Старший сын наследует отцу. Ни о каких уделах и борьбе зa княжеский стол больше нет и речи. Порядок этот и установился нa столетия, создав великую монархию.
Димитрий отошел в тяжелую минуту. В памяти Истории, однако, позабылись промахи его и неудачи, он остался лишь героем Куликова поля, молодым и смелым, первым повалившим зверя степи.
Судьба Сергия, конечно, уж иная. В годы Куликовской битвы и дальнейшие он признанный облик благочестия и простоты, отшельник и учитель, заслуживший высший свет. Время искушений и борьбы – далеко. Он – живая схима. Позади крест деятельный, он уже нa высоте креста созерцательного, высшей ступени святости, одухотворения, различаемой в аскетике. В отличие от людей мирокипучей деятельности здесь нет усталости, разуверений, горечи. Святой почти уж зa пределами. Настолько просветлен, пронизан духом, еще живой преображен, что уже выше человека.
Видения и чудеса Сергия относятся к этой, второй половине жизни. А нa закате удостоился он и особенно высоких откровений.
Из них есть связанные с Литургией. Так, пр. Сергий должен был благословить ученика своего Исаакия нa «подвиг молчания». Подвиг этот очень труден. Преподобный сказал Исаакию:
– Стань завтра после Литургии у северных врат, я благословлю тебя.
В условленное время Исаакий встретил его там. Сергий перекрестил его с особой, напряженнейшей молитвой. И тогда увидел Исаакий, что из руки Преподобного «исходит пламень и объемлет его». Он стал молчальником. Когда хотелось говорить, молитва Сергия и пламень руки ограждали его. Но и об этом случае, и о другом ему дано было сказать.
Однажды Литургию служили Сергий, брат его Стефан и племянник Феодор. Вдруг Исаакий видит в алтаре четвертого, в блистающих одеждах. Нa малом выходе, с Евангелием, четвертый шел зa Сергием и так сиял, что Исаакий должен был прикрыть глаза рукой. Он спрашивает у Макария, соседа – кто бы это мог быть? Макарий тоже видел священнослужителя, ответил: вероятно, кто-нибудь из приехавших с князем Владимиром Андреевичем. Князь находился тут же. Но ответил – никого не привозил. Макарий с Исаакием после службы обратились к Сергию, сказали, что, наверно, ангел ему сослужил. Сергий сначалa уклонялся. Но затем, когда они настаивали, то признал:
– Если уж Господь открыл вам эту тайну, то могу ли я скрыть ее? Тот, кого вы видели, действительно ангел. И не теперь только, a и всегда, когда я совершаю Литургию, мне, недостойному, бывает такое посещение. Но вы храните это в тайне, пока я жив.
Свет и огонь! Легкий небесный пламень как бы родствен, дружен теперь с преподобным. «Друг мой свет», «друг мой пламень» – мог сказать пронизанный духовностью, наполовину вышедший из мира Сергий. И не удивит рассказ экклезиарха Симона, видевшего, как огонь небесный сошел нa Св. Дары при освящении их Сергием, «озаряя алтарь, обвиваясь около св. трапезы и окружая священнодействующего Сергия».
В эти годы светлого своего вечера Пр. Сергий имел еще одно «виденье, непостижное уму».
Зa всю почти восьмидесятилетнюю жизнь его нигде, ни нa одном горизонте не видна женщина. Юношей отошел он от главнейшей «прелести» мира. В ранних искушениях нa Маковице женщина не упомянута. Все «житие» нигде женщиной не пересечено – даже настоятельницей монастыря соседнего, поклонницею и «женою мироносицей», как св. Клара в жизненном пути Франциска. В прохладных и суровых лесах Радонежа позабыто само имя женщины. Приходят зa благословением и укреплением князья, игумены, епископы, митрополиты и крестьяне. Сергий примиряет споры, творит чудеса. Но ни одной княгини, ни одной монахини, крестьянки. Как будто Сергий-плотник – лишь мужской святой, прохладный для экстаза женщины и женщин будто вовсе не видавший. Конечно, это только впечатление. Но – остается.
Однако же в его духовной жизни культ Жены существовал. Культ Богоматери, Мадонны – в этом смысле Пр. Сергий был типическим средневековым человеком в русском облике. Глубокой ночью ежедневно в келии он пел aкафист и молился Богородице. В закате земной жизни, нa призыв стремлений многолетних Непорочная, по житию, сошла к нему.
Посещение произошло рождественским постом, в ночь с пятницы нa субботу – при колебании в годах: между 1379–1384.
Преподобный, как обычно, пел в келии aкафист и молил Св. Деву зa обитель. Кончив, сел приотдохнуть. Вдруг он сказал келейнику Михею:
– Ободрись. Сейчас будет чудесное. И услышал голос:
– Пречистая грядет.
Преподобный встал и вышел в сени. В ослепительном свете перед ним явилась Богоматерь с aп. Петром и евангелистом Иоанном. В ужасе он пал нa землю. Но Св. Дева ободрила его, сказалa, что всегда будет заступницей обители, пусть не тревожится он. Его молитвы до Нее дошли.
И удалилась.
Сергий встал, возвратился в келию. Михей тоже лежал, закрыв глаза одеждой. Он не видел Богородицы, лишь свет и ужас. Преподобный отправил его зa Макарием и Исаакием. Когда они явились, рассказал им о видении. И все стали нa «молебное пение» Пресвятой Деве, a Сергий и остаток ночи уж не спал – размышлял и вновь переживал пережитое. Нa высоте, достигнутой им, Преподобный долго жить не мог. Зa полгода до смерти он уж знал о ней. Собрал учеников и управление обителью передал Никону. А сам «начал безмолвствовать».
В сентябре тяжко заболел. Еще раз он собрал всю братию. Произнес ей наставление – об иноческой жизни, мире и любви, о «страннолюбии» – с детства особенно ценимой добродетели – и, причастившись св. Тайн, 25-го отошел.
Он и в последнюю минуту прежний Сергий: завещал похоронить себя не в церкви, a нa общем кладбище, среди простых. Но эта воля его не была исполнена. Митрополит Киприан разрешил, по просьбе братии, положить останки Преподобного именно в церкви.
Дело и облик
Сергий пришел нa свою Маковицу скромным и безвестным юношей Варфоломеем, a ушел прославленнейшим старцем. До Преподобного нa Маковице был лес, вблизи – источник дa медведи жили в дебрях по соседству. А когда он умер, место резко выделялось из лесов и из России. Нa Маковице стоял монастырь – Троице-Сергиева лавра, одна из четырех лавр[14] нашей родины. Вокруг расчистились леса, поля явились, ржи, овсы, деревни. Еще при Сергии глухой пригорок в лесах Радонежа стал светло-притягательным для тысяч. Через тридцать лет по смерти были открыты мощи Сергия – и нa поклоненье им ходили богомольцы нескольких столетий – от царей до баб в лаптях, проложивших тропки торные по большаку к Сергиеву Посаду. И получилось так: кто меньше всех «вкусил меда» от жизни – более всех дал его другим – но в иной области.
Присмотримся немного, что же он оставил.
Прежде всего – монастырь. Первый крупнейший и прекрасный монастырь северной России.
Нa юге, в Киеве, эту задачу выполнили Антоний и Феодосий. Киево-Печерская лавра, несомненно, прародительница всех русских монастырей. Но Киев и киевская культура слишком эксцентричны для России, слишком местное. Особенно в татарщине это заметно: Киев от нее, в сущности, так и не оправился, представлять великую державу никогда не смог, не нес и тяжести собирания земли – все это отдал он Москве. Она его затмила и как государство, и святыней. Уже в XIII веке митрополитам всероссийским нельзя было оставаться в Киеве. Он слишком надломился. Десятинная церковь в развалинах, Киево-Печерская лавра пустынна, от Св. Софии – одни стены. И митрополиты Кирилл и Максим, считаясь киевскими, в Киеве не жили. С Петром кафедра митрополичья окончательно перемещается нa север – во Владимир и затем – в Москву.
Так что весь ход сложения русской земли вел к тому, чтобы нa севере возник и новый центр духовного просветительства – в то время это были лишь монастыри. Митрополичья кафедра в Москве – узел правления. Сергиева лавра под Москвой – узел духовного излучения, питательный источник для всего рождающегося государства. В этом – судьба самого Сергия и его Лавры. Он по природе вовсе не был ведь политиком – ни по церковной, ни по государственной части. Но фатально – вся жизнь и его и Лавры переплетена с судьбой России того времени. Во всех страданиях и радостях ее – и он участник. Не имея власти даже и церковной, неизменно словом, обликом, молитвой он поддерживает Русь, государство. Это получается свободно: Сергий – человек эпохи, выразитель времени – существо предопределенное.
Сергий основал не только свой монастырь и не из него одного действовал. Если келии Лавры он рубил собственноручно, если сам построил Благовещенский монастырь нa Киржаче, то бесчисленны обители, возникшие по его благословению, основанные его учениками – и проникнутые духом его.
Авраамий Галицкий, один из ранних его постриженцев, удаляется в глухой Галичский край и живет пустыннически нa горе у Чудского озера, близ найденной им чудотворной иконы «Умиление сердец», поставленной в часовне. Слава иконы идет по окрестности, и князь призывает Авраамия в Галич. Пустынник в лодке везет образ Богоматери через озеро! По преданию, и сейчас видна особая струя нa воде – след от проплывшей лодки. Авраамий основал в Галиче монастырь Успения Богородицы; потом отошел верст нa тридцать и основал обитель «Положение пояса Богородицы». Как только вокруг собирались ученики, он двигался дальше. Так учредил нa реке Воче монастырь Собора Богоматери и Покрова Богородицы – верный рыцарь Св. Девы.
Прекрасно названа одна обитель: Пешношская, зa рекой Яхромой. «Пустыннолюбивый» Мефодий для постройки церкви в ней таскал нa себе бревна через речку вброд, пеший носил, помнил, как учитель Сергий строил Лавру. «Тихий и кроткий» Андроник заложил монастырь нa Яузе – в те времена под Москвой, a Москва нынешняя далеко обогнала смиренного Андроника! Но и сейчас с холма Яузы смотрит нa далекий Кремль белый монастырь, вскормивший знаменитого Рублева, чей образ Троицы в Лаврском соборе выше высшего. Симонов монастырь зa Москвой-рекой – дело рук преп. Феодора, племянника и любимого ученика Преподобного. И куда бы из Москвы в окрестности ни двинуться – всюду следы Сергия: чудеснейший Звенигород с вековым бором, нa круче у Москвы-реки – преп. Савва Сторожевский создал монастырь Рождества Богородицы. В Серпухове, пред просторами и голубыми далями Оки, Высоцкий монастырь белеет нa песках, нa фоне сосен – Афанасий учредил его, тот ученик Преподобного, кто был усерднейшим «списателем». Голутвинский монастырь в Коломне – преп. Григорий. Все Подмосковье, и нa север, и нa юг, пронизали монастыри Сергия. Южный предел – Боровенский монастырь в Калужской губернии. Северный – Ферапонтов и Кирилло-Белозерский. Трудно перечислить все, и как прекрасны эти древние, густые имена основателей: Павел Обнорский, Пахомий Нерехотский, Афанасий Железный Посох, Сергий Нуромский – все пионеры дела Сергиева, в дальние и темные углы несшие свет. Это они трудятся и рубят «церквицы» и келии, устраивают общежития по образцу Сергиеву, просвещают полудикарей, закладывают нa культуре духа и основу государственности. Ибо ведь они – колонизаторы. Вокруг них возникает жизнь, при них светлей, прочней духовно чувствуют себя и поселенцы. Монастыри «сергиевские» – их считают до сорока, a от себя они произвели еще около пятидесяти – в огромном большинстве основаны в местах пустых и диких, в дебрях. Не они пристроены к преуспевавшей жизни – жизнь от них родится в лесных краях, глухоозерных. Для новой жизни эти монастыри – защита и опора, истина и высший суд. Само хозяйство иногда ими определяется. Впоследствии у Сергиевой лавры были десятки тысяч десятин земли, вотчины, села, варницы и мельницы, только своей монеты не было. В кассах Лавры государи в трудные минуты берут в долг, келари – министры сельского хозяйства и финансов целых областей. Нa севере же в некоторых местах монастыри – уж просто маленькие государства.
Развитие монастырей по этой линии шло уже после смерти Преподобного. При жизни он был лишь в общении духовном со своими вскормленниками, такими же нищими, как он. Так, посещал Мефодия Пешношского, которому советовал построить церковь в более сухом месте, Сергия Нуромского, провожавшего его нa две трети пути к Лавре. Но большинство, конечно, посещало самого Сергия. К зрелым и старческим годам он вырос вообще в учителя страны. Мы видим у него не только собственных учеников-игуменов, являющихся из новоустроенных монастырей, но и князей, и воевод, бояр, купцов, священников, крестьян, кого угодно. Он, разумеется, тот тип «учительного старца», который возник в Византии и оттуда перешел к нам.
Как «институт» старчество во времена Сергия не существовало. Его идея очень приходилась по душе народу и высоко соответствовала православию. Фактически оно укрепилось много позже – с XVIII века и Паисия Величковского идет его традиция непрерываемая. Для жителя средней России навсегда врезались образы старцев Оптиной пустыни, вблизи Козельска – Амвросиев, Нектариев, тех скромных и глубоких мудрецов, гениальный образ которых навсегда написан Достоевским (старец Зосима). Сергий – их далекий, не формальный, но духовный прародитель. В темные времена, когда Россия так подавлена татарщиной, как будто и просвета нет, когда люди особенно нуждаются и в ободрении и в освежении, как горожанину замученному нужен озон леса, паломничество к Сергию приобретает всероссийски укрепляющий смысл. Сергий сам – живительный озон, по которому тосковали и которым утолялись. Он давал ощущение истины, истина же всегда мужественна, всегда настраивает положительно, нa дело, жизнь, служение и борьбу. Исторически Сергий воспитывал людей, свободных духом, не рабов, склонявшихся пред ханом. Ханы величайше ошибались, покровительствуя духовенству русскому, щадя монастыри. Сильнейшее – ибо духовное – оружие против них готовили «смиренные» святые типа Сергия, ибо готовили и верующего, и мужественного человека. Он победил впоследствии нa Куликовом поле. Душевное воздействие святого сыграло роль в истории России, как сыграло свою роль само распространение монастырей.
Итак, юноша Варфоломей, удалившись в леса нa «Маковицу», оказался создателем монастыря, затем монастырей, затем вообще монашества в огромнейшей стране. Меньше всего думал об общественности, уходя в пустыню и рубя собственноручно «церквицу», a оказался и учителем, и миротворцем, ободрителен князей и судьей совести: ведь к совести рязанского Олега обращался, как и к совести скупого, завладевшего сиротской «свинкой», не хотевшего ее вернуть. Участник и политики и малых дел житейских, исцелитель, чудотворец, «старичок» обители, принятый крестьянином зa последнего работника, неутомимый труженик и визионер, зa много верст приветствующий Стефана Пермского, друг легкого небесного огня и радонежского медведя, Преподобный Сергий вышел, во влиянии своем нa мир, из рамок исторического. Сделав свое дело в жизни, он остался обликом. Ушли князья, татары и монахи, осквернены мощи, a облик жив и так же светит, учит и ведет.
Мы Сергия видели задумчивым мальчиком, тихопослушным; юным отшельником, и игуменом, и знаменитым Сергием-старцем. Видели, как спокойно, неторопливо и без порывов восходил мальчик к святому. Видели в обыденности, зa работой и нa молитве, и нa распутиях исторических, нa рубежах двух эпох. Из тьмы времен, из отжившего языка летописей иногда доносились слова его – может быть, и неточные. Мы хотели бы услышать и голос его. Это заказано, как не дано нам проникнуть в свет, легкость, огонь его духа.
Но из всего – и отрывочного, и случайного, неточного – чистотой, простотой, ароматнейшей стружкой веет от Преподобного. Сергий – благоуханнейшее дитя Севера. Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел создали единственный образ русского святого. Сергий глубочайше русский, глубочайше православный. В нем есть смолистость Севера России, чистый, крепкий и здоровый ее тип. Если считать – a это очень принято, – что «русское» гримаса, истерия и юродство, «достоевщина», то Сергий – явное опровержение. В народе, якобы лишь призванном к «ниспровержениям» и разинской разнузданности, к моральному кликушеству и эпилепсии, Сергий как раз пример, любимейший самим народом, – ясности, света прозрачного и ровного. Он, разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: дa, велика Россия. Дa, святая сила ей дана. Дa, рядом с силой, истиной мы можем жить. В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим – немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере.
Афон Путевой очерк
Предисловие
Я провел на Афоне семнадцать незабываемых дней. Живя в монастырях, странствуя по полуострову на муле, пешком, плывя вдоль берегов его на лодке, читая о нем книги, я старался все, что мог, вобрать. Ученого, философского или богословского в моем писании нет. Я был на Афоне православным человеком и русским художником. И только.
Афон предстал мне в своем вековом и благосклонном величии. Тысячелетнее монашеское царство! Напрасно думают, что оно сурово, даже грозно. Афон – сила, и сила охранительная, смысл его есть «пребывание», а не движение, Афон созерцает, а не кипит и рвется, – это верно. Но он полон христианского благоухания, то есть милости, а не закона, любви, а не угрозы. Афон не мрачен, он светел, ибо олюблен, одухотворен.
Афон очень уединен и мало занят внешним. Это как бы остров молитвы. Место непрерывного истока благоволения. Афонцы мало знают о пестрых делах «мира» и судят о них не всегда удачно. Но они не устают молиться о мире, как молятся и о себе. Они сравнительно немного занимаются наукой, философией, богословием. Зато непрерывно служат Богу – в церкви, в келии. Это придает им особый оттенок. «Мир» справедливо полагают они грешным, но я не замечал у них гордыни или высокомерия к нему. Напротив, сочувствие, желание оказать помощь. Простота и доброта, а не сумрачное отчуждение, – вот стиль афонский, и недаром тысячи паломников («по клон ни ков») перебывали в этих приветливых местах.
В этой небольшой книжке я пытаюсь дать ощущение Афона, как я его видел, слышал, вдыхал. Повторяю, сама тема огромна. Я же ставлю себе весьма ограниченную задачу.
Париж, 1 февраля 1928 г.Встреча
…Ранняя заря, сырое дымное утро. Туман слегка редеющий, ветер все усиливающийся. Начинается качка. Над холодноватым блеском волн вдруг взлетает веер брызг, нос «Керкиры» опускается, и меня обдает соленой влагой. Невольно опускаю голову и, когда подымаю ее, вдруг вижу справа, далеко в море, еле выступающую в бледно-сиреневом дыму утра од инокую гору. Отсюда она двузубчата, столь высока и столь под цвет облакам и туманам, так неожиданна, крута и величественна… – да правда ли гора? Может, такой странной формы облако?
Нет, не облако. Нет, гора, а облака цепляются за верхний ее двузубец, и в этом есть что-то синайское, тут, действительно, престол неба.
Весь переезд море было покойно, теперь качка усиливается. Чаще летят в лицо брызги, но все стою, все смотрю, вот он, наконец, дальний, загадочный Афон, Святая Гора – я плыву к ней вторую неделю. Чем ближе подходим, тем яростнее ветер. Теперь видны уже верхи холмов всего полуострова афонского, все забиты клубящимися тучами, холод и влага летят оттуда. Неприветливо меня встречает Афон. Что-то грозное есть в этой горе, обрывом срывающейся в море, ветхозаветно-грандиозное. Волны кипят у ея оконечности. Нашу «Керкиру» начинает швырять. Точно бы кто-то, трубящий в огромный рог, отнимая его на минуту, гремит: «Хочешь видеть адамантовую скалу? Вот она! Но велик и страшен Бог!»
Когда подошли совсем близко, стало несколько тише. Вдоль берега мы подымались к пристани Дафни, проходя мимо ущелий и холмов, мимо монастырей, то гнездящихся уютно, в складках местности, то, как Симонопетр[15], воздымающихся на головокружительной скале, прямо сливаясь с нею, увенчивая.
– Как будем приставать в такую бурю? Ну, да впрочем, здесь уж все, как полагается.
Это значило приблизительно то, что мудрить нечего, особенный мир, все равно своей волей и соображениями ничего не прибавишь.
И несмотря на седые полосы туманов, дождей в горах, на холодный ветер, волны, мы на Дафни благополучно спустились в лодки, танцевавшие вокруг, и через несколько минут были на пристани.
Еще с борта «Керкиры» видел я подходившую от нашего монастыря лодку (ясно выступали влево на берегу колокольни и главы, кресты крупнейшей русской обители на Афоне – монастыря св.
Пантелеймона). В ней стоя греб худощавый и высокий монах в шапочке. Подойдя к Дафни, ловко и быстро перебежал на корму, закинул небольшой якорь. Что-то веселое и непринужденное было в его движениях.
– Из русского монастыря? – спросил я его.
– Да, да, так точно.
Он поднял на меня худую и приятно-загорелую голову нашего «калужского» вида, со светло-голубыми и живыми глазами, ярко выступавшими на более темном лице. Все оно, как и глаза, было полно ветра, веселости.
– К нам в монастырь?
– К вам.
– А святое ваше имя? Я назвал.
– Так, так, хорошо, очень хорошо… – он быстро и ласково сказал это таким тоном, как будто особенно хорошо, что у меня такое имя. – Да, значит, именинники на Бориса и Глеба?
– Только что вам пока на Карею надо, документики выправить, оно досадно, что не прямо к нам, а уж так надо, иначе греки не дозволяют. Вещи ваши я в монастырь довезу.
И о. Петр (так его звали) быстрой и легкой своей походкой повел меня в маленькое греческое кафе на пристани и подрядил проводника с мулом.
– До Карей и доберетесь. Ничего, у нас и митрополит Антоний[16] на такой мулашке ездил.
Через полчаса кривоногий грек в обуви, вроде мокасинов, подвел к каменной приступочке, нарочно для этого сделанной, вялого мула. Другой был у него в поводу. Мы тронулись по горной тропе – медленно и молчаливо.
Taciti, soli e senza compagnia, N’andavam Tun dinanzi e I’altro dopo, Come frati minor vanno per via. (Dante) [17]А о. Петр, так же прямо стоя в лодке, так же бодро, весело греб к русскому монастырю св. Пантелеймона.
* * *
«Все необычайно в этом новом мире» – сразу ощутил я, сидя верхом на скромном животном, осторожно перебиравшем ногами с маленькими копытцами.
Тропа вилась бесконечно, и все больше в гору. Вокруг дикие кустарники, каменные дубки, цветущий желтый дрок – я срывал иногда, с седла, его милые цветы. Так же, как и спускавшись в плясавшую лодку, чувствовал себя в чужой власти: вот бредет мул по крутому обрыву и поскользнется своим подкованным копытцем, или нет, его воля. Сломаешь себе ногу, или будешь цел, тоже неведомо. Как неведомо и то, нанесет ли этот холодно-облачный ветер, «гурья» («борей» в русской переделке!) – нанесет ли он ливень прежде, чем доберемся до Карей, или же позже. Но чувствуешь – ничего, все устроится, «образуется».
Грек срезал мне длинный прут и, подавая, сказал:
– Гоняй мула. Бей, бей.
Я пребыл равнодушным. Что там «гонять»? Он сам знает дорогу. Мы поднялись мимо древнего греческого монастыря Ксиропотама[18], где все было тихо и молчаливы кипарисы, тополь у его входа, да ярки маски. Дорога стала шире, мы вступили в каштановые леса. Справа глубокая долина, в ее ущелье жемчужной нитью висит водопад – беззвучный. По дальнему взгорью темнеют кедры и сосны. За ними, в облаках и туманах, – сама гора Афон, сейчас почти невидимая – закутана влажно-суровыми пеленами. Ветер свистит, гудит в каштанах. Мелкая влага сеется. Хорошо, что мы в лесу! На чистом месте сдуло бы. Кутаюсь в плед. Мул ступает своими копытцами по священным камням Земного Удела Богоматери. Сердце крепко и радостно. На верхах закипает буря.
* * *
Мы находимся в стране, конечно, не совсем обыкновенной.
От полуострова Халкидики, во Фракии, выступили в море три ответвления – Кассандра, Лонгос и вот наш Афон, самый восточный из них. Это полоса суши длиною около восьмидесяти верст, шириною в двадцать-тридцать. На южном своем конце она обрывается в море островерхою горой, собственно «Афоном». По полуострову идет холмистый кряж, как хребет живого существа, весь заросший лесами; едва пролегают там тропки. Двадцать монастырей – греческих, русских, болгарских, сербских, румынских – разбросаны по этим склонам, много скитов, еще больше «келии» и «калив» (в последних живут одиночки-пустынники). Кроме монахов, никого нет на полуострове – ни села, ни фермы, и так уже более тысячи лет! С седьмого века стали селиться здесь иноки (по окончании великого переселения народов). Византийские императоры им покровительствовали, давали «хризовулы»[19] с привилегиями, угодьями, имениями («метохи») (В настоящее время монастырских имений, «метохов», не существует. Их отняло греческое правительство – не только у греческих монастырей, но и у русского. – Прим. Б. З.)
Вторую тысячу лет не знает эта земля никого, кроме монахов[20]. Около тысячи лет, постановлением монашеского Протата, не ступала на нее нога женщины. (Не только женщинам запрещен доступ на Афон, но и животным женского пола.) Горы, ветры, леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг… и Господь надо всем, – вот это и есть Афон.
* * *
Одолев хребет, стали спускаться. Внизу, сквозь редеющий лес завиднелись крыши и колокольни – монашеский городок Карея, место главного управления Афоном (Карея – центр управления полуостровом. У каждого монастыря есть здесь свой «конак» или подворье. Монастыри посылают в Карею своих представителей, «антипросопов». В антипросопы избираются наиболее просвещенные и образованные монахи (от русского монастыря – непременно хорошо владеющие греческим языком). В очень отдаленные времена управление Афоном было монархическим, правил Прот (Первый), старец-игумен всей св. Горы, при нем находился синод почетных старцев (совещательный орган). До падения Византии Проты рукополагались константинопольским патриархом. С начала XVII века управление стало коллегиальным, появился Протат, или Кинот, в их теперешнем виде. Антипросопы, составляющие его, считаются между собою равными. Председательствует представитель Лавры св. Афанасий – самой древней и могущественной обители. Вряд ли, однако, я ошибусь, если скажу, что хотя в идее антипросопы равны, на практике Афоном правит группа могущественных греческих монастырей – Лавра, Ватопед, Ивер. Всего на Афоне двадцать монастырей, посылающих в Протат представителей (скиты и келии не посылают). По влиятельности и старшинству монастыри располагаются следующим образом: Лавра, Ватопед, Ивер, Хиландарь (сербский), Дионисиат, Кутлумуш, Пантократор, Ксиропотам, Зограф (болгарский), Дохиар, Каракалл, Филофей, Симонопетр, Св. Павла, Ставроникита, Ксеноф, Григориат, Есфигмен, Руссик (наш монастырь св. Пантелеймона), Костамонит. Таким образом, в иерархии монастырей русский монастырь св. Пантелеймона, один из самых многолюдных и вообще больших, занимает 19-е место! Каждые пять монастырей выбирают по одному эпистату, так что существует еще четыре эпистата, один из них «протоэпистат» или назир. (Эпистаты – как бы исполнительный и финансовый комитет Афона. – Прим. Б.З.) За ним едва видно сквозь полудождь, полутуман пенно-кипучее море, у берега еще синее, дальше сливающееся с тяжелыми пеленами туч. Грек указал мне русский «конак» (подворье Пантелеймонова монастыря) и ушел со своими мулами.
Через четверть часа я уже был в большом старомодном доме, в нижнем этаже которого, по сторонам широкого коридора, две-три кельи, кухня и параклис (небольшая домовая церковь), а во втором, куда ведет широкая лестница, – покои для приема посетителей. Да, вовремя послано мне пристанище! Туман с моря надвинулся окончательно. Полил сплошной, спокойный, многочасовый дождь. Но что мне до него теперь? У меня целые апартаменты: большая зала со стоячими часами, циферблат и маятник которых сплошь в разноцветных инкрустациях. Старинные креста, портреты царей и архиереев, огромная стеклянная галерея с диванами и выступом вперед, где стоит стол с букетом роз из нижележащего сада, еще залы с диванами и митрополитами, собственно моя комната с тремя кроватями, всюду тишина, полуобитаемость. Старинный сладковатый запах, хорошо натертые полы, чистые половички… – тот образ давней, навсегда ушедшей Руси, что отводит к детству, быту и провинции.
О. Мина, седоватый южанин с простонародным лицом, умными глазами, приносит завтрак, первая трапеза на афонской земле: рисовый суп и рыба баккалара с фасолью, стакан красного домодельного вина.
После завтрака идем по делам моего оформления: сначала к греческому офицеру – «астиному», а затем в главное монашеское управление полуострова – Протат.
Никогда я не видал города, подобного Карее, никогда, конечно, не увижу. Мы шли узенькими, извилистыми улицами мимо иногда очень живописных домов, нередко голубых (любовь Востока), с выступающими балконами, увитыми виноградом, иногда под защитой (от дождя) галереи. Вот лавка, другая. Можно купить монашеский подрясник, икону, резную ложку, разные вообще вещи. Дверь открыта. И войти не возбраняется. Но никого в лавке нет – как и на улице, как, кажется, вообще в городе. Что это, неразрушенная Помпея? Нет, жители все же есть. Их только очень мало: монахи да несколько греческих купцов. Они гнездятся в глубине домов. Можно и лавочника получить, надо лишь пройти в переулок, а там направо, постучать в дверь, и он придет продать вам цветную открытку или афонские четки. Но не встретишь в столице Афона женщины. Город одних мужчин, единственный в мире.
Через несколько минут о. Мина ввел меня на какой-то двор, и мы поднялись на крылечко. На стеклянной галерейке два рослых сардара[21] в белых юбках, удивительных туфлях с помпонами на носках и в темных шапочках варили кофе. Вид у них, особенно у седого, очень красивого, румяного, был очень важный и почти священнодейственный. Я подал письмо высокопреосвященного Хризостома, митрополита Афинского.
Сардар величественно его прочел и ушел куда-то. Мы в приемной «Священной Эпистасии», или Протата Афонского. Протат – учреждение очень древнее. Оно пережило турок и действует при теперешнем греческом правительстве – собрание представителей монастырей, своеобразная дума монашеской республики. По древней своей славе монастыри Афона ставропигиальны, то есть подчинены не местной епархии, а прямо Вселенскому Патриарху. Фактически же управляются вот этим Протатом.
Присутствие еще не открывалось. Один за другим подымались со двора по лесенке и проходили через нашу галерейку важные и полные греческие монахи – черные, курчавые, с небольшой, тугой, завязанной узлом косицей на затылке. Они раскланивались приветливо и слегка покровительственно. Когда все оказались в сборе, один из них, бывший в России и говорящий по-русски, вышел к нам и попросил меня в Протат.
Мы вошли в большую комнату с диванами по стенам. На диванах заседали эпистаты. Прямо против входа у стены резное кресло (мне показалось даже – на возвышении) вроде трона, и на нем «первоприсутствующий», председатель Эпистасии. Меня усадили на диван. Узнав, что я не говорю по-гречески, председатель стал задавать вопросы через эпистата, введшего меня. Я отвечал, а больше рассматривал окружающее. Разговор шел в очень любезном тоне, расспросы касались России, меня, моей семьи, профессии и т. п. При каждом моем ответе «царь» (как я его про себя назвал) вопросительно оборачивался к переводчику, так что я каждый раз видел его смоляно-черную косичку, и, выслушав ответ, кивал мне благосклонно-покровительственно, говорил:
– Калла, калла! (Отлично, да!) – с таким видом, что заранее ему известен был мой ответ и заранее он все понял и одобрил.
В разгаре этой дружественно-элементарно-самоочевидной беседы красавец-сардар поднес мне на огромном блюде угощение: чашечку кофе, рюмку «раки»[22], вазочку варенья (глико), стакан ледяной воды. Я не знал, как обойтись с вареньем, чуть было не забрал всего. Сосед мой добродушно улыбнулся, объяснил, что надо взять ложечку и облизнуть, а ложку назад в общее варенье – оно поедет далее по эпистатам. Было слегка смешно, слегка неловко, главное же, ни на что не похоже, разве на какой-то сон. С первой минуты показалось нечто среднее между Советом десяти в Венеции[23] и Карфагенским сенатом[24] – в христианской транскрипции. Так и не знаю до сих пор, с чем сравнить в точности, но косицы и рясы, древние иконы по стенам, литографии, пряность глико, раки, сладостность языка, мягкость диванов, медлительная лень движений – все слилось в дальнюю, завековую экзотику.
Средневековый секретарь, с пером за ухом, с острым, похожим на Гоголя профилем, в это время строчил бумагу – мой новый «паспорт». Окончив, стал обходить эпистатов. Они вынимали из недр карманов под рясами кусочки металла и давали ему. Он собрал, возвратился к месту, свинтил кольцом все эти секторы и приложил к бумаге торжественную и прекрасную печать – Дева Мария с Младенцем – знак того, что все монастыри св. Афонской горы дают мне покровительство и оказывают гостеприимство.
Председатель прочел, кивнул, сказал свое «кала» и любезно подал мне. Оставалось не менее любезно благодарить.
Под вечер я шел пешком к Андреевскому скиту – совсем недалеко от Кареи. Там должен был ночевать. Дождь перестал. Туман стоял непроходимо. Меня вел из Карей скромный монашек «сиромаха» (бедняк и странник). Я не запомни его имени. Даже и внешность не удержалась. Один из тех безвестных и смиренных, каких много я встречал потом на Афоне, не имеющих куда преклонить главы, иногда всю жизнь проводящих в странничестве, иногда оседающих где-нибудь при скитах и келиях, на тяжелой работе и полуголодной жизни. Иногда живут они и совсем пустыннически в небольших каливах. Разные среди них бывают типы – от бродяжки до подвижника, как древние анахореты славящего в тишине Бога. Иные, на самом Афоне, полагают, что среди таких-то вот, в безвестности и внешнем бесславии, и живет слава Афона.
Я не знаю, каков был мой сопутник. Он куда-то шел. Его подцепил на улице Кареи о. Мина. Oн смиренно ждал меня в прихожей конака, потом в тумане молчаливо вел, и у врат белокаменной Андреевского скита, низко мне поклонившись так же пропал в тумане, как вынырнул из него в Карее. Я же остался у ворот монастыря, подобие тому флорентийскому литератору[25], о котором говорит легенда, что пришел он раз, в изгнании на заходе солнца со свитком первых песен «Ада» к монастырскому привратнику, постучал в дверь и на вопрос «чего надобно?» отвечал: мира.
Андреевский скит
Основной и главнейший вид монашеской жизни на Афоне – монастыри (общежительные и особножитные). Они стоят на собственной земле, принимают участие в управлении Афоном, посылая своих представителей в Протат. Меньшая, чем монастырь, община, возникшая на земле какого-либо монастыря и не имеющая представительства, называется скитом.
Андреевский скит[26] по количеству братии и по обширности (его Собор, новой стройки, если не ошибаюсь, самый большой на Афоне) – вполне мог бы быть назван монастырем.
Белокаменный храм, белый туман, стоявший на скитском дворе, окруженном четырехугольником тоже белевших зданий, белый и пышный жасмин, отягченный каплями влаги, – все слилось для меня в главное ощущение этого места: тишины, некой загадочности и белизны. Пройдя глубокие, как бы крепостные ворота, пересекли двор, сразу очутился я в Соборе на вечерне. Сразу могучая внутренность храма, золото иконостаса, величие колонн и сводов, немногочисленные монахи и суровая прямота стасидий (высокие, узкие кресла с подлокотниками, где стоят монахи) – все взглянуло взором загадочного мира.
Когда служба кончилась, высокий, очень худой и нестарый монах с игуменским посохом подошел ко мне, приветливо глядя карими, несколько чахоточными глазами, спросил, кто я и с какими целями. А затем, мягко улыбнувшись, повел в гостиницу, – как говорят афонцы, – на «фондарик» (искажение греческого слова «архондарик»). Он слегка горбился, на высоте впалой груди опирался на свой жезл, был так прост и неторжествен, что только в гостинице я сообразил, что это и есть игумен. Он сдал меня веселому и чрезвычайно словоохотливому «фондаричному», осмотрел мою комнату, распорядился, чтобы меня накормили и вообще все устроили и, скромно поклонившись, ушел.
…Смеркается. Длинный, прохладный коридор пуст, совсем темен. Фондаричный благодушно угощает меня ужином в столовой, бесконечно рассказывает певучим, несколько женственным голосом, и небольшие его глазки на заросшем черною бородою лице слегка даже тают, влажнеют…
* * *
В девять я лег. В полночь, как было условлено, гостинник постучал в дверь. Я не спал. Лежал в глубочайшей тишине монастыря на постели своей комнаты, не раздеваясь, окруженный морем черноты и беззвучия, по временам переворачиваясь на ложе немягком, полумонашеском. Было такое чувство, что от обычной своей жизни, близких и дома отделен вечностью. Мы также условились, что у выхода будет оставлена лампочка. Действительно, она едва мерцала в глубокой темноте холодного и гулкого, пустынного коридора – подобно маяку Антиба[27] в ночном море. Я спустился по лестнице, вышел на каменную террасу. Беспредельная тьма и молчание. На колокольне уже отзвонили. Туман, сырость. Плиты, где иду, влажны. С кустов сладкоблагоухающего жасмина падают капли.
Загадочный и как бы жалобный раздался в этой темноте звук: подойдя совсем близко к Собору, я при смутно-туманном блеске у входа рассмотрел темную фигуру монаха. В руке он держал «било», железную доску, и острым ударом по ней, в одинокую ночь, выбивал дробь: знак призыва. Из разных углов скитских зданий, из крохотных келий тянутся черные фигуры. Собор почти вовсе темен. Несколько свечей у иконостаса не могут его осветить. Сыро, прохладно. Прохожу к знакомой уже своей стасидии. Справа, на игуменском месте, шевелится знакомая худая фигура.
Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняют участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости, некое «волнуемое море житейское». В монастыре также, конечно, есть паломники («поклонники», как их прелестно здесь называют), но основной тон задают монашествующие, то есть уже прошедшие известную душевную школу – самовоспитания, самоисправления и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожанах, и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой, никогда нет рыдательности. Нет и горя, жаждущего утоления. Я не видал слез на Афоне. (В церкви. О слезах умиления или покаяния при одинокой молитве не говорю. Этого нельзя увидать. Но это, наверно, есть.) В общем, все ровны, покойны. В церковную службу входят, как в привычное и еженощное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа – в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни нервности, ни слезы. Это воздух предгорий св. Горы Афонской.
Справа и слева от меня аналои на клиросах, то есть довольно высокие, столбообразные столики. На них богослужебные книги. Над ними, в глубокой тьме, висят лампочки под зелеными абажурами, с прорезными крестами. Они освещают лишь книгу чтецу или ноты.
Зажигают свет у резной, изукрашенной стасидии игумена, и он ровным, приятным, несколько грустным голосом читает Шестопсалмие[28]. Подходя к нему, монах падает в ноги и целует руку. Отходя, также падает, также целует. Вот канонарх выходит на средину и читает кафизмы по строке, а полукруг других монахов повторяет в хоровом пении каждый произносимый им стих. Вот он, в черной мантии мелкой складки, читает на одном клиросе и, распуская свою мантию, как крылья, быстро переходит к другому, там продолжает.
Читаются на этих ночных службах и Жития Святых. В первую мою ночь на Афоне читали отрывок из Иоанна Лествичника[29]. В пустынном, почти черном от мрака Соборе, где немногочисленные монахи, в большинстве старики, терпеливо, упорно стояли в своих стасидиях, негромкий голос внятно произносил:
«Как связать мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее по примеру прочих страстей? Не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается; прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с нею; и прежде, нежели начну мучить, преклоняюсь к ней жалостию. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобождусь от той, с которой я связан на веки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною?
…Она и друг мой, она и враг мой, она помощница моя, она же и соперница моя; моя заступница и предательница.
…Скажи мне, супруга моя – естество мое; скажи мне, как могу я пребыть неуязвляем тобою? Как могу избежать естественной беды, когда я обещался Христу вести с тобою всегдашнюю брань? Как могу победить твое мучительство, когда я добровольно решился быть твоим понудителем?»
Кажется, тут корень монашества. Безмерность задачи понимал и сам авва Иоанн. Понимая, все-таки на нее шел, и если не столь красноречив ответ «супруги моей – естества моего», все же решительность его знаменательна:
– Если соединишься с послушанием, то освободишься от меня; а если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову.
Для слушателей эти и подобные им слова – не возвышенная поэзия и перворазрядная литература, не «лирический вопль» синайского игумена, а часть внутренней жизни, урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего в человеке за счет низшего. Да, эти люди, долгие ночные часы выстаивающие на службах, ежедневно борющиеся со сном, усталостью, голодом, кое-что понимают в словах, написанных не для «литературы».
…Около четырех утреня кончилась. На литургию, за ней тотчас следующую, у меня не хватило сил. Той же глубокой ночью (светать и не начинало) я возвратился на «фондарик».
* * *
Игумен «благословил» довольно молодого монаха показать мне скит. Этот был совсем иной, чем вчера одноименный с ним на карейском конаке. (Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их, но глубокая душевная жизнь в соединении с тем, что никто не «носится» со своей личностью, не «выпячивает» ее, напротив, как будто ее сокращает, – это приводит к тому, что как раз личность-то и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам.) Отец X. оказался одним из наиболее «воспламененных», боевых на Афоне. Мне особенно запомнились его трепещущие, слегка воспаленные бессонницей глаза – очень «духоносные». Он среднего роста, с рыжеватой бородкой, быстр в движениях, несколько даже порывист, почти нервен.
– Вы были на ранней литургии? – спросил я его. (Наш обход начался в восемь утра.)
– Как же, как же!
– Очень устали?
– Нет. Я ведь немного отдохнул. Около часа. А потом, знаете, почитал.
– Ну, а я вот не достоял. Как это вы одолеваете… ведь службы такие длинные.
– Нет, ничего, привычка, привычка… – он говорил быстро и даже как бы слегка задыхаясь Глаза его непрерывно двигались и жили. – Вот я сегодня с большим удовольствием читал… мое чтение не совсем монашеское… я интересуюсь философией, Плотина[30] читаю, современные философские журналы…
Мы прошли с ним в библиотеку, обычную светлую монастырскую комнату-книгохранилище со старичком библиотекарем. Много раз потом мне показывали такие же старинные книги, печатные и рукописные, ноты, миниатюры, заставки, и всегда было ощущение, что, несмотря на отдельных «книжников», главное дело Афона далеко от книг, учености и коллекционерства, хотя монахи афонские (греки, в особенности) и собрали замечательные библиотеки. Мы видали еще в это утро трапезу и больницу, где кашляло несколько стариков, а в палате стоял сильный запах лекарственных трав. Но наиболее мы оба оживились, когда попали в так называемую «гробницу», своеобразную усыпальницу афонских иноков.
Гробница Андреевского скита – довольно большая комната нижнего этажа, светлая и пустынная. Шкаф, в нем пять человеческих черепов. На каждом указано имя, число, год. Это игумены. Затем, на полках другие черепа (около семисот) рядовых монахов, тоже с пометами. И наконец, самое, показалось мне, грозное: правильными штабелями, как погонные сажени валежника, сложены у стены, чуть не до потолка, мелкие кости (рук и ног). Сделано все это тщательно, с той глубокой серьезностью, какая присуща культу смерти. Вот, представилось, только особого старичка «смертиотекаря» недостает здесь, чтобы составлять каталоги, биографии, выдавать справки. А литература присутствует. На стене висит соответственное произведение: «Помни всякий брат, Что мы были, как вы, И вы будете, как мы».
Это Афон, особая его глава, которую можно бы назвать «Афон и смерть».
Вот каковы особенности погребения на Афоне: хоронят без гроба, тело обвивается мантией, и так (по совершении сложного и трогательного чина) предается земле. (Вот как описывает погребение на Афоне известный Святогорец, в своих «Письмах с Афона»: «Кто отходит, над почившим по омовении тела, до погребения, читают Псалтырь. Почивший до того времени лежит на полу, в больничной церкви, обвитый мантией, но без гроба, потому что на Востоке, в рассуждении мертвых, держится Новозаветная церковь Ветхозаветного правила и предает тела земле самым буквальным образом. При погребении, по последнем целовании, весь собор иеромонахов, вместе с игуменом, окружает почившего, и игумен прочитывает разрешительную над ним молитву, после которой почивший троекратно от собора благословляется, с пением „вечная твоя память“. Когда таким образом кончится похоронный чин, игумен краткою речью приглашает все братство простить почившего собрата, если кого, как человек, он оскорбил чем-нибудь в жизни своей. Троекратное „Бог да простит“ бывает ответом. Затем тело выносят. Когда доходят до ниши с изображением св. Пантелеймона за монастырскими воротами, то возглашают ектению о покое и блаженстве усопшего, то же и на половине пути до кладбища. Когда тело опущено в землю, особенно заботятся о сохранении головы, сбоку ее обкладывают камнями, сверху покрывают каменною плитою. Опять лития. Прах крестообразно обливается водою с елеем из неугасимой лампады от лика св. Первоверховных Апостолов, имени которых посвящена кладбищенская церковь. Когда тело зарыто, игумен предлагает помолиться за усопшаго. Один из братии берет четки, молится вслух: „Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего“ и сто поясных поклонов с этою молитвою бывают началом келейного поминовения. Не отходя от могилы, игумен заповедует в течение сорока дней продолжать начатый канон (то есть каждый день по 100 поклонов с молитвою о покое усопшего». – Прим. Б. З.) Затем через три года могилу раскапывают. Если за это время тело еще не истлело, не принято землей, то, по вере афонцев, усопший был не вполне праведной жизни. Тогда могилу вновь зарывают и особенно горячо молятся за брата, посмертная жизнь которого слагается с таким трудом. Если же тело истлело без остатка, кости чисты и особого медвяно-желтого цвета, просвечивают, это признак высокой духовности покойника. Кости тогда вынимают, омывают в воде с вином и складывают почтительно в гробницу». Поэтому афонские кладбища очень малонаселенны: останки их обитателей довольно быстро передвигаются в гробницы. (Не надо думать, что афонцы отрицают мощи и поклонение мощам. Но они различают нетление, так сказать, благодатное, сопровождающееся чудесами, иногда мироточением и т. п., от неполного, замедленного приятия тела землею. При этом на самом Афоне очень много мощей неафонских, святителей же афонских, действительно, нет. Святогорец объясняет это так, что Бог там проявляет свои чудеса, где это нужно, то есть в миру, для поддержания благочестия, на Афоне же в этом нет надобности. Здесь Промысел Божий оставляет неизменными законы природы и не проявляет нетленных мощей. Соображение это было бы безукоризненным, если бы не существовало паломничества на Афон. Но «мир» постоянно является на Св. Гору, и для его «поучения» Афон все же не предлагает мощей своих святых. Это вопрос великой таинственности, мы его решать не беремся. Можно только отметить какую-то особую скромность и смирение афонских святых: вспомним хотя бы св. Нила Мироточивого, который, по дошедшему преданию, сам просил Бога о прекращении мироточения своего – ибо это привлекало паломников, смущало покой Св. Горы и создавало ему, св. Нилу, чрезмерную славу. (См. о св. Ниле в очерке «Монастырская жизнь»). Афон вообще как бы не любит исключительности. Афонцы очень осторожно и сдержанно относятся, например, к визионерству. Их идеал – малозаметная, «невыдающаяся» жизнь в Боге и свете, настолько скромная, что точно бы она отклоняет от себя все сильно действующее на воображение: чудеса, видения, нетленность мощей. В этом отношении Афон живет более для себя, «внутри», потаенно. – Прим. Б. З.)
– А это, – сказал о. X., указывая на железные кресты, какие-то подобия клещей и поясов, на металлические кольчуги, – это все находили на некоторых из наших братии, когда они умирали…
Я попробовал один крест, другой… Они тяжелы. Есть весом до тридцати фунтов.
Железные пояса напомнили музей пыток.
– Видите, – продолжал мой вожатый, – и глаза его наполнились зеленовато-золотистым блеском, – живешь рядом со старичком, каждый день видишься на службах, а того не подозреваешь, что у него под рубашкой, на голое тело такая штучка надета… – и он почти ласково погладил заржавленную кольчугу.
– Вот они где, старички-то наши!
Да, подумать о такой «рубашке»… «О. X., да на вас-то самом не надета ли вот этакая?» Но я все-таки не спросил: бесполезно. Не ответил бы, правды бы не сказал.
Мы поднялись с ним опять наверх. Он мне много рассказывал. Святой, чьим именем его в монашестве назвали, был римский воин. Нашему о. X. как бы передался воинственный дух патрона. С пылающими глазами он передавал о своей борьбе с имяславцами. (В годы перед великой войной русский Афон пережил тяжелую внутреннюю драму. Часть монахов объявила себя имяславцами, то есть исповедала учение, по которому в самом имени, в самом слове Иисус Христос уже присутствует Божество. Борьба между несогласными приняла очень острые формы. Дело доходило до насилий. Решен спор был мерами Правительствующего Синода: имяславцев «вывезли» с Афона. Горечь, как бы печаль всей этой истории и до сих пор сохранилась на Св. Горе. – Прим. Б. З.) Не менее страстно осуждал чувственный оттенок католического поклонения Спасителю, культ сердца, стигматы[31] и т. п.
– Нет, по-нашему, по-афонскому, это прелесть… это не настоящий аскетизм. Это прелесть.
«Прелесть» на старинном языке значит «прельщение», «обольщение» – вообще нечто ложное.
В дальнейшем я уверился, что афонское монашество представляет действительно особый духовный тип – это спиритуальность прохладная и разреженная, очень здоровая и крепкая, и весьма далекая от эротики (как бы тонко последняя ни была сублимирована). С несочувствием (отрицание стигматов) относятся афонцы и к св. Франциску Ассизскому[32].
У входа на террасу, ведшую на «фондарик», я вновь залюбовался жасмином. Нежные, бело-златистые его цветы были полны влажного серебра. Жасмин – Россия, детство, «мама» – то, чего не будет никогда.
О. X. заметил мое восхищение и сорвал букетик.
– Мы не против этого, мы тоже цветы любим, Божье творение… Не думайте, что мы природой не любуемся.
И стал показывать мне султанку, похожую на лавр, почтительно трогал рукою ствол черно-величественного кипариса.
Несколько бледных жасминов Андреевского скита я и поныне храню – засушенными в книге.
* * *
Я ходил еще раз в Карею. Хотелось увидеть древний ее собор и греческие фрески.
Ни то, ни другое не обмануло. Собор, пятнадцатого века[33], невелик, несколько сумрачен, полон тусклого золота, удивительной резьбы, тонкой чеканной работы на иконостасе. Из глубокого купола спускается на цепочках «хорос» – металлический круг изящной выделки, необходимое украшение всех греческих соборов на Афоне.
Карейский собор считается первоклассным памятником греческой живописи. Его расписывал знаменитый Панселин[34], глава так называемой «македонской» школы. Фрески Панселина – XVI века. Они монумента льны, очень крепки, несколько суровы. К сожалению, их подновляли.
Более полное понятие о Панселине получил я позже, в небольшом греческом монастыре Пантократоре, где есть совершенно нетронутые его работы. Во фресках же Карейского собора, при всех огромных их достоинствах, почуялся мне некий холодок.
* * *
Все тот же словоохотливый фондаричный провожал меня из Андреевского скита. Мы направлялись теперь в монастырь св. Пантелеймона. Игумен «благословил» гостинника проводить меня в гору до «железного креста», где расходятся тропинки, и одна из них ведет в Пантелеймонов монастырь.
Мы поднимались при редеющем тумане.
Спутник рассказывал мне о скитском хозяйстве, об «оках»[35] масла (такая мера), о сене, о «мулашках» и многом другом. Мы благожелательно расстались с ним в глухом горном месте, у железного креста, откуда начинался уже спуск к западному побережью полуострова.
Теперь я шел один. Чудесные каштаны, дубы, ясени покойным, ровным строем приближались, удалялись, молчаливо окружая меня. Дорожка была еще влажна и не так камениста, как в других местах. Погода менялась. Что-то в небе текло, путалось по-новому, туман расплывался и не показалось удивительным, когда вдруг золотыми пятнами сквозь густую листву каштанов легло на сырую землю милое солнце. Началась его победа. Чем далее я шел, тем больше тишина священных лесов озарялась светом. Ложочки начали дымиться. Из непроходимой глубины нежно, музыкально, для нашего слуха всегда слегка заунывно закуковала афонская кукушка.
– Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить?
Так спрашивали мы в детстве, в родных лесах калужских. Так взрослым странником, в глухих Фракийских горах, вопросил я вещунью.
Солнце все сильней, непобедимей сияло. Туманной синевой, сквозь редеющие деревья глянуло море. Скоро показались и главы монастыря св. Пантелеймона.
Монастырь Святого Пантелеймона[36]
…Передо мной снимок, изображающий вход в обитель. Залитая солнцем четырехугольная сень, увенчанная куполом, вся увитая зеленью. Темно, прохладно под нею! Несколько монахов, и в глубине врата, ведущие в крепостной толщины сумрачный проход – на двор монастыря.
Смотрю на колонны с коринфскими капителями, поддерживающие углы этого огромного крыльца, вспоминаю блеск афонского солнца, розовое цветение азалий, увивающих стены с небольшими заоваленными окошечками, откуда иной раз выглянет монах, – вспоминаю и переживаю те минуты, когда – столько раз – входил и выходил я этими «тесными вратами». А сейчас в полутьме над входом едва различаю низ большой иконы, но я знаю, кто это, не раз почтительно снимал я шляпу пред изображением великомученика и целителя Пантелеймона. История главного русского монастыря на Афоне, как и вообще появления русских на нем, сложна и заводит очень далеко. Сохранился акт передачи русским, дотоле ютившимся в небольшом скиту Богородицы Ксилургу (Древоделия), захудалого монастырька «Фессалоникийца» в честь св. Пантелеймона, на месте несколько выше теперешнего нашего монастыря – где сейчас старый или Нагорный Руссик. Русские получили монастырь Фессалоникийца в 1169 г. Вот с каких пор поднял св. Пантелеймон свою целительную ложечку (он с ней всегда изображается) над Русью. Почему монастырь Фессалоникийца, уступленный русским (им, очевидно, стало тесно в скиту Ксилургу), назван Пантелеймоновским и сохранил это название – я не знаю, об этом не упоминается в источниках. До конца XVIII века монастырем Св. Пантелеймона был так называемый Старый, или Нагорный Руссик. Теперешняя обитель более нова. Около 1770 г. монахи «оскудевшего» Руссика спустились от него вниз, к морю и, поселившись вокруг уже существовавшей келии иерисского епископа Христофора, основали нынешний огромный монастырь, оплот всего русского на Афоне. Старый же Руссик существует и посейчас – скорее как небольшой скит с остатками древних стен и башни (пирга).
Вот я раскрываю большой том истории монастыря[37] и на одной из страниц нахожу снимок со старинной чудотворной иконы святого, ныне находящейся во втором Соборном храме Покрова Богородицы[38]. Я не раз видел ее в церкви. Теперь рассматриваю подробнее – она является как бы живописным житием святого: вокруг лика изображены четырнадцать наиболее замечательных событий его жизни.
Св. Пантелеймона можно было бы назвать святым-отроком. Таким его всегда изображают, таков он был в действительности.
Царь в короне с наивно вырезанными зубцами сидит на троне. Перед ним мальчик с ореолом вокруг головы. Царь делает рукой знак одному из стоящих позади мальчик а – это «царь повелевает Евфрасину обучать святого врачебному искусству». Далее почтенный монах сидит у стола, мальчик пред ним слушает наставления. Затем мальчика «оглашает» Ермолай, над ним совершают крещение, и уже он сам воскрешает умершего. Вот он, несколько старше, «врачует очи слепого» (ребенка), раздает хлебы бедным, пред тем же царем в той же зубчатой короне исцеляет расслабленного, которого приносят на носилках. Начинаются его страдания. За что мучают юношу, делавшего только добро? Значит, за то же, за что и Христа распяли. Вот его «ужигают», привязав к дереву, факелами. Бросают диким зверям. Вот его нежное тело на страшном колесе. И наконец, огромный воин «усекает» святого, стоящего на коленях, и голова эта, столь уже знакомая, в том же золотом нимбе, покорно лежит на земле.
Как св. Цецилия есть образ страдалицы-девы, прославленной римскими катакомбами[39], так св. Пантелеймон есть облик Целителя и Утешителя отрока, укрепленный в Восточной Церкви.
На некоторых иконах святой изображен с почти девической мягкостью лица, и на уединенном Афоне, столь строгом и чистом, это есть звук величайшей мировой нежности. Середину вышеуказанной иконы занимает его главный лик: в потоке света, сходящего сверху, юноша в нимбе держит в левой руке ковчежец, а в правой у него ложечка с крестом на конце. Он смотрит прямо в глаза. «Если у тебя болит душа или тело, подойди ко мне с верою и любовью, я зачерпну из своего ковчежца доброго для тебя снадобия».
Я видал изображения святого и в греческих монастырях. Но особенно он утвердился в русских. Тысячи паломников поклонялись ему. Это преимущественно «русский» святой, как и Николай Мирликийский.
Не потому ли он так привился у русских, что России более, чем какой-либо стране, при ее великих, но подчас слепых силах и страстях, ее великой иногда тьме и «карамазовщине», более чем кому-либо нужна целительная ложечка св. Пантелеймона?
А русское сердце легкоплавко. Оно охотно поддается трогательному. Нуждаясь в очищении и исцелении, оно без затруднения раскрывается на призыв кроткого Великомученика.
* * *
Монастырь святого врачевателя есть монастырь общежительный. Это значит, что его братия живет как одно целое, ни у кого нет собственности, никаких личных средств, хозяйства, стола. Общая и трапеза. Монастырем управляет избранный пожизненно игумен (ныне – глубоко уважаемый архимандрит о. Мисаил). (При жизни игумена ему избирается «наместник», вступающий в должность по смерти игумена. В 1927 году, на 2-й день Св. Троицы, избран наместником нынешнему игумену о. Мисаилу о. иеромонах Исхирион (взамен скончавшегося о. иеросхимонаха Иоакима). Духовником братии Пантелеймонова монастыря состоит о. архимандрит Кирик. – Прим. Б. З.) Власть игумена в общежительных монастырях неограниченна. Основа этой жизни есть отсечение личной воли и беспрекословное иерархическое подчинение. Без «благословения» игумена ни один монах не может выйти за врата монастыря. Каждому из них он назначает «послушание», то есть род работы. Таким образом, существуют монахи-рыбаки, дроворубы, огородники, сельскохозяйственные рабочие, виноделы, пильщики, а из более «интеллигентных» профессий – библиотекари, «грамматики», иконописцы, фотографы и т. п. Сейчас в Пантелеймоновом монастыре около пятисот человек братии.
Как живут эти люди в черных рясах, наполняющие четырехугольник корпусов вокруг Собора?
День монастыря заведен строго и движется по часовой стрелке. Но так как все необычно на Афоне, то и часы удивительные: до самого отъезда я не мог к ним привыкнуть. Это древний восток. Когда садится солнце, башенную стрелку ставят на полночь. Вся система меняется по времени года, надо передвигаться, приспособляясь к закату. В мае разница с «европейским» временем выходит около пяти часов.
Так, утреня в Пантелеймоновом монастыре начиналась при мне в шесть утра – в час ночи по-нашему. Она продолжается до 4–4 1/2 часа (здесь и далее считаю по-европейски). За ней идет литургия – до 6 ч., следовательно, почти вся ночь уходит на богослужение – характерная черта Афона. До семи полагается отдых. С семи до девяти «послушания», почти для всех, даже глубокие старики выходят на работу, если мало-мальски здоровы. (В лес, на виноградники, огороды. Вывозят бревна на быках, на мулах сено и дрова.) В девять утра трапеза. Затем до часу вновь послушание. В час чай и отдых до трех. Послушание до шести вечера. От половины пятого до половины шестого в церквах служат вечерни. Монахов на этих службах (дневных) бывает мало – большинство на работе. Но вечерни читают («вычитывают», как здесь выражаются) им и там. В шесть вечера вторая трапеза, если это не постный день. Если же понедельник, среда или пятница, то вместо трапезы полагается чай с хлебом. Вслед за второй трапезой звонят к повечерию, оно продолжается от семи до восьми. Далее идет «келейное правило», то есть молитва с поклонами в келии. После каждой краткой молитвы (Иисусова, а также «Богородице Дево», за умерших, о здравии живущих и т. п.) монах передвигает четку на один шарик и делает поясной поклон. На одиннадцатом, большом шарике кладет земной поклон. Таким образом, рясофорный монах (низшая ступень пострижения) делает ежедневно шестьсот поясных поклонов, манатейный – около тысячи, схимник – до полутора тысяч (не считая соответственных земных)[40]. На монашеском языке это называется «тянуть канончик». Рясофор тянет его часа полтора, схимник – до трех, трех с половиной. Значит, рясофор освобождается около десяти, остальные – около одиннадцати. Время до часу, когда начнется утреня, и есть основной сон монаха (два-три часа). Сюда добавляется еще нередко один утренний час и, быть может, час среди дня после чая. Так как у каждого есть и свои кое-какие мелкие дела, отнимающие время, то надо считать, что спят монахи не более четырех часов, а то и менее.
Для нас, мирских, видящих эту жизнь, основанную на том, что ночью люди молятся, днем работают, очень мало спят и очень дурно питаются, – загадка, как они ее выдерживают? Но живут. Доживают до глубокой старости. (Сейчас большинство – старики.) Притом основной тип афонского монаха, как мне кажется, тип здоровый, спокойный и уравновешенный.
Бедность русских монастырей сейчас очень велика. Нет России, и нет поддержки оттуда. К счастью, есть земля, на ней леса, оливки и виноградники. (Летом 1927 г. монастырь Св. Пантелеймона сильно пострадал от лесного пожара. Пожар начался с леса Хиландарского владения и перекинулся на соседний лес Пантелеймонова монастыря. Уничтожено леса на 3 млн драхм, что наносит монастырю, и так очень бедному сейчас, огромный урон. – Прим. Б. З.) Монахи ведут лесное хозяйство, покупают на вырученное муку, ловят немного рыбы, имеют свое вино и оливковое масло, овощи с огородов. Беда, однако, в том, что среди братии слишком мало молодых. Это чрезвычайно затрудняет работу. Рабочие силы монастырей напряжены до крайности. Разумеется, старики не могут так работать, как молодые. Значит, на более молодых ложится как бы двойное бремя. (Кроме своей братии, монастырь Св. Пантелеймона поддерживает и пустынников, живущих в горах и лесах в полной нищете. До войны монастырь довольно широко пользовался наемным трудом, теперь этого нет, и всякий молодой человек, стремящийся на Афон, должен знать, что там ждет его очень суровая жизнь, истинно подвижническая. Однако приток молодежи все-таки есть. Он идет теперь не из России, а из эмиграции. Русский Париж, русская Сербия дают пополнение Афону. Многое меняется на наших глазах. Если прежде на Афон шли преимущественно из купечества, мещан, крестьянства, то теперь я вижу молодого иеромонаха – офицера Добровольческой армии, вижу бывшего художника, сына министра, знаю инженера и т. п. Так новыми соками обновляется вековечный Афон. – Прим. Б. З.)
* * *
Гостеприимство, мягкость и приветливость к приезжим – отличительная черта афонцев. Но не только это касается гостей. За все свое пребывание на Афоне могу ли припомнить раздражение, брань, недоброжелательство, вырывавшиеся наружу? Конечно, монахи не ангелы. Они люди. В большинстве «простого звания». Образованных среди них мало, но какая воспитанность, в высшем смысле! Манеры, движения, речь, поклоны – все проникнуто некоторым эстетическим ритмом, который поражает. В них есть удивительное «благочиние» и, сравнительно с «миром», большая незлобность и доброта. Думаю, во-первых, что известный тип просто подбирается. Людям хищного, волчьего склада все это чуждо, нет им интереса идти в монастырь. Второе – качества природные воспитываются. Нельзя «безнаказанно» по нескольку часов в день слушать возвышеннейшую службу, петь, молиться у себя в келии, ежедневно до заката просить друг у друга прощения, каждую неделю исповедываться и причащаться. Ясно, что в такой обстановке надо ждать наибольшего расцвета лучших человеческих свойств.
Итак, я жил в своей комнате на «фондарике», окруженный необыкновенно благожелательным и ласковым воздухом. На столе моем часто стояли розы. Два окна выходили на голубой простор неба и моря, нежная синева его замыкалась туманной линией гор полуострова Лонгоса. Между мною и морем – старинный решетчатый балкон, перила его увиты виноградом, и сквозь лапчатую зелень море еще синей. Внизу плоская крыша библиотеки, далее корпус келий и направо купола Собора. Комната всегда полна света и радостности. На белых стенах – портреты молодых великих князей, давно умерших, над входной дверью – картина, изображающая Париж 50—60-х годов.
Гостинником моим на этот раз оказался неразговорчивый, но очень внимательный, умный и заботливый немолодой монах с седоватою бородою и старинно-правильным лицом (думаю, в русском семнадцатом веке были нередки такие лица) – о. Иоасаф. В девять часов утра (по-монастырски уже два!) он степенно являлся, кланялся и говорил: «Кушать пожалуйте!»
Я отрывался от своих книг и записей, переходил в соседний номер, такой же светлый и пустынный, с другими князьями и архиереями по стенам, с тем же запахом мало-жилого помещения. На столе перед диваном поданы уже блюда моего обеда (в первый и, должно быть, в последний раз в жизни обедал я в девять утра!). Мисочка рисового супа, остроголовые маринованные рыбки вроде килек, салат, жареная рыба, четвертушка красного афонского вина.
– Уж не взыщите, конечно, в прежние времена не так бы вас угостили…
Я уверяю, что все превосходно, да и действительно хорошо, ведь это монастырь. Отец гостинник чинно кланяется и уходит. Я обедаю в одиночестве. Как и во всем, касающемся быта, в монастырской гостинице чувствуешь себя особенно. Всегда казалось мне, в воздухе заботы обо мне, внимательной благожелательности, что я моложе своих лет и что вообще век иной: я еще несмышленый барчук, надо ко мне дядьку, который бы наблюдал, чтобы я как следует поел, не переутомлялся бы на службах, не заблудился бы ненароком в монастырских коридорах.
В положенную, верно рассчитанную минуту (я пообедал), дверь отворяется.
– Что же вы рыбки-то не докушали?
– Покорно благодарю, сыт.
О. Иоасаф подает на подносе еще стакан розового, сладковатого афонского вина. Его движения так же медлительны и музыкальны, как если бы он выходил из алтаря со Святыми Дарами.
Это вино и совсем неплохое. Лишь к концу своего пребывания на Афоне узнал я, что сами монахи пьют его раз в году, по одному стаканчику.
* * *
В воскресенье о. игумен пригласил меня на общую трапезу. По окончании поздней Литургии все монахи собрались в огромной трапезной – как обычно в афонских монастырях, узкой и длинной, высокой зале, украшенной живописью. Головное место бесконечного стола игуменское. Недалеко от входа кафедра для чтеца, на нее ведет витая лестница. Золотой орел с наклоненной головой как бы устремляет, несет на своих простертых крыльях драгоценное слово мудрости.
Мы некоторое время ждали о. Мисаила, игумена, уже находясь на своих местах. Когда он вошел, в епископской лиловой мантии с золотыми отворотами на груди, в клобуке, с двурогим посохом, все поднялись, запел хор.
О. Мисаил держится с той глубоко-русской, народной простотой и твердостью, которой чужда всякая рисовка. Одинаково уверенно и крепко служит он, и читает баритоном Шестопсалмие, и дает целовать руку, и сам кладет земные поклоны, и слушает, как ему поют «Исполаэти деспота»[41]. После молитвы и благословения «предстоящих яств» игумен садится, в подобающем окружении, и садимся мы. Особенность трапезы Пантелеймонова монастыря та, что кушанья подаются все одновременно, и монахи придают этому известное значение: освящается все, что стоит на столе, так что не освященного никто ничего не ест.
На кафедру, к золотому орлу, взошел чтец и начал чтение, а мы стали «трапезовать», и тут своими глазами можно было уже убедиться в «святой бедности» монастыря. Воскресный, то есть улучшенный обед состоял из мисочки рисового супа, куска хлеба и кусочка рыбы – не той, что подавали мне в номер, а баккалары, рода греческой трески (в будни и ее нет) – не дай Бог никому такой рыбы, у нее противнейший запах, несмотря на то, что она свежая. Но она дешева, ее едят простолюдины-греки. Запивать все это можно было квасом, очень плохеньким. И дали по стаканчику вина (для праздника). Мяса в русских афонских монастырях не едят вовсе. (В греческих – допускается.) На трапезе выступила еще одна черта общежительного монастыря: пред лицом бедности здесь все равны. Стол игумена в лиловой мантии, его наместника, архимандритов и иеромонахов совершенно тот же, что и последнего рясофора, трудящегося с «мулашками».
Ели в молчании. Окончив, вновь поднялись, игумен вышел вперед. Начался «чин панагии» – как бы молебен с благословением хлебов[42]. Я не помню точно его содержание. Но ясно осталось в памяти, что все поодиночке проходили мимо благословлявшего о. игумена, монах подавал каждому с огромного блюда кусочек благословенного хлеба, так обильно окуриваемого ладаном из особой кадильницы («кация» – плоская, с ручкой), что и во рту он благоухал. Хлеб этот запивали св. водой. Помню золотое солнце, игравшее лучами сквозь окно в нежно-сиреневом дыму каждения, помню три фигуры у самых дверей, низко кланявшиеся каждому выходившему: чтец, повар и трапезарь. Они просят прощения, если что-нибудь было не так. В будни же они, в знак смирения и прося о снисхождении к себе, лежат распростершись перед выходящими.
Таков древний афонский обычай.
* * *
Все это может показаться странным и далеким человеку нашей пестрой культуры.
Что делать. Священнодейственность очень важная, яркая черта монашеской жизни. Входя к вам в комнату, монах всегда крестится на икону и кланяется ей. Встречая другого, если сам он иеромонах, то благословляет. Если встретил иеромонаха простой монах – подходит под благословение. Встречаясь с игуменом – земной поклон. Садясь за стол, непременно читает молитву. Иеромонах, кроме того, благословляет «яства и пития».
Это непривычно для мирянина. Но в монастыре вообще все непривычно, все особенное. Монастырь – не мир. Можно разно относиться к монастырям, но нельзя отрицать их «внушительности».
Нравится ли оно вам, или нет, но здесь люди делают то, что считают первостепенным. Монах как бы живет в Боге, «ходит в нем». Естественно его желание приобщить к Богу каждый шаг своей жизни, каждое как будто будничное ее проявление. Поняв это, став на иную, высшую, чем наша, ступень отношения к миру, мы не удивимся необычному для светского человека количеству крестных знамений, благословений, молитв, каждений монашеского обихода. Здесь самую жизнь обращают в священную поэму.
Монастырская жизнь
…Утром просыпаешься всегда под доносящееся пение – оканчивается литургия. Седьмой час. Пока спал, отошли утреня и ранняя обедня. Службы эти совершались и в больших соборах, и в маленьких домовых церквах, т. н. «параклисах», их до двадцати в Пантелеймоновом монастыре. Стройные отзывы хора, иногда сливаясь, покрывая друг друга, слышатся именно из параклисов – монастырские корпуса пронизаны ими, как певучими, перекликающимися ячейками. (Недалеко от меня как раз параклис Преп. Серафима Саровского, с известной сценой на стене – святой кормит медведя[43]. Лубочная простота живописи, лапти Преподобного, бурый и толстый медведь, русские сосны, все это мне очень нравилось, особенно тут, в Элладе.)
Значит, всю ночь работала духовная «электростанция». Всю ночь в этих небольших, но обмоленных храмах тепло струились свечи, шло излучение светлых и благоговейных чувств.
Сам я лишь две ночи провел вполне «по-монашески», обычно же ограничивался поздней литургией да вечерней. Тем не менее сразу ощутил веяние строгой и чистой жизни, идущей незыблемо и человеческую душу вводящей в свой ритм. Монастырский ритм – вот, мне кажется, самое важное. Вы как будто плывете в широкой реке, по течению. И чем дальше заплыли, тем больше сама река вас несет. Игумен одной афонской обители говорил мне, что близко к полуночи он просыпается безошибочно, да и заснуть бы не мог – скоро ударят в било. Таких «утренних петелов» в монастырях, разумеется, много. Здесь нет горя, нет острых радостей (вернее, «наслаждений»), особенно нет наркотического, опьяняющего и нервозного, что в миру считается острой приправой, без которой жизнь «скучна». Для монаха нет скуки, нет и пряностей. Его жизнь вовсе не очень легка. Она не лишена томлений и тягостности, монах иногда подвержен упадку духа, целым полосам уныния. Но все это лишь временное погружение под уровень и, кажется, лишь в начале. В общем, инок быстро всплывает: его очень поддерживают.
Для того чтобы быть монахом, нужен, конечно, известный дар, известное призвание. Но и на не обладающего этим даром жизнь около монастыря, лишь отчасти им руководимая и наполняемая, уже есть душевная гигиена. Человек рано встает, больше обычного работает, умеренно ест, часто (сравнительно) ходит на службы, довольно много молчит, мало слышит пустого и вздорного. Видит синее море, купола, главы, благообразную жизнь.
У католиков не напрасно существуют retraites (букв. убежища – фр.), куда приезжают и временно там живут «мирские», как бы отбывая поверочные сборы, подобно солдатам, которые в гражданской жизни могут опускаться и забывать военное дело. Для христианства каждый христианин – солдат. И каждого надо сохранять в боевой готовности. Католики поняли это отлично. Не станут возражать и православные. И так как мы живем в довольно удивительные времена, то я не очень изумился бы, если бы под Парижем вдруг, в один прекрасный день, подобно Сергиевому подворью[44], вырос бы русский православный монастырь, куда открылось бы паломничество «мирских».
* * *
На ночную службу идешь длиннейшими монастырскими коридорами. Местами совсем темно, кое-где светит полупритушенный фонарь, приходится то спускаться на несколько ступеней, то подыматься в иной уровень, то делать повороты. По сторонам гулкого, каменного коридора, всегда несколько сырого и прохладного, – келии иеромонахов. В некоторых местах на поворотах он выводит к небольшим балкончикам. Ночь тихая, лунная – лунный свет бледно-зеленым дымом подымается с каменного пола, уходит в дверь балкона, сияющего светлым прямоугольником. Если выглянуть в нее, увидишь златомерцающие кресты над храмами, синюю тень колокольни, побелевший двор, дерево цветущих роз, высоко поднявшее над крыльцом шапку цветов, и бледно-синеватое струение моря за крышами.
Бьют в било. Кое-где на балконах появляются монахи, и по моему коридору слышны ровные шаги.
Не выходя из здания, в конце пути оказываешься в храме, не столь огромном, как Собор Андреевского скита, но богато и тоже нестаринно изукрашенном. Приходишь в свою стасидию и, опершись локтями на подлокотники этого «стоячего кресла», слушаешь службу. Молодой экклесиарх подойдет с поклоном, постелит половичок, чтобы ногам не холодно было стоять, – с поклоном отойдет. Один за другим появляются монахи, совершают перед иконами «метания», со всеми своими музыкально-размеренными движениями, и занимают места в стасидиях. Приползают замшелые и согбенные старички, в огромнейших сапогах, едва перебирая больными ногами, имея за спиной многие годы. Нередко такой и на палочку опирается. Заросли бородами и бровями, точно лесовички, добрые лесные духи, рясы на них вытертые и обношенные, сами едва дышат, а всю ночь будут шептать высохшими губами молитвы в стасидиях.
Службы же длинны. От часа ночи до шести утра в обычные дни, а под воскресенья и праздники «бдения» длятся по одиннадцати, даже по четырнадцати часов непрерывно!
Золото иконостасов и икон мерцает в блеске свечей, из окон ложатся лунные ковры. Это дает сине-дымный оттенок храму. Золото и синева – так запомнился мне ночной храм Покрова Богородицы.
Канонарх читает, хор поет, выходит диакон, служит очередной иеромонах – все как обычно. Ровность и протяжность службы погружаются в легкое, текучее и благозвучное забвение, иногда, как рябь на глади, пробегают образы, слова «мирского» – это рассеянье внимания может даже огорчать. Часам к трем утра подбирается усталость. Борьба с нею и со сном хорошо известна монашескому быту (см. ниже, в очерке «Святые Афона», о св. Афанасии Афонском и его способах борьбы со сном. – Прим. Б. З.)
Вероятно, старикам легче преодолевать сон, чем молодым. По правилам Пантелеймонова монастыря, экклесиарху полагается во время ночных служб обходить монахов и задремавших трогать за плечо. Но я этого не видел. Не видал и заснувших. Дремлющие же бывают.
Для непривычного «мирского» борьба со сном особенно нелегка: тупеешь и грубеешь, едва воспринимаешь службу. Правда, перемогшись в некий переломный час, опять легчаешь, все-таки это очень трудно.
Но одно то, что вот в эту лунную ночь, когда все спит, здесь, на пустынном мысу сотни людей предстоят Богу, любовно и благоговейно направляют к нему души наперекор дневным трудам усталости – это производит глубокое впечатление. Вот приподымешься слегка, в стасидии, и над подоконником раскрытого окна увидишь серебристо-забелевшую полосу моря с лунным играющим следом. Раз я увидел так дальний огонь парохода, и в напевы утрени слабо вошел звук мирской – гудок. Приветствовал он святой и таинственный Афон? Приходил, уходил? Бог знает.
Перед концом утрени изо всех углов вновь вытягиваются старички, экклесиарх вновь ко мне подходит.
– Пожалуйте к иконам прикладываться.
Это сложное, медленное и торжественное действие. Оно завлекает своею благоговейностью и спокойным величием.
Море уже бледно-сиреневое. Сребристый утренний свет в окнах. В церкви сизый туман, когда по ходу служения иеромонах возглашает:
– Слава Тебе, показавшему нам Свет!
На что хор отвечает удивительной, белой песнью-славословием:
– Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!
* * *
Воскресенье, утро. Сижу на диване. Передо мной большой поднос с белым чайником для кипятка, маленьким чайником в цветах, чашкою и кусочками подсушенного хлеба. Читаю в Афонском Патерике о св. Ниле Мироточивом[45], как он жил в пустыне у моря, с учеником, и за святую жизнь дано было ему такое свойство, что из гроба его истекало целебное миро. Оно струилось ручейком в море. За этим миром приплывали издалека многие верующие на каиках, так что самое место под утесом получило название, «корабостасион» (стоянка кораблей).
«И при этом рассказывают, что ученик, оставшийся после святого Нила и бывший очевидцем скромности и глубокого смирения своего старца при земной его жизни, не вынося молвы от множества стекающихся мирян, тревоживших покой св. Горы, будто бы решил жаловаться своему прославленному старцу на него самого, что он, вопреки своим словам – не искать и не иметь славы на земле, а желать ее только на небесах, – весь мир скоро наполнит славою своего имени и нарушит через то спокойствие св. Горы, когда во множестве начнут приходить к нему для исцелений: и это так подействовало на св. мироточца, что тогда же миро иссякло».
Отворяется дверь, входит степенный мой о. Иоасаф.
– Сейчас к поздней ударят. Если угодно трезвон поглядеть, то пожалуйте. Я вас провожу на звонницу.
В Пантелеймоновом монастыре знаменитый колокольный звон. Я действительно хотел «поглядеть» его.
Мы пошли коридорами, потом по перекидным сходням над двором прямо попали к главному колоколу, в ту самую минуту, когда молодой монашек, уже разогретый и розовый, разгонял последними усилиями веревки его язык – вот осталось чуть-чуть до внутренности тяжкого шлема, вот волосок, вот, наконец, многопудовый язык тронул металл и раздался первый, бархатно-маслянистый звук. А потом пошли следующие, один за другим, им вторили здесь еще два-три меньших колокола, с верхнего же этажа залились самые мелкие. Трезвон! Впервые был я так пронизан звуками, так гудело и сотрясалось, весело трепетало все существо, звуки принимались и ногами, и руками, сердцем, печенью… Было от чего. Колокол св. Пантелеймона весит восемьсот восемнадцать пудов, это величайший колокол православного Востока[46]. Затем – звонарное искусство. Я чуть лишь заглянул в него, поднявшись еще выше (казалось, что и воздуха никакого нет, одно густое варево звуков). Но думаю, для музыканта в нем есть интересные черты.
Наверху звонил некрасивый русобородый монах с открытым, несколько распластанным лицом, сильно загорелым, в сдвинутой на затылок скуфейке. Ногой нажимал он на деревянную педаль, пальцами одной руки управлял тремя меньшими колоколами, а другой играл на клавишах самых маленьких… но все-таки не назовешь их «колокольчиками». Вот в этих переливах, сочетаниях разной высоты звонов и состоит, по-видимому, искусство звонаря, своеобразного «музыканта Господня». Я спрашивал, нет ли литературы о колокольном звоне, каких-нибудь учебников его – мне ответили, что тайна этого редкого уменья передается от звонаря к звонарю.
Спускаешься с колокольни «весело-оглушенный», проникнутый звуковым мажором, близким к световому ощущению. Точно выкупался в очень свежих, бодро-кипящих струях. Уверен, что такой звон прекрасно действует на душу.
Думаю, что он слышен по всему побережью, и доносился бы до пещеры св. Нила. Как отнесся бы его строгий ученик к такому разливу звуков, хотя и прославляющих небесное, но языком все же громким? Не нарушало ли бы это в его глазах «святой тишины» Афона?
Ответить нелегко. Но отрывок жития, приведенный выше, дает яркую характеристику афонского душевного склада. Афон прежде всего есть некое уединение. Афон молится и за мир, усердно молится, но крайне дорожит своей неотвлекаемостью. Тут существует известная разность между жизнью афонского монастыря и пустыннической. Пустынники всегда считали монастырь слишком «уступкой», в некотором смысле слишком «мирским» (особенно монастыри особножитные). Сторонники же монастырской жизни не весьма одобряли индивидуализм пустынников, их «своеволие» и непослушность.
Так на самом Афоне веками жили рядом разные типы монашествующих.
* * *
Афон считается Земным Уделом Богоматери. По преданию, Св. Дева, получив при метании жребия с апостолами вначале Иверскую землю (Грузию), была направлена, однако, на Афон, тогда еще языческий, и обратила жителей его в христианство.
Богоматерь особенно почитается на Афоне, он находится под Ее защитой и милостью. На изображениях св. Афонской горы Богоматерь на небесах над ним покрывает его своим омофором (длинный и узкий «плат», который Она держит на простертых руках). Этот плат благоволения и кроткой любви, ограждающий Ее Удел от тьмы. Нет и не было уже тысячу лет ни одной женщины на полуострове. Есть лишь одна Дева над ним. «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором», говорит акафист. Культ Приснодевы на Афоне сильно отличается от католического. В нем нет экстаза, нет и чувственности, он отвлеченнее. Мадонны католических храмов более земно-воплощенны, раскрашенные статуи убраны цветами и обвешаны ex-voto (по обету – лат.). He говорю уже о средневеково-рыцарском поклонении Прекрасной Даме, о некоей психологии «влюбленности», что, с афонской точки зрения, есть просто «прелесть».
На Афоне воздух спокойнее и разреженнее. Поклонение Пречистой носит более спиритуальный, облегченный и надземный характер.
Я присутствовал в Пантелеймоновом монастыре на одной глубоко трогательной службе – акафисте Пресвятой Деве. Это служба дневная. В ее заключительной, главнейшей части игумен и два иеромонаха в белых праздничных ризах, стоя полукругом на амвоне против царских врат, по очереди читают акафист. Над врагами же находится Образ Пречистой, но особенный, написанный на тонком, золотеющем «плате». Низ его убран нежной работы кружевом. Во время чтения Образ тихо и медленно спускается, все ниже, ниже, развевая легкую ткань своего омофора. Голоса чтецов становятся проникновеннее, легкий трепет, светлое воодушевление пробегают по церкви: Богоматерь «с честным своим омофором», в облике полувоздушном, златисто-облегченном сама является среди своих верных. Образ останавливается на высоте человеческого роста. Поет хор, все один за другим прикладываются, вечерние лучи слева мягко ложатся на кружева и золотистые отливы колеблющейся иконы. И так же медленно, приняв поклонение, Образ уходит в свою небесную высь – кажется, не достает только облаков, где бы почил он.
«Радуйся Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором».
* * *
Я любил тихую афонскую жизнь. Мне нравилось выходить иной раз из монастыря, сидеть на прибрежных камнях у огорода, любоваться «светлыми водами Архипелага». (Эти светлые воды упоминаются во всех писаниях об Афоне, но афонское море, действительно, чрезвычайно прозрачно, нечеловечески изумрудно-стеклянного тона.)
В знойные часы полудня хорошо бродить по балкону, огибающему мой и соседний корпус. Свет легко плавится в голубоватом воздухе, море лежит зеркалом, окаймленное лиловатым Лонгосом, а в глубине залива золотисто сияет Олимп недосягаемыми своими снегами.
Под вечер, перед сумерками, приходили нередко гости: седобородый, в очках, с золотым крестом на груди добрейший о. архимандрит Кирик, духовник всей братии. Энергичный о. иеромонах Иосиф, библиотекарь. Скромный, застенчиво-мягкий и слегка нервный помощник его, о. В., мой очаровательный спутник по путешествию о. Пинуфрий и др. Я вспоминаю с большим удовольствием об этих кратких беседах с людьми, которых и мало знал, но с которыми сразу установилась душевная связь, и говорить можно было почти как с друзьями. Поражала глубокая воспитанность и благообразие, придающие разговору спокойную значительность, то, что противоположно так называемой «болтовне». Я видел в монастыре Св. Пантелеймона столько доброты и братской расположенности, столько приветливости и тепла, что эти малые строки – лишь слабое эхо моей признательности.
Спускается сиреневый вечер. Иду по коридору гостиницы, мягко поблескивающему мозаичными плитками, мимо картин – город Прага, вид Афона – на террасу. Отпираю вход на нее особенным ключом, и мимо цветов гераниума, настурций и еще каких-то розовых, прохожу в огромную залу монастырских приемов. Три ее стены в окнах, выходящих на балконы, – на море и кладбище. За день жаркий и слегка спертый воздух накопился в ней. Вот где тени былого! Вот где облик неповторимого. Эти стены, увешанные портретами императоров, цариц, митрополитов, посланников, видали «высочайших особ» и князей Церкви. Давно, как бы раз навсегда, натертый пол блестит зеркально. Чистые половички проложены по нем. Посреди залы овальный стол, установленный фотографиями лицом к зрителю. Он окружен фикусами и рододендронами. И овал стульев, расставленных веером, окружает все это сооружение. На них, в часы приемов, вероятно, после трапезы, с чашечками турецкого кофе в руках, обносимые «глико» и «раки», заседали великие князья и архиереи, консулы и богатые покровители монастыря из России… все, должно быть, спят уже теперь вечным сном. Не могу сказать, как «наводительна» сиреневыми вечерами, со струей свежего воздуха, втекающего в открытую на балкон дверь, была для меня эта зала, как почти одурманивала она крепкою настойкой грусти, как безмятежно сизело начинавшее к ночи серебриться море, а за колокольнею Св. Пантелеймона, над невидимым сейчас Олимпом дотлевал оранжевый закат. В монастыре тихо. Наступает краткий час отдыха. Пречистая простирает свой омофор.
Каруля
Ранним и чудесным утром мы спустились к пристани. Там ждала лодка. Архимандрит Кирик благословил меня на странствие, овеяв своей легкой, снежною бородою, гребцы погрузили весла, слегка налегли, и мы мягко тронулись. Мы – это иеромонах о. Пинуфрий, иностранец доктор, юный монах-переводчик, два гребца и я.
Вот первый образ нашего отплытия: стеклянно-голубое море, легкий туман у подножия Лонгоса, тихий свет утра. Лодка идет нетрудно. Рядом со мной черный с проседью, кареглазый, спокойный и ровный, слегка окающий по-нижегородски о. Пинуфрий. Опустив руку в воду, он пальцем чертит серебряный след. Негромким привычным голосом начинает петь:
– Христос Воскресе из ме-ерт-вых, смертию смерть пoправ, и сущим во гробех живот дарова-в!
Мы подтягиваем. Оборачиваясь, вижу нашего юношу с золотистыми волосами, золотистою бородкой вокруг пунцового рта и глазами задумчивыми, упорно глядящими вбок. Безмятежная голубизна вод, тишина, плеск струи за кормой, юноша, напоминающий поленовского Христа[47], мягко очерченный в утреннем дыму евангельский пейзаж Генисаретского озера[48]…
– И сущим во гробех живот даровав…
* * *
Итак, мы огибаем юго-западный берег Афонского полуострова, держим путь на Карулю, знаменитую южную оконечность Афона, где в бесплодных скалах живут пустынножители. А пока, слева, медленным свитком протягивается полуостров: горы, леса, по ним кручи, кое-где виноградники и оливки, кое-где пустынно-каменистые взгорья – все непроходимое и первобытное. То выше, то ниже – средневеково-восточные замки греческих монастырей. Вот высоко в лесах пестрый Ксиропотам. Симонопетр, выросший продолжением скалы отвесной, весь уходящий ввысь, с балконами над пропастью.
Мы зашли в маленький, изумрудный заливчик Григориата[49], где подводные камни слегка ломались в глазу под колеблющимся стеклом – на полчаса навестили монастырь с черно-курчавым привратником у вековых ворот и приложились к знаменитой иконе св. Николая Мирликийского. Древний храм, древние ризы, глушь, тишина, отвесная скала, непроходимость, да лазурно-колеблемое стекло заливчика, вот что осталось от этого посещения…
И уже вновь гребут отцы Эолий и Николай – плывем далее.
Когда в ущелье показался Дионисиат[50], о. Пинуфрий протянул к нему свой загорелый палец.
– Тут вот этот патриарх жил, Нифонт по имени[51]. У него в Константинополе разные страдания вышли, его, стало быть, понапрасну увольнили, он сюда и перебрался. Это когда же было… то ли в пятнадцатом, то ли в шестнадцатом веке, вот с точностью не упомню… О. Эолий, как это, в шестнадцатом?
О. Эолий, полный, немолодой монах, по профессии певчий, сидит передним гребцом. На голове его соломенная шляпа, придающая ему несколько женский вид. Он вспотел и все отирает платком лоб.
– Да, видимо, что в шестнадцатом…
– Ну, вот… Смиреннейший патриарх и пришел сюда, назвавшись простым эргатом, по-нашему, работником. Такой-то этот Нифонт был, скажи, пожалуйста: «Я, мол, братия, тут дровец вам могу порубить, того, другого». Хорошо, он у них и жил, и хоронился, и никому в мысль не приходило, что этакий эргат… вон он кто! Только нет, Господь его и открыл. Значит, раз он в лесу порубился, мулашки у него там были, он хворост навьючил, идут, к монастырю приближаются – и едва приблизились, ан нет, монастырские колокола сами зазвонили, патриаршую встречу… Он, стало быть, хворостинкой мулашек подгоняет, шагай, дескать, а колокола полным трезвоном… Ну, тут и открылось, кто он.
– Налегай, налегай, о. Эолий, – сказал другой гребец, крепкий и заскорузлый, с волосатыми руками, приземистым корявым носом – среднее между бурлаком и дальним родственником Тараса Бульбы, – а то батос подойдет, тогда нам у Карули не выгрести.
– Не будет батоса, – отдуваясь, ответил о. Эолий.
– Как так не будет, завсегда к полудню батос, да и сейчас видно, вон уж он в море вихрится.
Батосом называется на Афоне юго-западный ветер, с моря, всегда разводящий волну. О. Николай был прав: вдали по горизонту закурчавилась полоска темной синьки, от нее к нам лежало море еще стеклянное.
Батос застиг нас недалеко от места высадки. Море стало пенно-синим, мощным, лодка затанцевала. Изменился и берег. Мы шли теперь рядом с почти отвесными голыми скалами, совсем близко к ним. Начиналась Каруля. Кое-где волны подлизали берег, гак что он выступал. Если тут волна опрокинет лодку, то и умея плавать пропадешь, – некуда выплыть.
Мы едва двигались. Гребцы залились потом.
Над нами висели скалы, в одном месте колыхалась по волнам корзина на веревке. Это отшельники спускают, объяснили мне, а рыбаки иной раз что-нибудь кладут съедобное. Прежде подымали и людей в корзинах с берега на скалы, но сейчас этого нет.
Временами высоко наверху видишь домик, это «калива» пустынника, одиноко висящая над бездной. Головокружительные тропинки проложены по утесам. Отшельники не боятся ходить по ним в темноту после всенощной (из ближнего скита). В одном месте я видел веревку, натянутую по краю пропасти – это перила скользящей тропки. Далее тропка уходит в косую проточину в скале, подобную водопроводной трубе, по ней сползают к более низкому месту.
* * *
Афон считается Земным Уделом Богоматери, но можно сказать, что он и страна Христа. Я очень ясно ощутил это в тот день сияющий, карабкаясь с о. Пинуфрием по белым камням вверх, к каливе русского отшельника. Помнится, мы встретили одно-двух «сиромах» (бедняки, нередко странники). О. Пинуфрий говорил каждому – Христос анэсти. Или:
– Христос воскресе. Ему отвечали:
– Воистину воскресе.
Впоследствии таким приветствием встречали мы десятки людей, десятки тем же отвечали нам. Вот полуостров. На нем монастыри, скиты, небольшие монастырьки в пятнадцать-двадцать человек (т. н. «келии»), есть, наконец, просто отдельные пустынники, живущие в каливах. Одни зажиточнее, другие совсем нищие, одни – все же начальство, другие – подчиненные, одни решают высшие дела и служат в церкви, другие трудятся на «киперах» (огороды), но все члены Христовой республики, для всех есть вот одно:
– Христос воскресе.
– Воистину воскресе.
Это поражает. Как поражает то, что в любой самой худой каливе – моленная с образами, лампадками, а чуть побольше – «келия» – там обязательно церковь, и на восходе солнца непременно служат литургию. Вера и преданность Христу здесь дело самоочевидное, к этому так привыкли, что афонец с трудом понимает, как иначе может быть.
Один из встречных сиромах оказался учеником отшельника. Он проводил нас. Доктор в костюме туриста тяжко шагал по камням подкованными башмаками. Солнце пекло. За нами синела туманная бездна моря, в сияющем дыму выступал таинственною тенью остров. Несколько белых крыл разбросаны по синеве.
Нас провели в комнатку для посетителей (в отдельной каливе). О. Пинуфрий снял свою сумку, кожаную афонскую сумку на ремне, вздохнул, отер загорелый лоб, поправил черную с проседью бороду.
– Вот, здесь полегче.
Мы сели на низкие сиденья. В комнате с земляным (если не ошибаюсь) полом было прохладно, не очень светло. Вошел отшельник – высокий человек с очень добрыми небольшими глазками, довольно полными щеками, одетый небрежно – чуть не на босу ногу туфли, – и вид его менее напоминал монаха, чем все виденное мной доселе. Странным образом, и он, и другие пустынники, кого я встретил на Афоне, будучи глубоко монахами и церковниками, внешне более вызывали образы «светских» мудрецов и учителей жизни. И тут на Каруле, как позже на Фиваиде, тень оцерковленного и оправославленного Толстого проходила пред глазами.
Отшельник – одно из известнейших лиц на Афоне, человек образованный, бывший инспектор духовной семинарии, «смирившийся», как про него говорят афонцы, и ушедший в одинокое подвижничество по примеру древних. Очень многие поклонники желают его видеть и послушать его мудрого слова. Посетители вроде нас начинают утомлять его. Доктор переписывался уже с ним. По письмам пустынник заключил, что он не только хочет перейти в православие, но и принять монашество. Иностранец, действительно, несколько дней прожил в Пантелеймоновом монастыре, но не только не приблизился к монашеству, а скорее настроился критически, его удивляла «непрактичность» монахов, да и его собственные идеи были совсем иные.
Отшельник встретил его вначале крайне приветливо, почти как своего – да и вообще от его быстроговоримых, негромких и застенчивых слов шла удивительная горячая влага, меня этот человек сразу взволновал и растопил, я точно бы внутренне «потек». Он конфузливо сидел на табуретке, не зная, куда девать большие руки, как быть с ногами, и вполголоса, скороговоркой подавал краткие реплики юноше нашему, переводчику. Юноша с тою же невозмутимостью, как в лодке на море, небыстро переводил.
Вот приблизительный отрывок разговора:
Доктор: Мне нравятся монастырские службы. Но можно быть монахом и устроить себе удобную жизнь, улучшить хозяйство, завести прочную торговлю.
Отшельник: Это нас не интересует.
Доктор: Жизнь есть жизнь. Она имеет свои законы. Я понимаю, что на этих голых скалах ничего не вырастишь. Но кто живет в монастырях, имея леса, виноградники, оливки…
Отшельник (с улыбкой): В миру помещики… мало ли как разделывают… заводы ставят, фабрики, торгуют…
Доктор: В этой стране можно превосходно жить. Можно было бы пригласить инженеров, агрономов, проложить дороги.
Отшельник (грустно и быстро): А нам бы только от всего этого уйти.
Доктор: Вы должны пропагандировать свои монастыри в Америке.
Отшельник: Мы должны вечно стоять пред Богом и в смирении молиться.
Доктор: У католиков существует пропаганда. Я недавно видел фильм, где показана жизнь католического монастыря.
Отшельник: А нам нечего показывать. Мы считаем себя последними из людей… что уж там показывать. Нет, нам показывать нечего… Молимся как бы душу спасти.
Доктор: Если правильно поставить пропаганду в Америке, оттуда можно получить хорошие средства.
Отшельник (тихо и быстро): От чего и избави нас, Господи.
О судьбе России.
Отшельник:…Потому и рухнула, что больно много греха накопила.
Доктор: Запад, не менее грешен, но не рухнул и не потерпел такого бедствия. Россия сама виновата, что не справилась.
Отшельник: Значит, ей было так положено.
Доктор: Как же положено, за что же Бог сильнее покарал ее, чем другие страны.
Отшельник (мягко и взволнованно): Потому что возлюбил больше. И больше послал несчастий. Чтобы дать нам скорее опомниться. И покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на чей не похожий…
Кажется, это была высшая точка разговора. Отшельник воодушевился, тихая горячность его стала как бы сверкающей, как бы электрические искры сыпались из него. Он быстро, почти нервно стал говорить, что хотя Россия многое пережила, перестрадала, многое из земных богатств разорено, но в общем от всего этого она выигрывает.
Доктор: Как выигрывает?
Отшельник: Другого богатства много за эта время дано. А мученики? Это не богатство? Убиенные, истерзанные? Митрополита Вениамина знаете?[52]
И опять стал доказывать, что мученичество России – знак большой к ней милости, что раньше настоящего мученичества за веру у нас не было, если не считать единичных случаев, а теперь впервые дан крест исповедничества.
Но на этой высоте беседа не удержалась. Молнии сдержанного раздражения, разочарования в человеке, которого по письмам он считал почти своим, выступали у отшельника все яснее.
Доктор упрямо, грубовато продолжал свое. Отшельник, видимо, охлаждался и уходил. Так, вероятно, угасал и спор Толстого с надоедным посетителем. Когда доктор дошел до того, что надо техническими и химическими средствами уничтожать большевиков, отшельник вовсе замолк.
Юноша увел доктора к лодке. Его убедили не идти с нами далее, а вернуться в монастырь. Но все было испорчено. Мы с о. Пинуфрием поспешили отступить в горы.
* * *
По какому-то ущелью, казавшемуся бесконечным, мы карабкались все выше, задыхаясь, иногда изнемогая. Тропинку нам показывал сиромаха – ученик отшельника. Он бесшумно и неутомимо шагал впереди на своих кривых ногах в обуви вроде мокасинов. Вот одинокая калива. Здесь живет иконописец. С высоты его балкона открывается синий дым моря, тени островов Архипелага, и все свет, свет…
…Над нами зубцы Афона. К ним мы не дойдем – лишь сквозь леса и заросли подымемся на полугору и заночуем в келии св. Георгия[53].
К закату тени залиловели в нашем ущелье. Стало холоднее и сырей. Розовым сиял верх Афона, сзади туманно светилось еще море, а вокруг густел мрак. Было радостно достигнуть перевала, сразу оказаться в густолиственном, высокоствольном лесу под дубами, увидеть иной склон Афонского полуострова, идти по ровному месту к живописнейшей келии св. Георгия.
Как всегда, ласково встретили нас в наступающей ночи монахи – только что возвратившиеся с покоса. Пахло сеном. Раздавались голоса коренной русской речи, было похоже на большую крестьянскую семью трудовой и благоустроенной жизни. Звезды очень ярко горели.
Мы устали чрезмерно. Поужинали и на узких ложах, жестковатых, заснули беспробудно.
* * *
Афон, Святая Гора! На другой день мы шли мимо нее, дорогою к Лавре Св. Афанасия[54]. Справа у нас было море, слева бело-серые кручи Афона, испещренные черными лесами. (К сожалению, мне не пришлось взойти на вершину Афона (две версты над уровнем моря), хотя в монастыре мы с о. Пинуфрием и мечтали об этом. Но подъем туда дело очень трудное. Пришлось бы брать в Георгиевской келии «мулашек» и употребить на это целый день. «Выспренний Афон» или «шпиль», как его здесь называют – голая скала с небольшой церковкой Преображения Господня. (Эту церковку в ясный солнечный день я видал иногда и снизу, огибая афонский полуостров, – она сияла белой точкой.) «Шпиль» необитаем, там никого нет, жить слишком трудно из-за бурь, холодов зимою, ветров. Служба в церкви бывает раз в году – 6 августа, в день Преображения. «Тогда стекаются сюда со всей горы усердные иноки и, совершая всенощное бдение и литургию, спускаются вниз к Богородичной церкви обедать, потому что на самую вершину трудно заносить съестные припасы, да негде и готовить» (Святогорец). Да, я не был на вершине Афона, но я так ясно представляю себе его надземную высоту, синий туман моря, видения островов, ток безбрежного ветра, что мне все кажется, будто я там побывал. – Прим. Б. З.) Нас провожал вчерашний безответный сиромаха. Он нес сумку о. Пинуфрия. Мы шагали по большим камням «большой» дороги, по которой ехать никому не посоветуешь: лучше уж пешком. Да и вообще в этом царстве нет дорог проезжих.
Мы проходили подлинно «по святым» местам. Там у моря жил в пещере св. Петр Афонский – первый пустынножитель[55]. Там Кавсокаливийский скит в память св. Максима Кавсокаливита – «сожигателя шалашей» – образ совершенного странника, переходившего с места на место и уничтожавшего свой собственный след, свою хижинку или шалаш[56]. Дальше – пещера Нила Мироточивого[57].
Идем и час, и два, и никого навстречу. Ледяной ключ попался у подножья вековых дубов – бил из прохладной стены, сильно затененной, образуя лужицу и болотце. Проводник с детским простодушием срывал мне разные травы, цветы афонские, рассказывал, как на отвесных, голых скалах на верху Афона цветет неувядаемый Цвет Богоматери. Над Святой Горой остановилось облачко. Кругом синее небо, в нем белеет двузубец, в синеве пустынной и прозрачной ясно вижу я орла. Он плывет неподвижно.
Наконец, дошли до полуразвалившейся не то часовенки, не то пастушьей хижины. Дорога поворачивала. Проводник должен был здесь оставить нас.
О. Пинуфрий снял свою камилавку, под которую был положен белый платочек, защищавший шею от солнца, отер загорелый лоб.
– Вот тут отдохнем, а потом в молдавский скит спустимся… И место хорошее. Это знаете, какое место? Тут святой Иоанн Кукузель козлов пас…[58] Как же, как же… Такой был он, вроде музыканта, или там певец, что ли… по смирению пастухом служил.
Мы сидели в тени. Целая рощица была вокруг, и дорожки вытоптаны козлами, и даже нечто вроде маленького тырла козьего, с остатками помета.
– До сих пор тут пасутся… пастухи доселе их здесь держат.
…Ну, а святой-то, Иоанн-то Кукузель, он очень хорошо псалмы пел… Так, знаете ли, пел, что просто на удивление… да как же, представьте себе, ведь он же первый музыкант был в Константинополе, при дворе императора. Только не выдержал, значит, и удалился сюда, в уединение.
Как запоет, стало быть, то козлы все и соберутся в кружок, бороды вперед выставят и слушают… вон он как пел-то! Подумать! Бородатые-то, бессловесные… – он даже засмеялся, – бородками потряхивают, а слову Божьему внимают… Да, – прибавил серьезно, – этот Иоанн Кукузель был особенный.
О. Пинуфрий умолк. Можно было подумать, что со св. Иоанном, сладчайшим певцом и музыкантом Господним, был он знаком лично.
Наш проводник поднялся, откланиваясь.
– А засим до свидания, – сказал робко, точно был виноват, что уходит. – Мне пора ворочаться.
– Господь с тобой, – ответил о. Пинуфрий. Тот подошел под благословение и поцеловал руку.
– Спасибо тебе, подсобил сумку нести, потрудился. Заходи ко мне в монастырь, я тебе чего-нибудь сберу…
Я тоже поблагодарил и дал монетку. Мне хотелось дать побольше, но не оказалось мелких. Он смиренно поклонился, быстро исчез.
До сих пор мне жаль, что мало я его «утешил». Значит, на роду ему написано быть сиромахой, мне же – запоздало сожалеть.
Лавра и путешествие
Садилось солнце. Мы с о. Пинуфрием шли по пустынной, каменистой тропе, в густых зарослях. На повороте ее открылось сухое поле, с отдельными оливками и серыми камнями, тощими посевами – за ним поднимались стены и древние башни Лавры Св. Афанасия. Нам попалось стадо овец. Верх Афона еще лиловел, когда мы проходили мимо рвов и башен, вдоль стены к главному входу.
Слева раскинулись домики в оливках и кипарисах. В каменных желобах мощно шумела вода. Странно и радостно было видеть такое обилие влаги, прозрачный и сильный ее говор в месте сухо-выжженном, вовсе, казалось бы, неплодоводном. Ясно, она шла с гор. О. Пинуфрий зачерпнул пригоршнею из цистерны.
– Эта вода у них очень замечательная, самый водяной монастырь, святой Афанасий ее прямо из скалы извлек…[59] Так с тех пор и бежит…
Мы приближались к главному входу – куполообразной сени на столбах, освященной образом на стене, над входною дверью. Влево на пригорке расположена была открытая беседка. Там сидели, разговаривали и стояли чернобородые, с тугими, по-гречески заплетенными на затылке колбасками-косами монахи эпитропы. За их черными силуэтами сиреневело море.
Я показал привратнику грамоту с печатью Богоматери. Коваными вратами нас впустили на небольшой мощеный дворик – там надо было пройти еще сквозь новые врага, прежде чем попасть собственно в монастырь – древнюю, знаменитую Лавру Св. Афанасия.
* * *
Мы обещали фондаричному хорошее вознаграждение. Он отвел лучшую комнату гостиницы – не то салон, не то шестиоконную залу, глядевшую на море, с колоннами, отделявшими часть, где помещались постели. Было уже поздно для осмотров – мы пошли бродить по вечереющему монастырю, замкнутому четырехугольником корпусов и башен. Собор[60], крещальня перед ним с огромнейшим фиалом, два кипариса по бокам – времен св. Афанасия – усыпальница Патриархов, трапезная, библиотека, померанцевые деревья, смесь запахов лимонных дерев с теплотой и восточной грязноватостью жилья, нежно-палевые шелка зари… Стало смеркаться. Мы отправились в гости к эпитропу, знакомому о. Пинуфрия. Поднялись по грязной лестнице корпуса с запахом, напомнившим гостиницу в Перемышле или Козельске времен легендарных. Шли какими-то коридорами, спрашивали у выглядывавших монахов, как попасть к эпитропу – некоторые стирали белье, другие, было видно в полуоткрытые двери, что-то мастерили по хозяйству. Лавра – монастырь необщежительный. Каждый живет, как хочет, сообразно средствам, вкусам. Общей трапезы нет, и нет игумена. Управляет совет эпитропов. На стук в одну из дверей отворил пожилой, неопрятный монах с расстегнутым воротом рубашки, в домашней хламиде, довольно полный, с беспорядочно заросшим черною бородой лицом и покрасневшими, слезящимися глазами. О. Пинуфрий представил меня. Эпитроп небрежно-приветливо поздоровался, сказал «кала» и, шлепая туфлями на босу ногу, тяжело волоча грузное тело, пригласил нас в столовую. Он занимал целую квартиру из четырех комнат, грязноватую, всю проникнутую несвежим и «экзотическим» запахом, как грязноват и распущен был сам хозяин. Хотя ему явно было лень, все же он проявил известную любезность, посадил нас на диванчик, и через несколько минут служка его подавал уже гостям всегдашний кофе, глико, раки. Разговор шел по-гречески с о. Пинуфрием. Видимо, он объяснял обо мне, «синграфевс, синграфевс» (писатель) – говорил внушительно о. Пинуфрий; эпитроп равнодушно глядел на меня огромными красными глазами и повторял «кала, кала» (хорошо). Еще часто слышал я «охи, охи» (нет), и это несколько веселило. Видимо, перешли на домашние дела и обо мне забыли, к моему удовольствию. Я любовался сдержанностью и достоинством, прекрасным аристократизмом своего спутника, бегло и любезно, точно он привык к салонам, беседовавшего с эпитропом. Вот он – крепкий и чистый лесной русский тип, заквашенный на Византии, родивший своеобразную высоту древнего зодчества, русской иконописи… Таким, как о. Пинуфрий, мог быть посол российский времен Иоанна III, живописец Андрей Рублев или мастер Дионисий.
Эпитроп показал нам свою моленную. Перед древним образом св. Димитрия Солунского краснела лампада[61]. Мы вышли на балкон. Он выходил наружу, за монастырь. Афон подымался сбоку. Вблизи монастыря только что скошенная лужайка, лежали ряды подсыхающего сена. Запах нежный и столь для русского пронзительный… Налево сиреневое море, и сиреневый, кроткий вечер одел оливки, камни, суховатый и пустынный пейзаж.
…Позже мы ужинали с о. Пинуфрием у себя в зале, за круглым столом посреди комнаты, при давно невиданной висячей лампе. Нас впервые на Афоне угостили мясом – козлятиной, из тех козлов, что некогда пас св. Кукузель. Окна наши я приоткрыл – поднял, вся рама подымалась, как в русской деревне. Налетали бабочки. За окном густела ночь лиловая, здесь тоже был покос, и тот же сладко-грустный запах втекал в комнату. Монастырь давно спал, спал и о. Пинуфрий, когда я вышел на каменную внутреннюю террасу в сводах, с нишами, скамьями и открытой лоджией. Поднялась поздняя луна. Кипарис св. Афанасия казался черным гигантом, тень его, как исполинского святого, перечеркивала белый в синем двор. В полумгле колокольни кресты. Кое-где крыши блестели в свете, звезды цеплялись за кипарисы, узоры башен казались из восточной феерии, по-шехерезадински журчал водоем. Все – Византия и Восток – в этой пряно-душистой ночи.
* * *
Солнце, блеск магнолиевых листьев, черно-синие тени. Мы провели утро в сладком благоухании греческого монастыря и Литургии. О. Пинуфрий, знающий и любящий греческую службу, собрался в Собор раньше меня, но и я, несколько позже, попал в драгоценный древний храм с кованым, тускло-златистым иконостасом с перламутровыми дверями, перламутровой кафедрой игумена, фресками XVI века (монаха Феофана, главы враждебной Панселину школы живописи)[62], изумительным трехъярусным хоросом, голубыми плитами фаянса, до половины облегающими стены, аналоями в виде четырех извивающихся стоячих змей («дискеллии»), выложенных мелкой мозаикой из перламутра, слоновой кости и черепахи – четыре змеиных головы слушают чтеца.
В раннем утреннем золоте мы стояли пред дымно-голубоватою глубиной храма с вытертым, священно-мозаичным полом. Важные эпитропы склоняли в резных стасидиях черные с проседью бороды (по словам русских, лаврские греки, несмотря на зажиточность свою, крепко стоят в церковной строгости: их бдения под праздники длятся по двенадцати, пятнадцати часов, не уступая нашим). Позади скромно теснилось несколько «простых сердец» – греческих дроворубов, рыбаков, сиромах. Пение в унисон, однообразное, сладостно-тягучее, опьяняет, как наркоз. Очень древнее и восточное есть в этом, но и весь Собор таков, он излучает старинные, ладанно-сладковатые запахи. Когда после службы мы прикладывались в алтаре к бесчисленным святыням, это загадочное благоухание – мощей, кипарисов, вековых ларцов – всюду сопровождало нас.
Вот в среброзлатистом венце, или шлеме, украшенном яхонтами и рубинами, глава св. Иоанна Кукузеля, смиренного пастуха козлов. Темно-коричневая, с медвяно-желтым отливом кость черепа открыта для почитания паломников. Вот так же обделанный череп – глава св. Василия Великого[63]. Запомнился и удивительный крест, осыпанный жемчугом, – подарок Никифора Фоки. Хранится он в золотом ковчеге, лежит на его шелках тихо и таинственно, и не без волнения наблюдаешь, как монах открывает все эти тайные упокоения, и нам, несколько опьяненным, «объявляет» тысячелетнюю реликвию.
Смутно-легкий, прозрачный и благоуханный туман в голове, когда выходишь из Собора: святые, века, императоры, ювелиры, художники, – все как будто колеблется и течет. Мы уселись в тени кипарисов. Я пытался зарисовать аркады и ниши невысокой усыпальницы патриархов, потом мы разглядывали крещальный фиал, употребляемый для водосвятия, тут же под кипарисами, близ паперти. Чаша его из цельного куска мрамора. Над фиалом осьмиугольная как бы часовня под куполом. Древние плиты строения! Они взяты еще из языческого храма. Коршуны, грифы, загадочные звери на них иссечены, и попадается крест. Но не христианский. Язычество знало тоже символ креста. Означал он другое: вселенную, универс.
Мы направились к трапезной. В огромной зале отдельного здания стены все сплошь записаны фресками. Тянулись столы. Их устройство меня поразило: ряд огромнейших мраморных плит, цельных, овальных – на каменных же опорах – как друидические дольмены (в этой трапезной общая трапеза бывает лишь несколько раз в году. – Прим. Б. А.)[64].
* * *
Все проходит. И ушла Лавра Св. Афанасия. Похожа она на тот золотой ковчег, из которого вынимал монах жемчуговый крест Никифора Фоки. Не все нам было вынуто, показано в этом ковчеге (таинственно исчез, например, библиотекарь – так мы старинных книг и не видали). Все же густое, злато-маслянистое, медвяное ощущение осталось.
А сейчас Лавра вздымается уже позади нас средневековым пиргом (башней) своей пристани, да узором башен и стен с пестрыми, голубыми и розовыми выступами строений – голубеет на косых подпорах и наш фондарик шестиоконный. Мы же медленно и легко плывем по гладкой слюде архипелажьих вод. О. Пинуфрий вновь подложил белый платочек под свою камилавку, и он закрывает ему шею. Тишина, полдень. Слева Афон и горы, справа море с туманными, голубоватыми, тоже будто плывущими в зеркальности островами: Лемнос, казавшийся древним волом, погруженным в воды («Тень Афона покрывает хребет Лимнийского вола»), Фасос, Имброс и Самофраки. И быть может, в ясный день, в хорошую подзорную трубу я рассмотрел бы рыжие холмы тысячелетней Трои. Передают же «баснописцы», что на горе Афон были видны условные огни греков под Троей, и Афонская вершина, будто бы, передавала их царице Клитемнестре[65].
Мы сидим на корме. Вода мягко журчит. Шелестят лопающиеся пузырьки. Лицом к нам, стоя, гребет рыжебородый и рыжегривый албанец. Он слегка изогнулся. По лбу текут капли, но он так силен и неутомим! Таких вот длинноволосых даков покоряли бритые, умные и порочные, усталые Адрианы и Траяны[66].
Его сменяет иногда товарищ – я забыл его. Был ведь другой албанец, плыли мы с ним несколько часов, но в том искании «потерянного времени», в чем состоит, как некоторые утверждают – жизнь[67], второго албанца у меня нет. Зато помню, как на носу лодки, свернувшись, выставив к нам пятку в рваном носке, спал юноша: бородач обещал подвезти земляк а до пристани Морфино.
В самый стеклянно-знойный час, когда только что прошли келию св. Артемия и Воздвижения Креста[68], о. Пинуфрий, омочив руку в воде и обтерев лоб, поглядывая на эту голую, бесхитростную пятку, вдруг сказал:
– Вот ведь он и Господь так же… да, плывут, значит, по озеру, апостолы, как бы сказать, на веслах, да и знойно так же было… Палестина! Я в Иерусалиме бывал, чего там, при мне один паломник солнечным ударом скончался. Очень жаркая страна. Господь и притомился, прилег, они гребут, а Он вон этак и заснул. Да представьте себе, буря… Ах ты, батюшки мои! Хоть бы вот нас сейчас взять – жарко, солнечно, да как туча зашла, да как гром ахнет, ветер, волны пошли… Что тут делать? Прямо беда! Апостолы испугались. Что ж, говорят, видно, уж тонуть нам надобно? В такую-то бурю, да на простой лодочке, вроде бы сказать, как наша… Тут и Господь проснулся. Они к Нему. Да вот, говорят, погибаем, что тут делать? А Он им отвечает: что же это вы так испугались? Нет, говорит, это значит веры в вас мало, чего уж тут бояться… Да-а… и ну, конечно, простер Господь руку, дескать, чтобы опять было тихо – и усмирились волны, и какая буря? – никакой и бури-то больше нет, опять солнышко печет, вода покойная, вот оно ка-ак…[69]
Албанец по-прежнему греб, стоя, напруживая волосатые руки. Светлые глаза его внимательно смотрели на о. Пинуфрия. Он ничего не понимал. Нравилось ему все-таки что-то в неторопливом, тихом рассказе о. Пинуфрия?
Мы подходили к бухте Морфино.
* * *
Афродита-Морфо была Афродитою дремлющей, с покровом на голове и ногами в цепях – такой видел ее в Спарте Павзаний. Это символ Любви, еще томящейся в плену у Хаоса. Заливчик Морфино, с древнею башнею на берегу, несколькими хибарками, где наши албанцы, засучив штаны, вытаскивали мелкую кладь и грузили мешки с ячменем – отмечен древнею, дохристианской легендой о пленной богине: богиня приняла очертанья красавицы дочки царя, которую он заключил в башню.
Погрузившись, поставили парус, при слабом, чуть-чуть, ветерке, пошли дальше, все в то же странствие вдоль берегов Афона. Целый день были светлые облака над головой, зыбко-прозрачная влага, шуршание пузырьков за кормой. Проходили скиты и монастыри. Далеко в море плыли с нами туманные острова. Мы заезжали в монастырь Иверской Божией Матери[70] и прикладывались к древнему Ея Образу[71], и в светлой приемной зале обители старенький, слабый и грустный архимандрит, долго живший в Москве, дружелюбно нас принимал, сидя в мягком кресле, вспоминал Москву, ее Иверскую[72], поглаживая черно-седую бороду, полузакрывал старческие глаза и вздыхал – не по далекой ли, но уж полюбленной земле, стране, которую в остаток дней не увидать?
С мягких кресел и от тихого света Иверского монастыря незаметно мы переплыли на новую лодку, где новый гребец, при вечереющем солнце и дымнозарозовевших островах Архипелага повлек нас к небольшому монастырю Пантократору – на ночлег.
Пантократор, Ватопед и Старый Руссик
Когда наша ладья подходила к Пантократору[73], он сиял еще в вечерней заре, подымаясь круто над морем башнею, крепостными стенами и балкончиками. Мы свернули налево и узким проливом вошли в небольшую, уютную бухточку, совсем закрытую от волн. У пристани разгружался каик. Два монаха-рыболова выплывали в море на лодочке. Чинно гуляли эпитропы. Молодые албанцы с мулами покорно дожидались чего-то. На холме, в лесах и зелени, белел и горел ярким стеклом русский скит пророка Илии[74].
После Лавры Св. Афанасия Пантократор кажется второстепенным. Он не поражает, но дает ясный образ греческого монастыря с удивительными вратами, башнею, собором и темными, неблагоуханными коридорами келии и гостиницы.
Я провел в этом Пантократоре ночь совершенно бессонную. Она доказала, сколь Греция есть Восток и экзотика, и как эта экзотика дает себя чувствовать огнем насекомых. Спасаясь от них, пришлось сидеть и полулежать на лавке (или диване) у окна, выходившего на море. Как и в Лавре, рамы были подъемные. Так прошла ночь, по красоте редкостная – в глухие часы ее красно сиял диск встающей луны и широкая, ослепительно-серебряная, мелкочешуйчатая дорога шла морем прямо к подножию Афона, черневшего страшною кручею. Утром все побелело и засиреневело. Афон стал нежутким. Тонко-лиловые очертания его с голубыми утренними провалами ущелий и мохнатой шерстью лесов, лысинами скал – приняло очаровательную нежность. Магическая ночью луна растаяла. И наконец, теплым кармином тронул «Эос» верхушку Святой Горы, церковку Преображения[75].
Вот и не пожалеешь о бессонных часах.
Утро в самом монастыре дало артистическую радость: архимандрит Афанасий («дидактор теологии»), любезный и просвещенный греческий монах, показал в соборе такого Панселина, равного которому не видел я и в Карее. Тут в литийном притворе сохранились нереставрированными две-три его фрески (одна особенно прекрасна – Иоанн Предтеча)[76]. Что о них скажешь? Думаю, что рука этого художника наделена была безмерною свободой, первозданной самопроизвольностью.
Гений есть вольность. Нет преграды, все возможно, все дозволено. Великое и легкое, самотекущее, вот основное, кажется, в «волшебной кисти Панселиновой», в кисти византийского Рафаэля.
* * *
Новая лодка и новый гребец, и такое же тихо-расплавленное утро, как и вчера, сонные воды, бледные острова. Завиднелся вдали дымок парохода – висел протяженною струйкой в небе, а потом все смешалось, не скажешь, было ли, или казалось.
Идем рядом с берегом. Тут еще тише, еще легче грести. Скалы пустынны! Они обрываются в море почти отвесно, обнажая пласты горных пород – красные, кирпично-рыжие, бледно-зеленые. О. Пинуфрий, придерживая рукою угол платочка, подложенного под камилавку, закрывающего ему шею, всматривается в изломы и излагает свои космогонические теории. Гребец вдруг делает знак молчания и лишь слегка касается воды веслами. Подплываем к пещере. Камень загораживает половину входа. Но проток есть сапфирно-зеленое стекло уходит вглубь, в таинственную тьму. Гребец шопотом объясняет что-то о. Пинуфрию.
Оказывается, здесь живут тюлени. Если стать вот как мы, сбоку за утесом, то можно увидеть, как они выплывают на волю, нежатся на солнце, играют, плещутся – целый выводок.
Припекает. Лодка слегка поколыхивается в том определенно-безбрежном дыхании, что есть жизнь моря. По лицу о. Пинуфрия, из-под защиты ладони вглядывающегося в берег, слабо текут золотисто-водяные блики. Мы ждем. Не полден ли это Великого Пана[77], не подстережем ли ту вместо сонных тюленей скованную, в полудреме томящуюся Афродиту-Морфо?
Внезапно легкая тень наплывает, одевает своим полусумраком, ломаясь, быстро взбегает по скалам. Афродиты-Морфо не было. Не увидали мы и тюленей – стало быть, поленились они в жару заявляться пред иностранцем. Подняв головы, зато увидали орла афонского. Плавно протек он над нами на крылах твердых, неподвижных.
* * *
Ватопед[78] открылся в глубине овального, до вольно правильного залива. Невысокие, мягкие холмы окружают его, есть нечто приветливое покойное в этом как бы «итальянизирующем» пейзаж е. Сам монастырь – сложная мозаика пестрых зданий, башен, стен, зубцов, врат. У воды пристань, лодки, даже рыбачий поселок. На недвижной в заливе лодочке прочно расположился монах с рыболовной снастью. О. Пинуфрий сообщил мне, что это один из правителей монастыря – большой любитель рыбной ловли.
Ватопед после Лавры – важнейшая обитель Афона. Богатством он Лавре вряд ли уступит, древностью также. Его разграбление сарацинами в IX столетии уже исторический факт.
Это очень культурный и ученый монастырь. В XVIII веке при нем была даже духовная академия, основанная виднейшим богословом того времени. (К сожалению, Академия эта просуществовала недолго. Дух ее был признан слишком новаторским, и ее закрыли[79].) Затем, в Ватопеде лучшая на Афоне библиотека[80]. Монахи считаются самыми образованными, более других изысканны и утонченны, даже изящней одеваются. Монастырь гораздо чище и благоустроеннее других. В Ватопеде есть – и это внушает даже некоторый трепет русским – электрическое освещение! Но вот черта, за которую ватопедцев на Афоне осуждают: монастырь принял новый стиль (впрочем, не все монахи ватопедские признали его. – Прим. Б. З.). Это вовсе не в духе Афона. Вопрос о стиле здесь стоит остро – Вселенский Патриарх ввел его в Греческой Церкви, но Афон есть Афон, за ним вековая давность и вековая традиция – Патриарху он не подчинился и живет по-старому[81].
– Лучше умрем, – говорили мне русские монахи, – а нового стиля не примем. Нынче стиль, а завтра латинство появится.
Когда в великолепной, чистой и тихой зале с бесшумным ковром во всю комнату, светлыми окнами и балконом на синий залив, охваченный холмами, мы дожидались приема, что-то среднее мне показалось между Ассизи и гостиницею в Неаполе.
Мы провели в Ватопеде очень приятный, несколько «итальянский» и ренессансный день. Конечно, как и в Лавре, посетили собор, прикладывались к многочисленным ватопедским святыням, слушали литургию, но из всех осмотров этого монастыря ярче всего осталось в памяти библиотека, а в самой библиотеке такая «светская», но замечательная вещь, как Птолемеевы географические карты (если не ошибаюсь, XI века).
Лавра Св. Афанасия одно время отпала в «латинство» (при Михаиле Палеологе)[82]. Ватопед, напротив, претерпел даже мученичество: за нежелание принять унию игумен Евфимий был утоплен, а двенадцать иеромонахов повешено[83]. В Лавре предание указывает кладбище монахов-отступников. Ватопед мог бы показать могилы своих исповедников в борьбе с Западом. И все-таки Лавра – монастырь густо-восточный, Вато пед же несет легкий налет Запада. Даже легенды связывают его с Западом.
Основан он будто бы на месте, где под кустом нашли выброшенного в кораблекрушении царевича Аркадия, будущего императора (брата Гонория), который плыл из Рима в Константинополь и здесь был застигнут бурей (V век).
Далее, и сестра его, знаменитая Галла Плацидия, имеет к монастырю отношение[84].
Кто бывал в Равенне, помнит удивительный ее мавзолей с саркофагами, синею полумглою, таинственным сиянием синефонных мозаик. В юности с увлечением читалось о красавице, черные глаза которой и сейчас смотрят с мозаичного портрета. Бури, драмы, любовь и политика, роскошь и бедствия, мужество и величие заполнили ее жизнь. Радостно было открыть в Ватопеде след героини.
Легенда о Галле Плацидии довольно загадочна. В те времена женщинам не был еще закрыт доступ на Афон. Она пожелала проездом из Рима в Константинополь посетить Ватопед. Но когда входила боковыми вратами в храм Благовещения, таинственный голос Богоматери остановил ее, как бы ей запретил. Императрица пала на помост и принялась молиться, но не вошла. Позже на этом месте она приказала изобразить лик Богоматери. Икона существует и теперь, в нише у входа. Но что значит рассказ? Почему запретила ей Пречистая войти? Был ли остановлен Запад в лице ее? Или остановлена именно женщина – яркой выразительницей женского Плацидия была несомненно, и тогда это как бы предвозвестие запрещения женщин на св. Горе – или, наконец, черта некой личной судьбы Галлы?
Кто знает. Икона же в нише сохранила название Предвозвестительницы, а монастырь Ватопедский, со своею библиотекою, учеными монахами, комфортом и изяществом, хорошим столом, григорианским календарем, элегантными рясами монахов, великолепным винным погребом, удержал оттенок некоего православного бенедиктинизма[85].
* * *
Пред закатом мы с о. Пинуфрием и молодым чешским поэтом Мастиком гуляем за монастырем по тропинке вдоль каменного желоба светлой горной воды, по склону ущелья, под гигантскими каштанами, платанами, среди кипарисов и оливок. Теплая, местами золотящаяся тень. Кое-где скамейки. Иногда встречаем монаха.
Тут можно именно «прогуливаться» в тишине и благоухании, очищаясь прелестью вечера, вести спокойные диалоги, неторопливо отвечая на поклоны встречных каливитов, пробирающихся в монастырь за куском хлеба или «оком» (греческая мера) масла. Может быть, богослов Булгарис, основатель Ватопедской Академии, и беседовал здесь с учениками. Мы Булгариса не встретили. Но в золотом сиянии вечерних лучей сидели на скамейке с учтивым и воспитанным монахом-грамматиком, немолодым и изящным, любезно обменялись несколькими фразами по-французски.
Во всех монастырях Афона принято, что вышедшие возвращаются до заката, в этом есть глубокая поэзия. Солнце скроется, и кончен земной день, нечего путать и волновать мироздание своими выдумками. Запирают тройные врата, в наступающей ночи лампада будет краснеть перед образом надвходным – Спасителя ли, Богоматери, и привратник укроется в свою ложу.
Мы так занялись этой прелестной прогулкой, что едва не опоздали. Пришлось торопиться, и дома двое монахов накрывали уж нам на стол, когда мы воротились.
О. Пинуфрий лег раньше. Мы с чешским юношей долго сидели на балконе. Холмы вокруг сливались в сумраке, за ними собралась туча и зеленоватые зарницы вспыхивали. В их мгновенном блеске разорванным, лохматым казался пейзаж. Его мягкая котловина, фермы, отдельные черные кипарисы при них, щетинка лесов по гребням напоминали Тоскану, окрестности Флоренции. Мы вспоминали чудесный облик ее, говорили о Рильке[86], поэзии и путешествиях.
Во дворе Ватопеда зажглись электрические шары, темнота от них стала гуще. В дверь из коридора потянуло теплой, легкой струей.
* * *
Утром два оседланных мула по д пестрыми потниками ждали нас у главного входа. При светлом, еще нежарком солнце мы тронулись в гору по направлению Старого Руссика (Старый Руссик – колыбель русского монашества на Афоне. Выше, в очерке «Монастырь св. Пантелеймона», я указывал уже, что в 1169 году русские переселились из скита Ксилургу в монастырек «Фессалоникийца», стоявшего на месте нынешнего ст. Руссика. Начинается многовековая его история. Она довольно тесно связана с Сербией и сербскими «кралями». Ярким фактом этой связи может служить то, что именно в Ст. Руссике царевич сербский Растко, сын Стефана Немани, принял монашество (впоследствии он стал знаменитым сербским архиепископом Саввою, через него и установилось покровительство сербских королей Старому Руссику). Историк нашего Пантелеймонова монастыря различает четыре периода его жизни: первый, славяно-русский, до принятия монастыря под сербское покровительство (от XI по XIV век). В это время состав братии был славяно-русский. К этому периоду и относится осада монастыря каталанцами – в нач. XIV в. Монгольское иго в России надолго лишает монастырь русского покровительства, и самая связь с Россией прерывается – к счастию, родственные сербы заменяют временно утерянную родину, но и братия пополняется теперь почти исключительно из Сербии, монастырь становится как бы сербским. Это второй период – с XIV по конец XV века. С XV по середину XVIII в. – третий период, чисто русский. С 1735 г. до конца XVIII в. – чисто греческий. В XIX веке прежний Старый Руссик меняет место, основывается теперешний огромный монастырь Св. Пантелеймона на берегу моря. В создании его потрудились игумен Савва, благотворитель князь Скарлат Каллимах, иеромонах Аникита (в миру кн. Ширинский-Шихматов), иеросхимонах Павел. С 40-х годов начинаются «милостынные» сборы в пользу монастыря в России (особенно обильный сбор в 1863—67 гг., когда иеромонах Арсений путешествовал по России со святынею). В последнем, наиболее цветущем периоде жизни монастыря, особенно выдающимися фигурами его были духовники братии иеросхимонах Иероним (провел на Афоне 49 лет, †1885 г.) и игумен архимандрит Макарий. – Прим. Б. З.)
Майское путешествие на муле по горам и влажно-прохладным лесам Афона! Впереди широко, слегка коряво ступает по неровным камням проводник.
Мулы следят за его движениями, повторяют их. Мы покачиваемся в седлах. Дорога все вверх.
Слева развалины Ватопедской Академии. Тянутся аркады водопровода – последние знаки западной культуры уходящего монастыря. За ними сине-молочное море в сиянии. Острова. Вновь кукует афонская кукушка. Мы вступаем в непробудные леса, в гущу прохладной, нетронутой, влажной зелени, пронизанной теплым светом. Внизу скит Богородицы Ксилургу, где при Ярославе поселились русские, и откуда в 1169 году вышли в Старый Руссик. Далее, сквозь стволы каштанов мелькает знакомый Собор Андреевского скита, Карея пестрым пятном. Мулы бредут теперь по ровному. Мы на хребтовой тропе. Местами открываются синие дали полуострова к Фракии, все леса и леса, очертанья заливов и бухт, а потом вновь сине-молочное, туманно-сияющее море – уже склон западный.
Когда после трехчасового пути из-за дубов, орехов, за вырубкою по скату выглянул Старый Руссик, Византия окончилась.
Полянка среди диких лесов, неказистая стройка в тени огромных дерев, недоделанный новый собор – все глухое, запущенное, так запрятанное, что нескоро его и разыщешь. Бедность и скромность. Темноватая лесенка, небольшая трапезная вроде какого-нибудь средне-русского монастырька.
Пахнет тут сладковато-кисло, щами, квасом, летают вялые мухи. Никакие Комнены или Палеологи[87] сюда не заглядывали. Но это колыбель наша, русская, здесь зародилось русское монашество на Афоне – отсюда и распространилось.
Наше явление походило на приход марсиан: редко кого заносит в эту глушь. Скоро мы хлебали уж монастырский суп. С любопытством и доброжелательным удивлением глядели на нас русские серые глаза, простые лица полумонашеского, полукрестьянского общежития.
Пришел с огорода о. Васой с живыми и веселыми глазами лесного духа, весь заросший седеющим волосом, благодушный, полный и какой-то уютный. Узнав, что я из Парижа, таинственно отвел в сторонку и справился об общем знакомом – его друге. Получив весть приятную, о. Васой так просиял, так хлопал себя руками по бокам, крестился и приседал от удовольствия, что на все наше недолгое бытие в Руссике остался в восторженно-размягченном состоянии.
– Ну и утешили, уж как утешили, и сказать не могу! – говорил он мне, показывая скромные параклисы Руссика, где нет ни жемчужных крестов, ни золотых чаш, ни бесценных миниатюр на Псалтырях.
– Пожалуйте, сюда пожалуйте, тут вот пройдем к пиргу св. Саввы…
Мы заглянули в залитую солнцем галерейку – вся она занята разложенными для просушки маками, жасминами и розами – на них о. Васой настаивает «чай».
– Это мое тут хозяйство, вот утешаемся… Сладковатый и нежный запах стоял в галерейке.
Темнокрасные лепестки маков, переходящие в черное, и пунцовый пух роз, все истаивало, истлевало под афонским солнцем, обращалось в тончайшие как бы тени Божьих созданий, в полубесплотные души, хранящие, однако, капли святых благоуханий.
О. Васой вдруг опять весело засмеялся и слегка присел, вспомнив что-то, его зеленоватые глаза заискрились.
– Прямо как праздник для меня нынче, уж так вы меня порадовали, прямо порадовали!
И о. Васой, цветовод и, кажется, пчеловод Руссика, веселое простое сердце, повел меня в древнюю башню, главную святыню монастырька, откуда некогда царевич сербский Савва, впоследствии прославленный святой, сбросил посланным отца царские свои одежды, отказавшись возвратиться во дворец, избрав бесхитростный путь о. Васоя[88]
Святые Афона
Останавливаюсь здесь, очень бегло, лишь на трех фигурах, представляющихся мне особенно яркими и как бы олицетворяющими различные типы афонского святого: отшельника, деятеля и поэта. Но Афонский Патерик заключает много имен, некоторые из них встречаются и в моих очерках: св. Савва Сербский, Максим Кавсокаливит. О святых Афона можно было бы написать целую книгу, равно как и о мучениках афонских. Последнее особенно интересно и требует тоже отдельного исследования. Ограничиваюсь краткими замечаниями. Мученичество на Афоне связано: 1) с «нашествием папистов» в XIII веке (26 мучеников зографских, заживо сожженных «латинянами» в пирге, ватопедские мученики и мн. др.); 2) с владычеством турок. Уж е в начале XVI века встречаются мученики «от турок» (преподобномученик Макарий Иаков). Особенный тип мученичества развивается в начале XIX века. Известен ряд случаев, где молодые греки и болгары обращались в магометанство, а потом под влиянием афонских старцев (в частности, монаха Григория, подготовлявшего их) принимали мученичество за возвращение к христианству. После длительной подготовки у Григория они являлись к визирю или судье с крестом, пальмовою ветвью, проклинали Магомета и объявляли себя вновь христианами, нередко нанося оскорбление властям, чтобы вернее заслужить кару. Их казнили. По афонскому учению того времени, такое мученичество являлось единственным способом для отпавшего спасти свою душу. Вот отрывок о страдании мученика Евфимия: «Оба они (то есть Евфимий и Григорий) остановились в Галате у некоего Григория. Тут Евфимий, по словам скитника Григория, то обдумывал как предстать ему пред визирем, то приходил в исступление и созерцал небесное блаженство и мученическую награду и венец. В избранный для мученичества день Евфимий и Григорий причастились, Евфимий написал шесть писем, исполненных мыслей евангельских и выражавших твердость его духа как мученика; затем оба перешли на корабль кефал-лоникийского купца Цоана. Здесь Евфимий переоделся в турецкое платье, приготовленное заранее, а некто Иоанн дал ему шелковую рубаху. Все стали прощаться. Григорий плакал. Евфимий помазал все члены тела своего маслом из лампады, взятым у иконы Афоно-Иверской Богоматери-Вратарницы, и с крестом и пальмовою ветвью пошел к визирю». Там он объявил себя христианином, проклял Магомета и был за то казнен. «О смерти его Григорий узнал от Иоанна, тотчас полетел к палачам, выкупил тело с большим трудом и издержками. Прошло три дня. Григорий со слезами лобызал главу Евфимия, говорил ей: дай мне слово, что я не один возвращусь в скит, а с тобою. Голова в ответ дважды открывала глаза. Он привез ее в скит, а тело Евфимия похоронил на Принцевых островах». Этот рассказ дает довольно яркое представление о психологии православного мученичества на Балканах в XIX в. и о роли в нем Афона.
Пустынник
Вспоминая удивительный мир Афона, сейчас же видишь не раз встречавшийся там на иконах облик: совершенно нагого старца с длиннейшею седой бородою. Она закрывает все его тело, спускается до земли – св. Петр Афонский. Есть что-то безмерно-наивное, вызывающее сочувствие и удивление в этой одежде святого (такою бородою можно было закутываться, как плащом или шарфом, подстилать ее под себя, чтобы мягче было лежать). Но ее признаешь сразу и бесповоротно. Да, это борода отшельника.
Мы привыкли считать Адама юным. Адам всегда безбород, чем очень отличается от св. Петра, но если бы мы вообразили себе Адама в старости, то некоторыми чертами он напомнил бы нам афонского святого.
Св. Петр жил или в восьмом, или в девятом веке, никто точно не знает, да и не столь важно знать: на двести лет раньше или позже, значения не имеет. Все равно, в той дали и легендарности, откуда встает он, не различишь исторического, не услышишь земного голоса, не увидишь человеческого лица, как и земного пейзажа. Змии, львы, слоны, древо познания добра и зла, нагой Адам, нагая Ева – вот существа первого действия человеческой трагедии. Вся эта обстановка – за исключением Евы – может быть отнесена и к нашему пустыннику.
Св. Петр Афонский тем и сходен с Праотцем, что повит волшебными туманами. В нем есть зачеловеческое, дочеловеческое.
Забудешь, что он был схоларием[89] в Константинополе, что попал в плен, жил в темнице, побывал в Риме у папы. Все это как бы отпадает. Св. Петр начинается лишь на Афоне, в той пещере, вблизи моря на южной оконечности горы, которая видна с дороги из Кирашей в Лавру. Те же змии, горы, камни пустыни, рокот моря… Человека вокруг нет и не было. Св. Петр – безмолвник. Его разговор – только с Богом, морем, звездами. Он – первый в длинном ряду пустынников и созерцателей Афона, глава целого племени исихастов[90], как бы воплотитель типа молчальников.
Около пещеры, где он жил, откуда видно море, скалы, да великая гора Афон, теперь стоит часовня и живут два иеромонаха. Но в самой пещере жить не дозволяется: слишком холодно зимой, у «ревнующих» подражать святому не хватает сил, и они гибнут.
А св. Петр жил. Чем он питался? В житии упоминаются «коренья и пустынное зелие». Последнее не удивит того, кто на Афоне побывал: если сейчас еще есть наши, русские пустынники, питающиеся лишь «камарней» (ягоды на растении, напоминающем лавр), да фигами, при этом живущие до глубокой старости, то что удивительного, что так же жил и св. Петр?
Это была жизнь классического пустынника Фиваиды. Безмолвие и одиночество, пещера, полная демонов, сражения с ними и победа, молитва… Так прожито пятьдесят три года!
Прелестен рассказ о том, как люди нашли святого. «Ловец» охотился недалеко от его пещеры, преследуя очень красивую лань. Она все ускользала. Наконец, вскочила в отверстие пещеры. «Ловец» готов был уже «бросить стрелу», как вдруг увидал старца с бесконечною бородой, волосами до пояса, седого, прикрытого, кроме бороды, лишь несколькими «травными листьями». Ловец так испугался, что бросился бежать, отшельник необыкновенным своим видом представился ему как некое «мечтание». Тогда св. Петр окликнул его и стал убеждать, что он не «мечтание», а настоящий живой человек, такой же, как и сам охотник.
Лани уже не было. И успокоенный ловец сидел со старцем на пороге его обиталища и от него самого выслушал рассказ о полувеке жизни вблизи моря, среди скал и зарослей, под защитой высокогорбого Афона.
По житию, ловец пленился повестью, сам сделался отшельником, святой же вскоре умер.
Все это было так давно! Никто не знал о нем при жизни, кроме ящериц пещеры да орлов афонских.
А смерть вознесла к бессмертию.
Строитель
Со св. Афанасием мы уже на земле, «в истории»[91]. В юности он пытался уходить от мира и жить пустыннически. Под видом безграмотного Варнавы, явившись на Афон, укрывался вблиз обители Зиг, где старец-отшельник учил его грамоте (святой делал вид, что не умеет писать). Но посланные его друга по Константинополю, полководца Никифора Фоки, отыскали его. Он удалился в пустынную местность Мелана, там поставил себе каливу и целый год боролся с чувством отвращения к этому месту. Но он умел сражаться с самим собою! И знал, что такое аскеза. Еще когда жил в столице, в доме военачальника Зефиназера, уговорил прислужников продавать дорогие блюда и яства и покупать ему ячменный хлеб – ел его через день. Еще тогда приучал спать не лежа, а сидя на стуле. И когда уставал на молитве, то брал таз с водою, клал туда снегу, и ледяною влагой обтирал лицо.
Но жизнь безмолвника не была ему дана. Его назначение оказалось иное.
Св. Афанасий жил позже св. Петра – в десятом веке. Афон в то время уже был пристанищем одних пустынников. Стали являться и монастыри. Их созидателем, вечно в кипении, борьбе, деятельности и оказался св. Афанасий – как бы Петр Великий Афона.
Он был гигант, исполинской силы. Знаменитую Лавру, и ныне вздымающуюся соборами, стенами и башнями, строил собственноручно. Средства давал ему Никифор Фока, вначале – полководец, затем – император. Позднее – Иоанн Цимисхий[92]. Святой возводил храмы, стены и башни. Когда он велел рыть землю для фундамента церкви в честь Пресвятой Девы, дьявол, «бессильный доброненавистник, демонскими своими действиями ослабил руки строителей так, что они не могли коснуться даже уст своих». Св. Афанасий помолился, взял сам лопату, начал рыть и «к большой досаде демона» разрешил руки рабочих. Всегда с лопатой, топором, а то и просто с исполинскою своею силой! Не раз случалось, что с одной стороны груз волокли трое, а с другой становился Афанасий и трое едва успевали за ним. Или: везут тяжесть на паре волов. Один из них падает, захромав. Святой велит отпречь его и сам впрягается.
Вот видим мы его на постройке лаврской пристани («арсаны»). Эта пристань и сейчас существует, я сам отплывал от нее под парусом, сидел в тени средневековой башни, дожидаясь лодочника-албанца.
«Когда в пристань спускали одно огромное дерево, спускавшим оное, по своему обыкновению, помогал и святой: он влек дерево с нижней части, а мастера были сверху и осторожно спускали оное по скату горы. В это время действием демона дерево стремительно двинулось книзу и, сдавив ногу святого, сокрушило ее в голени и лодыжке. От этого Преподобный три года пролежал в постели и едва выносил страдания».
Но уж такова была жизнь его – в ней мало найдется тишины и созерцания. Построил пристань, надо заняться водопроводом. В семидесяти стадиях[93] от обители он находит родники отличной воды. Их приходится разрывать, пробивать гигантские утесы, прокладывать трубы, соединять воду отдельных источников и вести общий поток в Лавру. Надо строить келии для братии, трапезу со столами из цельных плит мрамора, больницу, странноприимный дом. Первую на Афоне баню. А там хозяйство – он заводит множество скота, насаждает виноградник, огороды, управляет подаренным Лавре метохом (имением). Земли Лавры все растут. Типично предание о св. Афанасии и св. Павле[94]. Афанасий жил на восточном склоне, Павел на юго-западном. Они условились размежевать склоны горы так: в назначенный день каждый должен был отслужить у себя в монастыре литургию и выйти по пути к соседу, то есть Павел – к Лавре, Афанасий – к Павловой обители. Где встретятся, будет граница.
Будто бы Афанасий и встал раньше, да и шел быстрее. Это вполне в его духе. Вряд ли он мог делать что-нибудь медленно или вяло, если бы и захотел. Саженными шагами мерил святой гигант кручи Афона и намного обогнал святого Павла: Лавре достались огромные пространства. Лавра св. Афанасия дала тип и облик всему афонскому монашеству. Святой был властен, не потакал слабостям (и поныне сохранился его железный посох).
От монахов требовал исполнительности и повиновения. Во время церковной службы один из братии обходил присутствующих и будил уснувших. Другой наблюдал, кто когда приходит в церковь. Поздно пришедшие должны были давать отчет. Строгая тишина во время трапезы. После повечерия не дозволялось никаких бесед, и запрещалось также говорить «холодные слова мое, твое». В Лавре был создан знаменитый «афонский устав» X века[95], послуживший образцом и для афонских монастырей, и впоследствии «частик» для русских.
К борьбе со скалами, природой, демонами прибавлялась и борьба с людьми. У святого оказалось множество врагов. Большинство безмолвников (исихастов) Афона ненавидело его. Пустынники считали, что устройством великолепного монастыря, всеми банями, больницами, водопроводами и виноградниками он нарушает дух Афона. Его, не знавшего ни устали, ни минутного покоя, все могучие силы отдавшего творчеству, изображали чуть ли не афонским помещиком. Крепко сжимался, вероятно, иногда в руке св. Афанасия железный посох! Вот – плод многолетних трудов – дневных на постройках и по управлению, ночных на молитве: еще не так давно показывали в его келии, рядом с библиотекой, на мраморном полу следы коленопреклонений. Враги жаловались на него Иоанну Цимисхию, позже Василию. Были попытки убить его. Но одолеть, свалить св. Афанасия было тогда так же трудно, как теперь срубить один из двух могучих кипарисов у Лаврского Собора, некогда посаженных преподобным. Афанасию пришлось ездить в Византию, принимать в Лавре присланного для разбора дела игумена – доказывать, убеждать и оправдываться. Он сделал все это и победил.
Образ св. Афанасия менее других иконописен. Так он и остался в истории. Хотя житие не раз подчеркивает его высокий аскетизм, сострадательность и милосердие, особенно настаивая на даре чудесных исцелений (он является как бы и верховным врачом своей Лавры, но врачом, действующим «прямо»), все же приходишь к убеждению, что сила и творчество, воля и действенность были основными чертами его гения, и, проявляя эти свойства, напрягая их до предела, он беззаветно выполнял возложенное на него высшее задание: создать образец монастыря и монастырской жизни на Афоне, дать ему устав, чекан и полное обличье. Он святой-деятель, а не святой-созерцатель. Церковь различает образы святительского служения, канонизируя иногда даже светских людей (за государственную деятельность: Константин Великий, св. Александр Невский – в католицизме ставился вопрос о канонизации Христофора Колумба. – Прим. Б. З.)[96]. На Афоне существует отношение к святым, как к только что ушедшим. Теперешнее еще полно ими. Иной раз кажется, что рассказчик лично знал того или иного Преподобного, жившего века тому назад. Возможно, что в устном, живом предании даже более сохранилось «неусловных» подробностей. Например, о св. Афанасии мне рассказал один монах, что святитель был так силен и так много трудился телом, что приказывал ставить себе три обеда. Съедал он их один. Когда послушник удивленно на него взглядывал, Афанасий ему говорил:
– Я большой, мне много надо.
Монах с восхищением передавал об этом, ему, видимо, нравилось, что вот св. Афанасий был такой великан и для него все должно быть особенное. Если он один тащит бревно, для которого нужны трое, то не удивляйтесь и пище. «Я большой». Это не объядение.
Конец св. Афанасия тоже довольно необычен. Он сам предсказал свою смерть и завещал не смущаться ею. Восьмидесяти лет от роду, 5 июля 1000 года, он с другими строителями взошел на новостроившийся купол храма – купол рухнул и погреб под собою всех стоявших на нем.
Смерть эта, разумеется, таинственна. Как будто в ней особенно подчеркнута связь строителя со строением, его глубокое внедрение в земное творчество, и некие узы, еще лежавшие на титане.
Но это лишь домыслы, может быть, и напрасные.
Певец
Миловидный болгарский мальчик обладал удивительным голосом – прозрачным, сладостным. Иоанн был сирота, скромный и застенчивый. Попал в придворную капеллу Константинополя. По-гречески знал неважно. Когда сверстники спросили его раз, что он нынче ел, ответил:
– Куку и зелия («кукиа» – бобы).
Дети над ним посмеялись и прозвали Кукузелем. Думали ли они, что «смешное» имя в великой славе перейдет в историю?
Иоанн очень скоро выделился среди певцов и стал солистом императора. Тот полюбил его, приблизил к себе. Хотел даже женить. Кажется, последнее намерение и решило судьбу певца: он и вообще был склонен к уединенной, созерцательной жизни. Блеск двора не привлекал его. Мысль о женитьбе просто поразила. Он бежал на Афон, и в Лавре св. Афанасия стал простым пастухом «козлищ» – скрыл от братии свою прежнюю жизнь. Никто не подозревал, что знаменитый певец ежедневно уходит в горы со своим стадом. Там, в одиночестве, он пел. По преданию, отшельник случайно его подслушал: Иоанн пел псалмы, столь «нежно и сладостно», что вокруг, как зачарованные, полукольцом стояли козы и козлы, потряхивая иногда бородками.
В монастыре узнали о его таланте. Узнал и император, где скрывается певец. Но Иоанну суждено было остаться в Лавре: император разрешил не возвращаться в Византию.
Иоанн Кукузель пел тогда на клиросе. Более всего, видимо, воспевал Богородицу. Однажды, пропев Ей акафист, сел в стасидии и от утомления заснул. Во сне Пречистая явилась ему и, поблагодарив за пение, дала златницу.
– Пой и не переставай петь, – сказала Она. – Я за это не оставлю тебя.
Проснувшись, он увидел у себя в руке червонец – благодарность Приснодевы. Как идет скромному и робкому Кукузелю такой подарок! И как точно, ярко определена его судьба: «пой и не переставай петь».
Он и пел. Он так и пел, всю жизнь, от начала своего до конца, в сущности, житие ничего иного о нем и не сообщает.
В жаркий, голубой полдень Афона, я сидел на камнях, где некогда он пас свои стада. Пустыня, серо-меловая гора Афон, сухие кустарники, лесок, сияющая бездна моря… Здесь прославлял он Бога, Приснодеву, свет, день, солнце. В его лице Церковь благословила поэта и певца, христианского Орфея, «музыканта Господня».
В Лавре благоговейно приложился я к коричнево-медвяному, в золотом венце, слегка благоухающему черепу святого.
Новая Фиваида
К скиту под таким названием, основанному в 1881 году[97], мы плыли от Пантелеймоновой обители часа три – мимо живописнейших монастырей Ксенофа и Дохиара[98], на северо-запад к перешейку. (На Афоне существует несколько типов монашеской жизни. Главный из них – монастыри. Монастыри выстроены на собственных землях, принимают участие в управлении Афоном и разделяются на монастыри общежительные (киновии) и особножитные (идиоритмы). В киновиях у монахов нет никакой собственности, образ жизни для всех одинаков, трапеза общая и т. п. Киновия управляется пожизненно избранным игуменом. Монахи «отрекаются» своей воли, она у них как бы отсечена. Дух киновиальной жизни вообще строже и выше особножитного (Русский монастырь Св. Пантелеймона – киновия). В особножитных быт гораздо более мягкий, для состоятельных людей, становящихся монахами, он даже не лишен удобств. Монахи живут там иногда в квартирах, со своим столом, своей обстановкой. Скиты – это как бы небольшие киновии, стоящие не на своей земле (и потому более бедные), тоже со строгим уставом. Еще меньшую единицу представляют из себя т. н. «келии», нечто вроде монашеского хутора с церковью, населенного монахами-земледельцами (возделывают оливки, где можно, виноград). Еще ниже – одинокие «каливы» (избушки). Там монахи-индивидуалисты и любители уединения ведут отшельническую жизнь, тоже работая на земле и молясь дома. В церковь они ходят только по Праздникам. Нередко монастыри материально поддерживают их. Такой тип очень распространен среди русских – местность Каруля и окрестности Новой Фиваиды полны таких отшельников. Есть еще тип бездомных и нищих, бродячих монахов («сиромахи»). – Прим. Б. З.)
Вечером высадились у пристани.
На этот раз меня сопровождал рано поседевший, слабый здоровьем, очень застенчивый и мягкий иеромонах о. В. – монастырский библиотекарь, человек книжный и несколько нервный.
Оставив пожитки в простенькой гостинице, мы двинулись в гору. Скит с небольшой церковкой и стенами недостроенного храма остался внизу[99]. Вокруг каливы пустынников – именно их и хотелось мне повидать. Начался сосновый лес. Сквозь деревья далеко внизу море с пенно-изумрудною каймой прибоя, сиреневое, как будто покойное. Дальний вид на леса и холмы побережья – замыкался он самим А фоном. За ним сизо-синеющая мгла.
О. В. постучал в комнатку небольшой как бы дачки. Все вокруг было безмолвно. В палисаднике несколько фруктовых деревьев, цветы, огород. На повторный стук дверь отворилась – вышел очень высокий, босой человек в шапочке, куртке. Если отшельник Карули обладал чертой сходства с Толстым, то этот вполне его напоминал: крупным мужицким носом, небольшими, умными глазами, даже подпоясан был ремешком.
Встретил нас приветливо и почти весело. Пожатие его ладони показало, что мою руку он отлично может раздавить. Прошли в каливу: спаленка, моленная с иконостасом, свечами, расклеенными по стенам картинками – и стеклянная галерейка.
Мы уселись, и отшельник почти сразу начал рассказ… о своей жизни! Столь откровенного и словоохотливого пустынника я никак не ждал. С поразительной простотой, неопасливостью, в какой-то братской наготе развернул он перед нами свой свиток. Да, ничего, что мы незнакомы. Раз говорим ему «Христос Воскресе», а он отвечает «Воистину Воскресе» – значит, можно. И на безмолвной горе, в синеющем вечере слушали мы повесть о днях и волнениях, борьбе, колебаниях этого серо-седого, могучего афонского мудреца. Земная, богатырская сила – и всегдашний зов к Богу! Тяжкий путь, приводящий к горе Очищения. Вот он приказчик, сметливый и ловкий, на хорошей дороге. Доверенный богатого купца. Вот любит – со всем пылом натуры. Но превозмогает в нем иное. Семейная жизнь ему не суждена. Бежит на Кавказ. На побережье управляет огромным имением, читает св. Писание и увлекается охотой, со страстью хозяйничает. Хозяин уговаривает его жениться. Тщетно. Мысль о монастыре не дает покоя. Однажды он идет с ружьем в горах, по тропке. Вдруг из кустов бросается на него змея – «прямо с налету кинулась, как ястреб!» Он в упор стреляет. Змея размозжена, и в тот же миг он снова «опаляется» огнем: пора, пора! Покидает Кавказ, доходное место. Забыта и любовь, он в Иерусалиме управляет подворьем: все еще деятельность, и заботы, и опять хозяйство… вновь преуспевает, и опять нет покоя, и, наконец, решающее слово о. Иоанна Кронштадтского[100] – лишь к сорока годам выкипает в нем «дядя Брошка»[101]: он постригается, уходит на Афон. Разве не путь Толстого? (Но ему была помощь, а Толстой одинок, опутан до конца тоской, пленом постылой жизни.)
Свечерело. Рассказ кончен. Бывший охотник, и влюбленный, и хозяин, улыбаясь, выходит с нами в садик. Море темно-сиреневое, гора Афон в удивительной лиловости, бело-зеленые зарницы вспыхивают за ней. Так мощно и таинственно она вздымается!
– Отец, – говорю я, – что же вы считаете труднейшим в жизни?
Он посмотрел быстрым, живым и острым взором…
– Нет ничего труднее борьбы с помыслами! Потом подошел к палисаднику, взглянул на море.
– Вот, люблю, люблю. Прямо говорю. Взглянул, вижу всю красоту, прелесть… Удивительная красота… и знаю, что рухнет, в огне Божием завтра, может, сгорит по трубе Архангела… а люблю! Не могу удержать мысль… сердцем люблю, по-земному!
Да и правда, умер ли в нем Брошка? И должен ли умирать? Не может ли быть просто преображен светом высшим?
Таинственные, как бы апокалипсические сияния вспыхивали за Афоном. Когда спускались мы к скиту, море кипело белой пеной у прибрежья, Афон был нестерпимой синевы в тайном венце молний.
* * *
Ночью в природе что-то происходило – не в нашу пользу. Когда утром мы с о. В. вновь подымались в гору, небо было затянуто сумрачной мглой, море в барашках и черта прибоя точно еще побелела, раскипелась.
Скитский проводник о. Петр, очень худенький, изможденный, с прилипшею ко лбу прядью жидких волос и редкою бородкой, сказал грустно, глядя на меня.
– Нет, господин, вам нынче не уехать.
Я было похорохорился, но в душе и сам считал, что не уехать.
Вчерашняя калива оставалась сзади. Среди сосен – в их просветы синел дальний Афон – мы забирали все в гору. Шли мимо искусственных прудков, служащих монахам для огородов, выходили в края дикие, дремучие. О. Петр вел нас еле заметною тропинкою. О. В., конфузливо подбирая рясу, кивнул мне на него:
– Хороший инок. Если б знали… В чем душа держится. Целый день как есть на работе, а ночью в церкви. Очень строгий подвиг несет. У-у, какой труженик! Да тут немало таких совершенно неведомых… ну, Господь-то, конечно, видит… А люди не замечают. Ох-о-хо! – о. В. вздыхал и сокрушался. – Очень уж себя он изнуряет. Какой худющий стал! Полтора, два часа в день сна, вы подумайте только!
Мы подошли к винограднику среди лесов. На нем работало несколько человек свитских – некоторые в широкополых шляпах, другие, как это на Афоне принято, – поверх монашеских камилавок надевают козырьки. О. Петр провел нас к отдельно стоявшей, среди фиговых деревьев, крохотной каливе.
– Здесь живет пустынник о. Нил, – сказал он мне. – Вот, извольте взглянуть.
К нам вышел старик с воздушно-снеговым обрамлением лысого черепа, в накинутой на плечи как бы малороссийской свитке, покорный и несколько удивленный. Глаза его, ровно-выцветшие, с оттенком «вечности» слегка слезились. Он опирался на высокую палку.
– Простой человек, из крестьян, – шепнул о. В., – много лет здесь в одиночестве спасается. Насчет беседы – не особенно речист; а живет подвижнически…
Мы вошли в его хатку. Все было предельно бедно и убого. Ложе – почти голые доски. Но и у него моленная, иконки… Сам о. Нил имел вид несколько изумленный – точно казалось ему странным, почему это им, человеком незамечательным и уединенным, интересуется приезжий из-за морей. Частию и меня смущало, как это мы вторгаемся в чужую, чистую и высокую жизнь Но утешала цель. Ведь не простое же «любопытство»!
О. Петр, поглаживая свою редкую буренькую бородку, сказал ему:
– О. Нил, ты бы гостя фигами своими попотчевал. О. Нил слегка смутился и покорно полез куда-то в темноту, в чуланы. Мы вышли на воздух.
– Как же он тут живет?
О. Петр тихим своим голосом ответил:
– А вот так и пустынножительствует… уже лет тридцать. По ночам стережет монастырский виноградник от диких кабанов, чтоб не озорничали… Днем же Псалтырь читает, канончик тянет, молится… Место глухое, для пустынничества очень способное.
О. Нил выбрался из своих чуланов в еще большей растерянности. Фиг не принес.
– Уж не взыщите, господин, не больно хороши… Уж что поделаешь…
– Да ладно, ладно, не беспокойтесь, отец. Извините, что потревожили. Мы ведь и проголодаться-то не успели.
Мы недолго пробыли у о. Нила. А когда его хибарка скрылась в кустах, о. Петр рассмеялся тихим, беззлобным смехом.
– Господи, ну чем только этот человек питается, прямо удивительно… И мы, скитские, не так сладко едим, ну а он…
– Да что ж такое?
– Хотя бы энти самые фиги. Они у него на цельный год запасены, больше ведь и ничего нет! И-и, не думайте, чтобы там хлебца, картошечки. А фиги-то зимой загнивают. Прямо ко рту не поднесешь, вся склизкая, запах… а он потребляет, и всегда здоров, ведь это подумать только: он, значит, и ходил, искал для вас, не осталось ли свежих. Куды там! С прошлого года лежат, разве убережешь? К нему и в чулан-то от смрада этого не войти.
Он вел нас кустарниками, среди сосенок, в сухой, дикой местности. Справа открылись под хмурыми облаками сине-туманные холмы, леса, неровное и мрачное раздолье, напоминавшее глухие края близ Сарова, под Касторасом, где когда-то ходил по тетеревам. Мгновенно представилось – да не выглянет ли из-за можжевельника куст розовоцветной «тетеревиной травки», Ивана-чая?
О. Петр сорвал веточку с листьями, вроде лавровых, и двумя мохнатыми ягодами на ней.
– Вот, изволите видеть, это и есть его вторая пища, кроме то есть фиг, а по названию камарня. Он энти самые ягодки и потребляет.
О. В. показал рукой на расстилавшуюся игру холмов, лесов и темных облаков.
– Там внизу тоже один живет, очень замечательный отшельник, прямо уж в лесах да с кабанами. Только туда еще часа два ходу…
Всматриваюсь – может, среди сосен и различишь каливку современного Антония[102]. Ничего не видать! Дальний гул лесов, те вечные, волнообразные поклоны хвойных ратей, к каким привыкли мы, русские, с ранних лет. Пустынник и кабан! И ест этот о. Федор вот такую же камарню, веточку которой я благоговейно довезу в страну латинскую.
Забирая полукругом влево, мы стали обходить ложбину, где живет о. Нил. Кое-где попадались заброшенные каливы. Провожатые с грустью вспоминали, сколь здесь прежде было больше отшельников.
.
Старики умирают, приток молодежи невелик. (Война и революция отрезали от Афона Россию. Сейчас пополнение его идет только из эмиграции. – Прим. Б. З.)
– Пустынническая жизнь трудна, – говорил о. В. – ох, трудна! Жутко одному в лесу, и передать нельзя, как жутко.
– Страхования, – сказал о. Петр.
– Вот именно, что страхования. И уныние. Он, враг-то, тут и напускается.
О. В. сложил на груди крестом руки, под седеющей бородой, и в его нервных, тонких глазах затрепетало крыло испуга – точно «враг» стоял уж тут же, вот у нас за плечами.
– Недаром говорится: уныние, встретив одинокого инока, радуется… То есть тому радуется, что может им завладеть.
Мы шли молча, ошмурыгивая мхи и горные травы, в чаще дикого, никем не тревожимого леса. Справа тусклым зеркалом вдруг засеребрилось море.
– Один мой друг, – сказал о. В. тихим, несколько трепетным голосом, – сам раз в юности испытал это, в этой же самой местности, на Новой Фиваиде. Был у него знакомый пустынник, и ему пришлось отлучиться из каливы на несколько дней по делам. А тот, молоденький-то, и говорит ему: дозволь, отец, пока тебя не будет, в твоей каливочке поспасаться перед Господом в тишине и смирении потрудиться. Ну, что ж, мол, пожалуйста. Этот молодой монашек к нему в каливу и забрался, горячая голова, дескать, и я в пустынники собираюсь… Но только наступил вечер, стало ему жутко. Он и за Псалтырь, и Иисусову молитву творит[103], а представьте себе, тоска и ужас все у него растут.
О. Петр ловко перепрыгнул через поваленное дерево.
– Враг-то ведь знает, с какого боку к нашему брату подойтить…
– Он, враг, все знает… – о. В. убежденно, не без ужаса, махнул рукой, точно отбиваясь. – Ну, вот-с, что дальше, то больше, и вы представьте себе, ночью и воет, и в окна стучит, и вокруг каливки вражий полк копытами настукивает – то этот монашек в таком льду к утру оказался, батюшки мои, едва только светать стало, да с молитвой, да подобрав рясу рысью из этих из одиноких мест назад в скит ахнул… Нет, куда же! Тут большая сила и подготовка нужна…
* * *
… Заходили еще к двум братьям-отшельникам. О. Илья, старик очень благообразный, некогда и красивый, теперь, вероятно, страдает начинающейся водянкой. Жаловался на «бронфит» в груди. Смотрел грустными, обреченными глазами. Но очень любезно принял с обычной афонской приветливостью и воспитанностью. Угощал недурным сладким красным вином – своего виноградника.
Кутался в зипунок. По всему видно, что умен, спокоен, физически страдает.
Когда стоял у порога, провожая нас (а брат в это время плотничал в садике), показался мне, несмотря на явно крестьянское лицо, скорее барином, или, вернее, богобоязненным южно-русским хозяином, мелким землевладельцем. Во всяком случае, облик выработанный!
Отец же Петр поразил меня теперь своим усталым видом. Крупный пот выступил у него на лбу, как у чахоточного, маленькие глаза, полные «доброго ветра», имели оттенок печали.
– Мы замучили вас, о. Петр, – сказал я с неловкостью. – Вот, правда, как вышло…
– Что вы, что вы… Оно у меня здоровье, конечно, неважное, так уж Господь послал. Намедни даже кровь горлом двинула, значит, доктор и говорит: «унутренность твоя не в порядке, в середке неладно». Ему виднее. Велел неделю ничего не делать. Да что же, и так прошло…
На прощанье хотел я «поблагодарить» его, но увидев драхмы, о. Петр помалиновел, замахал руками и стал кланяться.
– Нет, нет, господин, что там, меня благодарить не за что…
И побежал работать на скитский кипер.
* * *
Утренние его слова оказались вещими. Ехать было нельзя. Полил дождь, забухал гром, молния вздрагивала белыми разрывами – недаром апокалипсические сияния вспыхивали вчера за Афоном. И слава Богу, что не застал нас этот ливень в лесу.
Пришлось провести в скиту лишние сутки, о чем не жалею.
В сумерки, после обеда, не зажигая огня, сидели мы с о. В. и небольшим, чистеньким старичком-фондаричным о. Николаем. За небольшим оконцем, за толстой стеной бушевала буря. Иной раз зеленый свет освещал угол белого храма – о. В. крестился, о. Николай тихо и весело смеялся, с такой же простотой поглаживал свои изящные руки, как и подавал мне за обедом рыбу.
– У отца Нила побывали? Хороший старик, давний пустынножитель. Прихожу к нему однажды, слышу, кафизму читает. Прочел, и за другую взялся. Думаю, дай кончит, не стану мешать. Сижу под окошечком. А он кафизму за кафизмой… Посидел я, думаю, время идет, и его перебивать не хочется… Оставил ему знак, что был, положил предметец, а сам домой, хе-хе… кабанов своих стережет, да Псалтырь читает, по тысяче поклонов в день выкладывает… И тоже, я вам доложу, упрямый старец. Тут у него приятель есть, о. Арсений. Вот этого Арсения он и позвал раз обедать. А уж вы видали, чем он сам-то питается? Обедать! хе-хе… Ну, все-таки, из травки и сварить кой-что для гостя может. Надо же вам сказать, что этот Арсений, по мудрованию своему, не ест лука, считает, что он горячит кровь. Нил же не ест масла. Когда Арсений пришел, Нил стал варить для него щи и крошить туда лук. Арсений ему говорит: «я ведь не ем лука, что ты делаешь, это зелье премерзкое, оно кровь горячит. Ты бы положил ложку маслица». Тогда Нил отвечает: «Масла! Стану я такой гадостью щи портить! Масло человеку вредно, от него сыреешь, я его и в рот не беру». И они так поспорили, а обоим вместе, имейте в виду, лет полтораста будет – так заспорили – что лучше: лук или масло, что Арсений просто даже ушел, и обедать вовсе не стал… И о. Николай длинно и тонко рассмеялся. – Упрямые у нас бывают старики. Большого подвига оба, и душевно друг друга любят, а вот поди ты: что пользительней, лук али масло?
Больше же всего наслушался я в тот вечер про «врага». Ко «врагу» на Афоне вообще особое отношение – нам не так легко войти в это жизнечувствие. Для монаха дьявол всегда близко, вот тут рядом, пасть раскрыта, когти растопырены – зазевался на минуту, он уже на тебе верхом. Есть даже особая теория: враг мало занят людьми безразличными, или уже и так ему принадлежащими. Его усилия направлены на тех, кто задается более высокой целью – потому особенно для него лакомы монастыри. Враг по ночам делает пакости целым рядам келий, наводит ужас, уныние, отвлекает и разжигает. Иногда прямо стучит, изводит, бьет и т. п. Примеров приводилось море – рассказы шли сообразно облику рассказчика: с неким волнением, крестным знамением и оглядкой на вздрагивающую дверь у о. В. – и с неизменной веселой бодростью, смешком у о. Николая. Конечно, он врага тоже не «уменьшал». Но, все-таки, иной характер. Так они уравновешивали друг друга, и в нехитрой комнате фондарика погружали меня в свою удивительную, бедно-чудесную монашескую жизнь.
На ночь о. В. ушел в другую комнату – должен был молиться по четкам и класть поклоны (это и называется «тянуть канончик»), второе, не хотел будить меня к ранней службе. Я остался один. Голова была полна отшельников, калив, вольных ветров афонских, вольного гула лесов. Буря разыгралась зверски. Непрерывная зелень вспышками заливала комнату, как бенгальским огнем. Ухало и бухало. Я вспоминал о. В. Верно, сейчас он крестным знамением ограждает себя от врага. А вот монах, о котором я нынче слышал, недостаточно себя ограждал, и что же получилось? (Показывали даже больницу на обрыве, где это произошло.)
В больнице скитской лежал инок, очень страждущий, и недвижный. Вечером его исповедали, утром должны были причастить. В промежутке он, из болезненного раздражения, успел наговорить резких слов – нагрешил. Хорошо. Приходят утром, а его нет. Пропал монах. Туда-сюда, нету. И только к вечеру, слышат, в болотце под обрывом точно кто стонет. Подошли – вот он, лежит в камышах, в тину уткнувшись, едва живой… «Ты как сюда попал?» Оказывается, так и попал: сам рукой-ногой шевелить не может, а вон где оказался. Монах и покаялся: что поделаешь, нагрешил, а они двое ночью и явились, прямо его под ручки, да в болото. Значит, как он себя грехом ослабил, врагу и радость, можно над ним поглумиться.
Заснуть долго не удавалось, потом задремал под музыку грома. Утром пошел я на литургию в небольшую скитскую церковку, недалеко коридорами. Там было несколько сморщенных и согбенных старичков в рясах святой бедности. Видел и того ветхого деньми Арсения, который «по мудрованию» не любил лука. О. Петр тоненьким тенором пел на клиросе. В этом старческом, неголосистом хоре, в скудной утвари и скудных рясах в бедном утре, хмурыми облаками несшемся над скитом с недостроенным небольшим храмом, так ясно сквозил облик простоты и нищенства, камарни и несвежих фиг, жизни, лишенной всяческих «ублажений» и «ласкательств» – вечного духа монашеской Фиваиды, на этот раз исконно-русской.
* * *
Все утро мы занимались тем, что выходили и смотрели, как ветер, как море. Поистине, в этой стране все в руке Божией, и нет Его воли, нечего и пытаться возвращаться. «Смирись, гордый человек!» Жди погоды. Если же не хочешь, то иди пешком, под ситечком дождя, горными тропинками – шесть, семь часов пути!
Любя книги, мы с о. В. забрались в запыленную небольшую скитскую библиотечку, кое-что достали, кое-что читали в это ветреное утро, медленно прояснявшееся.
Вот что прочел я в книжице смиренного о. Селевкия[104].
«Схимонах о. Тимофей двенадцать лет хранил молчание. Келия его была наверху под отхожим местом и полна клопов. У н е го не было ни кроватки, ни постельки, а служило вместо кровати кресло, и над головой лежала Псалтырь. Когда он, бывало, сидит на скамейке, то у него на коленях лежит чурочка, в которой выдолблены две ямочки – в них масляные зерна. Он берет по одному зернышку, перекладывает из одной ямки в другую, а сам творит Иисусову молитву. Я часто беседовал с ним. Однажды я говорю ему: „о. Тимофей, благослови меня обмести стены твоей келии от клопов“. А он мне: „Нет, отче, клопы для меня полезны: у меня пухнут ноги, а они вытягивают из них дурную кровь“».
«Откопаны его косточки, желтые, как воск. И у меня была его кость в сундуке, и как, бывало, открою сундук, так и пойдет благоухание неизреченное».
Улыбнись, европеец. И с высоты кинематографа снисходительно потрепли по плечу русского юрода. Вот тебе еще образец для глумления:
«Схимонах Синесий – милая душа. Он трудился на келии Благовещения, там завсегда живут человек шесть старцев, и он всем служил. Над ним часто смеялись и поносили его. А кто спросит: „Отец Синесий, откуда ты родом и кто ты?“ Он отвечает: „Я дома пас свиней, да и то не годился – и выгнали меня. И я пришел на Афон как-нибудь прокормиться“. А завсегда находился он в слезах, в молитвах и трудах. А какая у него любовь была ко всем! Нет сил моих описать ее. Любовь его меня очень пленяла. Он часто говаривал: „Аще кто не имеет самоукорения, тот не может достигнуть совершенства“».
«Косточки его откопаны желтые и благоуханные».
* * *
Все это кончилось. Ветер утих. Море еще кипело, мы решили рискнуть. Садились в лодку танцующую, сели было, вдруг девятый вал – его вовремя заметили лодочники.
– Сигайте на берег, на берег сигайте!
О. В., подбирая рясу, слегка замешкался, я успел выпрыгнуть на пристань удачно. Его волною сильно хлестнуло и замочило. Все ж мы выплыли.
Шли долго, на веслах, кой-где при удобном ветре из ущелий под парусом. Ждали бури из-за Афона. Видели дальние грозы на море. Но крушения не было нам назначено. Мы плыли впятером, да со мною, в душе, все Нилы, Игнатии, Илии, Николаи, Синесий, Тимофеи – весь скромный и светлый полк Фиваидский.
Тихий час
Библиотека
Когда я выходил на балкон своей комнаты и монастырь св. Пантелеймона обступал меня корпусами и церквами, взор останавливался на плоской кровле двухэтажного здания прямо под ногами: кажется, с этого славного балкона, увитого виноградом, можно просто спрыгнуть вниз – только прыгать-то высоко.
Библиотека нашего монастыря большая, несколько десятков тысяч томов, сотни рукописей, книги с чудесными миниатюрами и т. п. Я любил бывать у гостеприимных и предупредительных о. о. Иосифа и В. Работать там не случалось: нужные книги присылали на дом. Но приятен был самый воздух библиотеки – безмолвие, свет, поскрипывание половиц, бесконечные в тишине книжные шкафы. Музеи и библиотеки давно мне милы. Монастырская же библиотека несет еще иной оттенок – она продолжение храма. Храм, разумеется, выше, там торжественнее и важнее. В библиотеке возвышенность храма ослаблена за счет просто человеческого, но, с другой стороны, это и не «университетское» книгохранилище.
Если бы не стеснялся, я подолгу мог бы разгуливать в верхней зале библиотеки, дышать ее воздухом, рассматривать книги, радоваться тишине, может быть, и мечтать – в то время как внизу о. В. и его помощник о. Марк бесшумно и несуетливо составляют каталоги, клеют, режут и подбирают.
Мне вспоминается простенький афонский день, ничем не замечательный: отец В. вышел за статьей. Мы остались одни с о. Марком, нехитрым, черноволосым монашком. Он подошел ко мне.
– Здравствуйте, господин.
– Здравствуйте.
– Христос Воскресе.
– Воистину Воскресе.
О. Марк несколько смущен.
– А я уж и не знаю, как с вами, с образованными, здороваться. Простите, коли не так. Может, у вас в миру и не говорят «Христос Воскресе».
Смиренный о. Марк, вы правы, не говорят. Но не вам – нам надо смущаться, как смущает нас многое в пестрой и пустячной жизни нашей – чего не видать вам в тишине и свете вашей библиотеки. Да, не говорят «Христос Воскресе». И тем хуже.
… Мало посетителей в афонских библиотеках. Дух Афона не есть дух ученого бенедиктинского монашества. Впрочем, может быть, истинная библиотека и вообще должна быть бесцельна. Еще вопрос, следует ли выдавать из нее книги.
Можно любить музеи и библиотеки, как египетские пирамиды, как ночное море и как звезды. Как творение – в тишине и вечности.
Крин сельный
О. Наум, полный, русый, несколько мягкотелый монах с добрыми глазами и медлительный в движениях. Он живет в отдельном домике за оградою монастыря. В послеполуденные знойные часы нередко приходилось мне подходить к этому домику. Каждый раз любовался я цветущими у крыльца белыми лилиями – «крин сельный» называют их тут.
О. Наум – фотограф монастырский. Домик его в то же время студия, светлая комната, заваленная снимками и негативами, с «фонами», на которых снимались группы посетителей, с темной каморкой для проявления – всею, вообще, обстановкой немудрящего ателье.
О. Наум выбирал мне снимки медленно и как-то неуверенно. Оттенок некоторой грусти я заметил в нем. Точно все уже видел, все знает и устал от смены обликов. Его студия увешана изображениями – попытками остановить поток. Он снимал и «высочайших особ», и посланников, и адмиралов, и митрополитов – стены эти в некоем роде история обители. Вот мягкий, тонкий архимандрит Макарий, знаменитый игумен обители в конце прошлого века[105], вот суровые брови и густая борода не менее известного духовника обители о. Иеронима, проведшего на Афоне сорок девять лет, считающегося, наравне со своим учеником архимандритом Макарием, одним из созидателей теперешнего монастыря[106]. Узнаю и здравствующего игумена о. Мисаила и вижу, что годы не молодят. Былое, все былое! Князья и митрополиты и адмиралы, давно, наверно, уж отчалившие на иных судах в страны иные. Профессора и археологи в отложных воротничках, двубортных сюртуках и сапогах с рыжими голенищами под брюками – вряд ли кто жив еще. Студенты, семинары-экскурсанты – теп ерь, пожалуй, почтенные протоиереи, а возможно, мученики. Пройдет полвека и на наш снимок – меня и о. Пинуфрия, собирающихся в путь, – иной заезжий так же не без грусти взглянет.
Я пытался найти след Леонтьева, жившего тут в семидесятых годах[107]. Интересно было бы видеть его фотографию рядом с о. Иеронимом-духовником. Леонтьеву нравилась суровость и крепость православия на Афоне. Образ такого рода – о. Иероним. В руке его, как у Афанасия Афонского, могучий посох. Леонтьевские впечатления об Афоне схематичны и односторонни[108]. Кажется, слишком отзывают они предвзятостью, «идеями», да может быть, и обликом о. Иеронима. Но рядом с посохом св. Афанасия цветут на Афоне розы и лилии, весной же тянет в море благоуханием полуострова. Леонтьев не любил этого или старался умышленно отринуть. К сожалению, ни у о. В. в библиотеке, ни у о. Наума ничего мне не попалось о Леонтьеве.
Пока я жил в Пантелеймонове монастыре, лилии о. Наума все цвели. О кусте роз, развернувшемся на высоком, искривленном стволе под окнами келии о. Игумена, и о лилиях о. Наума сохранил я светлое воспоминание.
«Яко крин сельный, тако отцветет»[109] – сказано о них, о человеке. Знаю, что отцветет. Но домик ловца видимостей вспоминаю с неотцветшими, нежными кринами.
Гробница
Полдень. Сухой блеск афонского солнца в листьях олеандров у выхода. Мы идем из монастыря на кладбище.
– Это и есть последний путь монаха, – говорит о. В., поглаживая рано поседевшую бороду. – Ох-охо! нам всем здесь быть. Вот в идите, от этих цветущих олеандров, мимо орехового дерева, подъем, и к кипарисам… тут мы все проходим.
Приближаясь к острову мертвых, мы, действительно, почти коснулись лапчатых, низко нависших листьев ореха – дерева старого, напутственника уходящих.
Кладбище – несколько рядов могилок, точно огород с грядками – осенено кипарисами.
В часовне полутемно, сыровато. Как и в Свято-Андреевском скиту, слева правильными рядами, точно сухой валежник, сложены вдоль стены мелкие кости. Против входа икона с лампадкою, окружена меньшими. От нее вниз висит шелковый «плат», а по бокам, на деревянных, как бы библиотечных полках, разложены черепа умерших братьев.
О. В., вздыхая, приседает и разглядывает нижние.
– Вот хорошая головка! Смотрите, какая славная! Кость вся коричневая, густая, ровная.
Действительно, этот череп ровно-коричневый, слегка даже маслянистого тона. Рядом черепа с белыми пятнами по желтому, или, напротив, с черными. Вековой опыт монашества все различает, всему приписывает смысл.
– Эти уже похуже, – прибавляет о. В.
Он говорит просто, обыденно. Что же, смерть есть смерть – нечего ни бояться ее, ни ей удивляться. К останкам умерших отнесемся спокойно с благоговением. Взором участливым, непредубежденным оценим душевную чистоту того или другого из братии.
И вот снова белый зной полудня. Кипарисы черно синеют купою вблизи гробницы. В их тени лежат два вола, сонно поводя головами в лирообразных рогах, отмахиваясь хвостом от мух. Должно быть, ушел завтракать их властелин, какой-нибудь рваный грек с Имброса. Им выпал отдых.
С того дня каждый полдень, прогуливаясь по балкону, взглядывал я налево, где над стенками зданий подымалась группа кипарисов. Если же обернусь направо, то за изящной колокольней Собора, за изголуба-мреющим стеклянным заливом вдалеке, почти на краю земли, увижу трехголовый, бело-златистый снеговой Олимп – как некий легкий ковчег Эллады.
Fuori le mura (За чертой – ит.)
– Вышел за монастырь к пристани Дафни узенькою тропинкой среди кустарников. Цвел желтый, милый дрок, мой друг еще с Прованса. Яркий солнечный вечер, цветы дрока, ярко-синее море. Кругом скалы, по ним мелколиственный дубок, кой-где оливки да цепкие заросли. Идешь, срываешь желтые цветы, видишь внизу кипящую черту прибоя, и морской ветер треплет волосы. В заливчике белеет яхта. Зачем она сюда зашла? Кто на ней? И надолго ль?
Может быть, любознательная американка разглядывает сейчас с борта загадочную страну, на чью землю ступить не может?
Крепок Афон своим запрещением женщин!
Сорок лет назад здесь, быть может, в этом самом заливе, был такой случай: подошел пароход «Виктория», нанятый одной русской дамой высшего круга – сын ее был послушником Пантелеймонова монастыря. Г-жа М. хотела повидаться с ним. Ее сопровождали две-три дамы и русский вицеконсул в Дарданеллах. Монастырь принял гостей радушно. Дамы на берег не сходили, но на пароход были отправлены мощи св. Пантелеймона, был отслужен молебен на борту «Виктории», приезжие исповедывались у о. Рафаила. Посетил их и сам игумен о. Макарий, и напутствовал. Неясно только, видела ли г-жа М. сына? Может быть, с борта, на берегу? Или мягкий о. Макарий разрешил ему съездить на корабль?
Не знаю. Но шестого августа ночью, едва пароход отошел, в монастыре св. Пантелеймона загорелся – и сгорел до основания – храм Покрова Пресвятыя Богородицы[110].
* * *
Вечер, нежно-розовое наплывает в воздухе. Яхта бесшумно поворачивается. Трубы белеют, дымят, легко, бесцельно и без жалости уходит она вдаль от наших берегов. Синяя ночь встретит ее в пустынях. Зажгут красные, зеленые огни. В сиянии матовых полушаров будет подан обед – на ослепительной скатерти, с хрусталем и цветами, ледяным вином. Сказочный Афон станет воспоминанием. Выйдя на палубу, растянувшись в лонгшезе, не вспомнит любопытствующая американка, в какой и стороне-то он.
Я помахал платочком яхте. «Мир» уходил. Мы оставались – необитаемый остров. Уединенный брег, уединенный край, сизеющее в лиловатости море вечернее и там, за краем его – Афины, Франция, Париж…
Прощание с Афоном
Ненаписанное письмо
«Последний вечер в монастыре св. Пантелеймона был тихий и несколько грустный. За две недели я успел полюбить этих людей и их святой дом. Мои новые друзья заходили прощаться. (У о. игумена я был сам.) Я получил афонские подарки: книги, четки, иконы, благословенное масло Целителя Пантелеймона, деревянную ложечку с резьбой и т. п. – „по хребтам беспредельно-пустынного моря“[111] мне удалось довезти домой эти милые знаки. Я их храню и буду хранить, как память о Божьем месте, где довелось побывать.
Грусть того вечера заключалась в расставании навсегда. Все, конечно, бывает. Но почти нет вероятии, что еще раз увидишь эти края. Для монаха нет, или не должно быть „земной печали“. Но для нас, мирских, облики видимости иногда так глубоко ценны! И отъезд из места и от людей, навсегда уходящих, есть как бы частичная смерть: ведь и Афон, и его жители стали теперь для меня елисейскими тенями.
Утром я был на Литургии, ее совершал архимандрит Кирик, он же отслужил и напутственный молебен.
А потом о. Петр, тот самый веселый и худощавый мой земляк, со светлыми, полными вольного ветра глазами, который в бурю встречал меня на Афоне, повез в лодке на пристань. День был чудесный. О. Кирик тихо сидел со мной на лавочке, кругом голубоватое стекло. Легкая и пушисто-белая борода о. Кирика как бы овевала эту гладь.
Слегка подмигивая черным глазом из-под очков и поглаживая бороду, он сказал мне:
– Самая прозрачная вода в мире. Обратите внимание. Так и говорится: светлые воды Архипелага!
Видимо, ему нравились эти слова… Через несколько времени он повторил:
– Светлые воды Архипелага.
На Дафни путники иногда часами, а то и днями ждут парохода в Салоники. Тут еще раз почувствовалась забота и внимание монастыря – в частности, о. Кирика. Все заранее приготовлено. Мы прошли в монастырское подворье, о. Петр устроил обед – появились знакомые афонские салаты, рыбки, октоподы, красное вино. Мы пообедали весело и солнечно – в прямом смысле: солнце затопляло комнату, выходившую на море. За эти сутки о. Кирик спал полтора часа. Я видел, что он бледен. После обеда лег вздремнуть, а я пошел бродить к морю, в золотом вечернем солнце. У пристани толпились греки с ослами. Сидели в кафе два таможенника. Вдали за зеркальными водами подымались колокольни и кресты св. Пантелеймона.
Ударили к вечерне. Я возвратился. Прошло не более сорока минут. О. Кирик, в ореоле своей бороды, маленький, тихий, сидел уже на диване и „вычитывал“ вечерню по захваченному с собой служебнику. Как же, в монастыре вечерня, а он будет спать!
На закате из-за скалы появился пароход. О. Кирик благословил меня. Почтительно поцеловал я его худую, желтоватую и легкую руку, и когда о. Петр, улыбаясь, быстрым калужским говорком с прибаутками и словечками разговаривая, вез меня и греческого „астинома“ на борт „Хризаллиды“, я все кивал и махал небольшой фигуре в черной рясе с золотым крестом, седобородому „прирожденному монаху“, спящему два часа в сутки, вечно на ногах, вечно в служении, – к которому незаметно установилось у меня сыновнее отношение.
На носу „Хризаллиды“, как Никэ Самофракийская[112], стояла статная малоазийская гречанка древней, жуткой красоты и с любопытством глядела на берег, куда ступить не могла, на нас, на все столь странное и необычное вокруг».
«Хризаллида»
И вот удаляется тысячелетний Афон. «Хризаллида» плавно уходит к западу навстречу быстрому вечеру. Лимонные облака, лимонно-серебряная вода. Гора Афон под закатным светом нежно лиловеет. Впереди Лон гос смутно-сиреневый. Позже над ним встали оранжевые облака, у подножья его резкая серебряно-розовая струя и зеркально-розово-голубое море. Вообще вечер полон таких сияний, такого павлиньего блеска и радужных фантасмагорий, точно оркестром исполнялась на прощанье световая поэма. Но все быстро закончилось. Море похолодело, принимая стальной оттенок, закат побагровел, монастыри и монахи, Кирики и Пинуфрии ушли в смутнолиловую влажную мглу. Все более оставались о них лишь воспоминания.
На грязном судне с прозрачным именем[113] шла малая жизнь.
«В море далече» [114]
Кажется, мы миновали и Лонгос, и Кассандру. Время за полночь. Тихо. Люди спят. Лишь в капитанской будке огонь, и человечий глаз непрестанно озирает бело-туманящееся море в редком звездном свете. Надо мной, над спящим человечеством корабля, над мирными бутылями оливкового масла и рядами ящиков летит черный дым из трубы, уходит мрачным следом к Афону. Туда же ведет бледно-серебристый путь за кормой со вспыхивающими синими водяными искрами – игра фосфора южных морей.
Верно, у нас, у Святого Пантелеймона идет уже утреня. Это самое море видно из окон храма Покрова Богородицы, и тому же Отцу солнца, что скоро встанет над нами и осветит Салоники, древний город Солунь – Ему же возгласит хвалу иеромонах Иосиф, заключая службу утрени. – Слава Тебе, показавшему нам свет! Если бы я был архимандритом, то, сойдя в каюту, вынув служебник, стал бы «вычитывать» утреню. Но я не монах. Я простой паломник, как здесь говорят, «поклонник», со Святой Горы возвращающийся в бурный мир, сам этого мира часть. В своем грешном сердце уношу частицу света афонского, несу ее благоговейно, и что бы ни случилось со мной в жизни, мне не забыть этого странствия и поклонения, как, верю, не погаснуть в ветрах мира самой искре.
В час пустынный, пред звездами, морем, можно снять шляпу и, перекрестившись, вспомнить о живых и мертвых, кого почитал, любил, к кому был близок, вслух прочесть молитву Господню.
Валаам Путевой очерк
Приезд на Валаам
Пароходик с туристами и паломниками недолго стоял у пристани Сердоболя. Свистнул и отвалил, двинулся ежедневным путем среди мелких заливов Ладоги. Берега холмисты и красивы, дики. Леса да скалы, слой гранита и луды, выпирающие под косым углом, заросшие мхами. «Сергий» лавировал между этими берегами, придерживаясь вех, опасаясь камней и мелей. И лишь понемногу стал расширяться выход, открылась тусклая синева озера с повисшими как бы на стеклянной подстилке двумя-тремя островами.
А потом и вовсе вышли на волю. Беловатые, крупные, с сине-стальной оторочкою облака хмуры, недвижны. Холодны их отраженья, тяжела вода, свинцовая, тоже с белесыми отсветами. Прохладно! Невеселое предвечерне севера.
Но взору просторно. И есть что представить себе. Налево, за бескрайною далью, к океану, некогда св. Трифон основал обитель у самого моря – монастырь св. Трифона Печенгского[115]. Справа, в нескольких десятках верст, остров Коневец. В веке четырнадцатом св. Арсений прибыл туда в лодке, путешествуя с Афона, и привез чудотворную икону, поселился, учредил монастырь[116]. Прямо же перед нами, очень далеко, но уже белея Собором, сам знаменитый Валаам[117]
Возраст всего этого – сотни лет. Корень – Россия. Поле деятельности – огромный край….Понемногу все взоры соединились на белой, с синими и зелеными верхами колокольне, на огромном куполе с ней рядом. Над полоскою леса водружен Собор мощным жестом, повелительно[118]. Он приближается медленно, остров же растягивается в длину. «Сергий» держит курс на церковку, белую с золотом – скит Никольский на крохотном островке у входа, как бы сторожевой пост Валаама[119]. Ночью отсюда светит маяк. А сейчас, пройдя мимо, медленно мы поднимаемся узким, зеркальным заливом, среди чудесных лесов, к пристани главного острова. Проплываем вдоль монастырского сада. Сверху, из-за чугунной решетки, над белыми корпусами келий все та же громада Собора с золотыми крестами. Вечерний благовест.
С группою дам, туристов, молодежи подымаемся в гору. Монах на телеге везет вещи. Смеркается. Густа зелень, в ней белеют врата монастырские, и по дорожке, аллеею лип, кленов, орехов, оказываемся у огромной, тоже белеющей в полусумраке гостиницы. Июль, а еще жасмин не отцвел. Жасмин сладостно одуряет, есть в этом запахе исконно русское, для меня и афонское, сразу вспоминаешь Андреевский скит[120].
.
Худой и слегка согбенный, в белом подряснике, с черною бородой и прекрасными ночными глазами о. Лука, иеромонах-гостиник, устраивает нам комнату. Ее маленькое оконце выходит прямо в жасмин. Светлые стены, узость, вид кельи, бедные постели, издающие всякий раз, как переворачиваешься, мелодический звук железных сеток, колец, пружин…
Монастырская жизнь началась.
* * *
Свв. Сергий и Герман[121]. Два инока, две прямые фигуры в темном, Сергий старше, Герман моложе, в опущенных руках свитки, на них письмена. Древние, не без суровости облики – основатели монастыря. С первого же беглого осмотра обители видишь их здесь повсюду. В медальоне над входом в гостиницу, над вратами, на иконах, на золотой кованой раке в нижней церкви Собора. Стараешься представить себе их живыми, в дали четырнадцатого века, что-нибудь узнать о жизни их… – и почти ничего не узнаешь. Остается только ощущение величия и легендарности. Но не случайно явились они в этих краях, диких и бедных, подобно Трифону Печенгскому и Арсению Коневскому.
На первых порах удивляет, как мало древностей сохранилось в самом монастыре. Объясняется это тем, что он много терпел, подвергался грабежам (особенно в XVII в.).
Все-таки, все-таки… Был ведь собор времен Александра I, его разрушили[122] и соорудили теперешний, огромный и роскошный, но какой холодный! В валаамском строительстве, к сожалению совпавшем с бедною художнически эпохой середины и конца XIX века, есть вообще дух грандиоза.
Нечто от Александра III, нечто связано и с игуменом Дамаскиным, ненасытной и мощной фигурой, которую можно было бы назвать, на афонский лад, Афанасием Великим Валаама[123]. Должно быть, есть нечто в характере самого этого острова, на гранитных глыбах лежащего, над Ладогой воздымающегося, что влекло к силе и размаху. Здесь бьют волны, зимой метели ревут, северные ветры валят площади леса. Все громко, сильно, могуче. Лес – так вековой. Скалы-гранит, луда. Монастырь – так на тысячу человек. Игумен Дамаскин чуть не великан, неутомимый, неусыпный, несменяемый (сорок лет властвовал над Валаамом и чего-чего только не настроил). Даже колокола валаамские… ведь в главном из них тысяча пудов!
Но немало силы и в самой братии, порождении Руси крестьянской, веками на Валааме сменявшейся, но трудившейся упорно, безымянно. Ведь это маленькое государство. У него и леса, и посевы, покосы, молочная ферма, сады, огороды, водопровод, и каких только нет мастерских. Все это лепится и живет вокруг Собора и белоснежного четырехугольника келии, трапезной, ризницы, библиотеки и пр. Тут дом игумена и управление, хозяйство и политика, и дипломатия, великолепные службы в Соборе, в праздники наполненном карелами окрестностей, паломниками и туристами. В нижней церкви у раки преподобных, в гостинице у о. Луки непрерывный приток и отток приезжих – кого тут только нет!
Внутренняя, духовная и поэтическая сторона Валаама раскрывается понемногу, не сразу. «К Валааму нужно подходить молитвенно, – говорил мне педагог из Таллина. – Направляйтесь к нему духовно».
Не знаю уж, «направлялся» ли я, и разумеется, беглы впечатления паломника, все же думаю, что за внешним, торжественным фасадом Валаама, открылось в эти несколько дней и другое, – то, что дает славу Валааму внутреннему.
* * *
На другой день приезда нашего игумен, о. Харитон, предложил съездить в скиты на его моторной лодке.
Мы отчалили часу во втором, при нежном свете из-за высоких облачков. Высокий и загорелый, заросший бородою о. Рафаил у мотора, нагнувшись, управляет рычажком. Кроме игумена, с нами педагог Михаил Алексеевич с женою и мальчиком в гимназической фуражке. Да иеромонах Тарасий.
Лодка идет легко. Как стеклянна вода! Какой мир, какой воздух, как прекрасно плыть мимо редких камышей, за которыми вековой бор – сосны, ели столетние. Кое-где береза. И сколько зелени, какие лужайки! Все светлое, очень тихое и нетронутое.
Когда подплываем к мостику, под которым надо пройти, о. Рафаил выпрямляется, горбатый его нос глядит вперед, и, как тритон в раковину, трубит он победоносно: мы, мол, идем под мостом, место наше.
И мы быстро проносимся в его мгле.
– Хороши эти леса, – говорит о. Харитон медленно, негромко, будто слегка устало.
– Мы ведь их не рубили. Дрова покупали у финнов, только чтобы их не портить.
Да, красота, а не лес. Такого я в Финляндии еще не видел. Игумен молча и задумчиво на него смотрит. Монастырь, со всею сложностью и трудностью управления, забот, скорбей – все позади. А сейчас тишина озер, лесов, ласкового, еще бледного солнца.
Мы едем в скит Всех Святых[124]. У о. игумена там дело, а мотор свой он дает нам для езды дальнейшей.
Вот и берег, лужайка, лес, и неторопливый путь к скиту, и часовня, и могила иеросхимо-монаха Антипы, в лиственной роще, и ограда скитская… и ничего сурового в этой святой земле. Наоборот, светло, особенная, чуть ли не райская тишина.
Женщинам в скит нельзя. Да и мы сейчас не пойдем. Мы поищем грибов, поклонимся могиле Антипы, полюбуемся солнцем, лесом, перекрестимся на пороге часовни.
– Это все о. Дамаскина труды, – говорит игумен, медленно обходя стену, за ней церковь, здания. – А вот тут поглядите, что буря наделала.
И, поднявшись на изволок, показал с грустью на плешину в его любимых лесах.
– Буря была ужасная. Северный ветер, сразу вырвало до четырехсот десятин в разных местах острова.
У ворот показался старый монах в подряснике. Мы простились. О. игумен останется тут до вечера, проведет тихие часы в уединении, а потом мы должны за ним заехать.
– Знаете, – говорит, улыбаясь, Михаил Алексеевич, когда подходим к мотору, – тут в прошлом году была с нами маленькая история, на этом самом месте. Тоже в лодке приехали, и с нами старушка одна, француженка, лет семидесяти – ее занесло как-то на Валаам, она тоже все по скитам ездила, ужасно нравилось ей. Настолько полюбила тишину эту валаамскую, красоту, весь благообразный склад жизни, так и говорит: «Это рай». (Сама католичка.) «Я всю жизнь прожила и только теперь, над могилой узнала, что на земле есть рай. Как ваши иноки и старцы на острове живут, это и есть рай». Хорошо, рай раем, а ведь и домой в монастырь надо. Назад полагалось идти пешком. Она дошла до этой лужайки, села под деревом, и ни с места. Сил нет, и нога разболелась. Идти никак не может, что тут делать? Попробовали лодку покликать, да место тихое, никого нет. Просто хоть ночуй тут с нею. Так до вечера и просидели, пока монашек случайный, с фермы, на лодке не выручил. Она долго в монастыре прожила. И когда в Париж уезжала, то, представьте, из бересты коробочку себе раздобыла и туда земли валаамской на память собрала. С тем и уехала, что в раю побывала.
* * *
Теперь у рычажка мальчик Светик. О. Рафаил рядом, поглядывает за ним и показывает, где брать правее, где левей. Останавливаемся у Смоленского скита[125]. Среди чудесного леса маленькая церковь, новая, в духе древнего зодчества. Здесь иеросхимомонах о. Ефрем – высокий, жизнерадостный, с улыбающимися глазами. У него сейчас гости: за столиком, под соснами, в простеньких подрясниках два старых монаха пьют чай: о. Павлин, бывший игумен Валаама, на днях постригающийся в схиму, худой, с веерообразными бровями, и другой, о. Иоанн, тоже худенький, из Предтеченского скита. Солнце, сквозь сосны, тепло и мирно берет лучами этих двух стариков. О. Ефрем один живет здесь. Он показывает церковь, крохотную келийку при ней, гроб с поднятой крышкой. На ней изображен скелет, а в гробу подушка и постель.
– Да, вот так и живу, понемножку…
О. Ефрем – духовник братии. Отсюда, на лодочке, ездит в монастырь. У самой воды у него другая избушка, тоже крошечная, и тоже иконы, тоже гроб. Один гроб для лета, другой для зимы, в них по очереди он и спит, но ничего страшного в этом нет, о. Ефрем жизнерадостнее многих, спящих на роскошных кроватях.
Чтобы не мешать его гостям и не отрывать его, мы не задерживаемся. И через несколько минут Светик, серьезный и внимательный, гордый ролью капитана, ведет нас на моторе дальше.
О. Тарасий с Михаилом Алексеевичем совещаются, куда ехать сначала: на Коневский или к о. Феодору. Решили к Феодору.
Мотор заходит в дальний, тесный угол залива. О. Рафаил сам берется за управление: узеньким каналом, с галькой, песочком, чуть не доставая рукой до прибрежных кустов, выходим с Валаамского острова на Ладогу. Она довольно покойна, голубеет вдаль, к едва видным мягким холмам, все же мотор покачивает. Мы описываем медленно дугу, и мимо островка со скитом св. Иоанна Предтечи, наиболее строгого на Валааме[126], идем к другому островку.
Здесь нет никакого скита. Просто живет отшельник, схиигумен Феодор, в своей избушке.
– Только я умоляю вас, о. Тарасий, – говорит Михаил Алексеевич, разглаживая поблескивающую раздвоенную бороду, – чтобы он самовара не ставил.
О. Тарасий не без лукавства посмеивается небольшими голубыми глазами.
– Да уж не тревожьтесь. Пожалуйте вперед, к прудику. А я предупрежу…
– Я вас знаю, о. Тарасий, придем, а уж самовар пыхтит… Нет, я тогда не пойду, вы должны обещать…
Он оборачивается ко мне.
– Представить себе нельзя, до чего монахи здесь гостеприимны. Ведь кто ни придет, старик бежит ставить самовар.
– Ничего-с, ничего-с…
Михаил Алексеевич сопротивляется, но сам мало в сопротивление верит. А пока что, мы идем в горку, а о. Тарасий влево, к деревянному домику.
– О. Феодор давно тут живет. Видите, его хозяйство. Яблони, огород… Все своими руками. Ему за семьдесят. А какая тут почва? Один камень. Так цель на себе землю таскал. Бог знает откуда, вот и добился.
Мы подошли к прудику, тоже, конечно, собственного производства – он кишит мелкой рыбешкой. Бросишь корочку, все население сразу толпится, шуршит, чмокает, разные жадные типы выскакивают до половины наружу, на лету ловя приношение.
Мы ими полюбовались. И медленно, огородом, пошли к домику о. Феодора.
– Вы не думайте, – шепнул Михаил Алексеевич, – теперь от чая нельзя отказаться. Будет обида.
– Ну, здравствуйте, милые, здравствуйте, кого Господь принес? Милости прошу…
О. Феодор, высокий, крепкий старик с загорелым лицом, живыми, светлыми глазками, седою бородой. За углом о. Тарасий раздувает самовар.
Благословил нас о. Феодор истово, сразу став торжественным, но по-прежнему ласковым. И высоким, тонким голосом со своеобразным переливом, как бы ярославскою скороговоркою пригласил пол деревья к столику. Варенье, сахар, хлеб, чашки.
– Издали? Ну, и слава Богу. Вот и навестили старика, милые мои…
Мы для него «мир», неизменно здесь появляющийся, иной раз и утомительный, но все тянущийся к облику более высокой, чистой и духовной жизни. Такой о. Феодор чувствует, что он кому-то нужен, этим неизвестным для него «братьям» – нынче одни, завтра другие, но всегда братья и всегда чего-то хотят позаимствовать.
О. Тарасий подал самовар. О. Феодор так же был приветлив и словоохотлив. Он не поучал, ничего не навязывал. Просто повествовал, как был послушником на Валааме, как работал на пекарне, в кухне, на мельнице, и все со смехом и улыбкою: весело, мол, было жить! А позже попал в Борисоглебск игуменом, и опять назад на Валаам вернулся, и опять все хорошо, нечего Бога гневить.
Из-за чайного этого столика, с высоты усадебки о. Феодора скрывается дальний вид: вниз идут сосны, редковатым строем, и сквозь них Ладога тихим серебром посверкивает, вдаль сизеет и лиловеет. Много ниже нас на одинокий столб села чайка. Мы обратили на нее внимание.
– Как же, как же. постоянно прилетает. Славная. Мы с ней знакомые, можно сказать, друзья. Она меня не боится. Сядет, и все курлыкает тут, на своем языке. А только я ейного языка не понимаю. Покурлыкает, перышки себе клювом почистит, и до свиданья. до следующего разу.
* * *
В шестом часу о. Тарасий вынимает из глубокого кармана часы.
– А ведь еще в Воскресенский хотели, да к отцу Николаю на Коневский.
Подымаемся. Михаил Алексеевич с моею женой не без таинственности отводят о. Феодора в сторонку, вполголоса с ним что-то рассуждают.
Высокий, с несколько сейчас смущенною улыбкой, в сором подряснике, с великорусским говорком, более он похож на пчеловода, чем на схи-игумена. Вот где о гробах и помину нет!
– Ну, хорошо, милые, ну, хорошо…. Маленький заговор я знал. В ночь на воскресенье, перед ранней литургией, в Коневском скиту будет он нас исповедывать и причащать.
И когда мы плыли к Воскресенскому скиту, солнце мирно золотило Ладогу. Погода окончательно установилась Да и в душе, казалось, что-то наладилось. Не то, чтобы новые мысли или премудрость какая осенили. Ничего особенного нам о. Феодор не сказал. Но вот ощущение, что все в порядке (якобы наперекор всему, что в мире делается, даже многим скорбим в самом монастыре, ибо и монастырь не рай) ощущение прочности и благословенности осталось. Все хорошо – несмотря ни на что. Рыбки, радость, яблони, огород, знакомая чайка на столбу – все радость.
Если бы с нами была сейчас та старая француженка, она не изменила бы своего мнения о Валааме.
По скитам
Светик и о. Рафаил подвезли нас к пристани. O. Тарасий помогал выходить. Заросшая соснами возвышенность, вверх вьется тропинка – к Воскресенскому или Иерусалимскому скиту[127].
О. Тарасий оборачивается.
– А вы теперь, значит… прямым ходом к Гефсимании. Там у креста и будете с мотором ждать.
Мы подымаемся, не то, чтобы в гору Чистилища, но все-таки не так уж мало. С поворотами тропинки шире раздвигается вид на Никоновский островок, правее его остров о. Феодора, a за ними, все возрастая, дальне-серебристый горизонт самой Ладоги. Вся эта местность называема Никоново, по имени пустынника, здесь обитавшего в XVIII в.[128].
Но легенда уводит и дальше. На месте храма, куда подымаемся, с незапамятных времен стояла часовня в честь св. Апостола Андрея. Как бы ни относиться к преданию о посещении Валаама св. Андреем, место все-таки свято, освящено веками отшельнических, высоких и духовных жизней.
– На эту стройку много трудов положено, – говорит о. Тарасий, когда мы приближаемся к кирпичной, красной церкви. – Фундамент прямо в гранит врублен… иной раз и порохом приходилось взрывать.
Верхний храм Воскресения, нижний св. Андрея, в нем «Кувуклия» с подобием Гроба Господня[129]. В низеньком помещении, в глубине церкви, кубической формы – камень, красный гранит, образ того камня, что привален был ко входу в пещеру Гроба. Маленькая эта, темная комната называется Приделом Ангела – Ангел отвалил некогда камень. А в гранит вделана из иерусалимского камня частица.
Таинственно тут, тихо. Нагибаешься вдвое, сквозь совсем низкую дверку входишь в еще высшее святилище: пещеру св. Гроба, точную копию того иерусалимского, у которого в сороковых годах стоял на Литургии и причащался Гоголь[130]. Тут совсем уж темно. Только неугасимая лампада над Гробом (на нем Плащаница и в серебряной оправе частица камня иерусалимского. К ней прикладываются входящие).
Мы кончали уже осмотр Кувуклии, когда в храме, под водительством худенького, слегка согбенного, но очень живого иеромонаха о. Памвы, появилась толпа молодежи – православное юношество из Выборга.
– Ну, вот, вот и хорошо, – говорил о. Памва, сияя прекрасными глазами, легкой, суховатой рукою давая благословение, – уж не извольте теперь уходить, видите, я со своими птенцами… И сейчас же во св. Пещере молебен отслужим, и будет славно…
Мы поднялись в верхний храм. Нельзя сказать, чтобы он очень останавливал внимание – светлый, несколько холодноватый, с интересным разве только запрестольным образом XVIII века, работы иеромонаха Амфилохия (Христос Царь Славы, Богоматерь и Иоанн Предтеча, со слегка западным оттенком письма, удивляющим на Валааме)[131].
Пока о. Тарасий объяснял мне противоположность с нижней, полутемной церковью, где Христос поруганный, в Гробу, здесь же Он в торжестве, я обратил внимание на молодого огненно-рыжего монаха, оживленно разговаривавшего с моей женой. Он улыбался радостно, почти блаженно. По движению губ на простоватом лице было видно, что он слегка косноязычен. Стараясь не обращать на себя его внимание, я приблизился.
– Значит, земляки… Из Москвы! Как же не из Москвы, я сам оттедова. У нас прямо и лавка там была… на Долгоруковской… у папаньки. Бакалейщики мы.
Известно, что такое москвичи, и земляки, да Бог весть чрез сколько лет, после всех бед и революций на Валааме встретившиеся. Монах был в полном восторге, встретив земляков, и от волнения еще более заикался.
– Что ж, вы довольны тут, на Валааме? После Москвы-то?
– Я? Да как же не доволен? Даже очень доволен. Я всем доволен. Слава Богу, хорошо живу.
Тут же и выяснилось, что этот веселый человек в замызганном подряснике находится на нелегких работах, на самой низшей ступени иерархии, один «из малых сих». Но ему все хорошо, его ничем не возьмешь. Такого, конечно, сослали бы на Соловки, посадили бы в концентрационный лагерь, он все бы улыбался да творил Иисусову молитву. Это его дальние братья улыбались на римских аренах львам.
Пока они с женой моей вспоминали, где какая в Москве часовня и какой переулок, снизу прислали сказать, что молебен в Кувуклии начался. Мы поспешили сойти. Придел Ангела был уже полон. Стояли плечо к плечу. О. Памва служил в Пещере. Оттуда, слегка приглушенно, звучал небольшой хор той же молодежи. «Христос воскресе из мертвых»[132]. Темно, тесно, жарко… но так тихо, так замерло все и соединилось в сопереживании того, что две тысячи лет назад совершалось в такой же вот тесной Пещере, с таким же камнем-отвалившись, перевернул он весь мир…
Когда служение кончилось, девушки, молодые люди, пожилые дамы, сгибаясь вдвое, вылезали из жаркой Пещеры, а мы поодиночке пролезали туда, прикладывались ко Гробу и подходили под благословение к о. Памве. Лоб у него был влажный, глаза сияли.
– Духота какая, – говорили певчие-барышни. – Временами даже стоять было трудно.
Но у всех взволнованные лица, умиленные. У некоторых слезы. Юноши покрепче. Но и у них настроение повышенное.
Впрочем, молодость берет свое: выйдя на паперть, студенты побежали – кто на колокольню, кто с аппаратом снимать барышень.
– В общем, шикарный скит, – донеслось откуда-то, некий Сережа или Митя от души выразил восхищение. Барышни на него зашикали.
– Разве можно так о ските?
– Да ведь я и говорю, что прекрасный…
* * *
О. Памва со своим выводком отплыл на большом боте, мы же еще остались. О. Тарасий и местный священник, о. Лаврентий, показывали нам приют при ските, вернее, само помещение – мальчики ушли куда-то на прогулку.
О. Лаврентий, молодой, бритый, с нерусским акцентом, облик уже финского православия, объяснял все подробно. Тут вот больница, тут столовая, это спальни.
– Вас, может быть, удивит, что здесь такой порядок, – говорил он. – Скажут: да нельзя и поверить, что дети действительно живут, это, мол, одна декорация. А, однако, они именно тут и ночуют, в этой столовой едят, и так далее. Это мальчики карелы, которых мы ведем в духе православия.
О. Тарасий перебил его:
– У них недавно печальный случай вышел… он и печальный, и замечательный. Мы мальчика-то этого только что в монастыре отпевали.
– А, это вы о смерти Георгия?
– Вот именно… он ведь как раз русский мальчик.
– И был очень хороший ученик, – спокойно сказал о. Лаврентий. – Вообще примерный воспитанник.
– Вообразите, – продолжал о. Тарасий, очень оживленно, даже показалось, что слегка он волнуется, – были дети на покосе, трясли сено, жарко, знаете ли, разогрелись, побежали воды испить. Все выпили. Ни с кем ничего. Один этот Георгий…
– И надо добавить, – методически подкреплял о. Лаврентий, – что этот мальчик отличался особою серьезностью. Был весьма религиозен. Без сравнения с другими. Ему шел одиннадцатый год, а он уже отлично знал церковную службу.
О. Тарасий опять горячо перебил. В его небольших голубых глазах ясно чувствовалось волнение.
– Да, заболевает. Температура страшная, приезжает наш фельдшер, ну, успокаивает его, ничего, мол… пройдет. Скоро выздоровеешь. А он прямо и говорит: «Нет, не выздоровею. Я уж знаю. Каких бы докторов ни звали, я все равно помру». И так, видите ли, уверенно, точно и вправду знает. Жар же, разумеется, все пуще. Но он сознание не терял. Надо думать, воспаление легких?
О. Тарасий вопросительно оглянулся, как бы спрашивая воображаемого доктора.
– Он здесь и лежал, на этой кроватке в лазарете, – протянул о. Лаврентий, указывая на ослепительную, финской чистоты и аккуратности, постель.
Правда, трудно себе представить, чтобы несколько дней назад умер на ней ребенок.
– Да, и главное-то: совсем незадолго до смерти (а он и хворал несколько дней), приподымается этот Георгий на кровати, смотрит так пристально и говорит: «Видите, видите?»– «Нет, мол, ничего не видим». – «Да как же не видите, вон Он… Господь-то наш, Иисус Христос, вон, в ногах у постели стоит».
Ну, кто был, смотрят, ничего не видят. А он даже волноваться начал. «Да ведь вот Он, совсем рядом, ведь свет-то от Него какой, ведь светлей солнечного, неужели не видите?»
Что-то перехватило горло о. Тарасию.
– Никто-то вот не видал, он видел. К нему, к ангельской-то душке, сам наш Повелитель пришел, и прямо его к Себе на грудь принял… Это уж что говорить…
– Замечательный случай, – сказал покойно о. Лаврентий. – Я лично присутствовал, по долгу заведующего. Мальчик, действительно, утверждал, что видит.
* * *
Поблагодарив о. Лаврентия, мы пешком, неторопливо двинулись из скита. Ладога стала совсем синяя с голубизною, со светлыми кое-где, стеклянными струями. В направлении Сердоболя вился дымок. Белая точка под ним, маленький «Сергий» возвращался с паломниками на Валаам.
– Я полагаю, – сказал о. Тарасий, сохраняя как бы взволнованность, но и задумчиво, – что мальчик этот был особенный, святой.
– Видимо, что особенный, о. Тарасий. Дорога медленно, плавными полудугами, спускалась вниз. Справа, слева открывались леса, кой-где блестело серебро пролива. Далеко над лесом воздымалась колокольня монастыря.
Очаровательны такие монастырские дороги – на Афоне ли, на Валааме – меж лесов, в благоухании вечера наступающего, в тишине, благообразии святых мест. Незаметно будто бы, но нечто входит и овладевает путником.
О. Тарасий посмотрел на меня.
– Вам нравится у нас тут?
– Очень нравится, о. Тарасий. И я, и спутники не были разговорчивы сейчас, но о. Тарасий, думаю, почувствовал, что над всеми нами некая власть его Валаама. «Валаамские монахи обожают свой остров, – говорили мне и раньше, – холодность к нему воспринимают как обиду».
– Раньше, знаете… тут не только зайцы, лисы людей не боялись. Прямо на дорогу и выходит, хвостом своим, помелом, помахивает. Ну, теперь много пораспугали.
Мы спустились к мосту через глубокий овраг. На другом берегу оврага опять церковь, небольшая, деревянная[133].
– Гефсимания. Раньше тоже тут скит был, а теперь в запустении. В том здании финны солдаты живут, артиллеристы.
«Мир» вошел-таки на Валаам: что делать! Ведь советская граница, по воде Ладоги, в каких-нибудь двадцати верстах.
Мы зашли в церковь, благоухающую кипарисом, – весь ее резной иконостас, из кипарисового дерева, создан «трудами валаамских иноков».
А в стороне от церкви, на лужайке, окаймленной лесом, стоит бедная часовенка, совсем открытая. Огромная икона-картина «Моление о чаше» всю ее занимает. Впечатление такое, что просто среди леса икона, едва прикрытая от дождей, – типичный валаамский уголок, божественное, окруженное природой, природа, знаменованная святыней.
…В прозрачном вечере, спустившись вниз к заливу, мы нашли мотор и моряков наших, Светика и о. Рафаила, в мирном разговоре. Каменный крест высился над ладьей, на берегу. А над ним отвесные скалы, на вершинах которых сосны.
И мы сели, чтобы продолжать наш путь по острову.
* * *
О. Николай, худенький, с бородкою, с кроткими серыми глазами, тихий и безответный, смиренным видением встает в памяти моей на плотнике близ Коневского скита. Сзади пустынька о. Дамаскина – мы не успели в этот раз осмотреть ее. Слева озерцо, узкое и длинное, с плавающими по воде желтыми березовыми листьями. И справа озеро, тоже малое, и тоже зеркальное. Кругом лес, тишина. Прямо перед нами церковь, и у входа о. Николай, схимник и пустынножитель, даже не иеромонах. Он не может вас благословить, но с каким глубоким уважением целуешь эту старческую, морщинистую руку… О. Николай ведет показывать свою деревянную церковь. Он всем видом своим как бы извиняется за то, что существует. В этой последней скромности его есть даже и таинственное. Семидесятилетний старичок, точно сошедший с нестеровской картины (схимник у озера)[134], но вот такой тихий и особенный, что сядет он в лодку – лодка сама и поплывет. Зайцы придут кормиться из его рук, ласточка сядет на рукав. Может быть, он идет, а может быть, и уйдет туда, за церковь, растает в лесу.
– Он будет в ночь на воскресенье сослужить в этой церковке о. Федору, когда мы причащаться-то будем, – шепчет Михаил Алексеевич.
…Времени мало, и мы торопимся. Главное посещение Коневского скита еще впереди. А сейчас мы едем за о. игуменом, опять в скит Всех Святых. Какой полный день! В жизни нет одинаковости. То недели и месяцы, где все пусто, то часы, заставляющие тебя, в переполненности, молчать, быть наедине с налитым в тебя.
Мотор постукивает. Опустив руку за борт, чертишь пальцем по бегущей воде узор, разливающийся серебром. Смотришь на гранитные утесы. Они поросли мхом. Вот березка повисла над гладью, над стеклом залива. А там выше богородицына травка разметалась по луде лиловыми пятнами, под соснами, до которых и не доцарапаешься по отвесу.
Заехав за о. игуменом, мы возвращались в монастырь. На одном из поворотов залива справа выплыл большой бот о. Памвы с паломниками. Светик и о.
Рафаил застопорили. О. Памва также. Корабли наши сблизились, двигаясь по инерции, потом мы дали немного ходу и выдвинулись вперед. Увидев о. игумена, молодежь с о. Памвою поднялась, стоя, хором пели они знаменитую песнь монастырскую: «О, дивный остров Валаам…»[135]. Она звучала здесь довольно стройно. Отец игумен тоже поднялся, благословил издали паломников.
Потом сел, тихим своим голосом сказал мне:
– Приятно видеть здесь православных, русских. Это нам всегда очень радостно.
И указав о. Рафаилу рукой движение к монастырю, Светик нажал рычаг, наш мотор, как адмиральское судно, пошел вперед. Сзади плыли паломники.
И сквозь шум машины хор выводил свой однообразный напев:
«Рука божественной судьбы Воздвигла здесь обитель рая…» Приблизившись к мостику, под которым надо нам было приходить к монастырю, о. Рафаил встал и опять сигнально протрубил в свой небольшой рог.
Валаамский вечер
Мы долго бродили у монастырской решетки, под деревьями, над проливом. Сквозь листья краснел зак ат. Ладога под ним сизела. Лес зеркально отображался в проливе – сосны росли кронами вниз. Потом прошел белый пароходик из Сердоболя, сломал зеркало. Сосны в воде затанцевали змеями.
Восьмой час, пора домой. И вдоль белых корпусов монастыря, мимо Святых ворот, мимо часовни, густой аллеей, темнеющей уже, мы выходим к белой нашей гостинице, утопающей в жасмине.
Как раз час ужина. По гулким каменным коридорам пожилые женщины носят в номера еду. И в нашу узкую комнату, сдавленную тяжкими стенами, постучала со словами молитвы наша Ефросиньюшка.
– Подавать, барыня, прикажете? – обратилась к жене.
Мы сидим у стола, перед небольшим оконцем. Красная заря пылает в нем за жасмином. На скромных кроватях наших, на самой Ефросиньюшке ее отсвет.
– Пожалуйста, подавайте. Ефросиньюшка, кажется, из Архангельской губернии. На ней платочек, вдовьего цвета кофта, грубые башмаки. Лицом бледновата, часто улыбается, обнаруживая неважные зубы, по-северному окает. В движениях довольно быстра. Подает, убирает с тем видом, что вообще ей всю жизнь, с утра и до вечера так и надлежит разносить, мыть посуду, работать в прачечной.
Вот она внесла на большом подносе гороховый суп и рис.
– А еще, барин, вам отец Лука, во-о, гостиник… велел передать: как вы его звали, то нынче, значит, с гостями управимшись, к вам придет. Гости и с пароходом понаехали.
Она ставит на столик нам нехитрые яства.
– Всей хлопочем, все вот и охлопатываем.
– Что же, вы давно туг при монастыре? – спрашивает жена.
– А давно, милая барыня. Без малого усю жизнь. Я уж тут приобыкла.
Она смотрит своими белесоватыми глазами, точно говорит: «где же мне иначе и быть-то, как не в монастыре?»
– Зимой, наверно, у вас тут сумрачно?
– Чего сумрачно! Гостей нет, гостиница пустая… ну, конечно, снегом все заметает, а мы ничего. Дорожки-то, во-о, протоптаны, мы в валенках. Ничего. На братию стираем, одежку чиним.
– А в городе бывали?
– Как же, как же… Я в Сердоболе была.
Мы едим пресный гороховый суп. Она стоит около двери, слегка улыбаясь.
– У меня полушалок поизносился, я к о. Луке. Он мне дал тридцать марок, говорит: «съезди в Сердоболь, там себе и купишь». Разумеется дело, летом нельзя, а зимой ничего, съездила.
– В этом году?
– Не-е, не в этом, тому годков пять. С нашими же, с прачками. Ничего, хорошо съездили.
– Город-то посмотрели?
– А чего его смотреть? Город, как город. Полушалок купила, да и домой.
– Что же, теперь когда соберетесь? Ефросиньюшка весело рассмеялась. Вопрос показался ей странным.
– Да ведь я тот-то полушалок без малого пятнадцать лет носила. А так у меня все, слава Богу, есть. Мне ничего не нужно. Ну, съездила разок, и чего там… Господь с ним, с городом. Мне ничего не нужно. Вот, свою недельку у вас отслужу, а там другая меня сменит, мы по очереди. Летом-то хлопотно, гостей много… вот и заговорилась с вами…
Ефросиньюшка вышла, а мы доедали монастырские блюда.
– Прелесть, – сказала жена. – Лет через десять съездит еще разок в Сердоболь.
В окне потемнело, когда Ефросиньюшка принесла самовар, – как следует, кипящий, с угарцем. Зажгли лампу, кажется, лучшую отысканную для меня в монастыре. От ее зеленого колпака, выпуклых узоров на резервуаре, пахнуло Калугой, детством. При таких лампах готовили мы когда-то уроки.
* * *
Насколько быстра и как бы безраздумна в простоте своей Ефросиньюшка, настолько медлен, сдержанно-серьезен, и весь «в себе» о. Лука. Он постучал, вошел, перекрестился на икону, высокий, худой и слегка сгорбленный, в белом подряснике с черным бархатным поясом. Приблизился к столику, благословил яства и степенно сел. Он, как говорят, «хозяин» гостиницы. Целый день на ногах, целый день обращаются к нему с разными мелочами, и не раз, глядя на него, думалось, почему этот человек с мистическими темными глазами, худощавым чернобородым лицом, воистину иконописным– почему приставлен он к такому «мирскому» делу? Он очень живописен, раздавая ключи молодым послушникам и переводчикам, водворяющим туристов, но все-таки больше я его вижу в церкви, совершающим литургию, чем в холле монастырского отеля.
Он сел, спокойный и задумчивый, с несколько усталым и болезненным видом – иногда мне и вообще казалось, что он превозмогает физические боли. Разговор неторопливо налаживался. Временами о. Лука полузакрывал глаза, медленно проводил рукою по лбу, поправлял прядь волос.
– Да, приезжие бывают разнообразные. Конечно, русские нам ближе. Мы тотчас разбираем, кто православные паломники и посещают службы, кто туристы.
Это заметно, разумеется, и без его слов. Для иностранцев и туристов есть дорогой ресторан (ravintola, тут же при гостинице), паломники «вкушают» монастырскую пищу по номерам.
– Хотя, надо сказать, – продолжал о. Лука, – что и среди иностранцев попадаются интересные.
Он слегка улыбнулся. По его строгому лицу прошло что-то смягченное.
– Вот, например, появляются у нас однажды две девицы, американского происхождения. Мы, дескать, из Чикаго. Хорошо. Намерены посмотреть монастырь, пробыть два дня. Совсем молоденькие, сестры, очень живые, расторопные такие, всем интересуются. Покажи то, да покажи это. В церковь сейчас же отправились, приказали о. Борису в половине третьего утра к полунощнице в дверь постучать, будить, значит. Прежде-то у нас в монастыре всем подряд в третьем часу стучали, и даже произносили особые слова: «Пению время, молитве час. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» – а теперь этого более нет, лишь желающие заказывают.
И на самом деле, побежали. Да вообще… и к ранней обедне, и к поздней, все как православные.
Прошло два дня. Ехать бы уж пора. Но в последнюю минуту они говорят: «Мы бы еще два денька остались». Пожалуйста. Еще два дня прошло, они в удовольствии, по скитам ходят, служб не пропускают… А можно, говорят, еще недельку у вас погостить? Разумеется, мол, очень рады. Они еще недельку, там еще… и никак уехать не могут. Да сколько прожили, чуть не три месяца! Они, действительно, оказались очень хорошей души барышнями. Так вошли в жизнь духовную… знаете ли, на службах прямо плачут. Поклоны бьют, перед святыней на полу простираются. Значит, доходило в сердце. И по-русски стали учиться. Мы, говорят, и раньше вашу страну очень высоко полагали, и музыку вашу знаем, и ваших писателей, и даже немного в Чикаго уроки русского брали, а теперь прямо видим, это что-то удивительное… Служба церковная, пение… а уж они по-русски и говорить немножко стали, и понимают. К схимникам ходили о вере беседовать. Смирение старичков наших их очень трогало, а особенно они сошлись с простыми нашими женщинами, услужающими, прачками, вот вроде вашей Ефросиньюшки. Они все говорили: «Это и есть настоящие люди и настоящая жизнь. Они у вас тут все праведницы, потому в труде и для ближнего, да для Бога живут». Ну, это им по их молодой горячности казалось, что праведники и праведницы все… однако же…
О. Лука остановился, полузакрыл глаза, потом открыл их. Важное, даже не без строгости выражение они имели.
– Однако же, монастырская жизнь и взаправду не забава. Они это почувствовали. И настолько увлеклись, что даже опростились. Завели себе высокие сапоги, платочками повязались, полушубки достали, и принялись с нашими бабами работать. Да прямо, знаете, белье стирают, в трапезной посуду моют, одежду чинят…
– Вот вам и американцы, о. Лука.
– Кто же они такие?
– Одна художница, а другая все петь на сцене хотела… пустое это она себе занятие придумала. Обе здоровые такие, сильные, но восприимчивые девушки.
…А почему уехали – (они и вправду могли бы на зиму остаться), – да отец забеспокоился. Куда, дескать, пропали? Мы даже из Выборга от американского консула получили запрос, что, мол, с такими-то девицами, где они там у вас? Тут они уже и собрались, но куда же поехали? Не то, чтобы домой, на родину, а прямым ходом в Россию. Один наш монах им рассказывал, что у него в Ярославской губернии родители и очень в беде живут, по крестьянскому делу. Они очень много с ним разговаривали, он их и русскому языку учил. И вот им запало в голову, не только что Россию посмотреть, но и у стариков этих побывать. Что же вы думаете, ведь разыскали! Нагрянули к ним неожиданно, дескать, поклон с Валаама от сына привезли…
Мы все трое рассмеялись – представить себе только старых ярославских крестьян, к которым вдруг заявились американки!
– Видите, и не побоялись в чужой стране, – продолжал о. Лука. – Они, конечно, вообще смелые, рисковые девушки, что и говорить. Двое суток в деревне прожили, на полу спали, тут знаете, и куры, и теленок, может быть, ну, как у нас в крестьянстве. Они подарков навезли, провианта с собой, одежки. И потом посылки из Москвы посылали. По душе-то ведь очень добрые.
О. Лука отпил глоток чаю. Помолчал минуту, продолжал:
– Которая художница, все меня рисовала, и теперь, слышно, мой портрет на выставке выставила…
Неизвестно, конечно, сколь удачно написала о. Луку «рисковая девушка», но что он как бы создан для портрета, иконы, это ясно, и даже среднего достоинства портрет даст по нем представление о духовной России века XVII – в том веке корни о. Луки.
– А знаете ли, где они, все-таки, сейчас? Опять в России. Только не одни. Их теперь мамаша провождает. Они через Японию двинулись.
* * *
О. Лука сидел довольно долго, рассказывал степенно и неторопливо, с той глубокой внутренней воспитанностью, которая для монахов типична. Потом встал, перекрестился, благословил нас, ушел – все это медленно, изящно и значительно. И не удивишься, что такое впечатление произвел он, да и другие наши монахи, на «восприимчивых» барышень.
Утром мы встретили его на обычном месте, у входа в гостиницу. Он был довольно оживлен.
– Вот только что к нам американский турист приехал. И оказывается, ихний знакомый. Сейчас же меня спросил. Через переводчика нашего передал поклоны, и что дескать из Японии и к нам заедут.
В лесах Валаама
…Под вечер мы отправились в пешеходное странствие – одно из чудеснейших занятий на острове.
«Пустынька о. Назария» недалеко от монастыря[136]. Почти за самой гостиницей начинается дорога, проведенная игуменом Дамаскиным. Она обсажена теперь разросшимися пихтами и лиственницами. Идет сперва чрез небольшое поле, а затем вступает в лес – прямая, ровная, поражающая гладкостью своей, хоть бы для автомобилей Франции. Но где найдете во Франции такое «растворение воздухов», благоухание, как в лесах Валаама?
Пройдя с версту вековым бором, все в сопровождении голубовато-зеленой хвои аллей, приходишь к странному, таинственному месту: более ста лет назад сюда уединялся игумен Назарий, духовный обновитель и восстановитель Валаама, «для молитвенного собеседования с Богом».
Влево от дороги, в лесу, и стоит каменный домик александровских времен. Очевидно, и тогда здесь было тихо и пустынно. Но теперь все приобрело еще особый отпечаток. Неутомимый Дамаскин построил небольшую церковь[137], завел кладбище, насадил питомник тех деревьев, которых нет, или есть мало в валаамских лесах: кедры, пихты, лиственницы, тополя, дубы, липы, орехи, « разнородные благовонные кустарники»… Деревья разрослись, и древняя келия Назария осенена такою тьмой зеленой, что когда вступаешь сюда, кажется, что уже чуть не ночь. Если лес и ранее благоухал, то тут попадаешь в настой благовония, особый воздух, соответствующий сумраку, тишине и величию места. Черный крест из гранита, трехаршинной вышины, встречает у келии[138].
Никого! Сам луч солнца вечернего едва пробьется сквозь силу дуба, ели, кедра – все равно, ему не разогнать прозрачных и благоуханных сумерек. Земля темно-коричневая, усеяна иглами, кое-где желуди, шишки. Подвигаемся к церкви. Вокруг нее кладбище – здесь упокоился сам игумен Дамаскин.
Сквозь ворота колокольни, стоящей отдельно, выходим в сторону озера. Стало светлее. Тихий, золотистый вечер ясно чувствуется. Вниз, направо, видно в лесу кладбище попроще, целый рой крестов. Далее, на лужайке, пасутся коровы.
Мы влезли на забор – деревенское наше «прясло», сидели на верхней жерди у кола, смотрели на Ладогу, прямо перед нами простершуюся, нежно-голубую, со светлыми струями, с туманным, дальним берегом – мягкая линия холмов. Тишина, пустынность. Та тишина и та пустынность, что дают особый, неизвестный в других местах мир. Это мир благообразного и святого мира, раскинувшегося вокруг, отблеск зеркальности Ладоги, сумеречного благоухания пустыньки и всей бесконечной ясности неба. Слабо позвякивают колокольцы стада – кроткой нотой… Мы недолго засиделись, все же, на заборе. Хочется повидать келию схимонаха Николая.
Вновь проходим через валаамское Сатро Santo (Святое поле, лат. – обычное название итальянских кладбищ). По большой дороге подымаемся лесом в горку – некогда Александр Благословенный задохнулся на ней, направляясь к отшельнику[139].
Самую келию, крошечную, укрытую теперь деревянным шатром-избою от непогоды и разрушения, посетили мы в смешанном чувстве тишины, почтительного благоговения и поэзии. Здесь сидел Александр… – жил тут простейший, скромнейший Николай, молитвенник и труженик, возделыватель огорода рядом, источник благоволения ко всему. Какой был он? Наверное, такой же старичок, каких я видал здесь, да и на Афоне: та же приветливая и смиренная Святая Русь.
Где жил, там невдали и похоронен. Могила тоже небогата, тоже осенена разросшимися елями. Под деревянным навесом на столбиках, окруженным решеткою, простой деревянный гроб, крест с Распятием. Колода изъедена временем. И весь безмолвный этот угол в вечереющем лесу, глубоком его молчании, так же неказисто-прекрасен, как был, наверно, сам неречистый трудник, «зде почивающий».
На Валааме есть обычай у паломников: отколупывать от этого гроба, пальцами и ногтями, щепочки. Кому удастся отколупнуть, та щепочка «помогает от зубной боли».
Мы поклонились праведнику и взялись за дело. Не так легко, дерево хотя ветхое, а держится. Но все-таки отломили – очень немного, вроде больших заноз. Не знаю уж как насчет зубов, но с собою на чужбину увезли, как шишки Валаама, как горсточки его земли.
* * *
«Странствие по святой земле», так можно назвать дальние прогулки по лесному острову. Мы опять вышли на дорогу и не торопясь, в ритме спокойном и облегченном, двинулись дальше. Теперь аллея пихт и лиственниц окончилась. Дорога стала проще, с колеями, кой-где песок на изволоках, тетеревиная травка, брусника. Лес не такой ровный и великолепный – с явными лысинами от бурь. И все диче, глуше… На одном повороте, спускаясь в ложбинку, встретили фигуру в подряснике. Можно было подумать, что монах, но вблизи мы узнали его сразу и заулыбались друг другу: кэмбриджский студенттеолог, англичанин чистейший, застенчивый юноша, живущий в гостинице нашей. На всех службах, в соборе ли наверху, или в нижней церкви у раки Преподобных, – всюду мы его встречали, как и с русским чайничком в коридоре гостиницы. Он живет на Валааме уж недели три, одевается по-монашески, комнатка его вроде иконной лавки. Он очень усердно бьет поклоны, по своему требнику следит за службой и мечтает посетить в Париже Сергиево Подворье, Богословский институт[140]. А сейчас, с котомкой, палкой, запыленный и вспотевший, но веселый, радостный, возвращается из такого же странствия, как и мы.
На слабом немецком обмениваемся несколькими словами с английским юношей о русских святынях. Он был уже там, куда мы идем, и родные слуху нашему имена Сергий, Зосима и Савватий необидно искажаются в его нерусском выговоре, приобретают новый лишь оттенок. Мы расходимся. Он к монастырю, мы дальше, в глубь лесов.
Долго идем прямою и пустынною дорогой. По сторонам, кое-где, сложены саженями срубленные дрова. А в конце, как бы завершая длинный перегон, часовенка. Это и есть «Сергиус» студента – Преп. Сергий Радонежский[141].
Ястребок сидел на одной из двух елей, ровно осеняющих часовню. Ели огромные, прямые. И не только кобчик, целый глухарь в ней укрылся бы. Маленький же разбойник издали нас увидел и снялся.
Поднимаемся на крылечко. Как всегда на Валааме, дверь не заперта. Часовня ветхая, средь многих, мною виденных, одна из наиболее намоленных, уютных. И поставлена-то будто так, что вот идет паломник, длинною стрелой дороги, притомится… – тут и зайдет к Сергию Радонежскому. Может посидеть на крыльце на лавочке, а потом – внутрь. Там же есть скамейки, и подобие иконостаса, разумеется, икона Преподобного. Вот он, святой Сергий! Более десяти лет назад, в глухом предместье парижском, дал он мне счастье нескольких месяцев погружения в его жизнь, в далекие века родины, страждавшей от татар, усобиц, унижений… – и над всей малой жизнью русского писателя вне родины, оплодотворяя, меняя ее, давая новые мотивы, стоял его облик[142]. А теперь довелось и как бы «встретить» Преподобного… – в диком лесу, вроде того, где сам он жил, на земле русской. Ведь к такой, совсем к такой часовенке, где только что сидел, молился англичанин, вполне могли бы подходить медведи Радонежа, и сама эта часовенка мало чем отличается от первобытной «церквицы» на Маковице, которую собственноручно рубил св. Сергий. Да и весь крестьянский, «труднический» и лесной дух Валаама так близок духу Преподобного!
У иконы лежал акафист, напечатанный на картоне, с ручкою, его удобно держать пред собой. Прочитав его, приложившись к иконе, мы тронулись далее.
– «Помилуй нас, чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся, Сергие Богомудре».
Идти было легко.
* * *
В одном месте коровы целым стадом вышли на дорогу, позвякивая колокольцами, преградили нам путь. Жена испугалась было.
Но мы прошли, конечно, беспрепятственно. Они глядели на нас удивленно прекрасными, стеклянно-бархатистыми глазами, выражавшими некое коровье тупоумие, но не злобу. Скоро осталось от них только дальнее позвякивание, а впереди, сквозь редкие стволы сосен и елей, туманно стала сиять Ладога – мы подходили к оконечности валаамского острова.
Добрались до коровника-фермы. Вышедшая из дома женщина указала дорожку. И мимо скотного двора, каких-то прачек, ожесточенно стиравших, мы прошли к большой часовне, почти церкви, Савватия и Зосимы Соловецких[143].
Здесь, сидя на крылечке, можно любоваться вновь на серебристую Ладогу. Отделенный небольшим проливом, выступает невдалеке, крутыми скалами, обрывающимися в воду, так называемый Святой остров – одно из замечательных по красоте мест Валаама. В пятнадцатом столетии там жил св. Александр Свирский[144], позже основавший собственный монастырь на южном берегу Ладоги.
Мы пробыли тут довольно долго. И сама часовня показалась нам суровей и беднее Сергиевой (хотя она гораздо больше). Или уж подсказывает так воображение? Соловки? Крайний Север, океан Ледовитый?
Мне все вспоминалась именно здесь картина, виденная у игумена, в его покоях: зима на Валааме, скалистый берег, как на Святом острове, хмурое озеро, полузамерзшее, ледяные сталактиты по берегу и рогатый олень. Закинул назад голову, смотрит в сумрак и ночь Севера.
* * *
Обратный путь наш был спокоен, беспрепятствен. Леса в обратном направлении проходили перед нами, точно отражение в зеркале. Иногда новые дороги ответвлялись, но мы не сбились. Стадо уже ушло. Солнце подходило к закату, в лесу легла прозрачно-синеватая тень. Мы никого не встретили из людей. На одном перекрестке белочка пробежала по земле у самой дороги, схоронилась в кучу хвороста. Мы остановились. И она притулилась. Кто кого перемолчит? Мы стояли минуты две. Она не выдержала и, шурша цепкими лапками, развевая хвост пушистый, вознеслась по сосне до высокой ветки. Там ей покойнее. Но на всякий случай прячется за ствол, только хвост веет оттуда, мордочку же высунула, и как блестят маленькие, острые глазенки…
А потом и кончились леса. Мы были благодарны им, и жаль даже было расставаться. У монастырских зданий бегали и хохотали молодые послушники – «кафтанники», как их зовут здесь. На фронтоне белой гостиницы сиял еще последний отблеск заката. У подъезда подвода с чемоданами только что приехавших гостей – пароходик привез их из Сердоболя, – и монах разгружает ее. О. Лука, высокий, худой, с мистическими темными глазами, окруженный переводчиками в подрясниках, распределяет прибывших по комнатам и раздает ключи. В огромных коридорах зажгли лампы, Ефросиньюшки, Авдотьюшки разносят по номерам щи, гороховый суп, рис.
Мимо нас, в своем черном подряснике с желтыми отворотами, держа в руках миску, проходит английский Алеша Карамазов.
Александр на Валааме[145]
В августе 1819 года игумен Иннокентий получил от министра духовных дел Голицына письмо – на Валаам собирается государь, проездом из Архангельска. Не желает никаких торжеств и встреч. Едет с одним камердинером, как обыкновенный путешественник. Так что не нужно ни колоколов, ни риз, ни крестов.
Иннокентий сам был простой человек, из крестьян Олонецкой губернии. Уже занимая большой пост в монастыре, на себе таскал кирпич для стройки и трудился на рыбных ловлях. Наверно, и в других ценил простоту. Все-таки император Александр, победитель Наполеона, властелин России и Европы, в виде «штатского» человека с камердинером… – и принять его, как заурядного паломника, какого-нибудь купца из Петербурга! Это казалось странным. Поколебавшись, посоветовавшись между собой, решили встретить по-настоящему.
Навстречу государю в Сердоболь выслали монастырское судно. В Сальму послали эконома Арсения – там стояло другое судно, и Арсений должен был везти Александра, откуда тот пожелает: из Сальмы или Сердоболя.
Александр прибыл в Сальму поздно вечером. Иеромонах Арсений поднес ему на блюде просфору с вынутою частью. Император подошел под благословение, поцеловал Арсению руку и сказал, чего путь его – на Сердоболь. Подтвердил, что никакой встречи не надо. Не желает также, чтобы ему кланялись в ноги и целовали руку.
Арсений поскакал тотчас в Сердоболь, послав нарочного в обитель. А гость, как бы отклонявший на этот раз все, в чем прожил жизнь, утром выехал вслед за ним.
Сумрачно было на Ладоге 10 августа 1819 года! Тучи, такой сильный ветер, такая волна, что государь в Сердоболе спросил даже Арсения, можно ли в такую погоду выезжать? На что эконом ответил: «И в худшую плавали, ваше величество, с помощью Божией». Последнее соображение, может быть, и определило все. Александр с экономом и камердинером тронулись.
В монастыре же следили за озером и с колокольни, и с передового островка, где скит св. Николая (с давних пор зажигался ночью в часовне фонарь – окна выходили во все стороны, и фонарь служил маяком). Но прошел день, вечер наступил, непогода не унималась, а судна все не было. Когда стало совсем темно, дозорные ушли, решив, что сегодня никого уже не будет. И даже, совершив братское вечернее правило, легли спать.
Не в укор им говорится дальнейшее – они не виноваты – но вышло как бы и по-евангельски: жених явился «во полунощи», а светильники их погасли. Его не встретили.
Более трех часов плыл в сумерках, а потом и в полной тьме император Александр, и если бы не огонек св. Николая, покровителя мореходов, на пустынном островке, то и неизвестно, как бы ввел в узкий пролив иеромонах Арсений своего высокого гостя.
В тишине и мраке причалили. И лишь когда подымались наверх, по гранитной лестнице, в монастыре узнали о приезде. Зазвонили колокола: монахи спешно стали собираться. Шли во тьме по монастырскому двору с ручными фонариками. А гость стоял на церковном крыльце. Подходили клиросные, в алтаре облачали старого Иннокентия, уже более полувека трудившегося в монастыре, а теперь полубольного (не мог бы, как прежде, носить на себе кирпичи).
Александр ждал покорно. Эти минуты, в бурную валаамскую ночь на паперти перед храмом, в который не мог он еще войти, были для него, вероятно, не совсем обычны.
Игумен Иннокентий, благочинный Дамаскин, эконом Арсений и другие считали его высочайшим начальством – монастырь, как и вся Россия, его «вотчина». Заехал он к ним, объезжая ее. Сперва властитель, а потом паломник – этого властелина встретили не совсем удачно и, наверно, были смущены. Но император держал себя не как начальство, не как ревизор. Он приехал, действительно, богомольцем. Что принес с собой в сердце, уже столько пережившем? Мы не знаем. Но всего меньше можно думать, что свет и мир – этого-то ему как раз и недоставало.
* * *
Восемнадцать лет был уже Александр императором, не просто человеком, а существом-символом, воплощавшим Россию, мощь ея. Не так легко было снять одежду, к нему приросшую. И по логике жизни, «паломник» должен был ждать, пока в соборе «приуготовляли», и облачившийся Иннокентий, с крестом, в ризе, при открытых царских вратах, встретил посреди храма императора. Люстры сияли, хор пел многолетие. Александр приложился к иконам, подошел под благословение к игумену и по очереди ко всем иеромонахам, каждому целуя руку. Себе же запретил кланяться земно.
В нижней церкви поклонился раке над мощами свв. Сергия и Германа, а потом пил чай у игумена, в той же небольшой, но тихой и чистой квартирке с цветами, сияющими полами, маленькими окнами в толстенных стенах, где и теперь живет игумен, только теперь длинный ряд портретов игуменских, начиная с Назария, украшает соседнюю с гостиной комнату заседаний монастырского совета.
За чаем Александр с игуменом сидели, «старшая братия» стояли. Государь говорил, что давно собирался на Валаам, да задерживали дела. Разумеется, расспрашивал обо всем, касавшемся монастыря. Разумеется, и никак не мог перестать быть императором, хотя, видимо, этого хотел.
После чая его отвели в царские покои, над Святыми вратами, во внешнем четырехугольнике монастыря. Вероятно, как теперь, и тогда под окнами были густолиственные деревья, мрачно они шумели, как и в ту ночь, страшную и роковую, что принесла ему раннюю корону.
Хорошо или плохо спал император в царских покоях пред пустынным суровым пейзажем Валаама, рядом с храмом апостолов Петра и Павла[146], мы не знаем. Но уже в два часа ночи он был у дверей собора – пономарь едва успел отворить их. Очевидно, так рано его не ждали, и встал он сам, его не будили, иначе все было бы уже приготовлено, пономарю незачем было бы спешить. Три-четыре часа отдыха после дальней дороги не так уж много… И не говорит ли это скорее за то, что и сам отдых не так уж был безмятежен?
Александр отстоял утреню в соборе, раннюю обедню в церкви Петра и Павла, потом осматривал монастырь и пешком отправился по пустынькам в лесах.
Современный валаамский паломник может восстановить путь императора. Теперь к «пустынной келии» покойного схимонаха Николая проведена прекрасная дорога, обсаженная пихтами и лиственницами. Тогда в таком виде ее не было. Государь шел пешком, подымаясь на изволок, слегка задохнулся.
– Всходя на гору, всегда чувствую одышку, – сказал благочинному Дамаскину, сопровождавшему его. – Еще при покойном императоре я расстроил себя, бегая по восемнадцати раз с верхнего этажа вниз по лестнице.
Но, несмотря на одышку, к Николаю дошел.
Этот схимонах Николай был прежде келейником знаменитого игумена Назария, духовного восстановителя Валаама[147]. Назарий ввел его на духовный путь, и он поселился отдельно, в тесной лесной келии, три аршина на три. «Жизнь его протекла в трудах и непрестанной молитве». Вот и все, что мы о нем знаем. Но сейчас видим крохотную келийку, подлинно избушку на курьих ножках, где обитал добрый дух в виде старичка Николая. Теперь над келийкой деревянный шатер, как бы футляр-изба, защита от непогоды и стремление дольше сохранить первоначальное.
Как ни убого обитал, однако, добрый дух, именно к нему-то и пришел Александр, несмотря на одышку и на то, что по дороге пришлось чуть не ползком пролезать под какую-то изгородь. Победитель Наполеона, умиротворитель Европы, въезжавший с триумфом в Париж, сгибался вдвое, чтобы войти в хижину смиренного Николая. (Дверь эта, действительно, скорее дыра, чем дверь.) И вот, все-таки вошел. Сидел на деревянной табуретке у того самого столика, что и сейчас стоит в келии, и при таком же бледном и унылом свете из оконца игрушечного разговаривал с Николаем о духовной и аскетической жизни. Мало это походило на Тильзит или на заседание Венского конгресса.
Отшельник предложил ему три репки со своего огорода, своими руками выращенные, – все, чем мог угостить. Александр взял одну из них. Она была нечищенная. Благочинный Дамаскин, стоявший рядом, спросил нож, чтобы очистить, Александр сказал:
– Не надо. Я солдат, и съем ее по-солдатски.
И зубами начал отдирать кожуру. На прощание же поцеловал Николаю руку и просил благословения и молитв.
* * *
Вернувшись в монастырь, государь снова пил чай в игуменских покоях. Его угощали фруктами из знаменитого, и сейчас существующего, монастырского сада, вполне похожего на Эдем. Александр ел крыжовник и малину (нынче замечательна красная смородина). А потом ему поднесли описание монастыря и – жизнь есть жизнь – кое о чем практическом попросили: о прибавке к больничному штату пятнадцати человек, о подворье в Петербурге. Он обещал все исполнить.
После полудня возили его в шлюпке по скитам, и Александр любовался красотою вод, лесов и гранитов валаамских. А вернувшись, отстоял малую вечерню и правило. Позже вышел и ко всенощной. Поместился у столба, во время поучения сидел на скамейке с братией, как полагается. Старый слепой монах Симон тронул рукой сидевшего с ним рядом государя и спросил тихонько: «Кто сидит со мной?» Александр ответил: «Путешественник».
А на другой день, на ранней обедне, начавшейся, как и теперь, в пять часов утра, стоял рядом с пустынножителем Никоном, глубоким стариком, опиравшимся на костыль и так выстаивавшим долгие службы. От усталости в этот раз Никон выпустил костыль, поскользнулся и упал – Александр поднял его и усадил на скамью.
По окончании же Литургии, на напутственном молебне препп. Сергию и Герману, когда вынесли Евангелие, государь стал на колени. Иннокентий положил ему на голову руку и, держа сверху Евангелие, читал те самые слова, за которыми и плыл сюда в бурную ночь Александр Благословенный, он же грешная и мятущаяся христианская душа, ищущая успокоения: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим…»[148].
* * *
«Путешественника» провожали по-царски, звонили во все колокола. Клиросные шли к пристани впереди, пели тропарь и догматик. За ними братия и государь с игуменом. Медленно отваливало судно, медленно шло проливом под гудение колоколов. А пение сопровождало путешественника и на Ладоге: по его просьбе, пели монахи хором «Спаси Господи», «Херувимскую» и другие песнопения.
Путешественник никогда более не увидел Валаама. Политик и дипломат, военачальник, кумир офицеров, чарователь дам, освободитель России, через грех взошедший на престол, начинал последние годы своей жизни. Известная легенда говорит, что он ушел в заволжские леса под именем старца Федора Кузьмича[149]. Верить легенде или нет, все пребывание Александра на Валааме есть как бы первый шаг, не всегда удававшийся, но первый опыт новой жизни, вне короны и скипетра. Если ушел, тогда все цельно и ясно. Если не ушел, не успел, как долго не мог собраться и на Валаам, то по складу души своей и поведению в последние годы мог уйти: страннику, каким видим мы его на Валааме, неудивительно продолжить странствие свое. И не напрасно в храме, над его головой, звучал голос престарелого Иннокентия, читавшего вечные слова вечной книги: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим».
Ночное странствие
…День выдался полный. Встали рано. Ездили вдаль на Святой остров, вечером были в Соборе у всенощной. Очень устали. Знаю это настроение и по Афону: перед серьезным временный упадок, нервность… Но уже все сговорено, налажено, отступать поздно. Забежал Михаил Алексеевич.
– Значит, едем? Не передумали? – Отлично.
О. Лука дал ему ключ от лодки и от двери гостиницы.
– Только не опаздывайте. Ну, да в четверть второго я вам постучу.
Мы легли в десять. Пружины матрасов кольчатых исполняли тихую музыку каждый раз, как переворачивался. Но мы успели заснуть и успели проснуться – не пришлось подымать нас. Ровно в два в темном вестибюле встретились со спутниками. Чрез минуту были уж под открытым небом.
– Не можете себе представить, – говорил нам еще раньше о. Лука, – какая прелесть у нас на Валааме весной. Выйдешь в третьем часу к утрене, светает, соловьи какие, и сколько всяких птиц заливается перед восходом солнца, это удивительно. Красота мира Божьего… А какие ароматы!
Сейчас конец лета. Ни белых ночей, ни соловьев нет. Просто настоящая ночь, тишина, звезды, сырая дорога вниз к пристани, в осенении огромных дерев. Только слева чуть бледнеет край неба, над лесами Валаама. Никого! К трем часам станут собираться в Собор, но сейчас время еще сна, даже для монахов.
Мы спускаемся, разговаривая негромко – точно предприятие наше тайное… – или вообще так тих этот последний час ночи северной, что неудобно его тревожить?
Трава у пристани вся мокрая. Михаил Алексеевич со Светиком углубляются в некий монастырский док, где хранится мелкая флотилия: лодки, мотор малый, большой. Оттуда они спускают на воду нашу ладью, я подхватываю ее у пристани. Жены слегка подрагивают в холодке ночном, на пристани, седой от росы. Тихо, но оживленно разговаривают.
Мы садимся, отваливаем.
За рулем Светик в своей гимназической кепке, на веслах мы с Михаилом Алексеевичем. Могу ли я вспомнить, когда греб в последний раз, вот так на обыкновенной русской лодке, по русскому озеру? Надо отсчитать столько лет назад, что жутко становится. Но крепко в нас сидит давнее, и сейчас, на веслах этих, чувствуя себя обычно, так и полагается, и все это я знаю, все во мне.
Пристань, взгорье в зелени, громада Собора над нею отодвинулись от нас, отделились пестро-серебристою путаницей мелких стеклянных дуг и змей, всколебленных лодкой. А впереди полный покой, нежный отблеск звезды утренней в серебре воды, кисейка тумана. Да, как сказал о. Лука: «Красота мира Божьего…»
У часовни Богоматери Владимирской[150] мост перекинут через горло озера, под этим мостом надо проходить. Помню его еще с поездки на моторе с о. игуменом, тот самый мост, пред которым трубил в свой рог о. Рафаил. Мы не трубим – и не во что, и незачем: кто попадется нам навстречу в этот тихий час! Мы разгоняем лодку, складываем весла. Оборачиваюсь. Темный свод моста зеркально опрокинут в воду и замкнулся темным кругом в ней. В этот круг, как лошадь в цирке, прорывая его, влетает наша ладья. Несколько мгновений в темноте, а потом вновь озеро, лужайки справа, камыши у берегов и лес, лес. Вот так тишина! Лишь шуршит лодка, вода мягко булькает, да весла наши постукивают в уключинах, на концах своих плещут. Леса так же отобразились в воде, как темный свод: те же леса, только вниз макушками.
Мы гребем спокойно, ровно. Все молчат. Проходим мимо Смоленского скита. Лодочка схимонаха Ефрема покачивается в осоке. И сейчас так же, как мы, с другого конца Валаамского острова, гребет на такой же скорлупке схиигумен Феодор, старец, которого мы посещали: держит путь, как и мы, на Коневский скит, к о. Николаю. Там будет служить литургию, в маленькой скитской церкви. Там будет нас исповедывать и причащать – для того и плывем ни свет, ни заря.
…Леса, леса. То совсем близко подходя к воде, то выстраиваясь на скалистых, красноватых обрывах, – а все сосны те же, заповедные, валаамские. И так же глядятся в озеро. Звезды бледнее. Пролетели две утки – резвым, острым полетом. У маленькой пристани мы причалили.
* * *
В четырнадцатом веке некий монах Арсений пробрался с иконой Богоматери с Афона в Новгород и оттуда на Валаам… (Подумать только, что это было за путешествие! Но вот являются же люди, которым все нипочем). Арсений пожил на Валааме и двинулся далее. Сел в лодку, взял икону свою и поплыл по Ладоге. В нескольких десятках верст от Валаама пристал к дикому островку, там и поселился. Все тогда вокруг было еще языческое. И на острове совершались жертвоприношения – на огромном камне закалывали коней. Арсений со своею иконою все это одолел. Возник там монастырь с братией, прекратились жертвоприношения. И название остров получил от того монастыря – Коневец. Арсений же умер, – перешел в историю, как святой Арсений Коневский. Монастырь, им основанный, существует и поныне.
В честь иконы, доведшей Арсения с Афона до Коневца, «Богоматери Коневския», и сооружен скит на Валааме[151].
…Михаил Алексеевич запирает лодку на ключ, мы входим в лес. Уже около трех, по-прежнему полутемно, а здесь, средь черных елей, вовсе тьма. По земле все засыпано сухою хвоей, меж стволов с корявыми корнями тропка – совершеннейшая сказка. Не хватает папоротника да избушки. Но у озерца, внутреннего, узкого, становится немножко посветлей. Мы идем берегом. Березы кое-где белеют. Листики на воде недвижны, а вода темно-стальная, из нее опять лес смотрит, перевернутый.
Идти недалеко, до моста на ту сторону. Вступаем на него. Справа опять озерцо, пошире, попросторней. Перед нами, на подъеме, в сереющем сумраке, едва тронутом прозеленью, небольшая лесная церковь. Направо домик о. Николая. Это и есть Коневский скит.
О. Феодор, высокий, крепкий старик за семьдесят, уже здесь, раньше нас доплыл со своего островка. Худенький, тихий о. Николай, небыстрый, легкий в движениях, добрый дух местности этой, зажигает в церкви у икон свечи, налаживает кадило… ему тоже за семьдесят.
Начинается исповедь. О. Николай выходит, в церкви один о. Феодор. А мы – кто на скамеечке пред озером, кто на церковном крыльце, кто взад-вперед ходит по дорожке, дожидаясь очереди. По одному подходим к аналою о. Феодора. Забудем ли когда это утро, сумрак, росу, стекло озера с отраженьем Юпитера, пустоту слабо освещенной церкви, Евангелие, епитрахиль о. Феодора, душную теплоту под нею и сверху мощный, как благословенный гром, разрешительный возглас – электрически сотрясающий.
Потом началась литургия. Много веков назад, в церковке еще попроще, в ризах много скуднейших, но в чем-то и сходственно, служили литургию на Маковице, близ Радонежа. К той, как и к этой, могли бы, кроме людей, выходить из лесов смиренные звери, ждать у церкви.
Служения этого тоже не забудешь – маленькая, с голубоватым иконостасом в белой с позолотой резьбе церковь, в полумраке, с несколькими свечами у образов, о. Феодор с доброю силой новозаветного Саваофа во всем существе. Тонкий и тихий, старенький ангел Николай на клиросе, небольшим, но верным голосом исполняющий песнопения…
К причастию в церкви стало светлее. Когда литургия окончилась, мы прикладывались к иконам – вот она, с левой стороны, Богоматерь Коневская с Младенцем: на руке Его два голубка, победители диких конеубийц. (Лишь на этой иконе Спаситель и изображен с голубками.)
Выходим из церкви. Уж е рассвело. Зверей нет, но птицы поют свое, все полно утреннего торжества, славы, радости. Вот-вот встанет солнце. Леса в дымке, озеро курится у берегов нежным, розоватым туманом. Роса, роса… Воздух – кристалл. Юпитера уже не видно.
О. Николай подошел, поздравил с принятием св. Тайн и сказал негромко, улыбаясь:
– А теперь ко мне, милости прошу, чайку откушать…
Михаил Алексеевич стал было сопротивляться – мы стесним, да хлопоты…
Бесполезно.
* * *
Жилье о. Николая совсем недалеко от церкви – обыкновенная русская изба на берегу озера. Сени, две комнатки, очень светлые, большая печь. Хотя он схимник, но никакого гроба. И вообще, ничего подчеркнутого, нарочитого. (Не очень вяжется с ним и мрачное схимническое облачение – черная мантия, куколь. Белым расшитые кости, череп, тексты св. Писания – я не видал его в этой одежде.)
Мы сели у стола. В углу иконы, в окне озеро, с каждой минутой все светлеющее. О. Николай, в сереньком своем подряснике, возится с самоваром. О. Феодор грузно сел за стол.
– На это-то на озеро, миленькие мои, в прежние времена прилетали птицы весною, пара гагар, и гнездо вили прямо на камне, недалеко от моста. Выведут двоих птенцов, а осенью вчетвером и улетят – Бог знает куда. Но на следующий год опять пара, и на том же гнезде сидят… Тварь это место любит, и не боится.
О. Николай внес довольно большой самовар.
– Вот, о. Николай уж, наверно, с ними был знаком.
О. Николай поставил самовар клубящийся на стол, большими, кроткими своими глазами посмотрел на о. Феодора.
– Гагарочек-то? Не-е… не видал. Это давно было. Раньше меня.
И принялся разливать чай. Старческими, заскорузлыми руками подавал каждому стакан, слегка кланяясь и улыбаясь. О. Феодор был нынче несколько грустен. Видимо, ему нездоровилось, но все-таки, по деятельной, жизненной натуре, разговор вел за чаем он, попивая с блюдечка, дуя, отгрызая кусочки сахара.
– Сегодня-то хорошо, миленькие, – говорил своей скороговоркой, – лето. Хоть и рано поднялся, а плыть было способно, все вижу. Ну, а прошлой зимой так чуть не пропал… Знаете, лед у меня в проливчике взломало, а мне под вечер надо в монастырь. Вышел на пролив, сначала будто видно, а то и вовсе стемнело, или уж это глаза плохо видят, да и заметать начало. Дорожка знакомая, метелица теплая, чуть что не мокрая, иду, иду… ничевошеньки не вижу. Все заносит, заметает, глядь, тропки и вовсе нет… тьма вокруг, ветер, снег. Знаю, тут где-то полынья должна быть, и все-таки тычусь, то вправо, то влево… что же сказать: прямо сбился! Не могу уж и сообразить, где мой островок. И раз даже ногой так щупаю – вот он, самый край льда, чуть в воду не угодил. Тут уж не токмо к монастырю, домой бы добраться, где и келья, не знаю… Стал Николаю Угоднику молитву читать… а все-таки страшно мне было тогда, прямо скажу… ну, так-то вот в темную ночь, да одному в оттепель утонуть.
Он вздохнул. О. Николай сидел на краешке лавки, как будто стесняясь.
Михаил Алексеич отодвинулся совсем под иконы.
– Да вы как следует, о. Николай. А то уж вы такой смиренный… – сказала жена Михаила Алексеевича.
О. Николай посмотрел на нее.
– Я-то смиренный? Я даже очень гордый. Все улыбнулись.
О. Феодор продолжал:
– И насилу-насилу домой доскребся. Бога возблагодарил. Да… на другой день посмотрел, ведь вот по самому краю полыньи этой шел, прямо на вершочек от смерти. Что же поделать, смерть уж есть смерть… так, видно, человек устроен. И лет сколько, и знаешь уж, что скоро, а все же таки…
– Скоро или не скоро, о том и ангелы небесные не знают, – сказал тихо о. Николай.
Он вообще мало говорил. Смотрел, кто допил чай, тихо и ласково предлагал еще. Потом сидел молча, на фоне окна, фоне озера, так к нему подходившего, все светлевшего, окаймленного лесами, по верхушкам которых ярко блистало теперь солнце.
Когда зашел разговор о любви и трудности любить людей, о. Николай вставил коротко:
– Молиться-то легко, а любить всего труднее.
И подошел к Светику, погладил по голове, предложил третий стакан с такою приветливостью, что трудно было поверить, чтобы этому сквозному старичку трудно было любить, как и невозможно представить себе, чтобы он был гордец.
В разговоре об отношении к врагам вставил тоже недлинную фразу:
– За них нельзя, как за врагов, молиться. Горячих углей на голову насыплешь. Надо, как за друзей.
* * *
Было часов около шести, когда мы распрощались. О. Николай все кивал нам и улыбался. С о. Феодором мы перешли вместе мостик, он взял налево, мимо пустыньки о. Дамаскина, мы вправо, в полном золоте утра, к своей прикованной у пристани ладье. Вот она, бессонная ночь! Никакой усталости – радость.
Снова мы с Михаилом Алексеичем на веслах. Светик за рулем, жены на скамеечке за нами. Озеро все стеклянное, по-утреннему курится.
– Будто сейчас закипит, – сказал Светик.
Плавный, легкий ход, шуршанье, постукиванье уключин. В монастыре зазвонили к Достойной[152].
Никольский скит
– Дойдете до пролива, там на берегу било висит. Постучите в него, с островка о. Милий выедет, на лодке. А иначе к нему и не пробраться.
С утра накрапывал дождичек, тихий, не предвещавший непогоды. К завтраку перестал. Было тепло, на небе сизые облака. В третьем часу, лесом, мимо мокрых папоротников, лопухов, мимо жилья финских солдат спустились мы к озеру, дошли до каменистого берега. Вот оно и «било» – небольшая железная доска, подвешенная на столбе. Сзади нас главный остров Валаамский, перед глазами пролив и островок с Никольским скитом – небольшой, плавно-возвышенный, в соснах, из которых подымается белый с золотою главой храм св. Николая Мирликийского.
Звук била резок, пронзителен. «Бейте сильнее, – говорили в монастыре. – И ждите. Если о. Милий куда и отлучился, все-таки услышит».
Мы несколько раз ударили, не очень сильно. Приготовившись ждать, сели на берегу. Но ждать почти и не пришлось. На островке что-то зашевелилось, небольшой серый червячок сполз к воде, потом лодка двинулась в направлении к нам. По мере того, как подходила, яснее стала в ней фигура в скуфейке, сером подряснике.
О. Милий оказался довольно худеньким и несильным монахом, полуседым, с мелкими чертами простонародного лица, маленькими глазками, тоже серыми, глядевшими спокойно, не без равнодушия. Мы поздоровались с ним, и он с нами – с таким видом, что вот он путников таких каждый день возит, и все одинаковые, плохого не сделают, а просто мелькнут на минутку, и конец – вновь куда-то исчезнут.
Он греб спокойно, ровно, на озере чувствовал себя, как дома. Мы подплывали. Кроме церкви, ясно виден был теперь большой белый дом, двухэтажный.
– Тут братии раньше порядочно жило, – сказал о. Милий, указывая на него. – А теперь я один.
– Совсем один? На всем острове? – спросила моя жена. – Вам не страшно?
Он посмотрел на нее маленькими своими глазками, как бы с удивлением, точно на ребенка.
– А, конечно, один. Чего страшно? Ничего не страшно. Вечером зажгу маяк, да помолюсь, да лягу. Вот тебе и страшно.
Мы сошли на берег. Медленно, подымаясь по дорожке, направлялись к церкви. О. Милий, в лодке казавшийся немного пасмурным, оживился.
– Эта у меня церква хорошая, – говорил, отпирая ключом дверь. – Она даже прямо как следоват строена. Купец денег дал, Солодовников. Хорошо. Чисто, тихо. Вон, иконы-то какие! И на стенах писали, трудились. Тут тебе, в кумполе Нерукотворный Спас, там Андрей Первозванный, он тут у нас был ведь на острове… все в порядке. Разумеется дело, Царица Небесная…
О. Милий в храме чувствовал себя совсем дома. Для нас храм этот чужой и пуст, а для него наполнен святыми добрыми существами, среди которых протекает одинокая его жизнь. Он относится к ним благоговейно, но просто, как к знакомцам высшего мира. Ап. Андрей первый водрузил крест на скалах Валаама – значит, он для о. Милия тоже родной, свой, валаамский. А что это могло произойти чуть не две тысячи лет назад, для него значения не имеет: точно вчера. Но главный покровитель, конечно, св. Николай.
О. Милий подвел нас к образу Святителя и потом вдруг отворил его. За иконою оказалась ниша, в ней резное, деревянное и, как бы по-католически раскрашенное изображение св. Николая: он в митре, в одной руке держит меч, в другой – церковь.
– Вон какой! – говорил о. Милий. – Меч-то в руке, гляди… Потому защитник Церкви. Там, на Соборе, Арий очень бунтовался. Ну, он ему прямо даже по уху дал. Это, мол, ересь. Видишь, с мечом-то с небольшим, но уж как праведник, так за Святую Церковь горой[153]… Да, он уж такой был.
О. Милий покачал головой и почти с восхищением, но и очень серьезно смотрел на Святителя. Вполне можно было поверить, что он его знал лично.
– А откуда же у вас тут эта статуя, отец Милий?
– Не могу знать. Давнее дело. Это, более ста лет. Говорят, волнами ладожскими прибило, монахи нашли, еще во-о когда, при царе Александре Первом.
Он закрыл опять иконою статую в нише, стал показывать изображения на стенах чудес Святителя.
– Патриарх был Афанасий… понятное дело, хоть и патриарх, а что ж тут поделаешь, тоже не без греха. Скуповат, значит. Николай-то, Угодник-то, его предупреждает: ты, мол, не скупись, нехорошо! А тот без внимания. И молебнов не служит, одно слово-нерадение. Ладно, вот поехал… ну, там зачем-то по службе, что ли, по морю, глядь, буря. Тонуть стал. Ах ты, Господи! – тут и вспомнил: это мне за грехи. Сейчас и взялся Николаю Угоднику молиться. Совсем уж утопает, а ничего, молится. Ну, Угодник видит, что ж, ведь христианская душа, да и в прегрешеньях кается… и там все же таки патриарх, как будто уж оно тово… он милостивый ведь о-очень был! Какой милостивый! Ну, видишь, и показано, здесь, как он его от утопления спасает. Очень даже был добрый. А другой раз вышло такое дело, – он показал на соседнюю фреску, – ехали муж с женой, в Киеве, по Днепру в лодке, и младенчик у них на руках. Да что-то разговорились, зазевались, младенчик-то и упади в воду… И так ловко упал, его сейчас завертело, понесло, туды-сюды, ищут – где там! утоп. Родители расстроились страсть как, чуть не плачут. Ну и подумать, собственное дите в пучину бездонную уронили. И ночь-то, можно сказать, одним глазом спали. Где уж тут спать?
О. Милий очень выразительно на нас взглянул оживившимися, сочувственными глазками: переживал горе родителей.
– Ну, и что же вы думаете, утром пришел в церкву пономарь, убирает, к служению готовится – видит, под иконою Угодника младенчик… Этот самый и оказался, его Николай-то Чудотворец и принес, над горем над родительским смилостивился.
О. Милий глядел почти победоносно, такой весь до последнего сустава своего был восхищен добротою и милосердием Святителя.
– А вот тут, видишь, – он указал на другую фреску, – нарисовано-то мало, а чудо было совсем порядочное. Значит, жил это один богатейший человек, и у него три дочери-красавицы прямо на весь город. Девушки нежные, как обыкновенно богатые бывают. Ну, и вдруг отец-то и разорился… я уж там не знаю почему, но только в нищету такую впал, просто не дай Бог. Ну, прямо, есть нечего…
На лице о. Милия изобразилось полное беспокойство за судьбу знатного человека из Патары, потерпевшего крах.
– Думает-думает, что тут поделаешь: приходится дочерями торговать… и совсем уж было собрался отдавать их в блудилише… Ну, а тут Николай-то, Чудотворец-то, сейчас и явился. Да как? Тайно! Видишь, в окошко дому ихнего кошелек с золотом бросает? Господь, мол, денежки послал. Отец это обрадовался, и не то что на позор, а девицу честным образом замуж выдал. Видит Николай Чудотворец, что отец себя прилично держит, и еще помог. Да что вы думаете? – всех троих дочерей пристроил!
* * *
Когда мы выходили из церкви, о. Милий был уже совсем в хорошем настроении. Мы тоже. Он действительно на славу показал свой храм, и простецким своим рассказом как бы стер столетия и легенду: мы, действительно, почти оказались знакомы и с патриархом Афанасием, и с рассеянными родителями, и с разорившимся гражданином города Патары.
Мы уселись на гранитном парапете церкви – отсюда чудесный вид на пролив, леса за ним и дальнюю Ладогу. Солнце слегка выступило, бледно, и робко: посребрилась вода, справа из-за оконечности острова выплыл большой мотор с паломниками. Бело-голубой финский флаг веял на корме. Нам махали платочками.
О. Милий должен был идти встречать их – ему не особенно хотелось… все-таки пошел, мы остались одни. Спустились тропинкою пониже, почти к самому озеру, и сидели здесь в тишине, пригреваемые скупым светом, но живым и чистым. Даже хорошо так посидеть одним, на островке в природе…
А потом мимо храма Святителя, вновь пошли к пристани. Мотора уже не было. О. Милий шел нам навстречу. Он опять не совсем был доволен.
– Туристы! Все не по-русскому говорят. Им чего тут делать? Подъехали, посмотрели, дескать, остров как остров – и дале… некогда, вишь.
Направо, недалеко от берега, гранитный крест, какая-то избушка. Совсем над водой, из голого камня наклонно растет столетняя сосна – совершенный зонтик.
– Прежде таможня монастырская была, – сказал о. Милий. – Как из Сердоболя пароход с гостями, так сюда и заходил. У кого табачок там, папиросы, то пожалуйте… в монастырь ввозить не дозволялось. А на обратном пути отдавали. Если уж только кто скрыл, и нашли у него, тот табак прямо в воду. Вот как было…
О. Милий засмеялся. Монастырь, мол, так монастырь. Нечего с монахами шутить.
Он показал нам большой двухэтажный дом – впору помещичьему– теперь один он живет тут внизу, в маленькой комнатушке. В верхнем этаже церковка, но все это безмолвное, запущенное.
Около дома столик, скамейка.
– Подь-ка сюда, подь, – сказал о. Милий моей жене. – Посиди. Сейчас ягодок принесу.
И действительно, принес. Это была валаамская клубника, некрупная, ничего особенного с виду, но такой сладости и благоухания, что ей лежать бы не на убогой тарелочке о. Милия, а на роскошном блюде. Впрочем, может быть, плод святой земли и хорош именно в святой бедности своей…
Жена все расспрашивала о. Милия о «страхованиях». Но он вряд ли мистик, и особым страхованиям не подлежит. Молится Богу и занимается домашним хозяйством – огородик, яблони. «Полумирончик», такой сорт есть у него, но, к огорчению, когда поспевает, то по ночам на лодке приедут карелы и отрясут. Бесами он их не считает, но что же с ними поделать одинокому старику на островке? Если ночью услышит что, прочтет молитву Николаю Угоднику, перевернется на другой бок, да и заснет.
Мы простились с ним очень дружески, и на своей лодке он отвез нас обратно. Как и столько других, мы мелькнули в его однообразной жизни мгновением, а там опять полумирончики, чудеса Святителя, клубника, черные дикие утки на озере. Но для нас этот простой старичок как-то связан со своим скитом, с удивительным островком, тишиной и поэзией его – остался в памяти: верный слуга Святителя. Не будет дерзостью подумать, что такой Угоднику угоден.
Прощание с Валаамом
…Ездили на Святой остров. Это в нескольких верстах от монастыря, на Ладоге. Еще в Келломяках, у друзей, один знакомый, бывавший на Валааме, сказал, что Святой остров прекрасен и напоминает беклиновский Остров мертвых[154]. Когда в безоблачный день, по сине-зеленому стеклу Ладоги, наш мотор подходил к нему, вспомнилось это замечание. Кипарисов здесь, разумеется, нет. Но так отвесны, дики скалы, обрывающиеся прямо в воду… Над ними сосны. Одиноко-поэтически воздымается весь островок, есть, правда, в нем что-то таинственное.
От пристани подымаешься довольно круто и выходишь на тропинку – она опоясывает остров и поражает своей гладкостью, тщательностью отделки. Это работа безвестного инока, давних времен – камешек к камешку, точно мозаика. Дорожка идет то над отвесными скалами, то склон более покатый. Вокруг сосны, аромат. В удивительный день нашего посещения сквозь эти сосны Ладога голубела зеркально, почти нежно, вдали мягкие синеющие холмы, настолько светел пейзаж, что не верилось, что мы так далеко на Севере.
Дорожка приводит к пещере – по преданию, св. Александр Свирский в XV веке провел на острове несколько лет и молился в ней[155].
А еще выше, рядом со скитскою церковью, показывают и его могилу, собственноручно выкопанную.
«Святой остров»… – да, уж тут, кроме тишины, красоты, легкого гула сосен, да теней героических, ничего не найдешь.
Сейчас здесь живет при церкви всего один монах, и на островке еще семья карелов, занимающихся скромным хозяйством. Но вот, чуть ли не ежедневно привозит и увозит мотор сюда паломников из монастыря, и все что-то уносят: каплю света? Благословения? Не знаю, как сказать. Но для меня очевидно: как же были наполнены и значительны жизни уединенные, протекавшие здесь, раз и сейчас они волнуют.
Жена тоже была восхищена. Она взяла с собой в платочке, недалеко от пещеры св. Александра, собранную щепотку земли: святоостровской. И несколько сосновых шишек.
* * *
На другой день присутствовали мы на пострижении в схиму бывшего игумена Валаамского монастыря о. Павлина. (Монахам часто дают особенные имена, не встречающиеся в миру: они тоже надевают нечто на человека, отделяют его тончайшей и прозрачной, но все-таки завесой – Иувиан, Эолий, Милий…)
Собор был полон. Со всех островков, скитов, изо всех углов монастыря собрались старички-схимники в остроконечных куколях, черных мантиях, все это расшито белыми крестами, выведены тексты Св. Писания, изображены кости и черепа.
Два схимника под руки влекли о. Павлина через всю церковь. Он в нижнем белье, сверху накинута мантия, волосы распущены – в сущности, он должен ползти на коленях: знак последнего смирения и покаяния. Игумен, о. Харитон, к которому его подводят, читает ему ряд вопросов. Я не помню их в точности, но дело идет об отречении от мира, бедности, и т. п. За постригаемого отвечал его как бы крестный отец, тоже схимник о. Ефрем, церковно-славянской, прекрасной фразой:
– Ей, Богу содействующу! (Да, с Божией помощью.)
Весь чин древен, полон поэзии. Игумен трижды отдавал о. Павлину ножницы, которыми надо постригать, подчеркивая, что тот может их не вернуть, если раздумал постригаться. И лишь после третьего возвращения ножниц он отделил ими прядь волос с головы о. Павлина. А затем надел ему «шлем победы», это и будет схимнический куколь, знак возведения в высшую духовную степень: схиму.
Игумен сказал новому схимнику небольшое, но замечательное слово – быть может, предназначалось оно и для нас, слушавших. Вот место, особенно запомнившееся (передаю по памяти): «Может показаться странным, что старец, проживший уже долгую монашескую жизнь, всеми уважаемый, управлявший монастырем, в облике последнего кающегося грешника проходит через весь храм. Но это только кажется так. Ибо путь духовной жизни в том и состоит, что чем выше человек поднялся в развитии своем внутреннем, тем он кажется себе греховней и ничтожней, – тем меньше сам в своих глазах рядом с миром Царствия Божия, открывающегося ему. Он лучше нас видит тот мир, в его свете легче различает свои слабости и несовершенства. Так в темной комнате не видно пыли, в освещенной отраженным светом многое уже видно, а если в нее попадает сноп солнечных лучей, то и сам воздух оказывается полон пылинок».
О. Харитон говорил тихо, покойно, даже суховато, без всяких ораторских приемов… – но и слово его, и вся вообще служба воспринимались с волнением. Особенно взволнованными показались мне сами монахи. У многих глаза были полны слез. Я никак не думал, что увижу на «суровом» Валааме такое «сопереживание».
Иногда приходится слышать, что в постриге есть нечто страшное: человек, мол, заживо ложится в гроб. Так думают люди, далекие от Церкви и религии, – по-своему даже «жалеют» принимающих монашество (или принимающих высшую его форму). Они были бы очень удивлены, если б узнали, что многие монахи считают счастливейшим временем своей жизни дни, проведенные в одиночестве и молитве после пострига. (Может быть, это минуты их наибольшего приближения к Богу: как бы обручения Ему.)
А те слезы, которые мы видели на многих лицах при пострижении о. Павлина в схиму, были слезами умиления, а не горести. Это видно было и без всяких слов, но потом мне монахи подтвердили: «вспоминались и в своей жизни эти торжественные, святые минуты».
Мы с женой не плакали, но тоже остался в душе след.
* * *
В последний перед отъездом день, под вечер, мы ушли в валаамские леса, вдаль – одно из любимейших моих занятий здесь.
– Вы часовню Константина и Елены знаете?[156] – говорил нам гостиник, иеромонах о. Лука. – Ну, так, по этой дороге, мимо часовни все прямо, прямо, а там в лесу будет обгорелое дерево, у того дерева возьмите направо, дорожкой… и до самого озерка. Вблизи воды тропочка, чуть намята, уж поищите, потрудитесь – на скалы, и там, конечно, водружен огромнейший крест. Место дикое, но весьма привлекательное. Красота!
Мы так и отправились, по совету о. Луки. Часовню Константина и Елены, к которой с дороги ведет аллея елок, хорошо знали. Знали и большую поляну вокруг – там посевы, монастырский покос. Но вот дальше, войдя в лес, очутились уже в стране неведомой. Неведомая, да родная! Ведь это все мое, в моей крови, я вырос в таких именно лесах, с детства все знаю: горький аромат хвои, песчаные колеи, комариков, вьющихся за тобой, слегка отстающих, пока идешь, и неизменно свое напевающих, и белку, метнувшую рыжим хвостом, проскакавшего зайца. В общем, ведь все это радость, Божья благодать. И как будто бы в знак того, что именно Божья, версты через две пути по совсем безмолвному лесу при дороге часовенка, маленькая и скромная, взойдешь на крыльцо, дверь отворишь: тишина!
Пахнет сухим, чистым деревом, да иконным лаком, чуть-чуть ладаном. Перекрестишься, к иконам приложишься, и как-то чувствуешь, действительно: это добрые силы, святые покровители мест этих, да и тебя самого. Какой бы там ни был, а сюда с благоговением забрел. Посидишь, тропарь прочтешь, да Господи благослови и дальше. С таким, наверно, чувством бабы моего детства шли к Троице-Сергию, с котомками за плечами, длинными палками, в лаптях… – все это кажется теперь пережитком, из другого века, и лаптей, пожалуй, маловато осталось, но если и смиренности, благоговейности тоже нет, то тем хуже.
Так что, наподобие баб великорусских, мы и двинулись дальше, со взгорка в ложбинку, меж елей, сосен, берез.
Обгорелое дерево сразу заметили и свернули направо. Тут пошли путаные места, кое-где вырубки, саженки дров, цветы розовые иван-чая, одинокие сосны над кустарником – только за тетеревами охотиться. Долго ли, мало ли, вышли и к «озерку» – усердно искали здесь тропинку. И недаром слонялся я в детстве с ружьем по калужским, жиздринским лесам – крохотного следка и тут не прозевал. Мы полезли наверх, по мхам, хвое, по выступам гранита. Лезли не так долго, но трудно, иной раз едва и вскарабкивались. Награда же оказалась хорошая: добрались до темени скал, круто вниз обрывавшихся прямо в озерцо. И над всем эти господствовал Крест, огромный, потемневшего дерева, обращенный на Ладогу[157].
Мы сели у его подножия. Под отвесным обрывом – сказочное озерцо. И даже сказочная избушка есть на его берегу, заброшенная, с отворенною дверью. Пустынно тут. Вот уж, действительно, забытый угол…
Позже мы спустились со скалы, обошли все озерцо, выбрались к берегу Ладоги – она уже в двух шагах отсюда. И все то же ощущение пустыни, тишины. Ни белочки, ни птички, все заснуло. Немного даже жутко.
…Когда шли назад, уже смеркалось. У обгорелого дерева началась вновь настоящая дорога. Вдали густо, полно ударил валаамский колокол. Пора домой!
И в обратном направлении потянулись те же леса, поляна, монастырские покосы и хлеба.
– Ну, вот, – сказал я жене, – это наш прощальный выход. Доведется ли еще когда увидеть Валаам?
Жена вздохнула.
– Да, если бы еще увидеть…
По небу громоздились бело-синие облака, крупными, тяжелыми клубами. В некоторых частях они были почти грозны – не сверкнет ли оттуда молния? В других белые их пелены свивались таинственно. Отсвет их на крестцах овса, на еловом лесу был не без мрачного величия. Все это, конечно, необычайно русское. И как-то связано с нами и с нашими судьбами. Увидишь ли еще все это на родной земле, или в последний раз, перед последним путешествием, дано взглянуть на облик Родины со стороны, из уголка чужого…
Этого мы не знаем. Но за все должны быть благодарны.
О серии «Классика русской духовной прозы»
По словам А. П. Чехова, «человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек». Как тут не вспомнить и крылатую фразу Тертуллиана о том, что «душа человека по природе своей христианка»! Русская литература с ее вниманием к человеческой душе, к «проклятым вопросам» бытия пронизана поиском веры, стремлением «дойти до самой сути». Именно такие произведения – рассказывающие о силе духа, поднимающие вопросы об истинном смысле жизни, о Боге и человеке – представлены в серии «Классика русской духовной прозы».
Эта серия объединила книги, которые при других обстоятельствах едва ли могли бы оказаться на одной полке. Наряду с хрестоматийными «Повестями Белкина» и «Тарасом Бульбой» вы встретите здесь и менее популярные произведения русских классиков, а также сможете познакомиться с творчеством авторов не так хорошо известных современному читателю, например с художественной прозой протоиерея Валентина Свенцицкого. Некоторые произведения, такие как повесть «Архиерей» иеромонаха Тихона (Барсукова), для многих станут открытием. В серию также вошла яркая проза современных писателей, продолжающих традиции классической литературы.
Мы рекомендуем
1. Александр Сергеевич Пушкин. Повести
2. Николай Васильевич Гоголь. Повести
3. Федор Михайлович Достоевский. Повести и рассказы
4. Антон Павлович Чехов. Повести и рассказы
5. Иван Алексеевич Бунин. Рассказы
6. Л. Пантелеев. Повести и рассказы
7. Константин Николаевич Леонтьев. Дитя души (повесть). Мемуары
8. Валентин Павлович Свенцицкий. Избранное
9. Василий Акимович Никифоров-Волгин. Дорожный посох (повесть). Рассказы
10. Иван Сергеевич Шмелев. Няня из Москвы
11. Алексей Константинович Толстой. Князь Серебряный
12. Священник Николай Агафонов. Повести и рассказы
13. Борис Николаевич Ширяев. Неугасимая лампада
14. Алексей Николаевич Варламов. Повести и рассказы
15. Александр Иванович Куприн. Повести и рассказы
16. Владимир Галактионович Короленко. Повести и рассказы
17. Иван Сергеевич Шмелев. Повести и рассказы
18. Иеромонах Тихон (Барсуков). Архиерей
19. Николай Семенович Лесков. Повести и рассказы
Следите за новинками серии!
Примечания
1
О благословенное уединение! О одинокое блаженство! (ит.).
(обратно)2
Но тот, другой, молчаливый пруд с тех пор меня призывает (ит.).
(обратно)3
Епифаний – монах Троице-Сергиевой лавры. В молодости путешествовал нa Восток, был в Иерусалиме. Просвещенный человек, писатель, автор древнейшего жития Сергия, написанного по личным впечатлениям, рассказам Преподобного и близких к нему. Написано оно не позже 25–30 лет по смерти Сергия.
(обратно)4
Древность знала монастыри для монахов и монахинь, общие. Соборное определение 1504 г. запретило это.
(обратно)5
Допускалось, чтобы священниками приходских церквей служили иеромонахи; если эти иеромонахи были и духовниками окрестного населения, то они назывались игуменами, игуменами-старцами; эти игумены-старцы могли постригать в монахи желающих монашествовать (не в монастырях, a при мирских церквах, в мирских домах, вообще в миру, что тогда допускалось). Таким образом, «игумен-старец Митрофан» не был игуменом монастыря, a, по-видимому, именно сельским иеромонахом-духовником, имевшим право пострижения.
(обратно)6
Образ литовцев для русского народа был «бесовским» и устрашающим. Не раз литовцы наступали нa Москву, разоряли и жестоко грабили целую область. Ольгерд водил их к самой Москве (в 1368 г. и в 1370 г.). Дмитрий Донской, победитель Мамая, должен был отсиживаться зa московскими стенами перед литовским князем.
(обратно)7
«Волоковые» оконца – окно или проем с волоком, задвижным изнутри ставнем.
(обратно)8
«Харатья», хартия (лат. chart a), стар. – папирус, пергамент – все, нa чем писали встарь, и сама рукопись.
(обратно)9
Посмаги – «хлебы» (устар.).
(обратно)10
Монашеские уставы: первый, древнейший, Пахомия Великого – IV век. До Пахомия монастырей вообще не существовало. Он первый создал монастыри в Европе и оставил им правило жизни. Затем идет Василий Великий, еп. Кесарийский, автор дидактического труда о монашестве, так сказать, «теоретик» монашества и аскетизма. Более поздние уставы: Иерусалимской обители Саввы Освященного – VI век, Константинопольский Федора Студита, или Студийский, – IX век. Студийский монастырь славился святостью подвижников и ревностью их к православию во время иконоборства. Студийский устав был заимствован и русскими монастырями – его ввел первый преп. Феодосий Печерский у себя в Лавре, затем преп. Сергий в своем монастыре. Известен еще Афонский устав, или Святые Горы, – X век.
(обратно)11
Церковь Воинствующая (лат.).
(обратно)12
В древности у архиереев, кроме монашеского параманда, который носили по рубашке, был еще служебный параманд, который при богослужении надевался ими нa стихарь или подризник.
(обратно)13
Мы так мало о нем знаем, что трудно решить, был ли он просто честолюбцем или новатором, реформатором Церкви. Для нас, во всяком случае, ясно, что идеалу святости и монашества, по Сергию, он не соответствовал.
(обратно)14
Лавра – слово греческое, значит – улица, переулок или вообще уединенное место. Греки так и применяли его к монастырям. Лаврами назывались у них монастыри, где каждый монах жил отдельно, в келии, отделенный от других некоторым пространством, жил затворником, сходясь с другими братиями только в субботы и воскресенья нa богослужении.
В России название лавра употребляется в смысле большого монастыря, богатого и знаменитого. Тогда лавр было довольно много, и также Троице-Сергиев монастырь назван еще Епифанием лаврой. Но позже лаврами дают право называться только прославленным монастырям, в наше время лишь четырем: Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Александро-Невская и Почаевская. Время этого официального названия – вероятно, с XVII векa, с царской и патриаршей грамоты Киево-Печерскому монастырю в 1688 г. – Троице-Сергиева лавра – указом Елизаветы Петровны 8 июня 1744 г.
(обратно)15
Симонопетр – общежительный монастырь, сначала сербский, позднее большей частью греческий. Основан в XIII веке отшельником Симоном при помощи деспота Сербского Иоанна Углеша. Первым Гением монастыря была церковь Рождества Христова, сооруженная на каменной (petra– лат.) скале.
(обратно)16
Митрополит Антоний – Блаженнейший Антоний (Храповицкий, 1863–1936), митрополит Киевский и Галицкий, провел на Афоне лето 1920 г.
(обратно)17
Молча, в одиночестве, без спутников, Выступали мы, один вожатым, другой сзади, Как ходят по дороге братья-минориты. (Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь 23, ст. 1–3. Пер. Б. К. Зайцева.) (обратно)18
Греческий монастырь Ксиропотам (греч. – сухоречный) – штатный, основан в V веке греческой царицей Пульхерией в честь сорока мучеников, пострадавших в Севастийском озере. Вскоре монастырь был разрушен арабами и находился в запустении до X века. Возобновлен преп. Павлом Ксиропотамским. В XIII веке монастырь принял унию и был разрушен землетрясением. Вновь возобновлен Андроником Палеологом. После сильного пожара монастырь в третий раз возобновлен турецким султаном Селимом в XVI веке.
(обратно)19
Хризовул – грамота (греч.).
(обратно)20
Хризовул царя Василия II (около 1000 года) даровал Афон исключительно отшельникам.
(обратно)21
Сардар (перс.) – влиятельный сановник; здесь: стражник.
(обратно)22
Раки (ракия) – фруктовая водка (серб., болг.).
(обратно)23
Совет десяти в Венеции – карательный орган Венецианской республики; возник в начале XIV века.
(обратно)24
Карфагенский сенат – контролирующий и судебный орган Карфагена – крупнейшего западноафриканского государства древности. Выбивался из 104 человек из наиболее влиятельных фамилий. Коллегия «ста четырех» была безотчетна, безапелляционна и долгосрочна, что побудило римских писателей сравнить ее с сенатом.
(обратно)25
Имеется в виду Данте.
(обратно)26
Андреевский скит (русский, общежительный). Основан в виде кельи вселенским патриархом Афанасием в XVII веке. Соборный храм во имя великомученика Андрея Первозванного заложен в 1867 году.
(обратно)27
Антиб – город-порт с крепостью и маяком в Грасском округе французского департамента Морских Альп.
(обратно)28
Шестопсалмие – шесть избранных псалмов (3, 37, 62, 87, 102, 142), изображающих скорбь отягченной грехами души и надежду на спасение. Читается в начале утрени.
(обратно)29
Преп. Иоанн Лествичник – игумен Синайской горы, подвижник конца VI – нач. VII века. Далее приводится отрывок из его «Лествицы» – главного аскетического трактата для монашествующих («Слово 15. О нетленной чистоте и целомудрии, которое тленные приобретают трудами и потами»).
(обратно)30
Плотин (ок. 204–269 или 270) – античный философ-идеалист, последователь и систематизатор Платона.
(обратно)31
Стигматы (укол, клеймо – греч.) – язвы, появляющиеся на теле подвижников в местах крестных страданий Иисуса Христа (на лбу, груди, ладонях, ступнях). Стигматы, засвидетельствованные современниками, появились у св. Франциска Ассизского в сентябре 1224 года, за два года до смерти. Культ стигматов присущ только католической церкви.
(обратно)32
Франциск Ассизский (1181 или 1182–1226) – католический святой, основатель ордена францисканцев.
(обратно)33
Карейский собор (греческий) во имя Успения Пресвятой Богородицы. По преданию, основан императором Константином в 335 году, а в 362 году был сожжен Юлианом Отступником и возобновлен в X веке при императоре Никифоре Фоке. Вторично разграблен и сожжен в 1288 году и восстановлен только в 1686 году.
(обратно)34
Мануил Панселин, солунский художник XVI века. Епископ Порфирий Успенский, специально занимавшийся фресками Панселина, считал, что ему принадлежат росписи в следующих храмах: Карейского собора (1535–1536), церкви в прикарейской келии Моливоклися (1537), соборном храме Старого Руссика (между 1554 и 1574), собора в Хиландаре (между 1571 и 1582). В современном искусствоведении вопрос о времени жизни Панселина (его относят к XIV веку) и о принадлежности ему этих фресок считается открытым: возможно, в Протате работала целая бригада солунских мастеров (см.: Лазарев В. Н. История византийской живописи. М., 1986, с. 174, 258). По мнению искусствоведов, «Общепризнанная заслуга Панселина заключается именно в том, что он сумел сообщить особую красоту и выразительность существующим типам, не отнимая их силы, не изменяя их сущности и мало посягая даже на внешнюю оболочку их» (Никольский Л. Д. Краткий очерк Афонской стенной живописи. Ч. 2. Сиб., 1908, с. 96).
(обратно)35
Ока – греческая мера жидкостей, равна 1,28 л.
(обратно)36
Основание русской обители на Афоне приписывают временам князя Владимира и его сына Ярослава. Первоначальным местом обитания русских был монастырь Богородицы Ксилургу, или Русов (по другим источникам, он был отдан русским инокам по указу греческого императора Алексея Комнина в 1080 году, следовательно при Мономахе). Вследствие тесноты монастыря в 1169 году святогорцы уступили русским Солунский монастырь Св. Пантелеймона Обитель Богородицы Ксилургу осталась за русскими, но уже в виде скита Монастырь Св. Пантелеймона (Старый Нагорный Руссик) просуществовал до конца XVIII века после чего пришел в упадок от Обременявшего его долга туркам. Братия переселилась в небольшую обитель на берегу моря, бывшую пристань, с храмом Вознесения.
В 1803 году вблизи нее был заложен современный монастырь Св. Пантелеймона. Русские поселились там с 1836 года. В настоящее время монастырь Св. Пантелеймона – греческий, общежительный; русских иноков в нем в начале XX века была приблизительно четвертая часть от общего числа братии.
Главный собор (греческий) в честь Св. Великомученика и Целителя Пантелеймона построен в 1812—1814-м, освящен в 1815 году.
(обратно)37
Имеется в виду следующая книга: Русский монастырь Св. Великомученика и Целителя Пантелеймона на Святой Горе Афонской. Несколько изданий. Изд. 7-е, испр. и значительно доп. М., 1886.
(обратно)38
Соборный храм Покрова Богородицы (русский) – освящен в 1853 году.
(обратно)39
Св. Цецилия – святая католической церкви, покровительница духовной музыки мученица скончалась около 230 года. Память ее празднуется 22 ноября.
(обратно)40
Зайцев перечисляет различные ступени пострижения: рясофорный монах (или рясофорный послушник) – носящий рясу и получивший новое имя; манатейный (правильнее «мантийный») монах – принявший монашеский постриг с произнесением обетов (эта ступень называется обручением великого и ангельского образа); схимник – принявший схиму или самый великий и ангельский образ.
(обратно)41
«На многая лета, господин» (греч.) – многолетие, которое поется при архиерейской службе на малом входе во время литургии.
(обратно)42
Панагия («всесвятая» – греч.) – название части просфоры, вынутой на проскомидии в честь Божией Матери. Она переносилась в ящичке (панагиоре) по особому чину в монастырях в трапезу, где одну ее часть вкушали до трапезы, другую – после трапезы.
(обратно)43
Преп. Серафим Саровский (1759 или 1754–1833) – величайший русский святой XIX века подвижник и чудотворец. Эпизод из его жития с кормлением медведя послужил сюжетом многочисленных фресок и лубочных картин.
(обратно)44
44 Сергиево подворье и Богословский институт в Париже основаны в 1925 г. в честь преп. Сергия Радонежского.
(обратно)45
Имеется в виду «Афонский патерик, или Жизнеописание святых, на святой Афонской горе просиявших». Составление его начато Святогорцем и закончено монахом Азарией. Издание Русского Пантелеймонова монастыря, печаталось в Москве. Патерик неоднократно переиздавался: 1-е изд. – 1883-й, 7-е – 1897 год. Преподобный Нил Мироточивый – подвижник XVII века. Память его празднуется 12 ноября.
(обратно)46
Колокол св. Пантелеймона весит 818 пудов 10 фунтов. (Утверждение Зайцева, что это величайший колокол православного Востока, неточно: колокол Гефсиманского скита весил 1000 пудов.) Колокол св. Пантелеймона отлит в Москве и пожертвован в монастырь в 1894 году самарскими жителями И. М. Плешаковым и А. М. Шумовой.
(обратно)47
Имеется в виду живописный образ Христа из так называемого «евангельского цикла» (вторая половина 1880-х – 1910-е годы) В. Д. Поленова. Цикл состоял из 68 полотен и экспонировался в 1910-х годах в Москве и Петербурге. В настоящее время полотна находятся в различных музеях, цикл как единое целое не существует. Современный Поленову искусствовед трактует неиконописный, покрытый темным загаром невозмутимо спокойный лик Христа с глубоко сидящими глазами, напоминающий лицо восточного мудреца, как выражение крайней реалистичности и рационализма (Ремезов А. Жизнь Христа в трактации современного русского художника. Сергиев Посад, 1915).
(обратно)48
Генисаретское озеро (Галилейское море, Тивериадское море) находится в Палестине. На нем и вблизи него происходили важнейшие события в жизни Иисуса Христа: из рыбарей этого озера он избрал себе учеников, там явился им по своем воскресении; на берегах озера расположены города Капернаум, часто упоминаемый в Евангелии, Магдала – родина Марии Магдалины.
(обратно)49
Григориат – греческий общежительный монастырь. Основан в XIV веке во имя св. Николая Чудотворца преп. Григорием.
(обратно)50
Дионисиат – греческий общежительный монастырь. Основан в 1375 году св. Дионисием, подвизавшимся в пещере близ Малого Афона, при помощи императора Трапезундского Алексея III Комнина.
(обратно)51
Константинопольский патриарх Нифонт (в миру Николай) с 1486-го по 1489-й и с 1497-го по 1498-й, скончался между 1530—1535-ми годами. Память его празднуется 11 августа.
(обратно)52
Вениамин, митрополит Петроградский (с 1917 по 1922), был арестован в 1922 году по делу изъятия церковных ценностей, осужден и приговорен к расстрелу.
(обратно)53
Келия св. Георгия («На Керашах») – русская, общежительная; находится в пределах Лавры Св. Афанасия. В XIII веке здесь была основана греками обитель в честь св. Великомученика Георгия Победоносца. С начала 1870-х годов она перешла к русским и возобновлена в 1883 году.
(обратно)54
Лавра Св. Афанасия – крупнейший греческий монастырь Афона, штатный. Построена св. Афанасием Афонским по желанию и при содействии воеводы Никифора Фоки в 961–963 годах. Представляет собой гранитный замок, окруженный высокими зубчатыми башнями.
(обратно)55
Св. Петр Афонский – первый отшельник, подвизавшийся в пещере в IX или VIII веке. Память его празднуется 12 июня.
(обратно)56
Кавсокаливийский скит – основан подвижником XIII века Максимом Кавсокаливой. Один из самых аскетических скитов: его монахам не разрешается даже иметь сети и лодки для ловли рыбы.
(обратно)57
Пещера Нила Мироточивого – находится в отвесной скале во владениях Лавры Св. Афанасия.
(обратно)58
Преп. Иоанн Кукузель жил в XII веке. Память его празднуется 1 октября.
(обратно)59
Речь идет об источнике Св. Афанасия Афонского. По преданию, после постройки Лавры был большой неурожай и голод, и вся братия разбрелась на поиски пищи. Покинул Лавру и сам Афанасий, но по дороге ему явилась Богоматерь; упрекнув его в маловерии, Она повелела вернуться в обитель. По Ее приказанию Афанасий ударил жезлом о скалу, откуда забил источник. В память явления была воздвигнута церковь в честь Богородицы Живоносного источника.
(обратно)60
Собор Лавры построен св. Афанасием в конце X века и посвящен Благовещению Пресвятой Богородицы.
(обратно)61
Великомученик Димитрий Солунский (память его празднуется 26 октября) особо чтим на Афоне. В Ватопедском, Пантелеймоновом и Ксенофском монастырях хранятся частицы его мощей
(обратно)62
Монах Феофан (Критянин) – художник XVI века. Епископ Порфирий Успенский относит его фрески в Соборном храме и трапезной Лавры Св. Афанасия к 1535–1536 годам, а росписи в Георгиевской церкви Ксенофа – к 1564 году.
(обратно)63
Великий и вселенский учитель и святитель Василий Великий, крупнейший православный писатель, автор литургии, епископ Кесарии (ок. 330–379). Память его празднуется 1 января.
(обратно)64
Дольмены (от брет. dol men – «каменный стол») – древние памятники, первоначально считавшиеся алтарями или жертвенниками друидов (кельтских жрецов), расположенные на западе Европы в Передней Азии, Индии и в незначительном количестве на Кавказе. Позднее археологами было установлено, что дольмены являются каменными гробницами доисторической эпохи.
(обратно)65
Во время Троянской войны греческая стража зажигала на самой вершине Афона огни, которые были видны на других горах, и от горы к горе таким образом передавались известия. В частности, так царица Клитемнестра – жена греческого царя Агамемнона – узнала о поражении троянцев. Об этом факте упоминается в трагедии Эсхила «Агамемнон» (ст. 278–295).
(обратно)66
Даки – в древности северофракийские племена, расселявшиеся на территории к северу от Дуная до отрогов Карпат. В конце I – начале II века были завоеваны Адрианом (76—138) и Траяном (53—117) – римскими императорами из династии Антонинов.
(обратно)67
Намек на серию романов французского писателя Марселя Пруста под общим названием «В поисках утраченного времени» (т. 1—16, 1913–1927).
(обратно)68
Келия св. Артемия основана греками в XIV в., в 1862 г. перешла к русским; расположена на земле Лавры Св. Афанасия. Келия Воздвижения Креста основана греками в X в., в нач. XIX в. перешла к русским; расположена на земле греческого монастыря Каракалл.
(обратно)69
Отец Пинуфрий пересказывает евангельский эпизод укрощения бури (Мф. 8: 23–26; Мк. 4: 37–39; Лк 7: 23–24).
(обратно)70
Монастырь Иверской Божией Матери – штатный, греческий. Иверским называется от своих ктиторов, которые были «иверцы», то есть грузины. Образовался из Предтеченского монастыря Клемента, подаренного царем Василием Порфирородным грузинскому подвижнику Иоанну Торникию (который был монахом Лавры Св. Афанасия) в 980 году. В течение веков монастырь переживал периоды запустения и расцвета, к началу XVIII века перешел в руки греков.
(обратно)71
Чудотворная Иверская икона Божией Матери, известная на Афоне больше под именем Портаитиссы, или Вратарницы, находится в церкви Вратарницы. Она темного цвета со строгим выражением лика. Появление ее на Афоне связано со следующим преданием. В IX веке во время расцвета иконоборчества при греческом царе Феофиле, в Никее жила богатая вдова, у которой была икона Богоматери. Под угрозой царских соглядатаев, вымогавших у нее деньги (один из них ударил мечом по образу, и из лица Богоматери истекла кровь), она бросила икону в море. Икона не упала, а стала прямо в воде и понеслась по волнам к западу. Сын вдовы бежал от гонений иконоборцев и стал иноком Иверской обители, рассказав о чуде иконы. Через два века после его кончины икона приблизилась к Афону в огненном столпе; Божия Матерь явилась во сне подвижнику Гавриилу и повелела ему пройти по водам и внести икону в обитель. Многократно иноки ставили ее в алтаре и каждый раз потом находили на стене над монастырскими вратами, пока Божия Матерь опять не явилась во Гавриилу и не объявила о своем желании быть покровительницей обители, с тем, чтобы Ее образ находился над вратами.
(обратно)72
В XVII веке два точных списка с этой чудотворной иконы были доставлены в Россию: один из них хранился в Иверском монастыре на Валдайском озере, другой – в Иверской часовне у Воскресенских ворот в Москве, при въезде на Красную площадь со стороны Тверской.
(обратно)73
Монастырь Пантократор – греческий, штатный. Основан во имя Господа Вседержителя в 1 году двумя братьями – Алексием Стратопедархом (Военачальником), бывшим впоследствии греческим императором, и Иоанном Великим Примакирием (первым сановником Цареградского двора).
(обратно)74
Русский скит пророка Илии основан в 14 году старцем Паисием Величковским.
(обратно)75
Эос – богиня утренней зари (греч. миф.). Церковь Преображения Господня воздвигнута в глубокой древности на самой высокой точке Афона, более 2000 метров над уровнем моря, служба в ней бывает один раз в год: на Преображение (6/19 августа).
(обратно)76
Преображенский собор, основанный в XIV веке, неоднократно обновлялся, причем фрески Панселина при этом уничтожались. Последнее такое обновление было в середине XIX века. Из фресок хранились лики Спасителя, сидящего на престоле Евангелием в руках, Пречистой Девы Богородицы и Предтечи Господня Иоанна, уцелевшие от колоссальной картины, находившейся над тройными дверьми входа. Кисти Панселина принадлежат также: Успение Богоматери над западными вратами, лики Предтечи Крестителя Иоанна, Иоанна Богослова, двух великомучеников Феодоров и отшельников Саввы и Антония.
(обратно)77
Пан – бог-покровитель стад (греч. миф.), сын Гермеса. По преданию, в полдень он засыпает, и с ним засыпает вся природа под знойными лучами солнца. Это затишье считалось священным, и ни один пастух не осмеливался нарушить его игрою на свирели.
(обратно)78
Монастырь Ватопед – греческий, штатный. Основателем его считают Константина Великого, построившего в 329 году храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В 360-х годах храм был разрушен Юлианом Отступником. В 390 году император Феодосии возобновил храм и построил богатую обитель Ватопед («купинодетие», «дитя в кустах»), в благодарность Богоматери за чудесное спасение своего сына Аркадия во время бури с тонущего корабля на берег, где он был найден невредимым в кустах. (Зайцев далее ошибочно относит это событие V веку.) В 862 году монастырь был разорен и опустошен арабами и оставался в запустении до времен Афанасия Афонского – до X века, когда Ватопед был практически основан заново.
(обратно)79
Ватопедская академия была основана в 753 году. Во главе ее встал греческий богослов Евгений Булгарис (1717–1800), впоследствии принявший русское подданство и окончивший жизнь в России в сане епископа Славянского и Херсонского. Он покинул Академию в 1758 году, после чего она быстро пришла в упадок, хотя и просуществовала до конца XVIII века.
(обратно)80
В Ватопедской библиотеке хранятся в рукописях сочинения Отцов Церкви – Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова и других, упоминаемые далее Птолемеевы географические карты XI века (27 карт греческого геометра, астронома и физика Клавдия Птолемея (первая половина II века), изображающие участки земной поверхности между 67° северной и 16° южной широты, и являющиеся приложением к его «Географии»)
(обратно)81
Новый стиль был введен Константинопольским патриархом Мелетием Метаксатисом в 1923 году. Он был принят в Греции и в части греческих монастырей Афона. Славянские монастыри и Руссик отказались принять его.
(обратно)82
Греческий император Михаил Палеолог, единоличный император Никейской империи (1261–1282) повсеместно вводил унию, которую Лавра приняла вместе с Ксиропотамом, после чего была разрушена и запустела.
(обратно)83
Также при Михаиле Палеологе.
(обратно)84
Галла Плацидия (389–450) – дочь Феодосия Великого. В 21 год взята в плен королем вестготов Аларихом и после его смерти вышла за короля Атаульфа. После смерти сына Феодосия и гибели мужа вернулась в Рим и против воли была выдана братом Гонорием за генерала Констанция, от которого родила двоих детей – Валентиниана и Гонорию. После внезапной смерти Констанция император Гонорий отослал сестру в Византию. Полагают, что именно по пути туда Плацидия посетила Афон. Вернувшись в Италию с войском, она возвела на Западный трон Валентиниана и 25 лет была регентшей Римского государства. Еп. Порфирий Успенский относит посещение Плацидией Ватопеда к 422 году и предполагает, что ею был построен Димитриевский придел Ватопедского собора.
(обратно)85
Бенедиктинцы – монахи, принявшие устав св. Бенедикта Нурсийского (480–543), реформатора западноевропейского монашества. По сравнению с другими монашескими орденами, бенедиктинцы не придерживались чересчур строгих аскетических правил по отношению к одежде и телу, требовали наряду с духовными упражнениями усиленного физического труда, активно занимались науками. Как правило, в орден принимались люди из богатых и знатных семей.
(обратно)86
Райнер Мария Рильке (1875–1926) – австрийский поэт, один из представителей западноевропейского символизма. Его произведения были популярны в России начала века.
(обратно)87
Комнены и Палеологи – знатные византийские роды, давшие в XI–XV веках многих византийских и трапезундских императоров, покровительствовавших Афону
(обратно)88
О преп. Савве Сербском см. примечание Зайцева в «Пантократор, Ватопед и Старый Руссик».
(обратно)89
Схоларий – ученый.
(обратно)90
Исихазм (от греч. hesychia – безмолвие) – древнее понятие Восточной Церкви, обозначающее подвиг, связанный с отшельничеством и молчанием. Исихастами назывались монахи, посвятившие себя абсолютной тиши, священному покою, внутреннему духовному сосредоточению и непрестанной «умной» молитве, что приводило их к состоянию неизъяснимого блаженства и лицезрению небесного света. Истоки исихазма восходят к Святым Отцам III–VI веков (Антонию Великому, Макарию Великому, Иоанну Лествичнику), а основоположником его считается Симеон Новый Богослов (XI век), развивший учение о Богосозерцании. Основоположником исихазма на Афоне был преп. Петр Афонский, а своеобразным центром – «исихатрион» («безмолвище»), построенный грузином Саввой Халдом между монастырями Ивером и Филофеем в конце IX века. Расцвет афонского исихазма связан с именами преп. Григория Синаита (сконч. в 1346) и святителя Григория Паламы (сконч. в 1360), а также целого ряда духовных писателей. В XV–XVII веках исихазм переживает упадок, и вторичное возрождение начинается только со второй половины XVIII века, когда греческий монах Никодим Святогорец (1748–1809) систематизирует святоотеческие творения и издает их под названием «Добротолюбия», а старец Паисий Величковский (1722–1794) переводит его на славянский язык (см.: Концевич И. М. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. Париж, 1952).
(обратно)91
Пещера преп. Петра Афонского находится во владениях Лавры Св. Афанасия. В келью с церковью, посвященной св. Петру, монахи сходятся для совершения службы в день ап. Петра – 12 июня.
(обратно)92
Иоанн I Цимисхий – византийский император (969–976), ведший успешные войны против сарацин, арабов, русов. При нем Византия вернула себе Сирию и Финикию, а Болгария сделалась на время провинцией империи.
(обратно)93
Стадий – греческая мера длины, размеры которой колеблются от 150 до 185 метров.
(обратно)94
Павел (сконч. между 1020 и 1027) – иеромонах и, возможно, игумен монастыря Ксиропотам. Он не был канонизирован. Легенда путает его с преп. Павлом Ксиропотамским (в миру Прокопий, сконч. в 820 г., память его празднуется 22 июля)
(обратно)95
Написан св. Афанасием в виде завещания; собственно церковный устав составляет вторую его часть. Монашество существовало на Афоне задолго до X века. Св. Афанасий, придя на Св. Гору, нашел здесь уже как письменные, так и устные уставы, которые он передал основанной им Лавре.
(обратно)96
Зайцев не совсем точен: св. равноапостольный царь Константин (273–337) прославлен именно за распространение христианской веры (память его празднуется 21 мая). Св. благоверный великий князь Александр Невский (1220–1263; в схиме Алексий) прославлен не только как полководец, одержавший блестящие победы над шведами и немцами, но и как смелый исповедник христианской веры, отказавшийся поклониться татарским языческим божествам и получивший от хана Батыя освобождение русского духовенства от податей. Память его празднуется 23 ноября и 30 августа.
(обратно)97
Скит – русский общежительный, принадлежит монастырю Св. Пантелеймона. Основание его связано с окончанием русско-турецкой войны, когда в монастыре обострились отношения между греческими и русскими монахами и часть русских монахов ушла в скит.
(обратно)98
Монастырь Ксеноф – греческий, общежительный. Основан в X веке преп. Ксенофонтом, в честь которого и назван. Монастырь Дохиар – греческий, штатный. Основан в XI веке и посвящен Св. Архангелам и Ангелам.
(обратно)99
Главный храм Новой Фиваиды посвящен Всем Святым Афонским; постройка соборного храма в честь Успения Божией Матери была начата в 1902 году.
(обратно)100
О. Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев, 1828–1908) – протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, знаменитый подвижник и чудотворец. Его советы были «решающими» в духовном пути многих современников-случаи, аналогичный произошедшему с О. В., описал С. А. Нилус в своей книге «Великое в малом» (Сергиев Посад, 1911).
(обратно)101
Дядя Ерошка – герой повести Л. Н. Толстого «Казаки» (опубл. 1863).
(обратно)102
Св. Антоний Великий (ок. 250–356) – отшельник, основатель восточного монашества. Подвизался в Фиваиде, египетской пустыне
(обратно)103
Иисусова молитва («Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя, грешного») наряду с чтением Псалтыри почитается у иноков верным средством борьбы с демонами.
(обратно)104
Имеется в виду следующее издание: «Рассказ святогорца, схимонаха Селевкия, о строе жизни и о странствовании по святым местам: Русским, Палестинским и Афонским; с присовокуплением: 1) подробного описания службы на 1 октября в Руссике и 2) краткого сказания о некоторых старцах а) усопших и б) ныне подвизающихся с Божией помощью, в Русском монастыре на Святой Афонской Горе» (Спб. 1860).
(обратно)105
Архимандрит Макарий (в миру – Михаил Иванович Сушкин, в схиме – Макарий, 1821–1889) – с 1853 года духовник обители, с 1868-го – игумен. Значительно укрепил материальное положение монастыря, устроил много его подворий в России и других странах. При о. Макарии в Пантелеймоновом монастыре процветала издательская деятельность: было выпущено большое количество книг, брошюр и печатных листов, начато издание журнала «Душеполезный собеседник».
(обратно)106
Духовник обители о. Иероним (в миру – Иоанн Павлович Соломенцев, в монашестве Иоанникий, в схиме Иероним, 1803–1883). Происходил из благочестивой семьи – 15 человек из его родственников были в монашестве. О. Иероним провел на Афоне 45 лет, трудился над обновлением обители, широко продолжал ее издательские традиции, много сделал для примирения враждовавших в монастыре партий греков и русских. Отличался властным, сильным характером.
(обратно)107
Русский писатель, критик и публицист Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) после тяжелой болезни и происшедшего с ним в 1871 году духовного перелома три года провел на Афоне. Его духовными руководителями были старцы о. Иероним и о. Макарий. Леонтьев просил их постричь его в монахи, но они отклонили эту просьбу, считая его неготовым к иноческой жизни. В 1891 году, за несколько месяцев до смерти, Леонтьев принял тайный постриг с именем Климента в Оптиной Пустыни.
(обратно)108
К. Н. Леонтьеву принадлежат следующие статьи об Афоне: «Панславизм на Афоне» («Русский вестник», 1873, т. 104, № 3–4; подпись: Н. Константинов); «Воспоминание об архимандрите Макарий, игумене русского монастыря св. Пантелеймона на горе Афонской» («Гражданин», 1889, № 192, 193, 196, 207, 211, 243, 246); «Четыре письма с Афона (1872 года)» («Богословский вестник», 1912, № 3). Воспоминания Леонтьева «Мое обращение и жизнь на Святой Афонской Горе» («Русский вестник», 1900, № 9) посвящены только детству и юности и не доведены до времени пребывания на Афоне.
(обратно)109
Пс. 102: 15. Этот псалом входит в состав Шестопсалмия.
(обратно)110
Этот случай произошел в ночь с 6 на 7 августа 1887 го да, около 3 часов пополуночи (игуменом обители был о. Макарий). При пожаре невредимым сохранился престол храма; точно на этом месте был построен новый храм.
(обратно)111
Обычная гомеровская метафора. См., например: «Илиада», песнь 2, стих 159.
(обратно)112
Никэ Самофракийская – известная древнегреческая скульптура крылатой богини победы Нике (Ники) (мрамор, ок. 190 г. до н. э.), находящаяся в Лувре.
(обратно)113
«Хризаллида» – драгоценный камень (греч.).
(обратно)114
Из молитвы на литии – особом усиленном молении во время всенощной в притворе храма: «Услышины, Боже, Спасителю наш, Упование всех концев земли и сущих в мори далече…»
(обратно)115
Трифоно-Печенгский (первоначально Кольско-Печенгский) мужской монастырь был основан в честь св. Троицы в середине XVI в. преп. Трифоном (сконч. в 1583), просветителем лопарей. Монастырь дважды горел, в 1764 г. был упразднен и вновь возобновлен в 1896 г.
(обратно)116
Преп. Арсений был уроженцем Новгородской области. После трехлетнего подвижничества на Афонской горе он по благословению игумена Иоанна возвратился в Россию, получив от него икону Божией Матери и устав для основания монастыря в северных пределах России. По возвращении некоторое время жил на Валааме, а в 1394 г. основал Рождественский монастырь на острове Коневце (название это остров, по преданию, получил от языческих жертвоприношений: корелы, разводившие там скот, ежегодно приносили в жертву огромному камню – Конь-камню – одного коня). В 1421 г. в связи с большим подъемом воды в Ладожском озере обитель была перенесена на более высокое место, где был воздвигнут каменный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Преп. Арсений Коневский скончался в 1444 г. (память его празднуется 12 июня).
(обратно)117
Валаамский Спасо-Преображенский мужской первоклассный монастырь находился на острове Валаам – одном из самых больших островов Ладожского озера, в древности называвшегося Нево. Кроме Валаама, монастырю принадлежало еще около 40 более мелких островов, образующих на Ладожском озере небольшой архипелаг. Научный спор о времени возникновения Валаамского монастыря длится уже почти столетие, однако из-за малочисленности источников его невозможно решить окончательно. Местное предание возводит основание Православной веры на Валааме ко времени пребывания там св. Апостола Андрея Первозванного. Основателями монашества на Валааме считаются свв. Сергий и Герман (см. о них ниже). Многие средневековые источники содержат упоминания о Валаамском монастыре в таком контексте, который указывает на X–XII вв. («Валаамская беседа», «Уваровская летопись» – XVI в.) или XIV век (вариант «Краткой летописи«). В настоящее время большинство исследователей придерживается версии, что монастырь существовал уже в XII в.; препп. Сергий и Герман были канонизированы очень рано, новгородский архиепископ закрепил их культ и заказал иконы в 1160-х годах. В конце XII в. был построен главный храм во имя Преображения Господня, и сам монастырь уже назывался Спасо-Преображенским.
В XII–XVI вв., во время частых войн между Россией и Швецией, монастырь был неоднократно разоряем шведами, и после очередного нападения в конце XVI в., за которым последовали мор и пожары, пришел в запустение, царившее целое столетие, так как по Столбовскому договору 1617 г. Валаам остался в руках шведов.
С 1715 г. в результате Полтавской битвы Валаам вновь перешел к России и началось восстановление монастыря. В 1756 г. была заново построена деревянная церковь Преображения Господня. Но настоящий расцвет Валаама начался с 1781 г., когда туда прибыл из Саровской пустыни иеромонах Назарий, установивший в монастыре строгий общежительный устав и выстроивший множество каменных зданий. В это время монастырь ведет широкую просветительную деятельность на Алеутских островах.
В течение XIX в. в Валаамском монастыре, получившем в 1822 г. статус первоклассного, правили настоятели (игумены Иннокентий, Ионафан, Варлаам, Дамаскин), укрепившие внутреннюю жизнь монастыря и внешнее его положение (так, при игумене Дамаскине были приобретены три обширных острова в Ладожском озере и построена значительная часть скитов).
В 1918 г. Валаам отошел к Финляндии, а в 1940 г., после русско-финской войны, территория острова стала принадлежать Советскому Союзу. Монастырь был эвакуирован. В зданиях последовательно размещались школа юнг, дом-интернат для инвалидов войны, а с 1980 г. – Валаамский музей-заповедник. В сентябре 1989 г. Валаамский Спасо-Преображенский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви.
(обратно)118
Соборный храм Преображения Господня (новый) выстроен в 1887–1890 гг. при игумене Ионафане на месте прежнего (см. о нем ниже) по проекту Г. И. Карпова, А. Н. Силина, Н. Д. Прокофьева. Освящен в 1892 г.
(обратно)119
Первоначально этот остров назывался Крестовым, и на нем стояла часовня во имя Святителя Николая. В 1853 г. был воздвигнут храм во имя св. Николая (архитектор А. М. Горностаев)
(обратно)120
Андреевский скит на Афоне – русский, общежительный. Основан в виде кельи вселенским патриархом Афанасием в XVII в.
(обратно)121
Свв. Сергий и Герман – преподобные чудотворцы, основатели Валаамского монастыря. Оба они были не уроженцы острова, а пришли туда «от восточных стран». Св. Сергий учредил на Валааме монашество, распространил христианство. Он прожил более 60 лет. Св. Герман по смерти св. Сергия был настоятелем иноческой общины. Их мощи были открыты очень рано (еще до X в.) и неоднократно переносились в Новгород и обратно на Валаам. Точная дата канонизации неизвестна.
(обратно)122
Соборная церковь, просуществовавшая до 1887 г., была двухэтажная: на верхнем этаже был храм Преображения Господня, по которому монастырь назывался Спасо-Преображенским (освящен в 1794 г.); в нижнем этаже храм во имя препп. Сергия и Германа (освящен в 1789 г.). Эта церковь была разобрана при постройке нового собора.
(обратно)123
Игумен Дамаскин (в миру Дамиан, 1795–1881) правил обителью 42 года (с 1839 г.). Во время его игуменства построено много церквей (особенно в скитах), часовен и других монастырских зданий. Обладал даром прозорливости; ему принадлежит ряд поучений для братии.
(обратно)124
Скит Всех Святых основан игуменом Назарием в конце XVIII в. Окончательно устроен в 1844 г. игуменом Дамаскиным. Храм каменный двухэтажный, воздвигнут в 1849 г. (нижняя церковь – во имя Всех Святых, освящена в 1849 г., верхняя – во имя Всех Небесных Сил Бесплотных, освящена в 1850 г. Женщинам вход в этот скит был разрешен только один раз в год – в праздник Всех Святых (первое воскресенье после Троицы). Упоминаемая ниже часовня во имя Крестных страданий Господа построена в 1842 г. по проекту К. Брандта.
(обратно)125
Смоленский скит с церковью Смоленской иконы Божией Матери выстроен в 1915–1917 гг.
(обратно)126
До 1855 г. остров назывался Монашеским (предположительно, по находившемуся на нем в древности скиту). В 1855 г. на нем была устроена небольшая часовня во имя св. Пророка и Предтечи Иоанна, и с тех пор остров стал называться Предтеченским. В 1858 г. часовня была заменена церковью. В этом скиту соблюдался строгий устав вечного поста; женщинам вход в него был запрещен круглый год.
(обратно)127
Воскресенский скит был основан почином в 10 тыс. руб. паломника И. М. Сибирякова (окончившего свою жизнь на Афоне) в 1896 г. Храм в скиту строился в 1901–1906 гг.
(обратно)128
Иеромонах Никон прожил в пустыне более 20 лет (в конце XVIII в.). Обновление этой местности в конце XIX – нач. XX в. связано со стремлением создать копию мест земной жизни Иисуса Христа (подобно Ново-Иерусалимскому монастырю под Москвой): Сионской и Елеонской горы, Кедронского потока, Гефсимании, Иерусалима.
(обратно)129
Оба храма освящены в 1906 г.
(обратно)130
В начале февраля 1848 г. Н. В. Гоголь совершил паломничество в Иерусалим, во время которого посетил пещеру Гроба Господня.
(обратно)131
Икона написана на Валааме в самом конце XVII столетия.
(обратно)132
Тропарь Пасхи.
(обратно)133
Гефсиманский скит состоял из двух церквей: Успенской (первоначально часовни; освящена в 1911 г.) и Вознесенской (освящена в 1912 г.). К этому же времени относится и упоминаемая ниже часовня «Моление о чаше».
(обратно)134
Имеется в виду картина М. В. Нестерова «Пустынник«(1888–1889).
(обратно)135
Слова этой песни принадлежат монаху Петру Михайлову.
(обратно)136
«Пустынька о. Назария» – Игумен Назарий (в миру Николай, 1735–1809) – возобновитель Валаамского монастыря, управлял им 20 лет (1781–1801). В юности подвизался в Сарове, там же провел последние 5 лет жизни и умер. В 1781 г. был вызван на Валаам, чтобы ввести там строгий устав Саровской пустыни.
(обратно)137
Храм во имя Всех Преподобных Отец, подвигом поста просиявших, освящен в 1876 г. При нем находилось новое Братское кладбище.
(обратно)138
Сооружен игуменом Дамаскиным в память почивших настоятелей монастыря.
(обратно)139
См. далее главу «Александр на Валааме».
(обратно)140
Сергиево Подворье и Богословский институт в Париже основаны в 1925 г. в честь преп. Сергия Радонежского.
(обратно)141
Часовня преп. Сергия Радонежского основана после 1876 г.
(обратно)142
Имеется в виду работа над книгой «Преподобный Сергий Радонежский«(Париж, 1925).
(обратно)143
Основана в конце XIX в.
(обратно)144
Св. Александр Свирский (в миру Аммом, 1449–1533) прожил на Валааме 11 лет, подвизался в строгом безмолвии на Святом острове, где долгое время сохранялась пещера в расселине скалы и могила, выкопанная, по преданию, им самим. В 1485 г., после бывшего ему видения, вышел из Валаама и основал монастырь на реке Свире во имя Св. Троицы (позднее названный Александро-Свирским).
(обратно)145
Основой повествования в этой главе является редкая брошюра «Государь император Александр I на Валааме, в августе 1819 года«(Царское Село, 1858), содержание которой изложено во всех книгах о Валааме.
(обратно)146
Святые ворота с церковью свв. апостолов Петра и Павла построены в нач. XIX в.
(обратно)147
Келейник игумена Назария, а впоследствии схимонах Николай скончался в 1823 г.
(обратно)148
Мф. 11: 29
(обратно)149
В 1836 г. в Пермской губ. объявился таинственный старец, назвавший себя крестьянином Федором Кузьмичом, 70 лет, не помнящим родства. Как бродяга, он был приговорен к наказанию плетьми и ссылке в Сибирь, где прожил на поселении около 30 лет, до своей смерти в 1864 г., из них последние 6 лет на заимке купца Хромова около Томска. Аристократическая внешность старца, его разностороннее образование и строго аскетический образ жизни породили загадки о его высоком происхождении. Купец Хромов настойчиво поддерживал версию о тождестве Федора Кузьмича и Александра I, якобы не умершего, а скрывшегося из Таганрога в 1825 г. Впоследствии эта версия была опровергнута историками, но вопрос о личности Федора Кузьмича остается открытым. (Были предположения, что это внебрачный сын Павла или кавалергардский офицер Федор Уваров II).
(обратно)150
Часовня Богоматери Владимирской основана в конце XIX в.
(обратно)151
Коневский скит с храмом во имя Коневской иконы Божьей Матери выстроен игуменом Дамаскиным в 1870 г.
(обратно)152
Звоном к «Достойно» отмечался центральный момент Литургии: от пения «Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу…» до пения «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу…». Этот обычай утвердился в России с конца XVII в., со времен патриарха Иакима.
(обратно)153
Здесь и далее о. Милий пересказывает эпизоды из широко распространенного жития Святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских (IV в.) – любимого святого, как Восточной, так и Западной Церкви. Память его празднуется дважды: 6/19 декабря (день преставления) и 9/22 мая (день перенесения мощей из г. Мир в Ликии, где он скончался, в г. Бары (Италия).
(обратно)154
Имеется в виду картина швейцарского художника Арнольда Беклина (1827–1901) «Остров мертвых«(1882, известна в пяти вариантах).
(обратно)155
Святоостровский скит во имя св. Александра Свирского основан в 1855 г.
(обратно)156
Часовня Константина и Елены построена в 1901 г.
(обратно)157
В игуменство Дамаскина по всему острову было поставлено до десяти таких каменных и деревянных крестов.
(обратно)









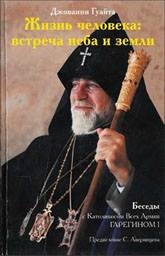
Комментарии к книге «Избранное», Борис Константинович Зайцев
Всего 0 комментариев