Сёрен Кьеркегор
ПОНЯТИЕ СТРАХА
Простое, психологически намеченное размышление
в направлении догматической проблемы первородного греха
Написано Вигилием Хауфниенсием
Пер. и комм. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева
Источник.: Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: Республика, 1993. С. 115-248.
Содержание
Время различений прошло, оно побеждено
системой. Тот, кто в наши дни еще любит
проводить различия, является эксцентриком,
чья душа прикована к чему-то давно
исчезнувшему. Но пусть это так, Сократ все
равно остается простым мудрецом, каким
он в действительности и был, благодаря
необычному различению, которое он выразил
и осуществил, благодаря чему-то, что две
тысячи лет спустя впервые с восхищением
повторил только эксцентрик Гаманн:
"Coкрат был велик потому, что он различал
между тем, что он понимал, и тем, чего он
не понимал".
Покойному профессору Поулю Мартину Меллеру,
счастливому любителю греческой культуры,
поклоннику Гомера, со-мысленнику Сократа,
переводчику Аристотеля, тому, кто
в своей "радости о Дании" является
радостью Дании, кто, хотя и "много
путешествовал", всегда "мыслями оставался
в датском лете", тому, кем я восхищаюсь,
тому, кого мне недостает,
посвящено это произведение.
ПРЕДИСЛОВИЕ
По моему мнению, всякий, кто собирается писать книгу, должен с разных сторон подумать о предмете, относительно которого он хочет писать. Нелишним будет также, насколько это возможно, познакомиться с тем, что уже было прежде написано по тому же предмету. Если на этом пути ему встретится тот, кто исчерпывающим и удовлетворительным образом рассмотрел ту или иную его часть, неплохо бы ему порадоваться так, как радуется друг жениха, когда он стоит рядом и слышит голос жениха. Если он сделал это в полной тишине и с мечтами влюбленности, которая всегда ищет одиночества, то ничего больше не нужно; он также свободно напишет свою книгу, как птица споет свою песню; и если найдется кто-то, находящий в ней радость и пользу, ну что ж, тем лучше; потом он должен издать ее, спокойно и беззаботно, не придавая этому особой важности, как если бы тем самым он приводил все к некоторому заключению или как если бы в его книге были благословенны все поколения на земле. У каждого поколения — своя собственная задача, и ему не нужно предпринимать сверхъестественные усилия, чтобы пытаться быть всем для предшествующего или последующего поколений. И для каждого единичного индивида в поколении, так же как и для каждого дня, — довольно своей заботы и достаточно трудностей, чтобы тревожиться о себе самом, а потому ему совсем ни к чему обнимать весь современный ему мир своей отеческой заботой или полагать, будто некая новая эра или эпоха должны начаться с его книги, а уж тем более с новогоднего факела его обещаний или с далеко идущих обетов его указаний, или с намеков на его обеспеченность сомнительной монетой. Не каждый, у кого согнута спина, уже поэтому есть Атлас или стал таковым оттого, что нес на себе весь мир; не каждый, повторяющий: "Господи, Господи", войдет поэтому в царство небесное; не каждый, предлагающий себя в управляющие всем современным хозяйством, доказывает тем самым, что он надежный человек, который может поручиться за самого себя; не каждый, кто кричит: "Bravo, schwere Noth, Gottsblitz, bravissimo", поэтому уже понял самого себя и свое восхищение.
Что же касается моей собственной скромной персоны, должен прямо признаться, что в качестве автора я, по сути, король без королевства, хотя все же в страхе и великом трепете остаюсь автором, пусть и без всяких притязаний. Если для благородной зависти или ревнивой критики покажется чрезмерным то, что я ношу латинское имя, я с радостью приму имя Кристена Мадсена; между тем более всего мне хотелось бы считаться дилетантом, который конечно же занимается философской спекупяцией, но сам пребывает за пределами этой спекуляции, хотя я так же предан своей вере в авторитеты, как римлянин был терпим в своем страхе Божьем.
Что же касается человеческих авторитетов, то тут я настоящий фетишист и буду одинаково благочестиво поклоняться любому, стоит только надлежащим образом, под бой барабанов, дать понять, что он и есть тот, кому следует поклоняться, что именно ой сегодня авторитет и Imprimatur. Решение относительно этого превосходит мое понимание, независимо от того, бросают ли тут жребий или происходят выборы, или же честь эта просто передается по кругу, так что каждый единичный индивид отсиживает свое время в качестве авторитета, совсем как представитель бюргеров, который в течение какого-то времени заседает в арбитражном суде.
Помимо этого мне нечего больше добавить, кроме искреннего пожелания доброго здоровья каждому, кто разделяет мои воззрения, равно как и каждому, кто их не разделяет, каждому, кто прочтет эту книгу, равно как и каждому, для кого достаточно и предисловия! Копенгаген.
С почтением,
Вигилий Хауфниенсий.
ВВЕДЕНИЕ
В каком смысле предмет рассмотрения является задачей для интересов психологии, и в каком смысле он, став задачей и интересом психологии, прямо указывает на догматику
То, что всякая научная проблема имеет свое определенное место, величину и свои границы внутри обширной области науки и только благодаря этому гармонически сливается с целым, соразмерно отзывается в том, что выражает это целое, это воззрение является не просто pium desiderium ("благочестивое пожелание" (лат.)), которое своей воодушевляющей или томительной мечтательностью почитает человека науки, оно не просто священный долг, который связывает его службой этому целому и призывает отказаться от беззакония, от желания авантюристически потерять из виду твердую землю, нет, оно служит одновременно интересам всякого более специального рассмотрения, поскольку последнее — именно потому, что оно забывает, к чему относится, — одновременно (что обычно выражается в речи тем же самым словом благодаря свойственной речи весьма уместной двусмысленности) забывает и самое себя, становится чем-то иным, достигая при этом сомнительной способности завершаться, сумев стать тем, чем оно как раз должно быть. Когда, таким образом, отказываются научно призвать к порядку, отказываются следить за тем, чтобы отдельным проблемам было запрещено обгонять друг друга, как если бы главным тут стало бы в числе первых явиться на маскарад, то порой при этом действительно получают определенные остроумные результаты, порой же все это несколько озадачивает, так как оказывается, что вы уже постигли нечто, на деле остающееся еще весьма далеким, ну а порой так достигают некоего достаточно вольного соглашения с тем, что по сути своей глубоко отлично. Такое приобретение после непременно мстит за себя, как и всякая незаконная добыча, которая не может перейти в собственность ни по гражданским, ни по научным правилам.
Когда последний раздел Логики получает заглавие "Действительность", это имеет то преимущество, что все выглядит так, будто вы добрались в логике до самого высокого или, если угодно, до самого низкого. Но урон при этом совершенно очевиден; ибо это не идет на пользу ни логике, ни действительности. Это никак не помогает действительности, поскольку логика не может оставлять никакой лазейки для случайности, которая по сути своей принадлежит действительности. Но это не помогает и логике, поскольку, если уж она помыслила действительность, она тем самым приняла в себя нечто, чего ей не переварить, то есть ей приходится предвосхищать то, что она должна была всегда лишь предопределять. Наказание явно состоит в том, чтобы всякое рассуждение относительно того, что такое действительность, стало трудным, возможно даже на какое-то время невозможным, поскольку слово как бы должно получить достаточно времени, чтобы задуматься о самом себе, достаточно времени, чтобы забыть об ошибке. Когда в догматике, таким образом, без какого-либо более четкого определения веру называют непосредственным, этим достигается то преимущество, что каждого убеждают в необходимости не останавливаться на вере, так что в конце концов даже от истинно верующего можно было добиться такой уступки и признания, поскольку он, возможно, и не сразу поймет ошибку, заключенную в том, что он полагал свое основание не в последующем, но в этом ?????? ?????? ("основополагающая ошибка" (греч.)). Урон тут очевиден; ибо вера много теряет, когда ее насильно лишают того, что принадлежит ей по праву, — то есть ее исторической предпосылки; догматика же много теряет, когда ей приходится начинать не там, где лежит ее начало, то есть не внутри более раннего начала. Вместо того чтобы принять в качестве предпосылки более раннее начало, она отворачивается от него и без стеснения начинает так, как будто является логикой; ведь именно логика начинает с чего-то наиболее мимолетного, завершенного благодаря тончайшей абстракции, — иначе говоря, с непосредственного. Но то, что в логике как раз мыслится правильно: то, что непосредственное ео ipso ("тем самым" (лат.)) снимается, в догматике становится пустой болтовней, ведь кому могло бы прийти в голову пожелать остаться с непосредственным (без более точного определения); как раз в то самое мгновение, когда его называют, оно уже тем самым снимается, подобно тому как лунатик пробуждается в то самое мгновение, когда называют его имя. И если порой в почти исключительно пропедевтических исследованиях слово "примирение"используется для обозначения спекулятивного знания или же для определения тождества познающего субъекта с познаваемым объектом, для обозначения субъективно-объективного и тому подобного, легко увидеть, что соответствующая операция весьма остроумна и что посредством такого остроумия проясняются все загадки, в особенности те, которые в научном знании не требуют той осторожности, какая нужна в обычной жизни: хотя бы того, чтобы внимательно вслушаться в слова загадки, прежде чем начинать ее разгадывать. В противном случае вы обретаете несравненную заслугу — своим разъяснением загадывать новую загадку: и как же мог кто-нибудь счесть это действительно разъяснением! То, что мышление вообще обладает реальностью, — предположение всей античной философии и философии средневековья. Благодаря Канту это предположение стало двойственным.
Предположим теперь, что гегелевская философия действительно продумала бы Кантов скепсис (все это между тем еще должно оставаться под большим вопросом, несмотря на все, что сделали Гегель и его школа, чтобы затуманить это посредством ударных слов "метод" и "самоочевидное", а Шеллинг более откровенно признал в своих понятиях "интеллектуальной интуиции" и "конструкции", а именно: что это становится новой исходной точкой) и тем самым заново выстроила бы в некой высшей форме более раннее состояние, так что мышление не могло бы иметь реальность в качестве своей предпосылки, окажется ли тогда такая сознательно завершенная реальность мышления примирением? Ведь тогда получится, что философия всего лишь пришла к тому, с чего в древние времена человек как раз начинал, — в те древние времена, когда примирение еще имело огромное значение. Существует старая и достойная внимания философская терминология: тезис, антитезис, синтез. Теперь выбирают новую, в которой третье место отводится опосредованию; неужели это такой уж потрясающий прогресс? Опосредование двусмысленно; ибо оно обозначает одновременно как отношение между двумя элементами, так и результат этого отношения, — то опосредование, в котором одно соотносится с другим, и то, благодаря которому одно относилось к другому; оно обозначает движение, но одновременно и покой. Является ли это завершением, может решить лишь более глубокое диалектическое исследование опосредования; однако его, к несчастью, никто не хочет ждать. Синтез упраздняют и говорят: опосредование, нужно двигаться туда! Между тем остроумие требует большего, и говорят уже о примирении (Forsoning). Каковы же последствия этого? Люди не пользуются при этом своими пропедевтическими изысканиями, ибо эти последние, естественно, обретают столь же мало, сколь истина — ясности, а человеческая душа — блаженства, оттого, что получают некий заголовок. Напротив, обычно изначально путают две науки: этику и догматику, в особенности потому, что, удачно введя слово "примирение", тотчас же указывают на то, что логика и ????? (как догматическое) соответствуют друг другу и что логика, собственно, и является учением о ?????. Этика и догматика спорят о примирении в чреватой роковыми событиями confinium ("пограничная полоса" (лат.)). Месть и вина этически принуждают примирение на свет Божий, между тем как догматика в своей предрасположенности к предложенному примирению, которое имеет исторически конкретную непосредственность, благодаря которой она и начинает свои речи в великом диалоге научного знания. Каковы же будут следствия теперь? С того, что язык, по всей вероятности, подходит к тому, чтобы взять себе большой отпуск, во время которого можно позволить отдохнуть речи и мысли, — с этого можно начать в самом начале. В логике негативное (det Negative) используется как некая пришпоривающая сила, которая все приводит в движение. А ведь в логике непременно должно быть движение, все там идет, как идет, независимо от того, происходит ли это в сфере добра или в сфере зла. Но негативное помогает, если же этого не может сделать негативное, на это способны игра слов и определенные обороты речи, когда, скажем, само негативное становится игрой слов . В логике же никакое движение не может становиться, ибо логика есть и все логическое просто есть , и такое бессилие логического есть переход логики к становлению, где как раз появляются наличное бытие и действительность (Virkelighed). Когда логика, таким образом, углубляется в конкретность категорий, это снова и снова становится тем, чем было вначале. Всякое движение — коль скоро в одно прекрасное мгновение вам захочется использовать это выражение — есть движение имманентное, которое в более глубоком смысле вообще не является движением, и в этом легко убедиться, если принять во внимание, что само понятие движения есть трансцендентность, которая не может найти себе места в логике. Стало быть, негативное — это имманентность движения, это исчезающее, это снятое. Если все происходит таким образом, значит, не происходит вообще ничего, и негативное становится фантомом. Для того чтобы заставить нечто произойти в логике, негативное становится чем-то большим, оно становится тем, что вызывает противоположность, оно есть уже не отрицание, но противополагание. Негативное — это не беззвучность имманентного движения, это "необходимое иное" ("nodvendige Andet"), которое конечно же должно быть в высшей степени необходимо логике, чтобы положить начало движению, однако само негативное этим движением не является. Если же оставить логику и обратиться к этике, здесь можно снова встретить все то же неустанно действующее в гегелевской философии негативное. Здесь мы, к своему изумлению, обнаруживаем, что негативное есть зло (det Onde). Теперь вся эта путаница развернулась в полную силу; нет больше никаких границ для остроумия, и то, что мадам де Сталь Гольстайн сказала о философии Шеллинга, будто она делает человека остроумным на всю жизнь, вполне справедливо и для философии Гегеля. Нетрудно заметить, сколь нелогичным должно быть движение в логике, если негативное — это зло; и сколь неэтичным оно должно быть в этике, если зло — это негативное. В логике этого слишком много, в этике — слишком мало, но оно нигде не подходит, если непременно должно подходить в обоих местах. Если у этики нет никакой иной трансцендентности, она по сути своей оказывается логикой, а если логика ради приличия должна содержать в себе столько трансцендентности, сколько ее необходимо для этики, она больше не является логикой.
Изложенное здесь, возможно, является достаточно пространным по отношению к месту, которое занимает (по отношению к предмету, который здесь рассматривается, оно никоим образом не является чересчур длинным), однако оно никак уж не излишне, поскольку существуют отдельные особенности, намекающие на предмет данного произведения. Примеры взяты из больших величин, но то, что происходит в большом, может повторяться и в наималейшем: и недоразумение остается тем же, пусть даже вредные последствия тут и окажутся меньше. Тот, кто делает вид, что создает систему, полагает свою ответственность в большом; но тот, кто пишет монографию, может и должен оставаться верным и малому.
Настоящее произведение, таким образом, поставило своей задачей рассмотреть понятие "страх" психологически, чтобы постоянно иметь in mente ("в сознании" (лат.)) и перед глазами догмат о первородном грехе (Anvesynd). Тем самым оно также должно будет иметь дело — пусть и умалчивая об этом — с понятием греха (Synd). При всем том грех не составляет предмета для интересов психологии, и когда его пытаются рассматривать так, это может сослужить службу лишь дурно понятому остроумию.
Грех имеет свое определенное место, или, точнее говоря, он не имеет вообще никакого места, но это и есть его определение. Когда же его рассматривают в другом, ненадлежащем месте, он изменяется, будучи включенным в не соответствующий его сущности разрыв рефлексии. Его понятие также изменяется, и одновременно разрушается настроение, которое правильно отвечает правильному понятию , и вместо постоянства истинного настроения мы получаем мимолетное фиглярство настроений неистинных. Когда, таким образом, грех втягивается в сферу эстетики, настроение становится либо легкомысленным, либо отягощенным тоской; ибо категория, в которой располагается грех, — это противоречие, а противоречие всегда либо комично, либо трагично. Вследствие этого настроение меняется; ведь соответствующее греху настроение — это серьезность. Понятие его равным образом меняется, ибо независимо от того, окажется ли все это комичным или трагичным, грех становится чем-то существующим или чем-то несущественно снятым, причем понятием его будет возможность преодоления. Комическое и трагическое в глубоком смысле не знают врагов — у них есть либо призрак, над которым плачут, либо призрак, над которым смеются. Когда же грех рассматривается в сфере метафизики, настроение становится диалектическим равновесием и бесчувственностью, которая мыслит грех как то, что не может противостоять мысли. Понятие меняется, ибо грех конечно же должен быть преодолен, но вовсе не как то, чему не способна придать жизнь никакая мысль, но как то, что наличествует здесь и, будучи таким, касается каждого. Когда грех рассматривается в психологии, настроение становится продолжительным наблюдением, разведывающим бесстрашием, а вовсе не одерживающим верх побегом серьезности из этого греха. Понятие становится другим, ибо грех становится состоянием. Но грех — вовсе не состояние. Его идея состоит в том, что понятие его постоянно снимается. Как состояние (de potentia ("соответственно возможности" (лат.))) он — ничто, между тем как de actu ("соответственно действительности" (лат.)) или in actu ("в действительности" (лат.)) он есть и опять-таки есть. Настроением психологии оказывается неприятное любопытство, тогда как правильным настроением является отважное сопротивление серьезности. Настроение психологии — это обнаруживающийся страх (Angest), и в своем страхе она очерчивает грех, устрашаясь сама, но страшась рисунка, который сама же и набросала. Когда грех представляют таким образом, он становится сильнее ее, ибо психология, собственно, относится к нему по-женски. Что такое состояние имеет свою истину — конечно же верно; верно и то, что это в большей или в меньшей степени происходит в жизни каждого человека перед тем, как появляется этическое; однако при таком рассмотрении грех становится не тем, что он есть, но чем-то большим или чем-то меньшим.
Потому-то, как только начинают рассматривать проблему греха, уже по самому настроению легко определить, верно ли понятие. Как только, например, о грехе начинают говорить как о некой болезни, ненормальности, яде, дисгармонии, понятие тотчас же оказывается ложным.
Грех по сути своей вообще не принадлежит какой-либо науке. Он является предметом проповеди, когда единичный индивид (den Enkelte) в качестве единичного обращается к единичному. В наши дни научная важность оглупила священников до состояния профессоров-пономарей, которые одновременно служат истине и находят ниже своего достоинства проповедовать. Потому нет ничего удивительного в том, что проповедь стала считаться поистине жалким видом искусства. Между тем из всех искусств проповедь является наиболее трудным, она, собственно, и есть то искусство, которое восхваляет Сократ: искусство убеждать. Само собой разумеется, это отнюдь не значило, что поэтому никто в общине не должен был возражать или же что людям может существенно помочь, если некто постоянно будет обращаться к ним с речами. Все это Сократ, по сути, разделяет с софистами, но с единственным различием: они конечно же могли быть красноречивы, но не могли убеждать, иначе говоря, они были способны многое сказать о любом предмете, однако при этом недоставало момента единения. Но единение и составляет тайну убеждения.
Понятию греха соответствует серьезность. Наукой, в которой грех еще с ранних времен занимал свое место, была конечно же этика. Между тем в этом есть своя большая трудность. Этика — это все еще идеальная наука, и не только в том смысле, в каком таковой является всякая наука. Она стремится внести идеальность в действительность, и, напротив, в ее движение не входит переводить действительность в идеальность . Этика указывает идеальность как задачу и заранее полагает, что человек обладает соответствующими условиями. Тем самым этика развертывает противоречие, поскольку она как раз ясно указывает на трудность и на невозможность.
Относительно этики справедливо то, что говорят о законах: она подобна дрессировщику, который, требуя нечто, в своем требовании только указывает, но не показывает. Только греческая этика тут составляет исключение, и это происходит потому, что она в строгом смысле слова не была этикой, но сохраняла в себе эстетический момент. Это явно проявляется в ее определении добродетели, равно как и в том, что часто повторяет Аристотель и что он в "Ethica Nicomachae" ("Никомахова этика" (лат.)) выражает с прелестной греческой наивностью: одна лишь добродетель еще не делает человека счастливым и довольным, но что ему необходимо иметь здоровье, друзей, земные блага и семейное счастье. Чем идеальнее этика, тем лучше. Она не должна позволить подорвать себя пустой болтовней, что толку требовать невозможного, ибо уже то, что человек прислушивается к подобным речам, неэтично, это нечто, для чего у этики нет ни времени, ни подходящих возможностей. Этика не имеет отношения к торговле, этим способом нельзя также достичь действительности. Если же цель в том, чтобы достичь последней, все движение должно быть направлено в противоположную сторону. Как раз эта особенность этики — то, что она в определенной степени идеальна, — и соблазняет при ее рассмотрении использовать то метафизические, то эстетические, то психологические категории. Однако этика, естественно, должна больше, чем любая другая наука, противостоять таким попыткам, и потому совершенно невозможно, чтобы тот, кто создает этику, преуспел в этом, не удерживая в стороне совсем другие категории.
Стало быть, грех принадлежит сфере этики лишь постольку, поскольку с помощью этого понятия она невольно натыкается на раскаяние (Anger) . Но если этика действительно примет грех, с ее идеальностью придется расстаться. Чем больше она упорствует в своей идеальности, никогда, однако же, не становясь столь бесчеловечной, чтобы потерять из виду действительность, но, напротив, вступая с этой действительностью в отношения в той мере, в какой та представляет собой задачу, стоящую перед каждым человеком, поскольку она стремится сделать его истинным, цельным человеком, человеком ??? ?????? ("в собственном смысле" (греч.)), тем сильнее напрягает она стоящие тут трудности. В борьбе за осуществление этой задачи этики грех проявляет себя не как нечто, чисто случайно принадлежащее случайному индивиду, но оттягивается все дальше и дальше назад ко все более и более глубокой предпосылке — к предпосылке, которая выходит за пределы индивида. Теперь для этики все потеряно, ы этика сама способствует тому, чтобы все было потеряно. Появилась некая категория, целиком лежащая за пределами ее сферы. Первородный грех делает все еще более отчаянным, иначе говоря, он создает трудности, хотя и не с помощью этики, но с помощью догматики. Подобно тому как все античное знание и спекулятивное размышление исходили из предпосылки, что мышление обладает реальностью (Realitet), вся античная .этика исходит из предпосылки, что добродетель может быть реализована. Скепсис греха совершенно чужд язычеству. Для этического сознания грех является тем же, что и сшибка для познания: отдельным исключением, которое ничего не доказывает.
С догматики начинается то научное знание, которое, в отличие от так называемого stricte ("в строгом смысле слова" (лат.)) идеального научного знания, исходит от действительности. Oно начинается с действительности, чтобы поднять ее до идеальности. Оно не отрицает наличное существование греха, напротив, оно полагает его заранее, объясняя это тем, что исходит из первородного греха в качестве предпосылки. Поскольку при всем том догматика вообще рассматривается крайне редко, часто обнаруживается, что первородный грех настолько ограничен своими рамками, что впечатление от других особенностей догматики не бросается в глаза, но только запутывается, что происходит, скажем, когда в нем: ищут догмат об ангелах, о священном Писании и так далее. Потому догматика не должна разъяснять первородный грех, она уже разъясняет его благодаря тому, что полагает этот грех в качестве предпосылки; подобно водовороту, о котором столь различно говорили греческие натурфилософы, она полагает его как движущееся нечто, которое не способно схватить никакое научное знание.
Вы согласитесь, что применительно к догматике дело обстоит именно так, если снова найдете время осмыслить бессмертные заслуги Шлейермахера перед этой наукой. Его уже давно бросили, выбрав Гегеля, а между тем Шлейермахер был в прекрасном греческом значении слова мыслителем, который говорил только о том, что знал, тогда как Гегель, несмотря на все свои превосходные качества и исполинскую ученость, во всех достижениях только лишний раз напоминает о том, что был в немецком значении слова профессором философии огромного масштаба, поскольку ему а tout prix ("любой ценой" (франц.)) нужно было все разъяснять.
Стало быть, новая наука начинается с догматики в том же смысле, в каком имманентная наука начинается с метафизики. Здесь этика опять-таки находит свое место в качестве науки, которая ставит осознание догматикой действительности как задачу действительности. Такая этика не игнорирует грех и имеет свою идеальность не в том, что она идеально требует, — нет, ее идеальность состоит в проникающем насквозь осознании действительности, действительности греха, причем следует заметить, что это происходит отнюдь не с метафизическим легкомыслием или же с психологическим сладострастием.
Тут легко заметить различие в движении, равно как и то, что этика, о которой мы сейчас говорим, принадлежит иному порядку вещей. Первая этика внезапно натыкалась на греховность отдельного индивида. Потому, безо всяких попыток разъяснить это, трудности должны были становиться все больше, пока грех отдельного человека не расширялся до всеобщего греха рода. Тут появлялась догматика, предлагавшая свое понятие первородного греха. Новая же этика заранее полагает догматику в качестве предпосылки, а с нею — и первородный грех; уже исходя из этого, она разъясняет грех отдельного индивида, между тем как идеальность одновременно полагается как задача, хотя и не в движении сверху вниз, но в движении снизу вверх.
Как известно, Аристотель использовал обозначение ????? ????????? ("первая философия" (греч.)), называя так прежде всего метафизику, хотя временами он включал в нее и часть того, что, по нашим понятиям, относится к теологии. Совершенно нормально, что в язычестве теология и должна была рассматриваться таким образом; и тот же изъян в бесконечной сплошной рефлексии привел к тому, что театр в язычестве обрел реальность как своего рода служение Богу. Если теперь попытаться абстрагироваться от этой двусмысленности, можно использовать такое обозначение, понимая под ????? ????????? научную тотальность, которую можно было бы назвать языческой и чьей сущностью остается имманентность, или, в греческих терминах, воспоминание; под secunda philosophia ("вторая философия" (лат.)) можно понимать ту философию, чьей сущностью является трансцендентность, или повторение .
Стало быть, понятие греха, по сути, не принадлежит никакой науке, и только вторая этика может рассматривать его проявления, хотя и не возникновение (Tilblivelse). Начни же его рассматривать какая-либо иная наука, это понятие окажется искаженным. Это и будет происходить — чтобы уж подойти поближе к нашему замыслу, — если за дело возьмется психология.
То, с чем должна иметь дело психология, непременно будет чем-то покоящимся, чем-то сохраняющимся в подвижном состоянии покоя, а вовсе не чем-то беспокойным, рвущимся все дальше и дальше, независимо от того, выражает ли оно себя явно или оказывается подавленным. И однако же, это остающееся, то, из чего грех стремится выйти все дальше и дальше (и выйти не посредством необходимости, но посредством свободы, ибо становление в необходимости — это состояние, как, скажем, вся история растений есть лишь некое состояние); — так вот, это остающееся, эта распоряжающаяся предпосылка, эта реальная возможность греха и есть предмет для интересов психологии. То, что может занять психологию, и то, чем может заняться психология, — это понимание, как может возникнуть грех, а вовсе не констатация, что он вообще возникает. Она может так далеко зайти в своем психологическом интересе, что кажется, будто грех уже тут, однако то, что из этого непосредственно следует — что грех уже налично присутствует, — качественно отлично от первого допущения. Каким же образом эта предпосылка тщательного психологического рассмотрения и наблюдения проявляется, как все более распространяется вокруг — это действительно представляет интерес для психологии, но ведь психология одновременно поддается заблуждению, будто тем самым грех уже налично присутствует. Но это последнее заблуждение являет собой бессилие психологии, доказывая, что она уже отслужила свое.
То, что человеческая природа устроена таким образом, что она делает грех возможным, с психологической точки зрения совершенно верно, однако то, что человек позволяет обрести действительность как раз этой возможности греха, возмущает этику и звучит для догматики как богохульство; ибо свобода никогда не бывает возможной; как только она есть — она действительна; в этом же смысле, как говорилось в одном старом философском учении, если существование Бога возможно, оно необходимо 39.
Как только грех действительно полагается, на этом месте тотчас же появляется этика, которая следует за каждым его шагом. Этику не заботит, как возник грех, за исключением того, что ей совершенно ясно, что грех вошел в мир как грех. Но еще меньше, чем о возникновении греха, этика заботится об успокоении своих возможностей.
Если теперь пожелают задаться вопросом, в каком смысле и как далеко психология в своих наблюдениях следует за своим предметом, то из вышеизложенного, равно как и само по себе, ясно, что всякое наблюдение за действительностью греха, будучи помысленным, является чем-то совершенно безучастным, а этика не имеет к этому никакого отношения; ибо этика никогда не выступает наблюдающей, но является упрекающей, судящей, действующей. Кроме того, из вышеизложенного, равно как и само по себе, понятно, что психология не имеет дела с деталями эмпирической действительности, помимо тех, конечно, которые лежат за пределами греха. будучи наукой, психология, разумеется, не может эмпирически подходить к деталям, лежащим в ее основе, хотя эти детали все же могут быть научно представлены, по мере того как сама психология становится конкретнее. В наши дни эта наука, которая по сравнению со всеми другими имела бы, пожалуй, большее право опьяняться искрящимся многообразием жизни, стала сдержанной и аскетичной, как самобичевание. Это не вина самой науки, — дело тут в ее хранителях. Напротив, по отношению к греху для нее запретно все внутреннее содержание действительности, к ее сфере относится только сама возможность греха. С этической же точки зрения возможность греха, естественно, вообще не входит в предмет рассмотрения, и этика не дает себя провести и не теряет понапрасну свое время на такие измышления. В отличие от этого психология просто обожает ее, она сидит и рисует себе наброски, высчитывая закоулки и изгибы возможности, так же не позволяя посторонним беспокоить себя, как Архимед.
Но когда психология, таким образом, углубляется в возможность греха, она оказывается — сама того не зная — на службе у иной науки, которая только и ждет, чтобы она завершила свои изыскания, с тем чтобы начать самой и помочь психологии в разъяснениях. Это не этика; ибо этика, безусловно, не имеет никакого отношения к этой возможности. Скорее уж это догматика, и здесь снова появляется проблема первородного греха. В то время как психология обосновывает реальную возможность греха, догматика разъясняет первородный грех, то есть идеальную возможность греха. Напротив, вторая этика вовсе не имеет дела с возможностью греха или первородного греха. Первая этика игнорирует грех, вторая же этика имеет действительность греха внутри своей сферы, и психология опять-таки может проникнуть сюда лишь по недоразумению.
Если изложенное здесь верно, нетрудно заметить, по какому праву я назвал настоящее произведение психологическим рассмотрением, иначе говоря, каким образом происходит, что, будучи возвышенным до осознания своего места в научном знании, это рассмотрение, ориентируясь на догматику, вместе с тем принадлежит сфере психологии. Психологию называли учением о субъективном духе. Если проследить за этим подробнее, легко увидеть, как, приходя к проблеме греха, она должна прежде всего превращаться в учение об абсолютном духе. Первая этика предполагает метафизику, вторая — догматику, завершая ее, однако, таким образом, что здесь как и повсюду — ясно проявляется эта предпосылка.
Такова была задача введения. Оно может быть верным при всем том, что само рассмотрение понятия страха может быть совершенно неверным. Так ли это, нужно еще показать.
Глава первая. СТРАХ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА И КАК ТО, ЧТО РАЗЪЯСНЯЕТ ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ ВСПЯТЬ, В НАПРАВЛЕНИИ ЕГО ИСТОКА
§1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ "ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ"
Тождественно ли это понятие понятию первого греха, греха Адама, грехопадения? До сих пор это понималось именно так, и потому задача разъяснить первородный грех полагалась тождественной задаче разъяснить грех Адама. Поскольку здесь мышление натыкается на трудности, были попытки найти выход. Чтобы все-таки нечто разъяснить, вводилась некая фантастическая предпосылка, с потерей которой и связывалось понимание последствий грехопадения. При этом получали то преимущество, с которым все охотно соглашались, — состояние, подобное описанному, вообще не встречается в мире; однако тут же забывали, что сомнение заключалось совсем в ином: существовало ли вообще такое состояние и насколько было необходимо его терять. История человеческого рода получала фантастическое начало, Адам фантастически выделялся из нее, благочестивые чувства и фантазия получали то, чего они жаждали, то есть поучительный пролог; мышление, однако же, ничего не получало. Адам оказывался фантастически выделенным двойственным способом. Предпосылка была диалектически-фантастической, и прежде всего в католицизме (Адам утратил donum divinitus datum supranaturale et admirabile). Она была исторически-фантастической, и прежде всего в федеральной догматике, которая драматически затерялась в фантастической картине появления Адама как уполномоченного всего рода. Оба разъяснения, естественно, ничего не объясняют, поскольку одно всего лишь устраняет разъяснением то, что само выдумало, тогда как другое всего лишь поэтически выдумывает то, что ничего не разъясняет.
Возможно, понятие первородного греха отличается от понятия первого греха таким образом, что отдельный человек участвует в нем только через свое отношение к Адаму, а не через свое изначальное отношение к греху? Но в таком случае Адам опять-таки оказывается фантастически выделенным из истории. Тогда грех Адама — это нечто большее, чем просто прошедшее (plus quam perfectum (букв.: "более чем завершенное", то есть "прошедшее время" (лат.))). Первородный грех — это нечто настоящее, это греховность, а Адам — единственный, в ком это было не так, ибо греховность возникла через него.
Значит, мы стремились не разъяснить грех Адама, но хотели просто разъяснить первородный грех в его следствиях. Однако такое разъяснение ничего не давало бы мышлению. Отсюда легко понять, что символическое произведение отстаивает невозможность разъяснения и что такое утверждение непротиворечиво располагается рядом с разъяснением. В Шмалькальдских тезисах прямо говорится: "Peccatum haereditarium tam profunda et tetra est corruptio naturae, ut nullius hominis ratione intelligi possit, sed ех scripturae patefactione agnoscenda et credenda sit". Это высказывание можно легко соединить с разъяснениями; ибо в них не столько проявляются определения мысли как таковые, сколько благочестивое чувство (направленное к этическому) дает волю своему возмущению первородным грехом, берет на себя роль обвинителя и теперь, с чуть ли не женственной страстностью, с мечтательностью любящей девушки, печется лишь о том, чтобы представить греховность и себя самого в ней возможно более отталкивающим образом, когда ни одно слово не кажется достаточно суровым для обозначения участия отдельного человека в этой греховности. Если рассмотреть в этой связи различные конфессии, образуется некая градация, в которой побеждает глубокое протестантское благочестие. Греческая церковь называет первородный грех ???????? ?????????????? ("праотец" (греч.)). Там еще не было понятия; ибо слово это является просто историческим указанием, которое не дает настоящего (как это делает понятие), но сообщает всего лишь нечто исторически замкнутое. Vitium originis (Тертуллиан) конечно же является понятием, однако словесная форма способствует тому, чтобы историческое могло быть понято как преобладающее. Peccatum originale (quia originaliter tradatur, Августин) дает понятие, которое еще точнее определяется посредством различения между peccatum originans и originatum. Протестантизм отвергает схоластические определения (carentia imaginis dei, defectus justitiae originalis), но делает это таким образом, что первородный грех оказывается poena ("наказание" (лат.)) (Concupiscentiam poenam esse non peccatum, disputant adversarii — "Апология"), и тут же вздымается воодушевляющая вершина: vitium, peccatum, reatus, culpa. Человек заботится только о красноречии сокрушенной души, а значит, может сообразно обстоятельствам вставлять в свои речи о первородном грехе совершенно противоречащую этому мысль (nunc quoque afferens iram der iis, qui secundum exemplum Adami peccarunt). Или же это озабоченное красноречие совершенно не заботится об этой мысли, но высказывает о первородном грехе нечто ужасающее (quo fit, ut omnes propter inobedientiam Adae et Hevae in odio apud deum simus — Формула Согласия, которая, однако же, достаточно предусмотрительна, чтобы протестовать против самого ее осмысления; ибо, если ее помыслить, грех станет субстанцией человека) . Как только исчезает воодушевление веры и сокрушенности, подобные определения более уже не смогут помочь, — определения, которые облегчают только задачу лукавого рассудка, помогая ему избавиться от сознания греховности. Однако та, что человек нуждается в других определениях, — это сомнительное доказательство совершенства нашего времени в том же смысле, в каком людям нужны иные законы, помимо драконовских.
Та фантастическая сторона, которая здесь проявилась, совершенно последовательно повторяется и в других частях догматики, скажем в разделах о примирении (Forsoning). Догматика учит что Христос достаточно много сделал для первородного греха. Но как же тогда обстоит дело с Адамом. Он ведь принес первородный грех в мир, — не значит ли это, что первородный грех был в нем поэтому действующим грехом? Или же для Адама первородный грех означает то же самое, что и для каждого в роде? В таком случае это понятие снимается. Или же вся жизнь Адама была первородным грехом? И не скрывал ли в нем первый грех иные грехи, то есть грехи действующие? Порок предшествующего рассуждения здесь проявляется еще яснее; ибо Адам таким фантастическим образом оказывается выделенным из истории, он становится единственным, кто исключен из примирения.
Стало быть, проблему можно поставить и так: как только Адам фантастическим образом оказывается исключенным из истории, все запутывается. Разъяснить грех Адама — значит поэтому разъяснить первородный грех, и тут не может помочь никакое разъяснение, которое стремится разъяснить Адама, не разъясняя первородный грех, или стремится разъяснить первородный грех, не разъясняя Адама. Это имеет свою глубочайшую причину в том — а это существенно в человеческой экзистенции, — что человек является индивидом, и, как таковой, он в одно и то же время является самим собой и целым родом таким образом, что целый род участвует в индивиде, а индивид — в целом роде . Если за это не держаться крепко, мы неминуемо попадем в число пелагиан, социнианцев, филантропов или же в чисто фантастические построения. Прозаическим способом понимания будет нумерически растворять род в индивидах, взятых einmal ein ("по одному" (нем.)). Фантастическим же будет оказывать Адаму вполне благожелательную честь быть чем-то большим, чем целый род, или же двусмысленную честь стоять вне рода.
В каждое мгновение отношение строится таким образом, что индивид является и собою и родом. Таково завершение человека, понимаемое как состояние. Вместе с тем это — и противоречие; но противоречие всегда является выражением некой задачи; задача — это движение; движение же, на равных с задачей, которая была дана через равное, является движением историческим. Между тем у индивида есть история; но если история есть у индивида, она есть и у рода. Каждый индивид наделен равным совершенством — именно поэтому индивиды не распадаются нумерически, — точно так же как и понятие рода отнюдь не становится фантомом. Каждый индивид имеет существенный интерес к истории всех других индивидов, — столь же существенный, как и к своей собственной. Потому совершенство в себе самом — это совершенное участие в целом. Ни один индивид не может быть безразличен к истории рода, точно так же как и род небезразличен к истории какого бы то ни было индивида, ибо, когда история рода таким образом продвигается вперед, индивид постоянно начинает сначала, ведь он является собою самим и родом, — и тем самым он снова начинает историю рода.
Адам — первый человек, и он одновременно является собою самим и родом. Мы держимся за него вовсе не силой эстетической красоты; мы причисляем его к себе отнюдь не силой великодушного чувства, чтобы, так сказать, не оставить его на произвол судьбы как того, кто во всем виноват; отнюдь не силой воодушевления симпатии и убеждения благочестия решаем мы разделить с ним вину, подобно тому как ребенок желает быть виновным вместе с отцом, отнюдь не силой вынужденного сочувствия, которое учит нас обнаруживать себя там, где когда-нибудь придется себя обнаружить; нет, мы крепко держимся за него силой мышления. Потому всякая попытка разъяснить значение Адама для рода как caput generis humani naturale, seminale, foederale, если уж напомнить о выражениях догматики, только запутывает все. Он не является существенно отличным от рода, иначе род не наличествовал бы тут; он не является родом, иначе род опять-таки не наличествовал бы тут: он является собою самим и родом. А значит, то, что разъясняет Адама, разъясняет также и род, и наоборот.
§2. ПОНЯТИЕ ПЕРВОГО ГРЕХА
Согласно традиционным понятиям, различие между первым грехом Адама и первым грехом любого человека таково: грех Адама имеет греховность как следствие, другой же первый грех имеет предшествующую греховность как условие. Но будь это так, Адам действительно стоял бы вне рода, и род начинался бы не с него, но имел бы свое начало вне себя самого, что противоречило бы всякому понятию.
Нетрудно увидеть, что первый грех означает нечто иное, чем просто грех (то есть грех, как многие другие), нечто иное, чем некий грех (то есть номер 1, имея в виду также номер 2). Первый грех — это качественное определение, первый грех это грех. Это тайна первого и ее возмущение против абстрактной рассудочности, которая полагает: один раз — это ни разу, а много раз — это уже что-то, в то время как дело обстоит совсем наоборот, так как много раз либо означает, что каждый из них оказывается для самого себя таким же важным, как и первый раз, либо это означает, что все вместе они не так важны. Потому будет суеверием полагать в соответствии с логикой, что благодаря постоянно продолжающимся количественным определениям возникает новое качество; непростительным умолчанием будет, когда, даже не скрывая, что все происходит не совсем таким образом, тем не менее скрывают следствия, которые все это имеют для общей логической имманентности, когда позволяют всему этому впадать в логическое движение, подобно тому как это делал Гегель . Новое качество появляется благодаря первому, благодаря прыжку, благодаря внезапности загадочного.
Коль скоро же первый грех нумерически обозначает некий грех, из этого еще не следует никакой истории, грех не обретает тем самым никакой истории — ни в индивиде, ни в роде; ибо условие тут одно и то же,: хотя поэтому история рода еще не является историей индивида, равно как и история индивида еще не есть история рода, за исключением того, что противоречие постоянно выражает задачу,
Через первый грех грех вошел в мир; Точно таким же образом для всякого последующего человека действителен первый грех, ибо через него грех входит в мир.
То, что до первого греха Адама грех еще не присутствовал тут налично, — это по отношению к греху есть совершенно случайная и не относящаяся к делу рефлексия, которая не имеет никакого значения и не имеет никакого права делать грех Адама больше или делать грех любого другого человека меньше. Это прямо-таки логическая и этическая ересь, когда пытаются сделать вид, будто греховность в человеке определена количественно до тех пор, пока она в конце концов посредством generatio aequivoca ("самозарождение" (лат.)) не породит первого греха в человеке.
Этого не происходит, точно так же как это не происходило и с Тропом, который ведь был мастером, служившим количественным определениям, — мастером, с чьей помощью становились кандидатами. Пусть уж математики и астрономы, если могут, пользуются бесконечно исчезающими минимальными величинами; в жизни же человеку нисколько не помогает, если он получает некий аттестат; и уж тем более это бесполезно для разъяснения духа. И если первый грех всякого последующего человека, таким образом, рождается из греховности, значит, его первый грех должен быть определен как первый не по своей сути. Если же его определять по своей сути насколько это можно помыслить, — то он должен был бы определяться сообразно порядковому номеру в общем платежном фонде рода. Однако это не так, и столь же глупо, нелогично, неэтично, не по-христиански, когда всеми силами добиваются чести считаться первооткрывателем и при этом пытаются нечто от себя отодвинуть, когда человек не думает о том, что сам говорит, не делая ничего другого, помимо того, что другие уже сделали до него. Присутствие греховности в человеке, сила примера и тому подобное — все это просто количественные определения, которые ничего не разъясняют , при этом полагают, что индивид является родом, тогда как всякий индивид является собою самим и родом.
Рассказ о происхождении первородного греха, особенно в наше время, стал незаметно рассматриваться как миф. Тому есть своя веская причина: ведь именно то, что ставили на его место, как раз и было мифом, причем мифом безумным; ведь когда рассудку приходит в голову заниматься мифическим, из этого редко получается что-либо, кроме пустой болтовни. Такой рассказ — это единственное диалектически-последовательное рассмотрение. Его общее содержание по существу сосредоточено в следующем тезисе: грех вошел в мир через какой-то один грех. Будь это не так, грех вошел бы как нечто случайное, а от разъяснения этого следовало бы остеречься. Трудности, стоящие перед рассудком, — это как раз триумф разъяснения, его глубокая последовательность, которая заключается в том, что грех сам предполагает себя, что он входит в мир таким образом, что, когда он есть, он уже предположен. Стало быть, грех входит как нечто внезапное, то есть через прыжок (ved Springet); вместе с тем этот прыжок одновременно полагает качество; однако как только качество положено, в то же самое мгновение прыжок преобразуется в качество и оказывается предположенным качеством, а качество — предположенным прыжком. Это вызывает у рассудка возмущение, ergo ("следовательно" (лат.)) — является мифом. Взамен он сам творит миф, который отрицает прыжок, вытягивает круг в прямую линию, — и теперь уж все идет нормально. Он немного фантазирует о том, что было с человеком до грехопадения, и по мере того как рассудок болтает об этом, проецируемая невинность в ходе болтовни мало-помалу превращается в греховность, а значит, она уже здесь. Доказательство рассудка в этих обстоятельствах уместно сравнить с детской считалкой, которая нравится ребятам: Pole een Mester, Pole to Mester — Politi Mester — вот и все, это совершенно естественным образом получается из предыдущего перечисления. Поскольку нечто должно быть мифом рассудка, то должно быть также верно, что греховность предшествует греху. Поскольку же это истинно в том смысле, что греховность появляется через нечто иное, чем грех, само это понятие оказывается снятым.
Если же она все-таки появляется через грех, это значит, что грех предшествует ей. Это противоречие является единственным диалектически-последовательным противоречием, которое властвует над обеими частями — прыжком и имманентностью (то есть позднейшей имманентностью).
Через первый грех Адама такой грех вошел в мир. Этот тезис, будучи самым обычным, содержит между тем совершенно внешнюю рефлексию, которая весьма много способствовала появлению так и не разрешенного недоразумения. То, что грех вошел в мир, — это вполне верно; однако это не так уж и касается Адама. Выражаясь гораздо более точно и определенно, следовало бы сказать, что через первый грех в Адама вошла греховность. Ни о каком позднейшем человеке никак нельзя сказать, что через его первый грех в мир вошла греховность, а между тем она входит в мир через него совершенно таким же образом (то есть способом, который не является существенно отличным); ибо, выражаясь более точно и определенно, пришлось бы сказать, что греховность пребывает в мире лишь постольку, поскольку она входит через грех.
то, что об Адаме говорят иначе, имеет причину только в том, что должны быть вполне видны последствия фантастического отношения Адама к роду. Его грех — это первородный грех. Помимо этого о нем ничего не известно. Однако первородный грех, увиденный в Адаме, — это просто его первый грех. Но является ли Адам поэтому единственным индивидом, у которого нет никакой истории? Так роду удается начать с индивида, который не является индивидом, благодаря чему оказываются снятыми оба эти понятия — род и индивид. И если какой-либо другой индивид в роде и в своей истории имел бы значение для истории рода, его имел бы и Адам; а если бы Адам имел его только через свой первый грех, само понятие истории оказывалось бы снятым, иначе говоря, история оказывалась бы завершенной в то самое мгновение, когда она началась .
Поскольку же род не начинается заново с каждым индивидом , греховность рода как раз и обретает историю. Она стремится вперед в количественных определениях, тогда как индивид участвует в ней посредством качественного прыжка. Поэтому род и не начинается заново с каждым индивидом; ибо тогда рода вообще не было бы здесь; но каждый индивид заново начинается с родом.
Стало быть, когда хотят сказать, что грех Адама принес грех рода в мир, это либо подразумевается чисто фантастически, вследствие чего всякое понятие оказывается аннулированным, либо это можно с тем же самым правом сказать о каждом индивиде, который приносит греховность через свой первый грех. Найти некоего индивида, который стоял бы вне рода, чтобы он начал этот род, — это миф рассудка; это совершенно то же самое, как если бы греховность начиналась совершенно другим способом, а не через грех. Таким образом ничего не достигают, но просто отодвигают проблему, которая за разъяснением, естественно, обращается к человеку под номером 2, или точнее, к человеку номер 1, поскольку номер 1, по существу, уже стал нулевым.
То, что часто сбивает с толку и способствует появлению совершенно фантастических представлений, так это отношение поколений: как будто позднейший человек существенно отличается от первого благодаря своему происхождению. Происхождение — это просто выражение непрерывной связи в истории рода, которая всегда движется в количественных определениях, а потому никоим образом не способна создать индивида; ведь род животных — пусть даже он продолжался бы тысячу и еще тысячу поколений, — никогда не производит индивида. И если бы второй человек не происходил от Адама, он был бы не другим человеком, но пустым повторением и из него не мог бы прийти в становление ни род, ни индивид. Каждый отдельный Адам стал бы статуей себе самому и потому должен был бы определяться безразличным определением, то есть числом, именно в том несовершенном смысле, в каком по номерам называют "синих мальчиков". В лучшем случае каждый отдельный индивид был бы самим собой, но не самим собой и родом, он не имел бы никакой истории, как не имеет никакой истории ангел — ведь только ангел является самим собой и не участвует ни в какой истории.
Едва ли нужно говорить, что такое понимание никоим образом не повинно в пелагианизме, согласно которому каждый индивид, не заботясь о роде, разыгрывает свою маленькую историю в своем частном театре; ибо история рода спокойно продолжает свой ход, и в ней ни одному индивиду не приходится начинать на том же месте, что и любому другому, — нет, каждый индивид начинает заново и в то же самое мгновение оказывается там, где он и должен был начинать в истории.
§3. ПОНЯТИЕ НЕВИННОСТИ
Здесь, как и повсюду, где в наши дни сохраняются догматические определения, для того чтобы быть полезным догматике, необходимо начать с забвения того, что обнаружил Гегель. Странно бывает видеть, как у догматиков, которые в остальном стремятся быть вполне правоверными, в этом пункте вдруг появляется излюбленное замечание Гегеля, согласно которому определением непосредственного является то, что оно может быть снято, как если бы непосредственность и невинность были одним и тем же. Гегель ведь вполне последовательно истончил каждое догматическое понятие до такой степени, что оно сохранило редуцированное существование в качестве остроумного выражения для логического. Итак, непосредственное должно быть снято, — чтобы это сказать, не нужно никакого Гегеля, тем более что он не обрел никакой бессмертной заслуги, сказав, что, будучи помыслено логически, это даже не верно, ибо непосредственное вовсе не должно быть снято, потому что его вообще здесь нет. Понятие непосредственности принадлежит логике, понятие же невинности — этике, а о каждом понятии нужно говорить только с точки зрения той науки, которой оно принадлежит, независимо от того, принадлежит ли понятие этой науке тем, что оно в ней развивается, или же оно развивается, поскольку предполагается в ней.
Между тем неэтично утверждать, что невинность должна быть снята; ибо, если бы даже она снималась в то самое мгновение, когда ее провозглашают, этика все же запрещает забывать о том, что она может быть снята лишь через вину. Поэтому, если о невинности говорят как о непосредственности, а логическая проницательность и резкость указывают, что этот мимолетный момент должен исчезнуть, тогда как эстетическая изобретательность говорит о том, что он был и исчез, — все это будет всего лишь остроумным, суть же окажется забыта.
Стало быть, подобно тому как Адам потерял невинность через вину, ее теряет и каждый человек. Когда же он теряет ее не через вину, — значит, он теряет не невинность, а если он не был невинным, прежде чем стал виновным, — значит, он никогда не становился виновным.
Что же касается невинности Адама, то тут нет недостатка в совершенно фантастических представлениях, независимо от того, достигают ли они символической истинности во времена, когда над завесой церковной кафедры, равно как и над началом рода, еще лежит бархатистое сияние, или же они вводятся более рискованно как сомнительные поэтические находки. Чем фантастичнее оказывается облаченным Адам, тем менее ясно становится, как он мог согрешить, и тем ужаснее становится его грех. Он проиграл при этом раз и навсегда все великолепие, и к этому можно сообразно времени и обстоятельствам относиться сентиментально или остроумно, ощущать тяжесть тоски или легкомыслие, исторически сокрушаться или фантастически веселиться; но смысл этого этически не схватывается.
Что касается невинности позднейших людей (то есть всех, за исключением Адама и Евы), то об этом имеются весьма скудные представления. Этический ригоризм но заметил границы этического и оказался достаточно добросовестен, чтобы поверить, будто люди не воспользуются случаем незаметно улизнуть от целого, раз уж этот побег оказывается таким легким; легкомыслие же вообще ничего тут не заметило. Невинность можно потерять только через вину; каждый человек, по сути, теряет невинность тем же самым образом, что и Адам; и вовсе не в интересах этики заботиться обо всех, кроме Адама, превращая всех в заинтересованных свидетелей виновности, но не в виновных, равно как и не в интересах догматики превращать всех э заинтересованных и сочувствующих свидетелей примирения, но не в примирившихся.
И если так часто случается, что догматики и этики понапрасну расточают усилия и свое собственное время, чтобы размышлять о том, что могло бы произойти, если бы Адам не согрешил, то это лишь доказывает, что сюда привносят извращенное настроение, а с ним — и извращенное понятие. Невинному не может прийти в голову спросить о чем-то подобном, виновный же грешит, когда об этом спрашивает; ибо он хотел бы в своем эстетическом любопытстве отвлечься от того, что он сам принес виновность в мир, сам потерял невинность через вину.
Поэтому невинность — это не что-то подобное непосредственному, не что-то, что должно быть снято, чьим определением является то, что оно должно быть снято, не что-то, что, по сути, вообще не присутствует здесь, но она сама, будучи снятой, становится впервые через то и впервые тогда, когда она была прежде, чем быть снятой, и теперь вот снимается. Непосредственность снимается не через опосредование, но когда опосредование появляется, в это же самое мгновение оно снимает непосредственность. Потому снятие непосредственности — это имманентное движение в опосредовании, движение, которое протекает в противоположном направлении и благодаря которому оно предполагает непосредственность. Невинность — это нечто, снимаемое через трансценденцию, именно потому, что невинность есть нечто (в отличие от этого, наиболее точным выражением для непосредственности является ничто, как раз его использовал Гегель, говоря о чистом бытии), и именно поэтому, когда невинность снимается через трансценденцию, из нее получается нечто совершенно иное, тогда как опосредование как раз и есть непосредственность. Невинность — это некое качество, она есть некое состояние (Tilstand), которое вполне способно существовать, и потому логическая торопливость, спешащая его снять, ничего не значит, — поскольку в логике следует заботиться о том, чтобы еще больше поторапливаться; она ведь всегда приходит слишком поздно, даже когда так торопится. Невинность — это не какое-то совершенство, к которому следует стремиться вернуться; ибо стоит только пожелать ее себе — и она потеряна, и тогда появляется новая вина — попусту расточать время на желания. Невинность — это не какое-то совершенство, при ней нельзя оставаться; ибо для самой себя ее достаточно, но тому, кто ее потерял, тому, кто ее потерял так, как она только и может быть потеряна, а не так, как ему, может быть, хотелось бы ее потерять — то есть через вину, — тому не придет в голову восхвалять свое совершенство за счет невинности.
Рассказ Книги Бытия дает также правильное разъяснение невинности. Невинность — это неведение. Она никоим образом не является чистым бытием непосредственного, но она есть неведение. А то, что, глядя на неведение извне, его видят как нечто определенное знанием, — это нечто, совершенно не затрагивающее неведения.
И поистине испытываешь облегчение при мысли, что такое толкование уж никак не повинно в пелагианстве. Род имеет свою историю, и в ней греховность обладает своей непосредственно продолжающейся количественной определенностью, однако невинность всегда теряется только через качественный прыжок индивида.
То, что греховность как продвижение рода может как большая или меньшая предрасположенность проявляться в отдельном индивиде, принимающем ее в своих действиях, вполне верно, однако это всегда нечто большее или меньшее, некое количественное определение, которое не образует понятия вины.
§4. ПОНЯТИЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ
Но если невинность — это неведение, тогда кажется, будто виновность рода в своей количественной определенности присутствует в неведении отдельного индивида и проявляется через его действия как его собственная виновность и будто там возникает различие между невинностью Адама и невинностью всякого позднейшего человека. Ответ уже дан: нечто большее или меньшее не образует качества. Точно так же может показаться, будто легче разъяснить, как теряет невинность позднейший человек. Между тем это всего лишь видимость. Самое внешнее количественное определение столь же мало разъясняет качественный прыжок, как и самое внутреннее; если оно может объяснить вину у позднейшего человека, оно с таким же успехом может объяснить ее и у Адама.
Вследствие обыденного употребления и прежде всего вследствие бездумности и этической глупости создалось впечатление, будто первое легче последнего. Человек хотел бы избежать последствий в виде солнечного удара, хотя солнце светит ему прямо в макушку. Человек готов пребывать в греховности, переносить ее — и так далее, и так далее. Человек не хочет создавать себе никаких неудобств, греховность ведь — не какая-нибудь эпидемия, которая распространяется, как коровья оспа, и "заграждаются всякие уста". То, что человек может с глубокой серьезностью говорить, что он был рожден в нужде, а мать зачала его в грехе, вполне верно; однако он, по существу, может беспокоиться об этом только после того, как сам принес вину в мир и взял все на себя, ибо противоречием будет эстетически беспокоиться о греховности. Единственный, кто невинно беспокоился о греховности, был Христос, однако он беспокоился о ней не как о судьбе, внутри которой ему пришлось оказаться, но беспокоился о ней как тот, кто свободно избрал себе долю — нести грех всего мира и претерпеть за это наказание. Это отнюдь не эстетическое определение, ведь Христос был больше чем индивид.
Стало быть, невинность — это неведение; но как же она теряется? Я не собираюсь здесь снова перечислять все остроумные и безумные гипотезы, посредством которых мыслители и творцы проектов, просто из любопытства интересовавшиеся великой человеческой задачей, называемой грехом, освещали начало истории. Частью мне не хочется тратить время других людей, рассказывая о том, на изучение чего я потратил свое собственное время, частью же все это просто лежит вне истории, в том сумраке, где ведьмы и творцы проектов носятся взапуски на помеле или на колбасной палочке.
Наука, которая имеет дело с разъяснением, — психология, которая, однако же, может разъяснять только нечто в самом разъяснении и должна прежде всего остерегаться производить впечатление, будто она разъясняет то, что не разъясняет никакая другая наука и что далее разъясняет только этика, будучи предваренной догматикой. Когда же пытаются взять психологическое разъяснение, повторить его несколько раз, а затем предположить, что нет ничего неправдоподобного в том, что грех вошел в мир именно таким образом, все только запутывается. Психология должна оставаться в своих границах, только там ее разъяснения могут всегда иметь смысл.
Психологическое разъяснение грехопадения хорошо и ясно представлено в развитии Павлова термина в учении Устери.
Сейчас теология стала настолько спекулятивной, что она не занимается ничем подобным, ведь гораздо приятнее разъяснить, что непосредственное должно быть снято; а теология порой поступает еще удобнее: в решающее мгновение разъяснения она попросту исчезает из глаз своего спекулятивного почитателя. Толкование Устери исходит из того, что именно запрет вкушать плоды от древа познания и проявил грех в Адаме. Это толкование не то чтобы совершенно пренебрегает этическим, но оно допускает в своих предположениях, что тут как бы заранее определяется только то, что происходит в качественном прыжке Адама .
Недостатком такого разъяснения является то, что оно не стремится быть по-настоящему психологическим. Это, естественно, вовсе не упрек; ибо оно само не пожелало этого, но поставило перед собой иную задачу: развить учение Павла и зацепиться за библейскую традицию. Однако в этом отношении Библия зачастую оказывала пагубное воздействие. И теперь, когда начинают некое рассуждение, в голове обычно всплывают определенные классические пассажи, так что предлагаемые разъяснения и знания становятся просто подтверждением этих пассажей, тогда как целое остается все так же чуждым. Чем естественнее, тем лучше, коль скоро вы готовы со всем почтением подчинять свое суждение мнению Библии и, буде оно не совпадет с ним, признать, что нужно попытаться разъяснить еще раз. При этом вы не попадаете в некое извращенное положение, когда непременно нужно понять разъяснение, прежде чем поймешь, что оно вообще должно разъяснять, равно как вы не попадаете и в некое вероломное положение, когда пассажи Писания используются так, как персидские цари использовали против египтян их же священных животных: чтобы защититься.
Если грехопадению позволяют быть обусловленным запретом, значит, этому запрету позволяют пробудить concupiscentia ("сладострастие" (лат.)). Здесь психология уже переступает границы своей компетентности. Concupiscentia — это определение вины и греха до вины и греха, который, однако же, не является виной и грехом, то есть лишь полагается через них. Качественный прыжок оказывается ослабленным, а грехопадение становится чем-то последовательным. Невозможно также увидеть, каким образом запрет пробуждает concupiscentia, хотя как из языческого, так и из христианского опыта совершенно ясно, что человеческое желание направлено к запретному. На опыт нельзя сослаться сражу же, целиком, между тем как о подробностях вполне можно задаться вопросом — в какой же отрезок жизни будут восприняты те или иные из них? Промежуточное определение concupiscentia не является и двусмысленным, поэтому можно сразу же определить, что оно никак не служит психологическим разъяснением. Самое сильное, по сути самое позитивное выражение, используемое протестантской церковью применительно к наличию первородного греха в человеке, состоит в том, что человек рождается посредством concupiscentia (Omnes homines secundum naturam propagati nascuntur cmn peccato Ь. е. sine metu dei, sine fiducia erga deum et cum concupiscentia) . И однако же, протестантское учение проводит существенное различие между невинностью позднейшего человека (если о таковой может идти речь) и невинностью Адама.
Психологическое разъяснение не должно искажать главный смысл своей пустой болтовней, ему следует оставаться в собственной гибкой двусмысленности, из которой вина вырывается вперед в качественном прыжке.
§5. ПОНЯТИЕ СТРАХА
Невинность — это неведение. В невинности человек не определен как дух, но определен душевно, в непосредственном единстве со своей природностью. Дух в людях грезит. Такое толкование находится в полном согласии с Библией, которая отказывает человеку, пребывающему в невинности, в знании различия между добром и злом и тем самым выносит окончательный приговор всем католическим фантазиям о заслуге.
В этом состоянии царствует мир и покой; однако в то же самое время здесь пребывает и нечто иное, что, однако же, не является ни миром, ни борьбой; ибо тут ведь нет ничего, с чем можно было бы бороться. Но что же это тогда? Ничто. Но какое же воздействие имеет ничто? Оно порождает страх. Такова глубокая таинственность невинности: она одновременно является страхом. В грезах дух отражает свою собственную действительность, однако эта действительность есть ничто, но это ничто постоянно видит невинность вне самого себя.
Страх — это определение грезящего духа, и в качестве такового оно принадлежит сфере психологии. Слабо различие, установленное между мною самим и моим иным, оно как бы подвешено в полусонном состоянии, в грезах оно едва обозначено как ничто. Действительность духа постоянно проявляется как форма, которая заманивает свою возможность и тотчас же ускользает, как только та готова за это уцепиться, — это ничто, которое может лишь страшиться. На большее она не способна, пока она просто проявляется. Почти никогда не случается, чтобы понятие страха рассматривалось в психологии, а потому мне приходится обратить внимание на то, что оно совершенно отлично от боязни и подобных понятий, которые вступают в отношение с чем-то определенным: в противоположность этому страх является действительностью свободы как возможность для возможности. У животного невозможно обнаружить страх именно потому, что оно в своей природности не определено как дух.
Если же мы пожелаем рассмотреть диалектические определения страха, окажется, что как раз они и наделены диалектической двусмысленностью. Страх — это симпатическая антипатия и антипатическая симпатия. Мне кажется, нетрудно заметить, что это является психологическим определением в совершенно ином смысле, чем упомянутая concupiscentia. Это полностью подтверждается в речи, обычно говорят: сладкий страх, сладкое устрашение; говорят: удивительный страх, робкий страх и так далее.
Страх, полагаемый в невинности, является поэтому, во-первых, никакой не виной, а во-вторых, он вовсе не является некой утомительной тяжестью, неким страданием, что не может быть приведено в созвучие с блаженством невинности.
Наблюдения за детьми позволяют обозначить этот страх как жадное стремление к приключениям, к ужасному, к загадочному. То, что бывают дети, в которых этот страх не обнаруживается, еще ничего не доказывает: ведь у животного его тоже нет, и чем меньше духа, тем меньше страха. Такой страх столь сущностно свойствен ребенку, что тот вовсе не хочет его лишиться; даже если он и страшит ребенка, он тут же опутывает его своим сладким устрашением. И во всех народах, где детскость сохранилась как грезы духа, этот страх есть; и чем он глубже, тем глубже сам народ. Только прозаичная пошлость может полагать, будто тут содержится какое-то искажение. Страх обладает здесь тем же самым значением, что и тоска в некой более поздней точке, где свобода, пройдя через все несовершенные формы своей истории, в глубочайшем смысле должна наконец вернуться к себе самой .
Таково же поэтому отношение страха к своему объекту, к чему-то, что есть ничто (в речевой практике говорится: бояться ничто), совершенно двусмысленно, таким образом, и переход, который может быть сделан здесь от невинности к вине, становится как раз настолько диалектичным что он показывает: разъяснение является таким, каким оно и должно быть, то есть психологическим. Качественный прыжок лежит за пределами всякой двусмысленности, однако тот, кто через страх становится насквозь виновным, все же является невинным; ибо он не сам стал таким, но страх, чуждая сила, подтолкнул его к этому, сила, которую он не любил, нет, сила, которой он страшился; и все же он виновен, ибо он погрузился в страх, который он все же любил, хотя и боялся его. В мире нет ничего более двусмысленного, чем это, и потому такое разъяснение является единственным возможным психологическим разъяснением, хая оно, чтобы уж повторить это еще раз, никогда не позволяют себе предположить, что оно стремится стать разъяснением, объясняющим качественный прыжок. Всякое представление о том, что запрет прельщает его или что соблазнитель его обманул, имеют достаточную двусмысленность только для поверхностного наблюдения искажает этику, осуществляет количественное определение и стремится с помощью психологии сделать человеку комплимент за счет этики; и каждый, кто этически развит, должен возражать против такого комплимента, как против нового и глубинного соблазна.
То, что страх становится явным, — краеугольный камень всего. Человек есть синтез душевного и телесного. Однако такой синтез немыслим, если эти два начала не соединяются в чем-то третьем. Это третье есть дух. В своей невинности человек не просто животное, поскольку, будь он хоть одно мгновение своей жизни только животным, он вообще не стал бы никогда человеком. Стало быть, дух присутствует в настоящем, но как нечто непосредственное, как нечто грезящее. Однако в той мере, в какой он присутствует в настоящем, он в определенной степени является чуждой силой; ибо он постоянно нарушает отношение между душой и телом, которое хотя и обладает постоянством, вместе с тем и не обладает им, поскольку получает это постоянство только от духа. С другой же стороны, это дружественная сила, которая как раз стремится основать такое отношение. Но каково же тогда отношение человека к такой двусмысленной силе, как относится дух к себе самому и к своему условию? Он относится, как страх. Стать свободным от самого себя дух не может; постичь себя самого он также не может, пока он имеет себя вне себя самого; человек не может и погрузиться в растительное состояние, ибо он определен как дух; он не способен и ускользнуть от страха, ибо он его любит; но он и не способен действительно любить его, ибо он от него ускользает. Тут невинность достигает своей вершины. Она есть неведение, однако это не какая-то там животная грубость, но неведение, которое определено как дух; однако при этом она есть страх, поскольку ее неведение относится к ничто. Здесь нет никакого знания добра и зла и тому подобного; но общая действительность знания отражается в страхе как ужасное ничто неведения.
Тут все еще присутствует невинность, однако достаточно произнести слово, чтобы сгустилось неведение. Невинность, естественно, не может понять этого слова, однако страх тут как бы уже поймал свою первую добычу, вместо ничто он получил некое загадочное слово. Как сказано об этом в Бытии, Бог промолвил Адаму: "А от дерева познания добра и зла, не ешь от него"; причем само собой понятно, что Адам, по сути, не понял этого слова; да и как он мог бы понять различение между добром и злом, если такое различение возникло лишь вместе со вкушением.
Если предположить теперь, что запрет пробуждает желание, мы получаем вместо неведения знание, поскольку тогда Адам должен был обрести знание свободы, ибо желание было направлено на то, чтобы ею воспользоваться. Поэтому такое разъяснение следует за развитием событий. Запрет страшит его, поскольку запрет пробуждает в нем возможность свободы. То, что мимолетно проскальзывает по невинности как ничто страха, теперь входит внутрь его самого; здесь оно снова есть ничто, страшащая его возможность мочь. Чем же является то, что он может, — об этом у него нет ни малейшего представления; ведь в противном случае окажется, как это обычно и происходит, что позднее предполагается заранее — то есть само это различие между добром и злом. Сама возможность мочь наличествует как более высокая форма неведения, как более высокое выражение страха, поскольку в некотором более высоком смысле он есть и не есть, ибо в некоем более высоком смысле он любит и ускользает.
За словами запрета следуют слова, устанавливающие наказание: "смертью умрешь". Что означает умереть, Адам конечно же совсем не понимает, однако если допустить, что это было ему сказано, его непонимание не препятствует тому, что он получает представление об ужасном. В этом отношении даже животное способно понять выражение лица и оттенки голоса говорящего человека, не понимая самих слов. В то время как запрет позволяет пробудиться желанию, слова о наказании должны позволить пробудиться ужасающему представлению. Все это, однако же, весьма запутывает. Ужасное потрясение здесь становится только страхом; ведь Адам не понял сказанного, и потому у него снова нет ничего, кроме двусмысленности страха. Бесконечная возможность мочь, которая пробудилась через запрет, теперь приближается благодаря тому, что эта возможность указывает на возможность как свое следствие.
Таким образом, невинность доводится до крайности. Вместе со страхом она вступает в отношение к запретному и к наказанию. Она невиновна, однако здесь присутствует страх, как будто она уже потеряна.
Дальше психология не способна ступить, однако это пока еще достижимо для нее, и прежде всего она может в своих наблюдениях снова и снова указывать на человеческую жизнь.
Тут я до самого конца держался за библейские рассказы. Я дал возможность запрету и карающему гласу явиться извне. Естественно, это докучало многим мыслителям. Но ведь это всего лишь некая трудность, по поводу которой можно просто улыбнуться. Невинность вполне способна прекрасно говорить; при этом она выражает в речи все духовное. Тут достаточно всего лишь предположить, что Адам разговаривал сам с собою. Тогда исчезает и несовершенство рассказа, согласно которому некто иной говорил Адаму о том, чего тот не понимал. Но из того, что Адам мог говорить, вовсе не следует в глубоком смысле, что он мог и понять сказанное.
Прежде всего это относится к различию между добром и злом, которое, хотя и присутствует в речи, пребывает там только ради свободы. Невинность вполне способна выражать в речи это различие, однако различие существует не для нее и имеет для нее только то значение, которое мы рассмотрели в предшествующем изложении.
§6. СТРАХ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА И КАК ТО, ЧТО РАЗЪЯСНЯЕТ ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ ВСПЯТЬ, В НАПРАВЛЕНИИ ЕГО ИСТОКА
Давайте теперь рассмотрим рассказ Книги Бытия подробнее, стараясь при этом отрешиться от навязчивой идеи, согласно которой это всего лишь миф, и памятуя о том, что никакое время не было столь расторопно, как наше, в создании мифов рассудка, причем это время само создает мифы, пытаясь выкорчевать все эти мифы до основания.
Стало быть, Адам был создан, он дал животным имена (здесь опять-таки появляется речь, хотя, вероятно, еще и несовершенным образом, подобно тому как ей учатся дети, когда они узнают изображение животного на дощечке с азбукой), однако не нашел для себя никакого общества. Была создана Ева, сотворенная из его ребра. Она стояла к нему в возможно более внутреннем отношении, хотя вместе с тем это было все же внешнее отношение. Адам и Ева суть просто нумерическое повторение. Будь в этом смысле там тысяча Адамов, это означало бы ничуть не больше, чем то, что был только один. Это то, что касается происхождения рода от одной пары. Природа не любит бессмысленной чрезмерности. Поэтому, если предположить, что род происходит от более чем одной пары, это значит, что существует мгновение, когда природа имела такую ничего не говорящую чрезмерность. Как только положено отношение между поколениями, ни один человек не является более чем-то излишним; ибо каждый индивид является собой самим и родом.
Затем следует запрет и установление наказания. Однако змей был хитрее всех полевых зверей, он обманул женщину. Можно сколько угодно называть это мифом, но не стоит забывать о том, что этот миф не мешает мысли и не путает понятия, как это делает миф рассудка. Миф просто позволяет проявиться вовне тому, что является внутренним.
Здесь прежде всего следует обратить внимание на то, что женщина соблазняется первой и уже потом соблазняет мужчину. Позднее в другой главе я попытаюсь изложить, в каком смысле женщина является тем, что принято называть слабым полом, равно как и пояснить, что страх свойствен ей в большей степени, чем мужчине . В предшествующем разделе читателю, скорее, напоминают, что толкование, развернутое в этом произведении, отнюдь не отрицает передачу греховности от поколения к поколению, то есть, иными словами, не отрицает, что греховность имеет свою историю в продвижении поколений, в данном разделе просто утверждается, что такая история движется в количественных определениях, между тем как грех всегда входит в нее посредством качественного прыжка индивида. Уже из этого видно значение количественного подхода к поколениям. Ева — это нечто производное. Она конечно же создана, подобно Адаму, однако она создана из предшествующего творения. Она конечно же невинна, подобно Адаму, однако тут присутствует как бы предчувствие некой предрасположенности, которая хотя еще и не является грехом, однако сама подобна намеку, позволяющему проявиться греховности, установившейся посредством передачи, — этот намек является тем производным, которое заранее предопределяет отдельного индивида, еще не делая его тем самым виновным.
Здесь следует напомнить о том, что уже было сказано в ~ 5 о словах запрета и осуждения. Несовершенство в этом повествовании — как могло кому-либо прийти в голову сказать Адаму нечто, чего тот, по сути, никак не мог понять, — снимается, стоит только подумать о том, что говорящим была сама речь и что к тому же так говорил сам Адам .
Теперь остается еще змей. Я не такой уж любитель остроумия и, volente deo ("если будет на то воля Божья" (лат.)), противостоял бы искушениям змея, который, точно так же как он в начале времен искушал Адама и Еву, на протяжении долгого времени искушал писателей — искушал их быть остроумными. Я уж, скорее, свободно признаюсь, что не могу связать с ним ни одной определенной мысли.
Трудность со змеем вообще заключена совершенно в другом — в том, чтобы позволить искушению прийти извне. Это прямо противоречит учению Библии, противоречит известному классическому месту из Послания Иакова, в котором говорится о том, что Бог никого не искушает и сам не искушается, но что каждый искушается сам. Если кто-нибудь подумает, что спас Бога, допустив, будто человека искушал змей, и вместе с тем будет полагать, что приходит в согласие со словом Иакова о том, что "Бог не искушает никого", он тотчас же сталкивается с другими его словами, что Бог сам никем не искушается. Ведь выпад змея против человека был одновременно опосредованным искушением, направленным против Бога, поскольку тем самым змей вмешивается в отношение между Богом и человеком; кроме того, он опять-таки сталкивается с третьим положением, что каждый искушается сам.
Теперь следует грехопадение. Его не может разъяснить психология, ибо это качественный прыжок. Давайте, однако, хотя бы на мгновение рассмотрим его последствия, как они представлены в этом повествовании, с тем чтобы еще раз обратить внимание на страх как предпосылку первородного греха.
Последствия были двойственны: грех вошел в мир, и там возникла сексуальность; причем одно не может быть отделено от другого. Это крайне важно, чтобы показать изначальное состояние человека. Если бы он не был синтезом, опирающимся на нечто третье, одна вещь не могла бы иметь два следствия. Если бы он не был синтезом души и тела, опирающимся на дух, сексуальность никогда не могла бы войти в мир вместе с греховностью.
Оставим в стороне создателей всевозможных фантастических проектов и просто примем, что сексуальное различие существовало и до грехопадения, правда на самом деле его как бы и не было, поскольку его нет в состоянии неведения. В этом отношении на нашей стороне и Писание.
В невинности Адам как дух был духом мечтающим. Между тем этот синтез еще не является действительным; ибо связующее звено — это дух, а он еще не установлен как дух. Среди животных сексуальное различие может быть развито инстинктивно, однако это не может происходить таким же образом у человека, — именно потому, что он есть синтез. В то мгновение, когда дух устанавливает самое себя, он устанавливает синтез, но для того чтобы установить синтез, он должен прежде всего пронизать его различением, а крайняя точка чувственного — это как раз сексуальное. Человек может достигнуть этой крайней точки только в то мгновение, когда дух становится действительным. До этого времени он не зверь, но, собственно, и не человек; только в то мгновение, когда он становится человеком, он становится им благодаря тому, что одновременно становится животным.
Стало быть, греховность — это не чувственность, никоим образом, но без греха нет никакой сексуальности, а без сексуальности нет истории. Совершенный дух не имеет ни того, ни другого, почему, скажем, сексуальное различие снимается вместе с восстанием из мертвых и почему у ангела нет истории. Даже если бы архангел Михаил отмечал все дела, на которые он был послан и которые выполнил, это все равно не составляло бы его истории. Только в сексуальном синтез установлен как противоречие, но ,подобно всякому противоречию, он установлен также и как задача, чья история начинается в это самое мгновение. Такова действительность, которой предшествует возможность свободы. Однако возможность свободы состоит не в том, что можно выбирать между добром и злом. Подобная бездумность значит так же мало Для Писания, как и для мышления. Возможность состоит в том, чтобы мочь. В логической системе очень удобно сказать, что возможность переходит в действительность. В действительности все это не так легко, и здесь нужно некоторое промежуточное определение. Такое промежуточное определение есть страх, который столь же мало объясняет качественный прыжок, как и оправдывает его этически. Страх — это не определение необходимости, но он также и не определение свободы, страх есть скованная свобода, когда свобода не свободна в самой себе, но скована — и не в необходимости, но в себе самой. Если грех пришел в мир необходимо (что является противоречием), значит, нет никакого страха. Если грех вошел в мир через акт абстрактного liberum arbitrium (которого ни вначале, ни позднее не было в мире, поскольку это вздорная мысль), страха опять-таки нет. Стремиться объяснить приход греха в мир логически — это глупость, это может прийти в голову только людям, которые смехотворно озабочены тем, чтобы всюду находить разъяснения.
Если бы мне было позволено здесь пожелать нечто, я пожелал бы, чтобы ни один читатель не оказался столь глубокомыслен, чтобы задать вопрос: "А что, если Адам не согрешил бы?" В то мгновение, когда устанавливается действительность, возможность отступает в сторону как ничто, привлекающее к себе всех безголовых людей. Ах, если бы только наука могла решиться дисциплинировать людей и сдерживать себя! Как только кто-нибудь задал глупый вопрос, важно поостеречься и не отвечать, иначе становишься таким же глупым, как вопрошающий. Глупость того вопроса состоит не столько в самом вопросе, как в том, что он тем самым обращен к науке. Если некто мило остается с нею дома и, как умная Эльза со всеми ее предположениями, созывает туда таких же умных друзей, к этой глупости еще можно отнестись с терпением. Нет, наука не может разъяснить нечто подобное.
Каждая наука заключена либо в некой логической имманентности, либо в имманентности внутри трансцендентности, которую она никак не способна объяснить. Но грех это как раз такая трансцендентность, такой критический discrimen rerum ("поворотный пункт (в ходе) вещей" (лат.)), в котором грех входит в единичного индивида как в единичного. Никак иначе грех в мир не входит и никогда не входил в него иначе. Стало быть, когда единичный индивид достаточно глуп, чтобы спрашивать о грехе как о чем-то, что его не касается, он задает вопросы, как дурак; ибо он либо вообще не знает, о чем идет речь, и потому никак не может это узнать, либо он это знает и понимает, включая то, что ни одна наука не может ему этого разъяснить. Временами, однако же, наука была достаточно любезна, чтобы пойти навстречу сентиментальным желаниям, выдвигая тяжеловесные гипотезы, о которых она затем сама же сообщала, что они не являются удовлетворительными разъяснениями. Это, разумеется, совершенно верно; однако путаница состоит в том, что наука не отклоняла решительно такие глупые вопросы, но скорее укрепляла суеверных людей в убеждении, что однажды явится некий ученый изобретатель проектов, который сумеет найти правильный ответ. И о том, что прошло уже шесть тысяч лет с того времени, как грех вошел в мир, говорится совершенно таким же образом, как о том, что прошло уже четыре тысячи лет с тех пор, как Навуходоносор превратился в вола. Если это понимают так, то нет ничего удивительного, что и разъяснение под стать этому. То, что в некотором отношении является самым простым на свете, превращают в самое трудное. И то, что даже самый простой человек все же по-своему понимает, причем понимает верно, — коль скоро он понимает, что не ровно шесть тысяч лет назад грех вошел в мир, — благодаря искусству этих создателей проектов становится для науки неким призовым заданием, с которым пока еще никто не справился удовлетворительно. То, как грех вошел в мир, каждый человек понимает единственно через себя самого; если он научится этому у другого, он как раз поэтому поймет это неправильно. Единственная наука, которая здесь отчасти способна помочь, — это психология, однако же и она сама признает, что ничего не разъясняет, не может разъяснять и не желает разъяснять.
Если бы какая-то наука могла это разъяснить, все окончательно бы запуталось. То, что человек науки должен забывать о себе, — это абсолютно верно; но именно поэтому можно считать весьма удачным, что грех отнюдь не является научной проблемой, а значит, ни у какого человека науки, равно как ни у какого создателя проектов, нет обязательства забыть, как грех вошел в мир. Пожелай он этого, пожелай он в высшем смысле забыть самого себя, — тогда в своем усердии объяснить все человечество он станет столь же смешон, как тот надворный советник, который, торопясь оставить свою визитную карточку у каждого знакомого, прилагал столько стараний, жертвуя собой, что в конце концов позабыл, как его зовут. А может, его философское воодушевление сделает его настолько рассеянным, что ему понадобится добродетельная и здравомыслящая супруга, которую он смог бы спросить, подобно тому как книготорговец Сольдин спрашивал Ревекку, когда во вдохновенной забывчивости он потерял себя в объективности болтовни: "Ревекка, а это я говорю?"
Абсолютно нормально, что в наше замечательное время высокочтимые люди науки, те, кто в своих известных всему обществу научных изысканиях и поисках системы ищет в ней местечко и для греха, могут счесть вышесказанное совершенно ненаучным. Однако само общество должно начать искать вместе с ними или, по крайней мере, включать этих глубокомысленных изыскателей в свои благочестивые молитвы; эти ученые определенно найдут подходящее место, подобно тому как ищущий, "где горит", наконец находит это, не замечая, что на самом-то деле все уже горит прямо у него в руках.
Глава вторая. CTPAX КАК ТО, ЧТО РАЗЪЯСНЯЕТ ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ ВПЕРЕД, В ПРОГРЕССИИ
Вместе с греховностью была положена сексуальность. И в это самое мгновение начинается история человеческого рода. Подобно тому как греховность в роде движется в количественных определениях, со страхом происходит то же самое.
Следствие или нынешнее присутствие первородного греха в единичном индивиде есть страх, который лишь количественно отличен от страха Адама. В состоянии невинности — а о чем-то подобном может идти речь и применительно к позднейшему человеку — первородный грех должен иметь ту же диалектическую двузначность, из которой в качественном прыжке вырывается наружу вина. С другой стороны, в последующем индивиде страх может быть более рефлективен, чем в Адаме, поскольку в нем становится теперь значимым количественный прирост, который род оставляет позади себя, двигаясь вперед. Но и тут, как это было всегда, страх отнюдь не становится сковывающим человека несовершенством, и нужно, напротив, сказать, что, чем человек проще, чем ближе к истокам, тем глубже его страх, поскольку та предпосылка греховности, которая лежит в основе его индивидуальной жизни, коль скоро он вступает в историю рода, еще должна быть присвоена им. Таким образом, греховность приобрела теперь большую власть, и первородный грех прирастает. То, что бывают люди, которые вообще не ощущают никакого страха, следует понимать в том смысле, что и Адам никогда не почувствовал бы страх, если бы оставался просто животным.
Последующий индивид, подобно Адаму, является синтезом, опирающимся на дух; однако этот синтез производен, и в нем тотчас же устанавливается история рода; в этом — в большей или меньшей степени — и заложен страх у последующего индивида. Однако его страх — это не страх перед грехом; ибо тут еще нет различия между добром и злом, так как это различие появляется только через действительность свободы. Подобное различение, если оно присутствует там, существует лишь как некое представление, которое опять-таки может означать нечто большее или меньшее только через историю рода.
То, что страх в последующем индивиде бывает рефлективнее, происходит вследствие его участия в истории рода, которую можно сравнить с привычкой: привычка же — это вторая натура, хотя она и не дает какого-то нового качества, но является всего лишь количественным продвижением вперед, а это происходит потому, что страх теперь входит в мир также и в ином смысле. Грех вошел вместе со страхом, но грех также и привел с собою страх.
Действительность греха — это как раз действительность, не имеющая постоянства. С одной стороны, эта непрерывность греха есть возможность, которая страшит; с другой же стороны, возможность спасения есть ничто, которое индивид одновременно любит и боится, ибо это всегда есть отношение возможности к индивидуальности.
Только в то мгновение, когда спасение действительно положено, этот страх преодолевается. Желание человека и твари вовсе не является, как изобретательно полагали некоторые, сладким томлением; ибо для того чтобы и само томление могло быть таковым, грех должен быть обезоружен. Тот, кто поистине познакомится с состоянием греха, равно как и с тем, как обстоит дело со спасением, наверняка признает это и будет хоть немного стеснен эстетической нестеснительностью. Пока речь идет лишь об ожиданиях, грех в человеке будет в силе и, естественно, будет воспринимать это ожидание враждебно. (Это мы еще рассмотрим позднее.) Когда же спасение уже положено, страх остается позади, как, впрочем, и возможность. Это не значит, что она тем самым уничтожена, но она играет совершенно другую роль, если ее правильно используют (глава V).
Страх, который приносит с собою грех, строго говоря, появляется только тогда, когда индивид сам полагает грех, и однако этот страх смутно присутствует как нечто большее или меньшее в количественной истории рода. Потому тут тотчас же сталкиваешься с явлением, когда человек кажется виновным исключительно в страхе о самом себе, — о чем конечно же не могло быть и речи применительно к Адаму.
То, что, несмотря на это, каждый индивид становится виновным только через самого себя, разумеется, верно; однако количественное в отношении к роду достигает здесь своего максимума и получает достаточно власти, чтобы запутать любое воззрение, если только человек не будет удерживать в сознании проведенное различие между количественным и качественным прыжком. Это явление позднее должно стать отдельным предметом разговора. Обычно же его просто игнорируют, что, конечно, удобнее всего. Или же его постигают чувствительно и сентиментально, с трусливым сочувствием, которое благодарит Господа за то, что сам не стал таким же, не понимая, что подобная благодарность — это предательство перед Богом и самим собой, без осознания того, что жизнь всегда содержит в себе подобные явления, которых, вероятно, вообще невозможно избежать. Сочувствие необходимо, но такое сочувствие истинно лишь тогда, когда человек по-настоящему глубоко признает перед самим собой, что случившееся с одним человеком может случиться со всеми. Только тогда человек становится реальным приобретением для себя и другого. Врач в сумасшедшем доме, который достаточно глуп, чтобы считать себя умнейшим на все времена и полагать свою толику разума надежно защищенной от всяких жизненных напастей, в определенном смысле, конечно, умнее безумцев, однако вместе с тем он и глупее их; и совершенно ясно, что ему не вылечить многих.
Стало быть, страх обозначает нечто двойственное. Это страх, в котором индивид полагает грех посредством качественного прыжка, и это страх, который вошел в мир вместе с грехом и продолжает входить так всякий раз, когда индивид полагает грех, поэтому он входит в мир также и количественно.
В мою задачу не входит писать ученый труд или же тратить время на создание литературных образов. Часто примеры, приводимые в психологических научных трактатах, бывают лишены настоящих психологически-поэтических полномочий.
Они присутствуют там подобно единичным notarialiter ("нотариально заверенные факты" (лат.)), и именно поэтому неясно, смеяться нам или плакать над попытками таких одиночек, кое-как ковыляющих на ходулях, вывести нечто вроде правила, годного для всех. Тот, кто с надлежащим масштабом подходил к. психологии и психологическим наблюдениям, приобретает некую общечеловеческую ловкость, которая позволяет ему тотчас же предложить свой собственный пример, каковой, не обладая даже авторитетом фактов, имеет все же какие-то иные полномочия. Подобно тому как наблюдатель-психолог должен быть более ловким, чем плясун на проволоке, если он рассчитывает проникать внутрь людей и ставить себя на их место, подобно тому как его молчание в момент доверительных разговоров должно быть настолько соблазнительным и обольстительным, чтобы даже сокровенное могло найти удовольствие в том, чтобы выбраться наконец наружу, болтая с самим собой в этом искусно созданном невнимании и тишине, точно так же он должен нести в своей душе некую поэтическую оригинальность, чтобы суметь тотчас же производить целое и возводить в некое правило то, что в индивиде присутствует лишь отчасти и случайно. Усовершенствовав себя таким образом, он не будет нуждаться в том, чтобы извлекать свои примеры из литературных опусов и выкладывать на стол полумертвые реминисценции, — нет, он будет вытаскивать свои наблюдения прямо свеженькими из озера, пока они еще бьются и сияют игрой красок. Ему также не нужно будет загонять себя до полусмерти, чтобы только заметить нечто. Нет, он скорее будет совершенно спокойно сидеть у себя в комнате, как сыщик, который тем не менее в курсе всего, что происходит.
То, что ему нужно, он может сразу же создать; то, что ему нужно, у него тотчас же под рукой благодаря его общей практике, подобно тому как в хорошо обустроенном доме не нужно ходить за водой на улицу — вода сама подымается на этаж под напором. Если же у него появится сомнение, он достаточно искушен в человеческой жизни, и глаз его так инквизиторски зорок, что он знает, где ему нужно искать, легко обнаруживая подходящую индивидуальность, годную для его экспериментов. Его наблюдения должны быть достовернее, чем у других, хотя он и не поддерживает их с помощью имен или ученых цитат относительно того, что, скажем, в Саксонии жила некая крестьянская девушка, которую наблюдал врач, или что в Риме жил император, о котором рассказывает историк, и так далее, как если бы нечто подобное случалось лишь раз в тысячу лет.
Что же за интерес в этом мог быть для психологии? Нет, все это, собранное вместе, происходит каждый день, если только есть наблюдатель. Его наблюдения будут нести на себе печать свежести и представлять интерес, если только он использует всю свою предусмотрительность, чтобы эти наблюдения контролировать. С этой целью он создает в самом себе каждое настроение, каждое душевное состояние, которое обнаруживает в других. При этом он смотрит, не может ли он обмануть другого своим подражанием, не может ли он втянуть этого человека в дальнейшее развитие того, что является его собственным творением силой идеи. Скажем, если некто желает наблюдать страсть, он должен выбрать себе индивида. Тут важно быть тихим, молчаливым, незаметным, чтобы можно было выманить тайну. Затем этот некто использует то, чему научился, пока не оказывается в состоянии обмануть индивида.
Потом он поэтически выдумывает страсть, являясь теперь перед индивидом в сверхъестественном величии страсти. Если это сделано правильно, индивид почувствует неописуемое облегчение и удовлетворение, точно так же как их ощущает душевнобольной, когда некто обнаружил и поэтически ухватил его навязчивую идею, развивая ее затем дальше. Если это не удается, причиной может быть какой-то недостаток проведенной операции или же то, что сам индивид оказался негодным объектом.
§1. ОБЪЕКТИВНЫЙ СТРАХ
Когда мы используем выражение "объективный страх", мы вполне можем после этого прийти к тому, чтобы помыслить страх невинности, который является сообразно своей возможности рефлексией свободы в самой себе. Возражение, будто не берется в расчет то обстоятельство, что мы находимся в ином месте внутри исследования, не может считаться удовлетворительным. Напротив, полезнее было бы припомнить о том, что отличие объективного страха заключено в его отграничении от страха субъективного, — это отличие, о котором не могло идти и речи в состоянии Адамовой невинности. В более строгом смысле слова, субъективный страх — это страх, положенный в индивиде и являющийся следствием его греха. О страхе в этом смысле будет говориться в последней главе. Но если слово "страх" должно пониматься таким образом, противоположность объективному страху исчезает, так что страх является как то, что он есть, — то есть как субъективное. Поэтому различие между объективным и субъективным страхом заложено в созерцании мира и состояния невинности последующего индивида. Здесь различение проводится так, что субъективный страх обозначает страх, пребывающий в невинности единичного индивида, что соответствует страху Адама, однако он количественно отличен от этого страха благодаря количественным определениям поколения. Напротив, под объективным страхом мы понимаем отражение этой греховности поколения во всем мире.
Во втором параграфе предшествующей главы мы напомнили, что выражение "через грех Адама греховность вошла в мир" содержит некую внешнюю рефлексию; здесь же — подходящее место для обращения к внутренней сути, которая все же может быть в нем заложена. В то мгновение, когда Адам полагает грех, наше рассмотрение оставляет его, чтобы обозреть начало греха каждого последующего индивида; ибо тем самым полагается поколение. В той мере, в какой через Адамов грех греховность рода полагается наряду с прямохождением и тому подобным, понятие индивида оказывается снятым. Это уже было рассмотрено в предшествующем изложении, где одновременно мы возражали против некоего экспериментирующего любопытства, которое стремится подойти к греху как к странному курьезу; там же была развернута дилемма: либо следует поэтически воображать вопрошающего в качестве человека, который не знает, о чем он спрашивает, либо вопрошающего нужно представлять себе как того, кто знает, что это такое, и чье предполагаемое неведение на деле становится новым грехом.
Если иметь в виду все вышесказанное, то такое выражение обретает свою ограниченную истинность. Первый элемент задает общее качество. Стало быть, Адам полагает грех в самом себе, но также и для всего рода. Однако понятие рода слишком абстрактно, чтобы могла полагаться такая конкретная категория, как грех; она полагается как раз благодаря тому, что единичный индивид сам полагает ее в качестве единичного. Греховность в роде будет лишь количественно приближаться к этому; однако все это берет свое начало вместе с Адамом. В этом и состоит величайшее значение Адама в сравнении с любым другим индивидом в роде, в этом и заключена истина нашего выражения. Даже ортодоксия, коль скоро она стремится сама понять себя, вынуждена признать это, поскольку она учит, что с Адамовым грехом как род, так и природа впали в грех; правда, в случае с природой все же нельзя утверждать, будто грех вошел в нее как некое качество греха.
Когда грех вошел в мир, это оказалось исполненным значения для всего творения. Подобное воздействие греха на нечеловеческое наличное существование я и назвал объективным страхом.
То, что здесь подразумевается, я могу разъяснить отсылкой к словам Писания о ???????????? ??? ??????? (Римл. 8,19). Поскольку речь идет о нетерпеливом ожидании, понятно, что творение пребывает в состоянии несовершенства. Употребляя такие выражения и определения, как тоска, томление, нетерпеливое ожидание, и тому подобные, не всегда обращают внимание на то, что они заключают в себе некое предшествующее состояние, которое теперь оказывается настоящим и значимым в то самое время, когда развертывается томление. В состояние, в котором находится ожидающий, он попал не случайно (тогда оно было бы совершенно чуждо ему), он сам одновременно производит само это состояние. Выражением подобного томления является страх; ибо в страхе возвещает о себе то состояние, из которого он выходит в томлении, и оно возвещает о себе, поскольку, будучи томлением, оно еще недостаточно, чтобы сделать его свободным.
В каком смысле через Адамов грех творение погрузилось в состояние гибели; каким образом свобода — настолько она полагается благодаря тому, что здесь ею злоупотребляют, — является отражением возможности и дрожью соучастия во всем творении; в каком смысле это должно было происходить, поскольку человек является синтезом, в котором были положены наиболее крайние противоречия, причем одна из этих противоположностей — именно благодаря греху человека — стала гораздо более крайней противоположностью, чем она была прежде, — все это не может найти себе места в психологическом рассмотрении, но принадлежит догматике, разделу о примирении, так что благодаря разъяснению примирения эта наука разъясняет также и предпосылку греховности .
Этот страх в творении можно по праву назвать объективным страхом. Он не производится творением, нет, он был произведен благодаря тому, что на все творение был брошен совершенно иной отсвет, когда через Адамов грех чувственность была подавлена, и, по мере того как грех продолжает входить в мир, она подавляется все больше и больше, начиная обозначать греховность. Нетрудно заметить, что такое истолкование отнюдь не слепо — в том смысле, что оно сознательно противостоит рационалистическому воззрению, согласно которому чувственность, как таковая, есть греховность. После того как грех вошел в мир, и всякий раз, когда грех входит в мир, чувственность становится греховностью; но тем, чем она становится, она отнюдь не была прежде. Франц Баадер достаточно часто возражал против того, чтобы конечность, чувственность, как таковая, считались греховностью. Но если не обратить на это внимания, пелагианство подступает совсем с другой стороны. Скажем, Ф. Баадер в своем определении не принимал в расчет историю рода. В количественном исчислении рода (то есть не со стороны его сущности) чувственность есть греховность; в отношении же к индивиду она не является таковой, пока сам этот индивид, полагая грех, не превратит эту чувственность в греховность.
Некоторые мыслители, принадлежащие школе Шеллинга , особенно ясно сознавали ту перемену , которая произошла с творением через грех. При этом также шла речь о страхе, который, как предполагается, должен пребывать в неодушевленной природе. Воздействие этой идеи, однако же, несколько ослаблено, поскольку временами кажется, будто ты, несомненно, имеешь дело с предметом натурфилософии, который остроумно рассматривается с помощью догматики, временами же — что тут присутствует некое догматическое определение, которое тешит себя отблесками чудесного волшебства, заложенного в созерцании природы.
Но тут я должен прервать это отступление, которому я позволил появиться только для того, чтобы на мгновение вывести нас за пределы данного исследования.
Так что страх, пребывавший в Адаме, более уже никогда не возвратится, ибо через Адама греховность вошла в мир. Вследствие этого тот страх получает себе два соответствия: объективный страх в природе и субъективный страх в индивиде, причем в последнем содержится больше, а в первом — меньше страха, чем в Адаме.
§2. СУБЪЕКТИВНЫЙ СТРАХ
Чем рефлективнее человек осмеливается полагать страх, тем легче, как может показаться, ему позволяют преобразоваться в вину. Здесь важно, однако же, не запутаться в приблизительных определениях, важно, что никакое "больше" не может осуществить прыжка и никакое "легче" не может сделать более легким объяснение действительности. Если этого не придерживаться четко, возникает серьезная опасность внезапно наткнуться на такое явление, в котором все происходит настолько легко, что переход становится простым переходом, — или же опасность будет состоять в том, что все идеи так никогда и не смогут прийти, к заключению, поскольку чисто эмпирическое наблюдение никогда не может быть полностью завершено. Потому, хотя страх и становится все рефлективнее и рефлективнее, вина, которая вдруг появляется в страхе вместе с качественным прыжком, будет содержать в себе ту же степень исчисляемости, что и вина Адама, страх же будет иметь ту же самую двузначность.
Стремление отрицать, что всякий последующий индивид обладал (или можно предположить, что обладал) состоянием невинности, соответствующим аналогичному состоянию Адама, будет крайне возмутительным для каждого. Вместе с тем это будет препятствовать всякому мышлению, поскольку тогда Окажется, что должен быть такой индивид, который никогда не был индивидом, но относится к своему роду просто как еж, представитель. Хотя при этом его надо будет рассматривать в определениях индивида, то есть как виновного.
Страх можно сравнить с головокружением. Тот, чей взгляд случайно упадет в зияющую бездну, почувствует головокружение. В чем же причина этого? Она столько же заложена в его взоре, как и в самой пропасти, — ведь он мог бы и не посмотреть вниз. Точно так же страх — это головокружение свободы, которое возникает, когда дух стремится полагать синтез, а свобода заглядывает вниз, в свою собственную возможность, хватаясь за конечное, чтобы удержаться на краю. В этом головокружении свобода рушится. Далее психология пойти не может, да она этого и не желает. В то же самое мгновение все внезапно меняется, и, когда свобода поднимается снова, она видит, что виновна.
Между двумя этими моментами лежит прыжок, который не объяснила и не может объяснить ни одна наука. Тот, кто становится виновным в страхе, становится настолько двойственно виновным, насколько это вообще возможно. Страх — это женственное бессилие, в котором свобода теряет сознание; с психологической точки зрения грехопадение всегда происходит в состоянии бессилия; однако одновременно страх — это самое эгоистичное чувство из всех, и ни одно конкретное проявление свободы не бывает так эгоистично, как возможность любой конкретности. Это опять-таки превозмогающий все фактор, который определяет собою двузначное отношение индивида: симпатическое и антипатическое. В страхе содержится эгоистическая бесконечность возможного, которая не искушает, подобно выбору, но настойчиво страшит (aengster) своим сладким устрашением (Beaengstelse).
В последующем индивиде страх становится рефлективнее. Это может быть выражено тем, что Ничто, являющееся предметом страха, вместе с тем все больше и больше превращается в Нечто. Мы не утверждаем, что оно действительно превращается в Нечто или действительно обозначает Нечто, мы не утверждаем, что теперь вместо Ничто тут полагается грех или что-то другое, — ведь тут для невинности последующего индивида справедливо все то же самое, что и для невинности Адама; все это существует только для свободы и существует только постольку, поскольку сам единичный индивид полагает грех в качественном прыжке. Стало быть, Ничто страха превращается здесь в переплетение предчувствий, которые, отражаясь друг в друге, все ближе и ближе подходят к индивиду, хотя опять-таки, будучи рассмотрены, по существу, в страхе, они снова обозначают Ничто; надо лишь заметить, что это не такое Ничто, к которому индивид не имеет никакого отношения, но Ничто, поддерживающее живой союз с неведением невинности. Такая рефлективность есть предрасположенность, которая еще до того, как индивид становится виновным, означает Ничто, рассмотренное по существу; между тем, когда он становится виновным в качественном прыжке, он выходит за собственные пределы в предпосылке, а поскольку грех предопределяет себя, это происходит не перед тем, как он полагается (это было бы предопределением), но предполагается как раз тогда, когда полагается грех.
Теперь рассмотрим подробнее это Нечто, которое в последующем индивиде может обозначать Ничто страха. В психологическом исследовании оно поистине выступает как Нечто. Однако психологическое исследование не забывает: там, где индивид через это Нечто прямо становится виновным, всякое рассмотрение оказывается снятым.
Стало быть, это Нечто, которое stricte sic dicta ("в строгом смысле слова" (лат.)) обозначает первородный грех, есть:
А. Следствие отношения между поколениями
Само собой разумеется, что здесь речь идет не о том, что могло бы занять врачей: не о том, что некто рождается калекой, или тому подобном. Речь не должна также идти о том, чтобы получить некий результат благодаря упорядоченным табличным обзорам. Здесь, как и повсюду, важно, чтобы настроение было правильным.
Скажем, если человека приучили приписывать град и неурожай дьяволу, намерения тут могут быть самые прекрасные, но по сути это все же некое остроумие, ослабляющее само понятие зла и привносящее в него почти шутливую ноту, подобно тому как эстетически шутливым будет говорить о глупом дьяволе. Точно так же, когда в понятии "вера" историческое становится настолько односторонне значимым, что люди забывают о ее коренной оригинальности в индивиде, вера становится конечным пустячком, вместо того чтобы быть свободной бесконечностью. Следствием этого бывает то, что о вере говорят так, как Иероним у Хольберга говорит об Эразме Монтанусе, что тому свойственны ошибочные воззрения на веру, поскольку, по его мнению, земля кругла, а не плоска, между тем как тут, за горами, одно поколение за другим верило в плоскую землю. Точно так же можно заблуждаться в вере оттого, что носишь широкие штаны, тогда как все люди здесь, за горами, ходят в узких.
Когда ведут статистические обзоры относительно пропорций греховности, порой рисуют планы, на которых с помощью цвета и линий глаз получают возможность быстро сориентироваться, — то есть, по существу, делают попытку обходиться с грехом как с некоторой природной особенностью, которую нельзя отменить, но вполне можно подсчитать, подобно атмосферному давлению и осадкам; выведенное среднее значение и средняя величина, получаемые при этом, оказываются чистейшей глупостью в совершенно другом смысле, чем это бывает в чисто эмпирических дисциплинах. Было бы поистине смешной абракадаброй, пожелай некто всерьез заявить, что в среднем на каждого человека приходится 3 3/8 дюйма греховности, причем в Лангедоке ее приходится только по 2 1/4 дюйма на человека, тогда как в Бретани уровень доходит до 3 7/8 дюйма. Подобные примеры ничуть не излишни здесь, как, впрочем, и те, что приводились во Введении, поскольку взяты они из области, внутри которой как раз и движется последующее изложение.
Через грех чувственность превратилась в греховность. Этот тезис означает нечто двойственное. Через грех чувственность превращается в греховность, и через Адама грех вошел в мир. Эти определения должны постоянно уравновешивать друг друга; в противном случае будет сказано нечто неистинное. То, что чувственность однажды вдруг становится греховностью, принадлежит истории поколения, однако то, что чувственность становится такой, принадлежит качественному прыжку индивида.
В шестом параграфе первой главы мы напомнили о том, что сотворение Евы уже заранее образно представляет нам следствие отношений между поколениями. В некотором смысле оно обозначает нечто производное, а производное никогда не бывает столь же совершенным, как изначальное . Однако различие здесь чисто количественное. Последующий индивид по сути своей столь же изначален и оригинален, как первый. Различие in pleno ("общее" (лат.)) для всех последующих индивидов таково: производность; однако производное опять-таки может означать для единичного индивида нечто большее или нечто меньшее.
Такое производное бытие женщины одновременно содержит в себе разъяснение того, в каком смысле она слабее мужчины, — а это есть нечто, принимавшееся во все времена, независимо от того, говорил ли об этом некий паша или же романтический рыцарь. Тем не менее различие здесь означает не что иное, как то, что мужчина и женщина по сути своей равны, несмотря на свое несходство. Выражением такого различия будет то, что страх в Еве рефлективнее, чем в Адаме. Причиной этого является то, что женщина чувственнее мужчины. Естественно, здесь речь идет не о некотором эмпирическом состоянии или средней величине, но о различии синтеза. Когда в одной части синтеза чего-то становится больше, вследствие этого, когда полагается дух, зазор открывается глубже, и в самой возможности свободы страх получит большую сферу приложения. В Книге Бытия именно Ева соблазняет Адама. Однако же отсюда никоим образом не следует, что ее вина больше, чем вина Адама, и уж тем более не следует, что страх является неким несовершенством, напротив, степень страха скорее уж предсказывает возможную степень совершенства.
Уже здесь исследование показывает, что отношение чувственности соответствует отношению страха. И как только теперь проявляется отношение между поколениями, то, что было сказано о Еве, становится указанием на то, как складывается отношение каждого последующего индивида к Адаму, иначе говоря, по мере того как в поколении увеличивается чувственность, увеличивается также и страх.
Следствие отношения между поколениями означает, стало быть, нечто "большее", так что ни один индивид не может избежать этого "больше", которое является "большим" всякого последующего индивида в его отношении к Адаму; притом, однако, что дело не доходит до такого "больше", чтобы этот индивид стал существенно отличным от Адама.
Все же, перед тем как мы к этому перейдем, мне хотелось бы вначале рассмотреть тезис, согласно которому женщина чувственнее мужчины и несет в себе больше страха.
То, что женщина чувственнее мужчины, тотчас же видно по ее телесному сложению. Рассматривать это подробнее не входит в мою задачу; скорее уж это предмет физиологии. Однако я сформулирую свой тезис иным образом; прежде всего, я представляю ее эстетически в ее идеальном аспекте — в аспекте красоты, напомнив при этом, что само положение, когда это выступает для нее в качестве идеального аспекта, уже указывает на то, что она чувственнее мужчины. Затем я представлю ее этически в ее идеальном аспекте — в аспекте продолжения рода, напомнив при этом, что само положение, когда это выступает для нее в качестве идеального аспекта, уже указывает на то, что она чувственнее мужчины.
Там, где царствует красота, она создает синтез, из которого исключен дух. В этом и состоит тайна всей греческой культуры. Потому над греческой красотой веет некий покой, тихая торжественность; и как раз поэтому в ней также присутствует страх, которого сами греки почти не сознавали, хотя вся эта пластическая красота трепещет от такого страха. Оттого-то греческой красоте свойственна беззаботность, ибо дух из нее исключен, но оттого-то в ней есть и неизъяснимо глубокая печаль.
Оттого-то чувственность здесь — это не греховность, но необъяснимая загадка, которая внушает страх; оттого-то ребячливость этой культуры сопровождается неким необъяснимым Ничто, которое есть Ничто страха.
Греческая красота конечно же воспринимает мужчину и женщину существенно одинаковыми, то есть не духовными, однако она все же проводит различие внутри такого подобия. Духовное оставляет свое выражение на челе. Для мужской красоты лицо и его выражение оказываются более существенными, чем для красоты женской, — пусть даже вечная юность пластического искусства постоянно препятствовала проявлению более глубокой духовности. Продолжение этих рассуждений не входит в предмет моих изысканий, я хотел бы лишь наглядно представить это различие в одном-единственном примере. Венера по сути своей остается столь же прекрасной, даже когда ее изображают спящей, — в этом состоянии она, пожалуй, даже прекраснее всего; однако сон — это как раз выражение, соответствующее отсутствию духа. По этой причине, чем человек старше и чем более духовно развита его индивидуальность, тем менее красив он во сне, тогда как ребенок как раз прекраснее всего спящий. Венера подымается из моря, и ее обычно изображают в состоянии покоя или же в состоянии, которое превращает выражение лица во что-то несущественное. Напротив, когда собираются изобразить Аполлона, ему так же мало подошло бы оказаться спящим, как и Юпитеру. Спящий Аполлон стал бы некрасивым, а Юпитер — смешным. Исключение можно сделать разве что для Вакха, однако он представляет в греческом искусстве как раз сходство между мужской и женской красотой, и потому его формы часто изображаются женственными. В отличие от этого, выражение лица у Ганимеда оказывается более существенным.
Поскольку в романтизме сама красота становится иной, иначе проявляется и различие внутри сущностного сходства. Здесь история духа (а тайна духа как раз и заключена в том, что у него всегда есть история) так отпечатывается на лице мужчины, что можно забыть обо всем, лишь бы только след этот был ясным и благородным; между тем женщина будет оказывать воздействие совершенно иным образом как некое целое, хотя лицо ее и приобретает большее значение по сравнению с классической древностью. Но выражение должно быть именно выражением целого, не имеющего никакой истории. Потому молчание — это не просто высшая мудрость женщины, но также и ее высшая красота.
С этической точки зрения женщина достигает вершины в продолжении рода.
Потому Писание и говорит, что ее влечение должно быть к мужу. Конечно же, влечение мужчины, со своей стороны, направлено к ней, однако его жизнь не достигает своей вершины в этом влечении, разве что жизнь эта бесполезна или погублена. Но вот женщина достигает здесь своей вершины, что как раз и указывает на то, что она более чувственна.
В женщине больше страха, чем в мужчине. Причина этого состоит не в том, что физически она слабее, или в чем-то подобном, ибо здесь вообще не идет речь о подобном страхе; нет, причина этого заключена в том, что она более чувственна и одновременно по сути своей определена духовно, как и мужчина. Для меня представляется совершенно безразличным, что женщину называют "слабым полом", ибо, несмотря на это, в ней все равно могло бы быть меньше страха, чем в мужчине.
Здесь же страх должен постоянно браться в направлении свободы. Стало быть, когда в Книге Бытия, вопреки всяким аналогиям, говорится, будто это женщина соблазнила мужчину, при дальнейшем рассмотрении это все же представляется верным, ибо такое соблазнение есть именно женское соблазнение, так как Адам мог быть соблазнен змеем только через Еву. Когда же речь идет о соблазнении применительно ко всем последующим случаям, уже само языковое употребление ("обмануть", "увлечь" и так далее) всякий раз подчеркивает активную роль мужчины.
А то, что признается всеми видами опыта, мне хотелось бы теперь показать посредством одного лишь экспериментирующего наблюдения. Я представляю себе юную невинную девушку, на которую некий мужчина устремляет свой взор, полный желания, — и ей тотчас же становится страшно. Помимо этого, она может возмутиться, испытать другие чувства, но прежде всего ей станет страшно. Напротив, когда я представляю себе невинного молодого человека, на которого устремлен полный желания взор женщины, мне ясно, что его настроением уж никак не будет страх, ну в крайнем случае смущение, смешанное с отвращением; это происходит именно потому, что он в большей степени определен как дух.
Греховность вошла в мир через Адамов грех, а сексуальность стала для него при этом означать греховность. Так была положена сексуальность. В нашем мире много обсуждают, как устно, так и письменно, проблему наивности. Между тем только невинность наивна, но она также отличается неведением. Как только сексуальность осознается, говорить о наивности становится бездумностью, аффектацией, порой же, что еще хуже, тайным наслаждением. Но поскольку человек больше не наивен, это еще не значит, что он грешит. Подобная тусклая лесть лишь увлекает человека в сторону, уводя его внимание от истинного, от нравственного.
До сих пор на все вопросы о значении сексуальности, особенно о ее значении в различных сферах, ответы давались весьма скудные, и, что самое главное, они не попадали в правильный тон. Делать сексуальность предметом шуток — жалкое искусство, предупреждать о ее опасности нетрудно, проповедовать о ней таким образом, чтобы обходить стороной все главные затруднения, также не слишком-то сложно; но говорить о ней истинно по-человечески — вот искусство! Предоставить поиски ответа театральным подмосткам или кафедре таким образом, что одна сторона оказывается смущенной словами другой, и вследствие этого разъяснение одной стороны вопиющим образом отличается от разъяснения другой, — это значит, по сути, от всего отказаться и возложить на людей тяжкий груз, не желая и пальцем шевельнуть самим: они находят смысл в обоих возможных разъяснениях, тогда как наставники всегда поддерживают лишь одно из двух. Такую непоследовательность заметили бы уже давно, если бы в наше время люди не совершенствовались в том, чтобы бездумно растрачивать столь замечательно замысленные жизни или же бездумно поднимать шум, когда заводятся разговоры о той или иной великолепной, огромной идее, для осуществления которой они соединяются в одной неколебимой вере во власть общественного единения, хотя эта вера столь же удивительна, как уверенность того держателя пивного погребка, который продавал пиво на скиллинг дешевле, чем его покупал, но все же рассчитывал на выручку, говоря: "Тут дело в количестве". При подобном положении вещей уже не должно удивлять, что сегодня никто не обращает больше внимания на подобные рассуждения. Одно лишь мне известно: если бы Сократ был жив сейчас, он задумался бы о подобных вещах, он сделал бы это намного лучше, я бы даже сказал, божественнее, чем я способен это проделать; и я убежден, что он сказал бы мне: "О, милый мой, ты поступаешь правильно, что обдумываешь подобные вещи, ибо они поистине заслуживают того, чтобы о них размышляли; о да, можно просиживать ночи напролет в беседах и все же никогда не завершить измерения глубин чудесного в человеческой природе". И такое уверение для меня бесконечно более ценно, чем все восхваления современников; ибо подобные уверения придают моей душе неколебимость, аплодисменты же заставляют ее лишь усомниться.
Сексуальное, как таковое, — это еще не греховное. Настоящее неведение относительно него, хотя оно и может реально наличествовать, свойственно только животному, которое поэтому выступает рабом слепого инстинкта и действует в этой слепоте. Неведение, которое вместе с тем является неведением о том, чего нет, присуще ребенку. Невинность — это знание, обозначающее неведение. Ее отличие от нравственного неведения легко узнаваемо, поскольку невинность определена в направлении знания. Вместе с невинностью начинается знание, чьим первым определением является неведение. Таково понятие стыда. В стыде содержится страх, поскольку дух на крайней точке своего обособления внутри синтеза определен уже не просто как тело, но как тело в сексуальной определенности. Но стыд — это как раз знание об этой сексуальной определенности, иначе говоря, сексуальный порыв еще не присутствует здесь как таковой. Настоящий смысл стыда состоит в том, что дух как бы не может узнать себя, находясь на крайней точке внутри этого синтеза. Поэтому страх, заложенный в стыде, так ужасно двузначен. Здесь нет ни малейшего следа чувственного сладострастия, и, однако же, тут есть стыдливость. Стыдливость из-за чего? Из-за Ничто. Между тем индивид может умереть от стыда, а раненая стыдливость приносит самую глубокую боль, поскольку она необъяснимее всего.
Поэтому страх внутри стыда может пробудиться сам по себе. Вполне естественно, что эта роль не отводится сладострастию. Пример последнего можно найти в одной сказке Фридриха Шлегеля (Sammtliche Werke. Т. 7. С. 15, история о Мерлине).
Внутри стыда полагается сексуальная определенность, однако она еще не выступает в связи со своим иным. Это происходит только во влечении. Но поскольку влечение — это не инстинкт, во всяком случае, не просто инстинкт, оно, ("ео ipso тем самым" (лат.)), имеет перед собою ????? ("цель" (греч.)), то есть продолжение рода, тогда как покоится оно в любви или в чисто эротическом. И все же дух еще не полагается вместе с этим.
Как только он оказывается положенным не просто в качестве основы синтеза, но именно как дух, эротическое остается позади. Высшим языческим выражением такого положения было то, что эротическое становилось комическим. Разумеется, это не следует понимать в том смысле, в каком сладострастник может решить, будто эротическое комично и составляет материю для его буйных шуток. Нет, существует мощь и преобладание интеллекта, которые нейтрализуют как само эротическое, так и нравственное отношение к нему в общем безразличии духа. Для этого есть некое весьма глубокое основание. Страх внутри стыда обусловлен тем, что дух чувствовал себя чужаком, — теперь же дух вышел победителем, теперь он рассматривает сексуальное как чуждое себе и как комичное. Такой свободой духа стыд, естественно, обладать не мог. Сексуальное — это выражение для того ужасного противоречия Widerspruch) ("противоречие" (нем.)), согласно которому бессмертный дух оказывается определенным как genus ("род" (лат.)). Это противоречие проявляется как глубокий стыд, который прикрывает его своим покрывалом и не осмеливается его даже понять. В эротическом такое противоречие понимается как красота; ибо красота как раз и есть единство душевного и телесного. Однако само это противоречие, которое эротика преображает в красоту, является для духа одновременно красотой и комическим. Духовное выражение эротики как раз и состоит в том, что она одновременно выступает как прекрасное и как комическое. Здесь нет никакого отражения чувственного в эротическом, — оно было бы сладострастием, а индивид в этом случае стоял бы значительно ниже красоты эротического; нет, это скорее зрелость духа. Естественно, весьма немногие люди поняли это во всей чистоте. Это, скажем, сделал Сократ. Потому, когда Ксенофон передает слова Сократа о том, что следует любить уродливых женщин, такое высказывание благодаря содействию Ксенофона (как и многое другое из того, что он передавал) отдает неприятным, ограниченным филистерством, которое менее всего похоже на Сократа. Смысл тут состоит в том, что он приводит эротическое к безразличию, противоречие же, лежащее в основе комического, он верно выражает в соответствующем ироническом противоречии, согласно которому следует любить безобразное . Однако подобное толкование весьма редко выступает во всей своей возвышенной чистоте. Для него нужно необычайное переплетение благоприятного исторического развития и изначального дарования; коль скоро возможно хотя бы самое отдаленное возражение, подобное толкование становится противоречивым и аффектированным.
В христианстве религиозное устраняет эротическое — не просто как нечто греховное, в силу этического непонимания, — но как нечто безразличное, поскольку в духе нет никакого различения между мужчиной и женщиной. Здесь эротическое не нейтрализуется иронически, но устраняется, поскольку христианство нацелено на то, чтобы развернуть дух еще дальше. Когда в стыде духу становится страшно и он начинает бояться облекать себя в сексуальную определенность, внезапно возникает индивидуальность, и, вместо того чтобы этически проникнуть внутрь такой определенности, она хватается за разъяснение, заимствованное из высших сфер духа. Такова одна сторона монастырского толкования, независимо от того, определяется ли оно точнее как этический ригоризм или как всеобъемлющее созерцание .
Стало быть, подобно тому как внутри стыда полагается страх, этот же страх присутствует во всех эротических наслаждениях — не потому, что они греховны, вовсе нет; потому тут не поможет, даже если пастор десятикратно благословит пару. Даже когда эротическое выражается возможно более прекрасно, чисто и нравственно, не нарушаясь никакой сладострастной рефлексией, страх все равно присутствует здесь, пусть даже не как беспокоящий, но просто как некий сопровождающий момент.
В этой связи всегда бывает трудно предлагать свои наблюдения. Вероятно, здесь нужна предусмотрительность, о которой помнят врачи: они никогда не начинают слушать пульс пациента, не убедившись предварительно в том, что пульс этот — не их собственный, а принадлежит этому пациенту; точно так же нужно поостеречься, чтобы то движение, которое обнаруживается здесь, не оказалось беспокойством, которое существовало для самого наблюдателя еще прежде всякого наблюдения. Между тем совершенно ясно, что все поэты, как бы чисто и невинно они ни представляли любовь, все же описывают ее таким образом, что вместе с нею они полагают и страх. Продолжать изучение в этом направлении — дело эстетиков. Но откуда же берется этот страх? Он появляется, поскольку дух не может присутствовать в высшей точке эротического. Я буду говорить сейчас, как грек. Дух конечно же присутствует; ведь именно он и лежит в основе синтеза, однако он не может выражать себя в эротическом, он чувствует себя чужим. Он как бы говорит эротическому: "Милый мой, здесь не может быть третьего, так что я пока спрячусь". Но это как раз и есть страх, — вместе с тем это как раз и есть стыд; ведь было бы величайшей глупостью полагать, будто церковного обряда или верности, с какой мужчина держится исключительно своей законной супруги, могло быть достаточно. И сколь многие браки распались, хотя это произошло и не из-за какого-нибудь чужака! Однако когда эротическое чисто, и невинно, и прекрасно, сам этот страх также дружелюбен и мягок, и потому поэты правы, когда твердят о сладкой тревоге. При этом само собой разумеется, что страх в женщине сильнее, чем в мужчине.
Давайте теперь вернемся к тому, что было изложено выше, — к следствию, которое имеет отношение поколений в индивиде, к следствию, которое оказывается неким "большим", которым обладает каждый последующий индивид в сравнении с Адамом. В мгновение зачатия дух пребывает дальше всего, и потому страх тут всего сильнее. В этом страхе возникает новый индивид. В момент рождения страх во второй раз достигает своей вершины в женщине, и в это мгновение новый индивид появляется на свет. То, что роженице страшно, хорошо известно. У физиологии есть для этого свое объяснение, у психологии наверняка есть свое. Как роженица женщина снова оказывается на крайней точке синтеза, и поэтому дух содрогается; ибо в это мгновение у него нет никакой задачи, он как бы устраняется. При этом страх выступает выражением совершенства человеческой природы, и потому только среди примитивных народов можно найти соответствие легким родам животных.
Однако чем больше страха, тем больше чувственности. Порожденный индивид чувственнее, чем изначальный, и такое "больше" есть всеобщее "больше" поколения для каждого последующего индивида по сравнению с Адамом.
Но такое "больше" в страхе и чувственности, существующее для каждого последующего индивида в сравнении с Адамом, естественно, может означать "больше" или "меньше" применительно к единичному индивиду. Здесь заложены различия, которые поистине столь ужасны, что определенно никто не отваживается задуматься над ними в более глубоком смысле, то есть с подлинно человеческим сочувствием, — не осмеливается задуматься без того, чтобы с неколебимостью, которую ничто не сможет подорвать, не обрести уверенность в том, что в мире никогда не было и никогда не будет такого "больше", которое в простом переходе способно было бы преобразовывать количественное в качественное. То, чему учит Писание: что Господь заставляет грехи отцов пасть на детей до третьего и четвертого колена, это же поистине громким голосом провозглашает и сама жизнь. Попытка речами вызволить себя из-под власти ужасного, объясняя, что такое высказывание — это всего лишь иудейское учение, ни к чему не ведет. Христианство никогда не признавало ни за каким единичным индивидом право начинать сначала во внешнем смысле. Каждый индивид начинает в некоторой исторической сетке отношений, и естественные следствия справедливы сейчас так же, как и прежде. Отличие же состоит в том, что христианство учит каждого подниматься над этим "больше" и судит того, кто этого не делает, ставя ему в упрек, что он этого не пожелал.
Именно потому, что чувственность определена здесь как некое "больше", страх духа, когда он берет на себя ответственность за нее, становится больше. В крайней же точке максимума стоит то ужасное обстоятельство, что страх перед грехом сам создает грех. Поскольку злая страсть, сладострастие и тому подобное внутренне присущи индивиду, невозможной становится двусмысленность, по которой индивид мог быть и тем и другим, то есть как виновным, так и невинным. В бессилии страха индивид распадается, и именно поэтому тут он становится и тем и другим — как виновным, так и невинным.
Я не стану приводить подробные примеры этого постоянного движения вниз и вверх, от "большего" к "меньшему". Если такие примеры должны что-то значить, они требуют подробного и тщательного эстетически-психологического исследования.
Б. Следствие исторического отношения
Если бы мне нужно было в одном предложении выразить это "больше", которое возникает для каждого последующего индивида в сравнении с Адамом, я сказал бы, что оно состоит в том, что чувственность может означать греховность, иначе говоря, означать смутное знание о ней в дополнение к смутному знанию того, что еще может означать грех, и в дополнение к историческому присвоению исторического, при котором принцип de te fabula narratur ("история рассказана о тебе" (лат.)) не понимается вовсе, так что смысл, индивидуальная оригинальность вовсе не берутся в расчет, и индивид в дальнейшем путает себя с родом и его историей. Мы не утверждаем, что чувственность есть греховность, мы только говорим, что грех делает ее таковой. Если мы будем рассматривать последующего индивида, окажется, что любой подобный человек имеет некоторое историческое окружение, в котором и может проявиться то, что чувственность будет означать греховность. Для самого индивида чувственность вовсе не означает это, но такое знание лишь делает страх "больше". Стало быть, дух полагается не просто в отношении к предмету чувственности, но в отношении к предмету греховности. Само собой разумеется, что невинный индивид еще не понимает этого знания; ибо оно может быть понято только качественно. Однако это знание есть опять-таки новая возможность, так что свобода в своей возможности — там, где она вступает в отношение к чувственному, — начинает страшиться еще больше.
То обстоятельство, что это всеобщее "больше" может для единичного индивида означать нечто "больше" или "меньшее", понимается как что-то само собой разумеющееся. Так что для примера нужно скорее обратить внимание на одно огромное отличие. После того как христианство вошло в мир и спасение было положено, на чувственность оказался пролит свет противопоставления, которым она отнюдь не была освещена в язычестве, и этот свет как раз подтверждает тезис, согласно которому чувственность есть греховность.
Внутри христианского определения это "больше" может опять-таки означать нечто "большее" или нечто "меньшее". Все это заложено в отношении единичного невинного индивида к историческому окружению. В этой связи даже самые разные вещи могут вызвать сходные следствия. Возможность свободы возвещает себя в страхе. И здесь предостережение может ввергнуть индивида в страх (следует помнить, что я все время говорю, рассматривая проблему только с психологической стороны, вовсе не снимая проблему качественного прыжка), даже если само это предостережение было нацелено на прямо противоположный результат. Созерцание греховности может спасти одного индивида и погубить другого. Шутка может воздействовать как серьезный разговор, и наоборот. Беседы и молчание могут произвести действие, прямо противоположное намеченному. В этом отношении нет никаких границ, и потому здесь снова явственно проступает справедливость определения, согласно которому количественное — это всегда "больше" или "меньше", ибо количественное как раз и есть бесконечная граница.
Мне не хочется продолжать дальше свои экспериментальные наблюдения, поскольку это задерживает нас на пути. Между тем жизнь достаточно богата, если только умеешь видеть; тут не нужно ездить в Париж или в Лондон, — да и это едва ли помогло бы, если человек не способен видеть.
Впрочем, страх наделен здесь той же двузначностью, что и всегда. В этой точке может проявиться максимум, который соответствует вышеозначенному утверждению о том, что индивид в страхе перед грехом сам создает грех, а именно: индивид становится виновным в страхе не перед тем, что он стал виновным, но перед тем, что его считают виновным.
Впрочем, наивысшее "большее" в этом направлении состоит в том, что индивид, начиная со своего самого раннего пробуждения, поставлен в такое положение и подвергается такому воздействию, что для него чувственность становится тождественной греховности; такое наивысшее "большее" проявится в самой мучительной форме коллизии, коль скоро он не сможет вообще найти себе никакого прибежища во всем окружении. Если к такому наивысшему "большему" прибавляется вдобавок путаница, когда индивид смешивает себя самого со своим историческим знанием о греховности и в своей бледности страха в дальнейшем подводит самого себя qua ("как", "в качестве" (лат.)) индивида под ту же самую категорию, забывая об условном наклонении свободы: "Если ты сам так сделаешь", — тогда это наивысшее "большее" присутствует тут.
То, что было указано здесь столь кратко: что для понимания этого нужен довольно богатый опыт, что об этом говорилось уже довольно много, причем определенно и ясно, — весьма часто становилось предметом рассуждения. Такое рассуждение обычно называют рассуждением о силе примера. Нельзя отрицать — хотя это и не делалось в наше последнее, сверхфилософское время, — что, как бы много хорошего ни говорилось об этом, здесь все же часто недостает психологического промежуточного определения, которое объясняло бы, почему же все-таки пример имеет такое воздействие. Между тем к этому аспекту проблемы порой относятся чересчур легкомысленно, не замечая, что одна-единственная небольшая погрешность в крошечной детали в состоянии запутать все огромные жизненные расчеты. Внимание психологии приковано исключительно к единичному явлению, она не держит одновременно наготове все свои вечные категории и не слишком заботится о проблеме спасения человечества, даже если она любой ценой спасает каждого единичного индивида, помещая его внутрь рода. Можно использовать и воздействие примера на ребенка. Его обычно представляют прямо-таки маленьким ангелом, которого испорченное окружение ввергает в испорченность. Об этом рассказывают снова и снова: каким скверным было окружение и как неизбежно было развращение ребенка. Но если это происходит в простом количественном продвижении, всякое понятие оказывается снятым. На это попросту не обращают внимания. Ребенка считают изначально настолько дурным, что хороший пример вообще становится для него бесполезным. Но надо бы позаботиться о том, как бы этот ребенок не оказался настолько скверным, чтобы суметь не просто оставить в дураках своих родителей, но и посмеяться над всеми человеческими мыслями и речами, подобно тому как rana paradoxa смеется и издевается над классификацией, определенной естествоиспытателями для лягушек. Существует множество людей, которые, хотя и умеют рассматривать единичные примеры, все же не в состоянии одновременно держать in mente ("в сознании" (лат.)) целое; однако каждое подобное рассмотрение, пусть оно даже и имеет определенные заслуги в других отношениях, тут может лишь ввести в заблуждение. Или же просто ребенок, точно так же как и вообще все дети, не был ни хорошим ни дурным, но потом он попал в хорошую компанию и стал хорошим или же попал в дурную компанию и стал дурным. Промежуточные определения! Промежуточные определения! Вводится некое промежуточное определение, которое обладает двузначностью, упрочивающей всю ту же мысль (ведь без нее спасение ребенка — всего лишь иллюзия): ребенок, каковы бы ни были отношения, в которых он стоит, может стать и тем и другим — как виновным, так и невинным. Если же промежуточных определений нет близко под рукой, значит, потеряны все понятия первородного греха, рода, индивида, и ребенок погиб вместе с ними.
* * *
Стало быть, чувственность — это вовсе не греховность, однако, когда грех был положен и по мере того как грех продолжает полагаться, чувственность превращается в греховность. Само собой разумеется, что греховность теперь означает нечто совсем иное. Однако то, что греху приходится означать далее, не связано с тем, чем мы занимаемся здесь, когда нам важно психологически углубиться в состояние, которое предшествует греху и с психологической точки зрения в большей или меньшей степени предопределяет собой грех. Вместе с вкушением плода с древа познания в мир вошло различие между добром и злом, равно как и сексуальное различение как порыв. Как это произошло, не может объяснить ни одна наука. Психология подходит к этому ближе всего, она разъясняет последнее приближение, то есть познающее для-себя-бытие свободы внутри страха возможности, или внутри Ничто возможности, или внутри Ничто страха. Если предметом страха является Нечто, у нас не сохраняется никакого прыжка, но только количественный переход. Последующий индивид в сравнении с Адамом имеет нечто "большее", в сравнении же с другими индивидами — опять-таки нечто "большее" или "меньшее", хотя по самой сути верно, что предметом страха является Ничто. Если же его предметом становится такое Ничто и, рассмотрев его по существу, то есть в направлении свободы, мы видим, что оно означает Нечто, у нас не сохраняется никакого прыжка, но только количественный переход, который вносит путаницу во всякое понятие. Даже когда я говорю, что для индивида чувственность перед прыжком полагается как греховность, оказывается, что она не полагается так по своей сути, ибо по сути индивид не полагает и не понимает ее. Даже когда я говорю, что в индивиде, появившемся через зачатие, полагается "больше" чувственности, все равно в направлении прыжка это несущественное "больше".
Если же наука имеет какое-то иное промежуточное понятие, которое обладает теми же догматическими, этическими и психологическими преимуществами, что и страх, его и следует предпочесть.
Нетрудно заметить, впрочем, что рассуждение, которое излагается здесь, можно прекрасно совместить с объяснением, даваемым обычно по поводу греха: что грех — это прежде всего эгоизм. Но если углубиться в это определение, тут вообще не удастся разъяснить предшествующее психологическое затруднение; кроме того, грех при этом определяется слишком душевно и во внимание не принимается то, что грех, когда он полагается, вызывает с той же вероятностью как чувственные, так и духовные следствия.
Хотя в новейшей науке грех довольно часто объясняется как эгоизм, совершенно непонятно, почему никто не заметил, что именно здесь и заложена невозможность того, чтобы его объяснение могло найти себе место в какой бы то ни было науке, ведь эгоизм — это как раз единичное, а что это означает, способен знать только единичный индивид в качестве единичного, так как, будучи рассмотрен под всеобщими категориями, он может означать все, что угодно, причем это "все" не означает вообще ничего. Поэтому определение, согласно которому грех есть эгоизм, не может быть правильным, в особенности если одновременно полагают, будто с научной точки зрения оно настолько лишено содержания, что вообще ничего не означает. Наконец, в таком определении, согласно которому грех есть эгоизм, никак не берется во внимание различие между грехом и первородным грехом, равно как и то, в каком смысле одно разъясняет другое — будь это грех, который разъясняет первородный грех, или первородный грех, который разъясняет грех.
Как только об этом эгоизме пытаются рассуждать научно, все растекается в тавтологии или же мыслитель становится остроумным, вследствие чего все полностью запутывается. Кто может забыть о том, что натурфилософия находила эгоизм во всем творении, находила его в движении звезд, которые, однако же, приведены к послушанию в соответствии с законами Вселенной; кто может забыть о том, что центростремительная сила в природе сводилась к эгоизму. Если понятие уводят так далеко, этому понятию лучше уж пойти и лечь в постель, чтобы по возможности выспаться, избавляясь от своего опьянения, и снова стать трезвым. В этом отношении наше время просто неустанно трудилось, чтобы заставить каждое понятие означать буквально все. Разве нельзя временами увидеть, как ловко и упрямо тот или иной вдохновенный мистагог проституирует целую мифологию, чтобы благодаря своему орлиному взору превратить каждый отдельный миф в мотивчик для губной гармошки? Разве не видно, что при этом вся христианская терминология вырождается до полного разрушения в надменных руках того или иного спекулянта?
Если человек прежде всего не делает для себя ясным, что означает "я", мало пользы говорить о грехе, что он является эгоизмом. Но "я" обозначает как раз то противоречие, что всеобщее полагается как единичное. Только когда дано понятие единичного индивида, может идти речь об эгоизме, однако, несмотря на то что на земле жили неисчислимые миллионы таких "я", ни одна наука не в состоянии сказать, что же такое "я", не утверждая этого снова всеобщим образом . Удивительная глубина жизни как раз и состоит в том, что каждый человек, обращающий внимание на самого себя, знает то, чего не знает никакая наука, ибо он знает, кто он, а в этом и заключается суть греческого речения ????? ?????? которое слишком долго толковалось на немецкий лад как чистое самосознание, мираж идеализма. Давно пора уже попытаться понять это на греческий манер, причем понять так, как его поняли бы греки, обладай они христианскими предпосылками мышления. Но настоящее "я" полагается только в качественном прыжке. В предшествующем состоянии о нем не может быть и речи. Поэтому, когда грех стремятся разъяснить, исходя из эгоизма, это приводит лишь к путанице во всех этих неясностях, поскольку все происходит наоборот: только через грех и внутри греха эгоизм приходит в становление. Если же скажут, что эгоизм был подходящим случаем для Адамова греха, все объяснение превращается в игру, в которой интерпретатор сам находит то, что он сам же прежде и припрятал. Если скажут, что эгоизм и вызвал Адамов грех, промежуточное состояние окажется пропущенным, а само разъяснение обеспечит себе подозрительную легкость. Кроме того, при этом мы ничего не узнаем о значении сексуального. Здесь я снова возвращаюсь к своей старой посылке. Сексуальное вовсе не есть греховность; но предположим — чтобы хоть мгновение мне можно было говорить так, как это кажется удобнее, даже если это глупо, предположим, что Адам не согрешил, так что сексуальное никогда и не вступало в наличное бытие как порыв. Совершенный дух не может быть помыслен как сексуально определенный. Это стоит в полном соответствии с учением церкви о природе восстания из мертвых, в полном соответствии с представлениями церкви об ангелах, в полном соответствии с догматическими определениями применительно к личности Христа. Чтобы добавить к этому только одно указание, можно сказать, что, в то время как Христос был искушаем во всех человеческих испытаниях, мы нигде не находим упоминания об искушении в этом направлении, — а это можно объяснить как раз тем, что он смог противостоять всем искушениям.
Чувственность — это не греховность. Чувственность в невинности — это не греховность, и, однако же, чувственность туг присутствует: ведь Адаму нужны были еда, питье и тому подобное. Сексуальное различие полагается в невинности, однако оно не полагается как таковое. Только в то мгновение, когда полагается грех, сексуальное различие также полагается как порыв и влечение.
Здесь, как и повсюду, я должен отклонять всякое ложно понятое заключение, например заключение, согласно которому правильной задачей теперь было бы абстрагироваться от сексуального, то есть уничтожить его в некотором внешнем смысле. Но если сексуальное однажды оказывается положенным как крайняя точка синтеза, никакие абстракции тут не помогут. Задача, естественно, состоит в том, чтобы ввести его внутрь определения духа. (Здесь заложены все нравственные проблемы эротического.) Осуществлением этой задачи будет победа любви в некоем человеке, в котором дух победил таким образом, что сексуальное оказалось забытым и мыслится им теперь лишь в забвении. Когда это происходит, чувственность в духе проясняется, а страх изгоняется прочь.
Если теперь такое воззрение — независимо от того, называть ли его христианским или же как-то иначе, — сравнить с греческим, я думаю, что при этом можно больше приобрести, чем потерять. Разумеется, при этом теряется часть тоскующей эротической Heiterkeit, однако тут приобретается также некое определение духа, неизвестное греческой культуре. Единственные, кто поистине потерян, — это те многие, которые все еще живут тут таким образом, будто прошло шесть тысяч лет с тех пор, как грех вошел в мир, будто это было любопытное происшествие, которое вовсе их не касается; ибо им не обрести той греческой Heiterkeit, которая вовсе не может быть завоевана, но может быть только потеряна, им не обрести и вечного определения духа.
Глава третья. СТРАХ КАК СЛЕДСТВИЕ ТОГО ГРЕХА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕМ СОЗНАНИЯ ГРЕХА
В обеих предшествующих главах постоянно подчеркивалось, что человек является синтезом души и тела — синтезом, который основан на духе и поддерживается им. Страх — чтобы уж воспользоваться новым выражением, которое утверждает то же самое, что уже было сказано в предшествующем рассмотрении, но одновременно указывает на нечто последующее — был мгновением в индивидуальной жизни.
Существует категория, которая повсеместно используется в новейшей философии, в логических исследованиях с таким же успехом, как и в историко-философских штудиях, и эта категория есть "переход". Более подробного разъяснения, однако, получить нигде не удается. Ее применяют довольно свободно, и в то время как Гегель и его школа поразили мир великой идеей о беспредпосылочном начале философии, то есть идеей о том, что философии не может предшествовать ничего иного, помимо совершенно полного отсутствия предпосылок, никто не стесняется использовать понятия "переход", "отрицание", "опосредование", то есть все движущие принципы гегелевского мышления таким образом, что они при этом не получают своего места в систематическом продвижении вперед. И если это не предпосылка, значит, я вообще не знаю, что такое предпосылка; ибо использовать нечто, нигде его не объясняя, как раз и значит исходить из предпосылки. Как предполагается, система обладает такой удивительной прозрачностью и внутренним видением, что по примеру omphalopsychoi она должна неколебимо глядеть на центральное Ничто до тех пор, пока наконец все не разъяснится и все ее содержание не будет присутствовать здесь просто само собою. Такая обращенная к себе внутрь открытость и должна была стать открытостью системы. Между тем оказывается, что это вовсе не так, и похоже, что систематическая мысль набрасывает покров тайны на свои самые внутренние движения. "Отрицание", "переход", "опосредование" суть три переодетых, подозрительных тайных агента (agentia), которые и вызывают все движения. Гегель едва ли назвал бы их неугомонными и непослушными, ибо они ведут свою игру с его любезного разрешения, причем ведут ее настолько раскованно, что в логике используются выражения и обороты речи, заимствованные из обозначения переходов во времени: "затем", "когда", "будучи таковым", "становясь таковым" и прочее в том же роде.
Пусть там все будет как угодно; пусть логика позаботится о самой себе. Слово "переход" всегда было и остается для логики просто остроумным выражением. Оно принадлежит сфере исторической свободы; ибо переход — это состояние, и он действительно есть . Платон прекрасно сознавал трудности, связанные с введением перехода в область чистой метафизики, и потому он отдан столько усилий категории "мгновение" .
Игнорировать это затруднение конечно же никак не значит "пойти дальше" Платона; игнорировать его — все равно, что благочестиво обманывать тем самым мышление, чтобы держать на плаву спекуляцию и запускать движение логики, а это означает, что спекуляцию тут рассматривают как в некотором роде конечное явление. Однако я вспоминаю, как когда-то слышал спекулятивного философа, который утверждал, будто не стоит заранее так уж задумываться о затруднениях; ибо в этом случае никто вообще не начал бы спекулятивно размышлять. Если самое главное — это начать спекулятивное мышление, а отнюдь не то, будет ли такая спекуляция настоящей, тогда, конечно, можно решительно заявить, что важнее всего начать спекулятивное мышление; это будет столь же похвально, как то, что человек, у которого недостает средств, чтобы поехать в Олений парк в собственном экипаже, может сказать: "Не стоит об этом и беспокоиться, можно с таким же успехом поехать на этой "кофейной мельнице". Это и в самом деле так: оба господина, которые туда отправляются, будем надеяться, благополучно доберутся до Оленьего парка. Однако это едва ли выйдет в случае со спекуляцией: тот, кто решительно заявляет, что не станет беспокоиться о средствах передвижения, едва ли доберется до спекулятивного мышления.
В области исторической свободы переход есть некое состояние. Однако, для того чтобы правильно это понять, не следует забывать о том, что новое наступает через прыжок. Если же этого представления не придерживаются твердо, переход приобретает количественный перевес над гибкостью прыжка.
Стало быть, человек был синтезом души и тела, однако одновременно он есть синтез временного и вечного. Я вовсе не отрицаю, что это говорили уже довольно часто прежде; ибо мое желание состоит не в том, чтобы обнаруживать нечто новое, напротив, моя радость и любимое занятие заключаются в том, чтобы размышлять над чем-то, что кажется совсем простым.
Что же касается последнего синтеза, прежде всего бросается в глаза, что он образован совершенно иначе, чем первый. В первом душа и тело были двумя моментами синтеза, дух же был третьим, причем таким образом, что о синтезе вообще могла идти речь только тогда, когда полагался дух. Во втором синтезе есть только два момента: временное и вечное. Где же здесь третий? Если же тут нет третьего, значит, это вообще не может осуществиться как синтез, кроме как в чем-то третьем; ведь то, что синтез является противоречием, означает как раз то, что его нет. Но тогда что же такое это временное?
Когда время правильно определяют как бесконечную последовательность, кажется, что его с таким же успехом можно определить как настоящее, прошедшее и будущее. Между тем такое подразделение неверно, если полагать при этом, что оно заложено в самом времени; ибо такое различение появляется только благодаря отношению времени к вечности, равно как и благодаря отражению вечности во времени. Если бы можно было найти во всей бесконечной последовательности времени некую точку опоры, то есть настоящее, которое стало бы разделительной точкой, тогда такое подразделение было бы совершенно правильным. Однако именно потому, что каждый момент, равно как и сумма моментов, есть опять-таки процесс (то есть нечто преходящее), ни один момент не будет настоящим, а значит и во времени нет ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего. Когда полагают, будто такое подразделение все же можно сохранить, это происходит, если момент становится протяженным, однако в этом случае вся бесконечная последовательность останавливается; и это происходит, потому что сюда вводят представление, и время становится объектом представления, вместо того чтобы быть помыслено. Но даже при этом действуют не совсем правильно, поскольку и для представления бесконечная последовательность времени является бесконечным, лишенным содержания настоящим. (Это, по сути, пародия на вечность.) Индусы говорят о царской династии, правившей на протяжении семидесяти тысяч лет. О самих царях ничего не известно, неизвестны (как я полагаю) даже имена. Если мы пожелаем принять это в качестве примера, для времени, для мышления эти семьдесят тысяч лет становятся бесконечным исчезновением, для представления же они растягиваются, приобретают протяженность иллюзорного образа некоторого бесконечного, лишенного содержания Ничто . Напротив, когда одно рассматривается как следующее за другим, мы полагаем настоящее.
Между тем настоящее — это не понятие времени, за исключением разве что того, что оно бесконечно и лишено содержания, что опять-таки является бесконечным исчезновением. Если на это не обращать внимания, то здесь — как бы быстро оно потом ни исчезало — все равно полагается настоящее, а после того как оно положено, оно снова появляется в определениях: прошедшее и будущее.
Напротив, вечное — это настоящее. Для мысли вечное есть настоящее как снятая последовательность (время и было этой последовательностью, которая теперь пре ходит). Для представления это — продвижение вперед, которое, однако же, не трогается с места, поскольку для него вечное есть бесконечное, лишенное содержания настоящее. Стало быть, в вечном нет разделения на прошедшее и будущее, поскольку настоящее положено здесь как снятая последовательность.
Время, стало быть, есть бесконечная последовательность; жизнь, которая находится во времени и принадлежит только времени, не имеет в себе ничего настоящего. Чтобы определить чувственную жизнь, обычно говорят, что она пребывает в мгновении, и только в мгновении. При этом под мгновением понимают абстракцию вечного, каковая, если она понимается как настоящее, становится пародией на вечность. Настоящее — это вечное, или, точнее, вечное — это настоящее, а настоящее есть исполненное. В этом смысле некий римлянин сказал о божестве, что оно praesens (praesentes dii), и это слово, употребленное по отношению к божеству, обозначало также его мощную поддержку. Мгновение обозначает настоящее как таковое, то, что не имеет ничего прошедшего и ничего будущего; ведь именно в этом и заложено несовершенство чувственной жизни. Вечное также обозначает настоящее, не имеющее ни прошедшего, ни будущего, — в этом и состоит совершенство вечного.
Если теперь некто пожелает использовать мгновение, чтобы определить время, чтобы мгновение обозначало чисто абстрактное исключение прошедшего и будущего, в качестве такового обозначая теперь настоящее, окажется, что мгновение как раз и не будет настоящим, ибо чистого, абстрактно помысленного промежуточного звена между прошедшим и будущим вообще нет. При этом ясно, что мгновение — это не просто определение времени, поскольку временное определение состоит в том, чтобы "проходить"; потому время, если оно определяется через одно из определений, делающихся явными во времени, есть время прошедшее. Если же, напротив, время и вечность касаются друг друга, это должно происходить во времени, вот тут-то мы и подходим к мгновению.
"Мгновение" — это фигуральное выражение, и потому с ним не так-то легко иметь дело. И однако же, это красивое слово, достойное внимания. Ничто не бывает таким мимолетным, как "мгновение ока", и вместе с тем оно соизмеримо с содержимым вечности. Когда Ингеборг глядит на море в надежде увидеть Фритьофа, это как раз и есть образ того, что обозначает такое фигуральное выражение. Взрыв ее чувств, вздох, слово уже в качестве звука содержат в себе больше определения времени, и являются более настоящими в смысле постоянного исчезновения, и не имеют в себе в такой уж степени присутствия вечного. Между тем вздох, слово и тому подобное имеют власть снимать тяжесть с души — именно потому, что тяжесть — просто оттого, что ее высказывают, — уже начинает становиться чем-то прошедшим. Потому мгновение ока — это обозначение времени, однако, заметьте, времени в роковом столкновении, когда времени касается вечность . То, что мы называем мгновением, Платон называл внезапным (?? ????????). Каким бы ни было его этимологическое объяснение, оно все же стоит в связи с определением "невидимое", поскольку время и вечность постигались тогда одинаково абстрактно, так как понятие временности отсутствовало, причиной чего, в свою очередь, было то, что отсутствовал дух. По-латыни мгновение называется momentum (от movere — двигаться (лат.), что посредством этимологического выведения обозначает просто нечто исчезающее .
Понимаемое таким образом мгновение — это, собственно, не атом времени, но атом вечности. Оно есть первое отражение вечности во времени, ее первая попытка как бы остановить время. Поэтому греческая культура не понимала мгновения, и если бы даже она понимала атом вечности, ей никак не дано было понять, что это мгновение; греческая культура определяла его не вперед, но назад, поскольку атом вечности для греческой культуры был по сути своей этой вечностью, а потому ни время, ни вечность не получали того, что им принадлежало по праву.
Синтез временного и вечного — это не второй синтез, но иное выражение для первого синтеза, соответственно которому человек является синтезом души и тела, который поддерживается духом. Как только полагается дух, мгновение уже присутствует. Потому можно с полным правом бросать человеку упрек, говоря, что он живет только в мгновении, так как это происходит лишь благодаря произвольной абстракции. Природа не лежит внутри мгновения.
Со временностью все обстоит точно так же, как и с чувственностью; ибо временность кажется еще не совершеннее, мгновение — еще ничтожнее, чем по видимости надежное существование природы во времени. И все же дело обстоит прямо наоборот, ибо надежность природы покоится на том, что время не имеет для нее вообще никакого значения. Только в мгновении начинается история. Человеческая чувственность через грех полагается как греховность, а потому она даже ниже чувственности зверя, и все же именно поэтому здесь также начинается высшее; ибо тут начинается дух.
Мгновение — это та двузначность, в которой время и вечность касаются друг друга, и вместе с этим полагается понятие временности, в которой время снова и снова разделяет вечность, а вечность снова и снова пронизывает собою время. Только теперь разделение, о котором мы говорили, получает наконец свой смысл: настоящее время, прошедшее время, будущее время.
Благодаря такому разделению внимание тотчас же привлекается к тому обстоятельству, что будущее в некотором смысле означает больше, чем настоящее и прошедшее; ибо будущее в некотором смысле есть целое, часть коего составляет прошедшее, так что будущее в определенном смысле означает целое. Это происходит потому, что вечное прежде всего означает будущее, или же потому, что будущее есть инкогнито, в котором вечное, будучи несоизмеримо со временем, тем не менее стремится сохранить свое общение со временем. Словесное употребление временами также считает будущее тождественным вечному (будущая жизнь — вечная жизнь). В более глубоком смысле у греков вообще не было понятия вечности, подобно тому как у них не было и понятия будущего. Потому нельзя упрекнуть греческую жизнь в том, что она потеряна в мгновении, или, точнее, нельзя даже сказать, что она вообще потеряна; ибо временность понималась греками столь же наивно, как и чувственность, — ведь здесь недоставало определения духа.
Мгновение и будущее, в свою очередь, полагают прошедшее. Если греческая жизнь вообще предлагает хоть какое-нибудь определение времени, то это время прошедшее; однако прошедшее время определено не в связи с настоящим и будущим, но определено — насколько это вообще является определением времени — как прехождение. Здесь становится очевидным смысл платонического "воспоминания". Греческая вечность лежит позади как прошедшее, в которое можно войти, лишь вернувшись назад . Однако понятие вечного как прошедшего является совершенно абстрактным, независимо от того, определяется ли оно точнее философским образом (философское умирание) или же исторически.
Вообще, определяя понятия прошедшего, будущего, вечного, можно наблюдать и то, как определяется мгновение. Если мгновения нет, вечное появляется позади как взошедшее, подобно тому как если бы некий человек шел по дороге, но не обращал внимания на шаги, так что путь позади него проявлялся бы как пройденное.
Если же мгновение полагается, но только как discrimen, вечным становится будущее. Если мгновение полагается, а вместе с тем полагается и вечное, при этом тотчас же полагается и будущее, которое снова выступает в качестве прошедшего.
Это четко проявляется в греческом, иудаистском, христианском воззрениях. Понятие, вокруг которого вращается все в христианстве, понятие, которое сделало все новым, — это "полнота времени", но полнота времени — это мгновение как вечность, — и все же вечное одновременно является будущим и прошедшим. Если на это не обращать внимания, ни одно понятие нельзя было бы спасти от еретической и предательской добавки, которая превращает это понятие в ничто. Прошедшее не полагается из него самого, но только в простой скользящей непрерывности, соединяющей его с будущим (вместе с этим понятия "обращение", "примирение", "спасение" теряются во всемирно-историческом значении и в индивидуальном историческом развитии). Будущее не полагается из него самого, но только в простой скользящей непрерывности, соединяющей его с настоящим (благодаря чему уничтожаются понятия "восстание из мертвых" и "суд").
Давайте теперь подумаем об Адаме, а кроме того, вспомним, что каждый последующий индивид начинает совершенно так же, но только внутри количественного различия, которое является следствием отношения поколений и исторического отношения. Стало быть, для Адама, равно как и для последующего индивида, существует мгновение. Синтез душевного и телесного должен полагаться духом, но дух — это вечное, а поэтому синтез появляется только тогда, когда дух полагает первый синтез вместе со вторым синтезом, то есть вместе с синтезом временного и вечного. Пока вечное еще не полагается, мгновения нет, или же оно является всего лишь discrimen. Поскольку дух в невинности определен только как мечтательный дух, вечность проявляется здесь как будущее, ибо будущее, как уже было сказано, является первым выражением вечного, его инкогнито. Точно так же как (в предшествующей главе) дух, когда он должен уже полагаться в синтезе, или, точнее, когда он должен полагать синтез, в качестве возможности духа (свободы) проявляется в индивидуальности как страх, и будущее, в свою очередь, в качестве возможности вечности (свободы), проявляется в индивидуальности как страх. Стало быть, по мере того как возможность свободы являет себя перед возможностью, свобода гибнет, и временность проявляется теперь точно таким же образом, как чувственность проявлялась в своем значении греховности. Здесь снова следует повторить, что все это — только последнее психологическое выражение для последнего психологического приближения к качественному прыжку. Различие между Адамом и последующим индивидом состоит в том, что для этого индивида будущее более рефлективно, чем оно было для Адама. С психологической точки зрения это "большее" может означать нечто ужасное, но в направлении качественного прыжка оно означает нечто несущественное. Высший максимум различия в сравнении с Адамом состоит в том, что будущее кажется предвосхищенным прошлым, или же в том, что этот максимум заложен в страхе, что возможность потеряна еще до того, как она появилась.
Возможное полностью соответствует будущему. Для свободы возможное есть будущее, а для времени будущее есть возможное. В индивидуальной жизни им обоим соответствует страх. Поэтому точное и правильное речевое употребление тесно соединяет страх и будущее. Когда порой говорят, что некто страшится прошлого, это, видимо, противоречит вышесказанному. Однако при более пристальном рассмотрении оказывается, что это только оборот речи, и будущее тут тем или иным образом проявляет себя.
Прошедшее, которого, как предполагается, я страшусь, должно стоять ко мне в отношении возможности. Если я страшусь прошлого несчастья, это происходит не потому, что оно уже прошло, но потому, что оно может повториться, то есть стать будущим. Если я страшусь прошлого оскорбления, это происходит потому, что я не поставил его в существенное отношение к самому себе в качестве прошедшего и я сам тем или иным обманчивым способом помешал ему стать прошедшим. Если нечто действительно прошло, я не могу его страшиться, я могу в нем только раскаиваться. Если же я не раскаиваюсь, значит, я прежде всего позволил себе сделать свое отношение к этому оскорблению диалектическим, но благодаря этому само оскорбление стало возможностью, а вовсе не чем-то прошедшим. Если я страшусь наказания, это происходит только потому, что это наказание было поставлено в диалектическое отношение к оскорблению (иначе я просто претерпеваю свое наказание), и тогда я опять-таки страшусь возможного и будущего.
Таким образом, мы снова вернулись туда, где мы были в главе первой. Страх это психологическое состояние, которое предшествует греху; страх тут подходит к греху возможно ближе, страшась возможно больше, однако он не объясняет грех, каковой появляется внезапно только в качественном прыжке.
В то мгновение, когда полагается грех, временность оказывается греховностью . Мы не утверждаем, будто временность есть греховность, точно так же как не утверждаем, что чувственность есть греховность, однако когда грех полагается, временность означает греховность. Поэтому грешит тот, кто живет только в мгновении как абстракции от вечного. Если бы Адам — как я уже говорил ради удобства, хоть это и казалось глупым, — не согрешил, он в то же самое мгновение перешел бы в вечность. Но как только полагается грех, бесполезно пытаться абстрагироваться от временности, точно так же как и от чувственности .
§1. СТРАХ БЕЗДУХОВНОСТИ
Когда рассматриваешь жизнь вообще, быстро убеждаешься в следующем: несмотря на справедливость утверждения, что страх является последним психологическим состоянием, из которого вырывается наружу грех посредством качественного прыжка, все язычество и его повторение внутри христианства все-таки заключено в чисто количественном определении, от которого не отрывается полностью качественный прыжок греха. При этом такое состояние вовсе не является состоянием невинности, но, будучи рассмотренным с точки зрения духа, есть как раз состояние греховности.
Поистине замечательно, что христианская ортодоксия всегда учила, будто язычество погрязло в грехе, между тем как на самом деле сознание греховности полагается лишь через христианство. При всем том ортодоксия, безусловно, права, ей нужно лишь выражаться несколько точнее. Посредством исчисляющих определений язычество как бы растягивает время, но никогда не достигает греха в наиболее глубоком смысле, — а это как раз и является грехом.
То, что это справедливо для язычества, нетрудно доказать. С язычеством же внутри христианства отношения строятся иначе. Жизнь христианского язычества не является ни виновной, ни невинной, оно, собственно, не ведает разницы между настоящим, прошедшим, будущим, вечным. Его жизнь и его история протекают внутри, подобно тому как в давние дни письмо ложилось на бумагу, когда еще не применялись разделительные знаки и одно слово небрежно цеплялось за другое, одно предложение присоединялось к следующему. С эстетической точки зрения все это совершенно комично; ибо хотя и прекрасно слышать, как один ручеек тихо струится через всю жизнь, тем не менее все становится комичным, когда сумма разумных существ превращается в вечное бормотание, лишенное смысла. Не знаю, может ли философия использовать это plebs ("множество" (лат.)) в качестве категории, позволяя ей стать основанием для чего-то большего, подобно тому как это происходит с тростником в растительном мире, когда он постепенно становится твердой землей вначале просто торфом, а потом чем-то большим. С точки зрения духа подобное существование есть грех, и самое меньшее, что можно для него сделать, — это высказать это и тем самым потребовать от него присутствия духа.
Но то, что сказано здесь, не относится к язычеству. Подобная экзистенция может находиться лишь внутри христианства. Причина этого в том, что, чем выше установлен дух, тем глубже проявляется исключение, равно как и в том, что, чем выше то, что было потеряно, тем более жалки бесчувственные (???????????) в своем довольстве. Если сравнить такое блаженство бездуховности с положением рабов в язычестве, в этом рабском состоянии все же находится некоторый смысл, ибо оно вообще не является ничем в себе самом. Напротив, потерянность бездуховности — это самое ужасное из всего; ибо несчастье заключено как раз в том, что бездуховность стоит к духу в отношении, которое есть Ничто. Потому бездуховности может до некоторой степени быть свойственно общее с духом содержание, которое — и это надо отметить — проявляется не как дух, но как шутка, галиматья, остроумная фраза и тому подобное. Ей может быть свойственна и истина, но — и это надо отметить — не как истина, но как молва и бабьи сплетни. С эстетической точки зрения это и составляет нечто глубоко комическое в бездуховности, нечто, на что обыкновенно не обращают внимания, поскольку и сам представитель такой бездуховности в той или иной мере не уверен в том, что относится к духу. Поэтому, когда приходится представлять бездуховность, в уста ей охотно вкладывают пустую болтовню, поскольку человеку не хватает мужества позволить ей употреблять те же самые слова, которыми пользуется он сам. Это и есть неуверенность. Бездуховность вполне может говорить то же самое, что произнес истинный дух, — вот только говорит она это не силою духа. Будучи определенным бездуховно, человек стал говорящей машиной, и этому нисколько не мешает то, что он с одинаковым успехом может обучиться философским высокопарностям или же знанию веры и политическому речитативу.
Разве не удивительно, что единственный ироник и величайший юморист должны объединиться вместе, чтобы высказать то, что кажется самым простым, иначе говоря, что следует различать между то, что понимают, и тем, что не понимают, и что должно препятствовать тому, чтобы даже самый бездуховный человек был готов все время дословно твердить одно и то же? Существует лишь одно доказательство духа — это свидетельство духа в самом себе; каждый, кто требует чего-то иного, во множестве собирая соответствующие доказательства, все равно уже тем самым он определен как бездуховный.
В бездуховности нет никакого страха, поэтому она слишком счастлива и довольна и слишком бездуховна. Однако это поистине печальное основание, и язычество отличается от бездуховности тем, что оно определено по направлению к духу, тогда как бездуховность — по направлению прочь от духа. Поэтому язычество это, если угодно, отсутствие духа, и тем самым оно существенно отделено от бездуховности. В этом смысле язычество вообще куда предпочтительнее. Бездуховность — это стагнация духа и искаженный образ идеальности. Поэтому бездуховность, собственно, не тупа, как об этом обычно болтают, но она бессильна в том смысле, в каком сказано: "Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?" Ее гибельность, но также и ее надежность заключены как раз в том, что она ничего не постигает духовно, ничто не рассматривает как свою задачу, даже если она и в состоянии притронуться ко всему в своей скользкой вялости. А потому, случись так, что ее один-единственный раз коснется дух, и в то же самое мгновение она начнет биться как гальванизированная лягушка, наступает явление, полностью соответствующее стадии языческого фетишизма. Для бездуховности нет никакого авторитета, поскольку ей ведь известно, что для духа нет никаких авторитетов; но так как, к несчастью, она сама не является духом, то, вопреки тому, что ей известно, она оказывается законченной идолопоклонницей. Она поклоняется растяпе и герою с одинаковым рвением, но настоящим ее фетишем выступает все-таки шарлатан.
В бездуховности как бы нет никакого страха, но поскольку он исключается лишь когда появляется дух, страх уже наличествует тут, хотя и ждет до поры до времени. Можно представить себе, что должник находит удовольствие в том, чтобы избегать кредитора и водить его за нос пустыми обещаниями; есть, однако, такой кредитор, который никогда не бывает в убытке, и этот кредитор — дух. Поэтому, с точки зрения духа, страх присутствует и в бездуховности, однако там он спрятан и заглушен. Даже при рассмотрении становится не по себе от взгляда на это; ибо, сколь ни ужасен образ страха, если таковой пытаются создать силой воображения, этот образ будет ужасать куда сильнее, когда страх сочтет для себя необходимым маскироваться, чтобы не выступать таким, каким он есть, хотя он именно таков.
Когда смерть является в своем истинном обличье — как худой невеселый косарь, — на нее уже смотрят не без ужаса, когда же, чтобы посмеяться над людьми, которые сами воображают, будто могут посмеяться над ней, она появляется переодевшись, и только один-единственный наблюдатель видит, что та незнакомка, которая привлекает всех своей учтивостью и позволяет всем веселиться в необузданной распущенности сладострастия, на самом деле есть смерть, его охватывает еще более глубокое содрогание.
§2. СТРАХ, ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СУДЬБЕ
Принято говорить, что язычество погрязло в грехе, но возможно, правильнее было бы сказать, что оно пребывает в страхе. Язычество — это чувственность, однако такая чувственность, которая имеет отношение к духу, правда дух при этом еще не полагается в глубочайшем смысле как дух. Но возможность его как раз и есть страх.
Если же мы теперь спросим, каков объект этого страха, здесь, как и прежде, придется ответить, что таким объектом является Ничто. Страх и Ничто постоянно соответствуют друг другу. Как только полагается действительность свободы и духа, страх оказывается снятым. Но как же точнее определить это Ничто страха в язычестве? Оно есть судьба.
Судьба — это отношение к духу, которое является внешним, это отношение между духом и чем-то иным, что уже не есть дух, но к чему он, однако же, должен стоять в "духовном" отношении. Судьба как раз и может обозначать такую противостоящую сущность, которая выступает единством необходимости и случайности.
На это не всегда обращают внимание. О языческом фатуме (который к тому же по-разному рассматривается в восточном и в греческом толковании) говорят так, будто это — необходимость. Впрочем, остатку такой необходимости позволяют сохраниться и в христианском мировоззрении, где ей удается даже обозначать судьбу, то есть случайное, несоизмеримое в сравнении с Провидением. Однако отношение не может строиться таким образом; ведь судьба — это именно единство необходимости и случайности. Это чувственно выражается в образе, согласно которому судьба слепа; ведь тот, кто слепо идет вперед, движется столь же необходимо, сколь и случайно. Необходимость, которая не осознает самое себя, ео ipso ("тем самым" (лат.)) является случайностью по отношению к следующему мгновению. Таким образом, судьба — это Ничто страха. Она есть Ничто, ибо, как только полагается дух, страх оказывается снятым, — но точно так же снимается и судьба, ибо при этом как раз полагается Провидение. Поэтому о судьбе можно сказать то, что апостол Павел сказал об идоле: "...идол в мире ничто", и, однако же, идол — это объект языческой религиозности.
Стало быть, страх язычника находил в судьбе свой объект, свое Ничто. Язычник не может вступить в отношение с судьбой, поскольку в одно прекрасное мгновение она является необходимой, но тут же становится случайной с приходом следующего мгновения. И все же язычник стоит к судьбе в некотором отношении, и этим отношением является страх. Ближе язычник не может подойти к судьбе. Попытка, которую предприняло для этого язычество, состояла в том, чтобы стать достаточно глубокомысленным, пролить на это новый свет. Тот, кто призван объяснить судьбу, сам должен быть таким же двузначным, как и судьба. Таким как раз и был оракул. Однако оракул опять-таки может означать нечто противостоящее. Потому отношение язычника к оракулу вновь оказывается страхом. Здесь и заключено глубоко не проясненное трагическое начало в язычестве. Трагическое состоит отнюдь не в том, что высказывание оракула двусмысленно; оно состоит в том, что язычник не смеет уклониться от обращения к нему за советом. Язычник стоит к оракулу в определенном отношении, он не может упустить возможности спросить его; даже в само мгновение вопрошания он стоит к нему в двузначном отношении (симпатическом и антипатическом). Именно так и следует понимать высказывание оракула.
Понятие вины и греха в его глубочайшем смысле не может появиться в язычестве. Если бы оно появилось, язычество погибло бы вследствие того противоречия, что человек становился бы виновным посредством судьбы, Это действительно есть высшее противоречие, и как раз из этого противоречия и возникает христианство.
Язычество не постигает его, и потому оно так легкомысленно в определении понятия вины.
Понятие греха и вины как раз полагает единичного индивида как единичного.
Речь никоим образом не идет об отношении ко всему миру, ко всему прошедшему.
Речь идет лишь о том, что он виновен и все же должен становиться таковым через судьбу, то есть через все то, о чем речь не идет, и через нее он должен становиться чем-то таким, что снимает само понятие судьбы, — и таковым он должен становиться через судьбу.
Это противоречие, будучи постигнуто неправильно, порождает неверное представление о первородном грехе; а будучи постигнутым правильно, оно порождает истинное представление, состоящее в том, что всякий индивид является собой самим и родом и что последующий индивид не отличается существенно от первого.
В самой возможности страха исчезает свобода, подавленная судьбой; теперь же наконец открывается ее действительность, хотя это и происходит благодаря разъяснению, что сама свобода становится виновной. Страх даже в высшей своей точке там, где индивид как бы становится виновным, — все же не является виной. Таким образом, грех не появляется ни как необходимость, ни как случайность, а потому понятию греха соответствует Провидение.
Внутри христианства можно обнаружить языческий страх по отношению к судьбе повсюду, где дух хотя и присутствует, но еще не становится духом. Этот феномен проявляется отчетливее всего, когда наблюдаешь гения. Гений — это непосредственно преобладающая субъективность как таковая. Однако он еще не положен как дух; ибо, как таковой, он и может быть положен только через дух. В качестве непосредственного он может быть духом (тут и заключено заблуждение, согласно которому его поразительная одаренность и есть дух, положенный как дух), однако в этом случае он имеет вне себя самого нечто иное, что не есть дух, и сам стоит в некоем внешнем отношении к духу. Потому-то гений снова и снова обнаруживает судьбу, и чем глубже сам гений, тем глубже он обнаруживает эту судьбу.
Для бездуховности это, конечно, безумие, однако в действительности в этом и состоит его величие; ибо ни один человек не рождается на свет с идеей Провидения, а те, которые полагают, будто такая идея постигается всегда в процессе воспитания, постигают это в высшей степени ошибочно, хотя они отнюдь не желают тем самым отрицать значение воспитания. Гений проявляет свою изначальную силу тем, что он обнаруживает судьбу, но затем он также проявляет свое бессилие. Для непосредственного духа, каким всегда является гений, разве что он является непосредственным духом sensu eminentiori ("в основном смысле" (лат.)), судьба есть граница. Только в грехе полагается Провидение. Потому гению приходится вести страшную борьбу, чтобы достигнуть Провидения. Если же он не достигает Провидения, по нему поистине можно изучать судьбу.
Гений — это всемогущий Ansich, который, в качестве такового, способен потрясти весь мир. Поэтому одновременно с ним, ради сохранения порядка, возникает иная фигура — судьба. Судьба есть Ничто; сам гений обнаруживает ее, и чем глубже этот гений, тем глубже он обнаруживает судьбу; ибо этот образ есть просто предвосхищение Провидения. Если же гениальный человек упорствует в том, чтобы быть только гением, если он обращается к внешнему, он непременно совершит удивительные вещи; тем не менее он будет снова и снова покоряться судьбе, если не вне себя самого, ощутимо для каждого, то по крайней мере внутри. Потому существование гения — это всегда как бы некая сказка, если только он в глубочайшем смысле слова не обернется внутрь самого себя. Гений способен совершить все, и, однако же, он зависит от какого-нибудь пустяка, которого никто не понимает, от пустяка, которому сам гений благодаря своему всемогуществу придает всеобщее значение. Поэтому младший лейтенант, если он гений, способен стать императором и изменить мир таким образом, чтобы там была только одна империя и только один император. Также и армия может собраться для битвы, обстоятельства для нее могут быть самыми благоприятными, и все же в одно мгновение битва может быть проиграна; целая империя героев будет коленопреклоненно умолять, чтобы император отдал приказ, однако он вдруг не сможет этого сделать, он непременно должен ждать до 14 июня, и все почему? Потому что это был день битвы при Маренго. Потому все может быть готово, сам он может стоять перед легионами, просто ожидая того, чтобы солнце поднялось и вдохновило его на речь, которая увлечет солдат; и вот солнце встает, великолепнее, чем когда-либо, это вдохновляющее и воспламеняющее зрелище для каждого, но не для него, ибо солнце не вставало так великолепно при Аустерлице, а только солнце Аустерлица дарует победу и вдохновение. Отсюда и необъяснимая страсть, с которой подобный человек может вдруг накинуться на совершенно незначительный персонаж, пусть даже в других случаях он выказывал человечность и приветливость даже к врагам. Да, горе тому мужчине, горе той женщине, горе тому невинному ребенку, горе зверю в полях, горе птице, что летит здесь, горе дереву, чья ветвь оказывается у него на пути в то мгновение, когда он должен принять свое предостережение.
Внешнее, как таковое, не имеет никакого значения для гения, и потому никто не может его понять. Все зависит от того, как он сам понимает это в присутствии своего тайного друга (судьбы). Все может быть потеряно; как самые простые, так и самые хитрые люди могут объединиться в том, чтобы попытаться отговорить его от безнадежного предприятия. И все же гений знает, что он сильнее всего мира, если только в этом месте не обнаружится какой-нибудь сомнительный комментарий к невидимым письменам, по которым он читает волю судьбы. Если он читает их сообразно своему желанию, он говорит своим могучим голосом капитану корабля: "Плыви, ты везешь Цезаря и его удачу". Все может быть завоевано, и в то же самое мгновение, когда он получает известие, с ним вместе, возможно, звучит некое слово, смысл которого не понимает ни одна тварь земная, не понимает, впрочем, и Бог на небе (ибо в некотором смысле даже он не понимает гения), и гений падает в бессилии.
Таким образом, гений помещен за пределами всеобщего. Он велик благодаря своей вере в судьбу, в то, что он либо победит, либо падет; ибо он побеждает через себя самого и гибнет через себя самого, или, точнее, он делает и то и другое через судьбу. Обычно его величием восхищаются, только если он побеждает, и все же он никогда не бывает более велик, чем тогда, когда гибнет от собственной руки. Это, разумеется, следует понимать в том смысле, что судьба не возвещает о себе внешним образом.
Однако как раз в то мгновение, когда, говоря человеческим языком, все завоевано, он обнаруживает двусмысленные письмена и теряет бодрость духа, кто-нибудь мог бы воскликнуть: "Что за гигант понадобился бы, чтобы опрокинуть его!" Потому, однако, на это и не способен никто, кроме него самого. Вера, которая бросила царства и земли мира под его мощную руку, в то время как людям казалось, будто они созерцают нечто легендарное, — эта вера и опрокинула его, и его падение было еще более непостижимой легендой.
Потому гению страшно совсем в другое время, чем обычным людям. Эти люди обнаруживают опасность только в само мгновение опасности, до этого времени они чувствуют себя надеж но и когда опасность миновала, они опять чувствуют себя надежно. Гений же сильнее всего в мгновение опасности, страх его скорее лежит в предшествующем мгновении и в мгновении последующем, — это момент трепета, когда ему приходится беседовать с тем великим незнакомцем, имя которому — судьба. Вероятно, страх его наиболее велик в последующее мгновение, поскольку нетерпение уверенности всегда возрастает в обратном отношении к краткости расстояния, поскольку всегда оказывается все больше и больше того, что можно потерять, чем ближе ты находишься к победе. Но больше всего страха для него бывает в мгновение победы, так как последовательность судьбы состоит как раз в ее непоследовательности.
Гений, как таковой, не может постичь себя религиозно, а поэтому он не достигает ни греха, ни Провидения, и по этой причине он стоит в отношении страха к судьбе. Еще никогда не существовало гения без страха, разве что он был одновременно и религиозен.
Если гений остается при этом непосредственно определенным, если он обращен наружу, он становится поистине велик, а его свершения — поразительны, однако он никогда не приходит к себе самому и никогда не становится велик для себя самого. Все его действия обращены вовне, однако то, если я могу так выразиться, планетарное зерно, которое освещает все, здесь так и не возникает (bliver til). Значение гения для себя самого есть Ничто, или же оно двусмысленно печально, как то сочувствие, с которым обитатели Фараоновых островов предавались бы радости, если бы на этом острове жил прирожденный туземец, который поражал бы всю Европу своими произведениями, написанными на различных европейских языках, который преобразовал бы науки своим бессмертным вкладом, но при всем том никогда не написал бы ни строчки на языке Фараоновых островов, в конце концов даже позабыл бы, как на нем говорить. В глубочайшем смысле гений никогда не становится значительным для себя самого, его сфера не может быть определена выше чем сфера судьбы в отношении к счастью, несчастью, почету, чести, власти, бессмертной славе — всем этим свойствам, которые являются временными определениями. Всякое более глубокое диалектическое определение страха исключено. Последним было бы определение: рассматриваться виновным таким образом, что страх уже не обращен в направлении вины, но только в направлении видимости этой вины, — а ведь это определение чести. Такое состояние души весьма подходило бы для поэтического изложения. Подобное может случиться с каждым человеком, однако гений сразу же постигнет это так глубоко, что он будет уже бороться не с людьми, но с глубочайшими загадками наличного существования.
То, что подобное гениальное существование, несмотря на весь его блеск и великолепие, несмотря на все его значение, все же является грехом, — тут действительно требуется мужество, чтобы это понять; и его едва ли можно понять вообще, прежде чем человек не научится успокаивать голод своей алчущей души. Между тем это все-таки так: то, что подобное существование, несмотря на это, может в определенной степени быть счастливым, еще ничего не доказывает. Человек может рассматривать свой дар как средство развлечения, и, помещая этот дар внутрь действительности, он вдруг понимает, что ни на одно мгновение он не может возвысить его над временными категориями, в которых заложено временное. Только благодаря религиозному размышлению гений и талант становятся в глубочайшем смысле чем-то оправданным. Возьмем такого гения, как Талейран; в нем ведь была заложена возможность куда более глубоких размышлений о жизни. От этой возможности он уклонился. Он последовал за тем своим определением, которое разворачивало его во-вне. Его замечательный гений интригана великолепно проявился: его гибкость, его способность насыщать все и проникать во все (если воспользоваться выражением, которое химики применяют к разъедающим все кислотам) вызывали всеобщее восхищение, однако он принадлежит временному. Если бы такой гений презрел временное как всего лишь непосредственное, если бы он обернулся к самому себе и к божественному, какой мог бы явиться религиозный гений! Но какие муки тогда ему пришлось бы вынести! Следовать непосредственным определениям в жизни, — ну что ж, это дает облегчение, независимо от того, велик ты или мал, однако и награда зависит от того, велик ты или мал. И тот, кто духовно не настолько зрел, чтобы понять, что даже бессмертная слава во всех поколениях — это все же некоторое определение временности, — тот, кто не понимает, что все различия, к которым стремятся души людей, все то, что оставляет их без сна в томлении и желании, — все это бесконечно несовершенно в сравнении с бессмертием, которое существует для каждого человека и которое по праву вызвало бы справедливую зависть всего мира, будь оно предназначено лишь для одного-единственного человека, — тот, кто не понимает этого, не продвинется далеко в своих разъяснениях о духе и бессмертии.
§3. СТРАХ, ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ В НАПРАВЛЕНИИ ВИНЫ
Обычно говорят, что иудаизм представляет собой точку зрения закона. Это, впрочем, можно выразить и говоря, что иудаизм пребывает в страхе. Однако Ничто страха означает здесь нечто совсем иное чем судьба. Именно в этой сфере тезис, согласно которому "страшиться перед Ничто" более всего парадоксален, ибо вина это все-таки какое-то Нечто. Вместе с тем правильно, что вина, пока она является предметом страха, есть Ничто. Двузначность заложена в отношении; ибо как только вина полагается, страх уже миновал, присутствует же тут раскаяние. Отношение как это всегда бывает с отношением страха, может быть симпатично и антипатично. Это опять-таки кажется парадоксальным, однако все тут не так; ибо в то время как страх пугается, он сохраняет тончайшую связь со своим предметом, однако не может отвернуться от этого предмета, да и не хочет этого делать, ведь как только этого пожелает индивид, сюда вступит раскаяние; для того или другого человека все это может показаться трудным, но с этим я уж ничего не могу поделать. Тот, у кого есть надлежащая неколебимость, чтобы стать, если я осмелюсь так сказать, обвинителем Бога — если не в отношении других, то хотя бы в отношении себя самого, — тому эти речи не покажутся трудными. Более того, жизнь предлагает достаточно явлений, внутри которых индивид, находящийся в страхе, почти жадно глядит на вину, одновременно боясь ее. Вина имеет для очей духа ту чарующую силу, какая бывает у взора змеи. В этой точке заложена истина карпократианского воззрения, согласно которому человек вообще достигает совершенства только через грех. Это воззрение имеет свою истину в мгновение решения, когда непосредственный дух полагает себя как дух через дух; напротив, богохульством будет полагать, будто подобный взгляд должен осуществляться in concreto ("конкретно" (лат.)).
Именно поэтому иудаизм пошел дальше, чем греческая культа и симпатический момент в таком отношении страха к вине можно усмотреть в том, что иудаизм ни за что не вступил бы в подобное отношение, просто чтобы обрести все эти легкомысленные выражения греческой культуры: "судьба", "счастье" и "несчастье".
Страх, который присутствует в иудаизме, — это страх перед виной. Вина — это сила, которая распространяется повсюду, сила, которую никто не способен понять в более глубоком смысле, когда она мрачно нависает над наличным существованием.
То, что призвано объяснить ее, должно обладать той же самой природой, подобно тому как оракул стоял в соответствии с судьбой. Оракулу язычества соответствует жертвоприношение иудаизма. Однако именно поэтому никто не может понять жертвоприношения. Тут и заложено глубоко трагическое начало в иудаизме, соответствующее отношению к оракулу в язычестве. Иудей имеет в жертвоприношении свое прибежище, однако это ему не помогает, ибо ему действительно могло бы помочь, только если бы отношение страха к вине оказалось снято, а взамен было бы установлено настоящее отношение. Поскольку же этого не происходит, жертвоприношение становится двузначным, что выражается в его повторении, дальнейшим следствием которого мог бы стать чистый скептицизм относительно самого акта жертвоприношения, скептицизм, возникающий в направлении рефлексии.
То, что было вполне справедливо для предшествующего изложения — что только вместе с грехом существует и Провидение, — вполне годится и здесь: только вместе с грехом полагается Провидение, и его жертвоприношение не повторяется. Причиной этого, если я могу так выразиться, будет не внешнее совершенство жертвоприношения, нет, просто совершенство жертвоприношения соответствует тому, что полагается действительное отношение греха. Но коль скоро действительное отношение греха не полагается, жертвоприношение должно повторяться. (Так, жертвоприношение повторяется в католицизме, хотя при этом абсолютное совершенство жертвоприношения все же признается.)
То, что было здесь кратко отмечено в связи со всемирно историческими отношениями, внутри христианства вновь возвращается в отдельные индивидуальности.
И здесь снова гений делает более ясным то, что в менее оригинальных людях существует таким образом, что его не слишком-то легко подвести под некую категорию. Гениальный человек вообще отличается от всех других людей только тем, что он сознательно начинает внутри своих исторических предпосылок столь же примитивно, как и Адам. Всякий раз, когда рождается гений, существование как бы подвергается испытанию; ибо он проходит и переживает все, что лежит позади, пока не нагонит самого себя. Потому знание гения о прошедшем совершенно отлично от предлагаемого во всемирно-исторических обзорах.
В предшествующем рассмотрении указывалось, что гений может оставаться со своим непосредственным определением, разъяснение же, что это грех, содержит при этом истинную любезность по отношению к этому гению. Всякая человеческая жизнь замыслена религиозно. Когда некто пытается отрицать это, все только запутывается, и понятия "индивид", "род", "бессмертие" оказываются снятыми. Можно было бы пожелать, чтобы люди обращали свою проницательность к этим вещам, ибо здесь заложены действительно трудные проблемы. 0 человеке, голова которого приспособлена к интригам, говорят, что ему следовало бы стать дипломатом или полицейским агентом, о человеке, наделенном мимическим талантом к комическому, — что ему следовало бы стать актером, о человеке же, совершенно лишенном каких бы то ни было талантов, — что он мог бы быть истопником в магистрате; но все это вообще ничего не говорящее воззрение на жизнь, или, точнее, тут нет вообще никакого воззрения, поскольку утверждается только то, что и так само собой разумеется. Но вот объяснить, как мое религиозное существование вступает в отношение с моим внешним, как оно выражается в этом внешнем, — это настоящая задача для рассмотрения. Но кто в наше время будет создавать себе лишние хлопоты, пытаясь размышлять о чем-то подобном, даже если современная жизнь сейчас более чем когда-либо предстает как мимолетное, ускользающее мгновение. Однако вместо того чтобы учиться постигать вечное, человек учится только тому, как изгонять жизнь прочь из себя самого, из своего ближнего и из мгновения, — и все это в своей погоне за мгновением. Если только человек мог сделать это, если он хоть раз мог вести этот вальс мгновения, значит, он жил, значит, он будет предметом зависти тех несчастных — а они как бы и вовсе не рождаются, но бросаются сломя голову в эту жизнь и продолжают нестись в ней вперед сломя голову, — которые никогда не достигают этого; вот тогда, значит, человек этот жил, ибо что в человеческой жизни есть более ценного, чем короткая прелесть, расцветающая в молодой девушке, которая поистине длилась необычно долго, если могла целую ночь очаровывать ряды танцующих кавалеров и поблекла только в утренние часы. Подумать же о том, как религиозное проникает во все внешнее и воздействует на него, на это конечно же не хватает времени. И даже если человек не преследует это все в отчаянной спешке, он все же хватается за то, что лежит поближе. Действуя таким образом, человек даже может стать чем-то великим в этом мире; более того, если при этом он время от времени ходит в церковь, все для него в целом будет прекрасно. Кажется, что все это указывает на то, что если для некоторых индивидов религиозное является абсолютным, то для других это не так , а это значит прощай всякий смысл в этой жизни! Естественно, рассмотрение становится тем более трудным, чем дальше внешняя задача отстоит от религиозного как такового. Какое глубокое религиозное размышление требовалось бы, например, чтобы осуществить такую внешнюю задачу, как попытка стать комическим актером. Я не стану отрицать, что такое возможно; ибо всякий, кто хоть что-то понимает в религиозном, прекрасно знает, что оно пластичнее золота и абсолютно соизмеримо с внешним. Ошибкой средних веков было не религиозное размышление, но только то, что его обрывали слишком рано.
Здесь снова встает вопрос о повторении, а именно: насколько индивидуальность может, начав религиозное размышление, затем снова вернуться к самой себе, получив себя обратно целиком, с головы до ног? В средние века человек обычно прекращал это на середине. Скажем, индивид уже должен был возвращаться назад к постижению самого себя, как вдруг наткнувшись, например, на то, что в нем есть некое остроумие, чувство комического и тому подобное, он вдруг уничтожал это все как нечто несовершенное. Сегодня же люди слишком легко решают, что все это было глупостью; ведь если у кого-то есть остроумие и талант к комическому, значит, он просто счастливчик Памфилий, чего же еще желать? Естественно, подобные объяснения не имеют ни малейшего понятия о том, что было заложено в вопросе; ибо хотя сегодня люди и рождаются более рассудительными в мирских проблемах, чем прежде, вместе с тем и гораздо большее их число появляется на свет как бы слепорбжденными в отношении к религиозному. Между тем в средние века бывали и примеры того, как подобное религиозное размышление проводилось дальше. Когда, к примеру, художник постигал свой талант религиозно, причем его талант, скажем, почему-либо не мог проявляться в работах, которые лежали бы в непосредственной близости к религиозному, можно было наблюдать, как такой художник столь же благочестиво сосредоточивал свои способности на том, чтобы живописать Венеру, он столь же благочестиво осознавал свое художническое призвание, как и тот, кто помогал церкви, увлекая взоры общины образом небесной красоты. Относительно всего этого, однако, придется еще подождать, пока не появятся такие индивиды, которые, несмотря на внешнюю одаренность, не будут избирать широкий путь, но выберут боль, и нужду, и страх, пребывая в которых они смогут религиозно размышлять об этом, одновременно как бы теряя то, что было бы слишком соблазнительно сохранять. Подобная битва, несомненно, является поистине напряженной, поскольку тут могут наступать мгновения, когда им будет почти жаль, что они ввязались во все это, мгновения, когда они с тоской, временами, вероятно, даже почти с отчаянием будут вспоминать о той смеющейся жизни, которая открылась бы перед ними, последуй они непосредственному порыву своего таланта. Однако даже в крайнем ужасе нужды, когда кажется, что все потеряно, поскольку путь, на который ему хотелось бы вступить, не может быть пройден, смеющийся же путь таланта пресечен для него собственными его усилиями, такой человек, если он действительно внимателен, несомненно, услышит голос, говорящий ему: "Хорошо, сын мой! только иди вперед; ибо тот, кто все теряет, обретает все".
Рассмотрим теперь религиозного гения, то есть такого гения, который не желает оставаться со своей непосредственностью. Придется ли ему когда-либо обернуться вовне, — это становится для него второстепенным вопросом. Первое же, что он делает, — это обращение к самому себе. Точно так же как и непосредственный гений судьбы, он получает вину как некий образ, который его повсюду сопровождает.
И когда он как раз обращается к себе самому, он ео ipso ("тем самым" (лат.)) тотчас же обращается к Богу; при этом существует церемониальное правило: если конечный дух желает видеть Бога, он должен начинать как виновный. Потому, когда он тут обращается к самому себе, он обнаруживает вину. И чем более велик гений, тем глубже он обнаруживает вину. Мне доставляет радость и кажется благоприятным знаком, что для бездуховности это представляется глупостью. Гений не таков, каково большинство людей, он не мог бы довольствоваться этим. Причина этого заключена не в том, что он презирает людей, но в том, что ему изначально приходится иметь дело с самим собою, тогда как все другие люди и все их объяснения ничего не улаживают для него и ничем ему не помогают.
То, что он обнаруживает вину столь глубоко, показывает, что это понятие для него является настоящим sensu eminentiori ("в основном смысле" (лат.)), точно так же как таковым является и его противоположность, понятие невинности. Совершенно так же все обстояло и с непосредственным гением в его отношении к судьбе; ибо каждый человек имеет свое собственное ограниченное отношение к судьбе, но он обычно и остается с этим, остается на уровне пустой болтовни, которая не замечает то, что обнаружил Талейран (и что до него уже было сказано Янгом), хотя Талейран, пожалуй, и не выразил это так рельефно, как это делает обычная болтовня; во всяком случае, он сказал, что речь нужна, чтобы скрывать мысли, точнее, скрывать, что их у тебя совсем нет.
Когда он так обращается во-внутрь, он обнаруживает свободу, он не боится судьбы; он ведь не раскладывает перед собой никакой задачи во-вне, и свобода для него есть его блаженство, — это не свобода совершать то или иное в этом мире, становиться царем или императором, или же дерзким оратором, который клеймит современность, нет, это свобода знать о самом себе, что он есть свобода. Однако чем выше поднимается индивид, тем дороже он должен за все это платить; и ради достижения определенного порядка, наряду с этим An-sich ("в-себе" (нем.)) свободы возникает некий иной образ — образ вины. Подобно тому как было с судьбой, вина есть теперь единственное, чего он боится; однако тут его боязнь уже не та, что достигала максимума в предыдущем состоянии, — там это была боязнь, что его сочтут виновным, теперь же это боязнь быть виновным.
В той мере, в какой он обнаруживает свободу, в той же мере страх греха нависает над ним в состоянии возможности. Он боится только вины: ибо вина есть единственное, что может отнять у него свободу. Нетрудно увидеть, что свобода здесь никоим образом не является вызовом, кроме того, она не является эгоистичной свободой в конечном смысле. Часто предпринимались попытки объяснить возникновение греха при подобных допущениях. Однако все это — напрасный труд; ибо допущение подобных предпосылок обещает куда большие трудности, чем само объяснение. Если свобода постигается таким образом, она имеет свою противоположность в необходимости, а это показывает, что свободу при этом постигают в определении рефлексии. Нет, противоположностью свободы является вина, и вершиной свободы становится то, что она всегда имеет дело лишь с самой собою, — в своей возможности она проецирует вину, постоянно полагая ее через себя самое; а если вина действительно полагается, свобода полагает ее через себя самое. Если на это не обращают внимания, значит, свобода неким остроумным образом смешивается с чем-то совсем иным, то есть с силой.
Если теперь свобода боится вины, она не боится того, что ее сочтут виновной, коль скоро это действительно так, но она боится стать виновной, и поэтому, как только вина оказывается положенной, свобода вновь возвращается как раскаяние.
Однако отношение свободы к вине пока что остается возможностью. Здесь гений снова проявляет себя тем, что он не отступает от изначального решения, тем, что он не ищет такого решения за пределами самого себя, вместе со всеми обычными людьми, тем, что он не довольствуется обычной торговлей вокруг этого. Только через саму себя свобода может прийти к знанию того, является ли она свободой и положена ли вина. Потому нет ничего смехотворнее допущения, что вопрос о том, является ли человек грешником или же он просто виновен, относится к рубрике: "Для заучивания наизусть".
Отношение свободы к вине есть страх, поскольку свобода и вина все еще остаются возможностями. Однако когда свобода таким образом, со всей своей страстью, требовательно и пристально всматривается в самое себя, желая при этом держать вину на расстоянии, чтобы ни одной ее частички нельзя было обнаружить в самой свободе, она не может перестать также пристально вглядываться в вину, и само это пристальное вглядывание есть двузначный взор страха, точно так же как отказ внутри возможности есть желание.
Здесь как раз и становится ясно, в каком смысле для последующего индивида в страхе есть нечто "большее", чем это было для Адама . Вина — это конкретное представление, которое в своем отношении к возможности становится все возможнее и возможнее. В конце концов дело начинает обстоять так, как будто вина объединила весь мир, сделав его виновным, или, что то же самое, как будто этот индивид, когда он стал виновным, стал виновным виной всего мира. Вина действительно наделена той диалектической характеристикой, что она не может передаваться; однако тот, кто становится виновным, становится виновным также и в том, что послужило поводом к вине, ибо у вины никогда нет какого-то внешнего повода, и тот, кто впадает в искушение, сам виновен в этом искушении.
В отношении возможности это проявляется в иллюзии. Однако как только вместе с действительным грехом внезапно появляется и раскаяние, оно получает в качестве своего предмета настоящий грех. В возможности свободы справедливо, что, чем глубже обнаруживается вина, тем более велик гений; ибо величие человека зависит единственно от энергии отношения к Богу, даже если такое отношение к Богу находит себе совершенно ошибочное выражение в виде судьбы.
Стало быть, точно так же как судьба в конце концов пленяет непосредственного гения — а это действительно то мгновение, когда непосредственный гений достигает своей вершины, не того блестящего осуществления во-вне, которое поражает людей и отрывает даже ремесленника от его повседневных занятий, настолько он поражен, но мгновения, когда он сам для себя и сам через себя самого погибает от этой судьбы, — точно так же вина пленяет религиозного гения, и это тоже то мгновение, когда религиозный гений достигает своей вершины, мгновение, когда он наиболее велик, не то мгновение, когда вид его благочестия подобен радости чрезвычайного праздника, но мгновение, когда он сам для себя и сам через себя самого погружается в глубины сознания греха.
Глава четвертая. СТРАХ ГРЕХА, ИЛИ СТРАХ КАК СЛЕДСТВИЕ ГРЕХА В ЕДИНИЧНОМ ИНДИВИДЕ
Грех вошел в мир через качественный прыжок, и он снова и снова входит в него таким же образом. Как только этот прыжок полагается, можно было бы предположить, что страх окажется снятым, поскольку страх определяется как самопроявление свободы в возможности. Качественный прыжок — это, конечно, действительность, и потому кажется, что возможность здесь снята наряду со страхом. Однако это не так. Частью потому, что действительность — это не просто один момент, частью же потому, что действительность, которая полагалась, — это неоправданная действительность. Потому страх появляется снова в отношении к тому, что было положено, а также к будущему. Однако теперь предметом страха является что-то определенное, его Ничто теперь на деле есть Нечто, поскольку различие между добром и злом полагается in concreto, а страх теряет поэтому свою диалектическую двузначность. Это справедливо для Адама, как и для каждого последующего индивида; ибо благодаря качественному прыжку они совершенно сходны.
Когда благодаря качественному прыжку грех полагается в единичном индивиде, тут же полагается и различие между добром и злом. Мы ни разу еще не оказались повинны в глупости, согласно которой человек будто бы должен грешить, напротив, мы снова и снова возражали против всякого чисто экспериментирующего знания; мы уже говорили и повторяем снова, что грех предполагает самое себя, точно так же как свобода предполагает самое себя, и грех, точно так же как и свобода, не может объясняться из чего-то предшествующего. Полагать, будто свобода начинается как liberum arbitrium (чего не бывает нигде, см. утверждение Лейбница), который может с таким же успехом избрать добро, как и зло, — значит сразу делать невозможным всякое объяснение. Говорить о добре и зле как об объектах свободы означает тотчас же положить конец как этой свободе, так и понятиям добра и зла.
Свобода бесконечна и возникает из ничего. Поэтому утверждать, будто человек с необходимостью грешит, — значит вытягивать окружность прыжка в прямую линию.
Подобная процедура может многим показаться в высшей степени убедительной, поскольку бездумность для многих людей оказывается чем-то совершенно естественным и поскольку во все времена были те — имя им легион, — кто считал похвальным способ рассмотрения, который на протяжении веков понапрасну клеймился как ????? ????? (Хризипп), ignava ratio (Цицерон), sophisma pigrum, lа raison paresseuse (Лейбниц).
Психология опять-таки имеет своим предметом страх, однако ей следует быть предусмотрительной. История индивидуальной жизни идет вперед в движении от одного состояния к другому состоянию. И каждое состояние полагается через прыжок. Так же как грех вошел в мир, он продолжает снова входить в него, если только его не остановить. Однако каждое такое его повторение — это не простое следствие, но новый прыжок. Каждому такому прыжку предшествует некое состояние в качестве его теснейшего психологического приближения. Такое состояние является предметом психологии. В каждом таком состоянии присутствует возможность, равно как и страх. Так все и происходит, после того как грех оказался положенным; ибо только в добре есть единство состояния и перехода.
§1. СТРАХ ПЕРЕД ЗЛОМ
а) Грех, который уже положен, конечно, есть некая снятая возможность, однако одновременно он есть некая неоправданная действительность. Поэтому страх может вступать с ней в отношение. Так как грех есть неоправданная действительность, он должен снова подвергнуться отрицанию. Эту работу хотел бы взять на себя страх. Здесь и находится игровая площадка изобретательной софистики страха. В то время как действительность греха, подобно Командору из "Дон Жуана", держит в своей ледяной правой руке руку свободы, левая ее рука жестикулирует, активно пользуясь обманом и ложью, красноречием ослепления .
b) Грех, который уже положен, одновременно является в самом себе следствием, даже если это следствие, которое чуждо свободе. Следствие возвещает о себе, и отношение страха строится навстречу наступлению такого следствия, которое представляет собой возможность некоего нового состояния. Как бы глубоко ни опускался индивид, он всегда может опуститься еще глубже, и это "может" как раз и есть предмет страха. Чем больше успокаивается здесь страх, тем больше означает то обстоятельство, что следствие греха вошло в индивида succum et sanguinem ("во плоти и крови" (лат.)) и что грех обрел себе право гражданства в индивидуальности.
Грех, естественно, обозначает здесь конкретное; ибо никто не грешит вообще или в целом. Даже грех желать вернуться назад ко времени, предшествующему действительности греха, — это не грех вообще, ибо подобного греха вообще еще никогда не было. Тот, кто хоть немного разбирается в людях, прекрасно понимает, что софистика всегда действует таким образом, что она постоянно натыкается на одну и ту же точку, хотя сама эта точка постоянно меняется. Страху хотелось бы держать действительность греха на расстоянии — пусть не совсем, но хотя бы до некоторой степени, — или, точнее, страху хотелось бы до некоторой степени позволить продолжиться действительности греха, но, важно заметить, только до некоторой степени. Потому страх как бы даже отчасти склонен поиграть с количественными определениями, причем чем больше развернут страх, тем дальше он осмеливается заходить со своей игрой; однако как только шутки и веселое времяпрепровождение количественных определений уже готовы пленить индивида в качественном прыжке (причем сам этот прыжок поджидает свою добычу, подобно личинке муравьиного льва, которая сидит в воронке, выкопанной в сыпучем песке), страх предусмотрительно отступает, потому что ему кажется, что тут у него есть небольшой момент, который следовало бы спасти, и момент этот лишен греха, — в следующее же мгновение это будет какой-то иной момент. Сознание греха, глубоко и серьезно возвещающее о себе в выражении раскаяния, — это большая редкость. Между тем ради себя самого, равно как и ради мышления вообще, да и ради ближнего, я поостерегусь выражать это таким образом, как это, по всей вероятности, сделал бы Шеллинг, который где-то говорит о "гении действия" примерно в том же смысле, в каком можно говорить о музыкальном гении или о чем-то подобном. Тут, даже не сознавая этого, можно одним-единственным поясняющим словом разрушить все. Если всякий человек не принимает существенного участия в Абсолюте, значит, все потеряно. Поэтому в сфере религиозного о гении нельзя говорить просто как об особой одаренности, которая дается немногим, ибо дар состоит в том, что человек желает, а тот, кто не желает, должен по крайней мере обладать тем преимуществом, что его не жалеют.
С этической точки зрения грех — это не состояние. Однако состояние — это всегда некоторое последнее психологическое приближение к следующему состоянию. Страх тут снова и снова оказывается рядом как возможность нового состояния.
В первом описанном здесь состоянии, обозначенном буквой (а), страх более заметен, тогда как в состоянии (b) он все более и более исчезает. Но страх постоянно стоит за дверью для такого индивида, и с точки зрения духа он тут сильнее, чем любой другой страх. На стадии (а) существует страх перед действительностью греха, из которой этот страх софистически создает возможность; между тем, говоря этически, он тут грешит. Движение страха здесь прямо противоположно такому движению в невинности, где, с психологической точки зрения, из возможности греха создавалась ее действительность, между тем как с этической точки зрения эта действительность греха наступала посредством качественного прыжка. На стадии (b) существует страх перед дальнейшей возможностью греха. Если тут грех и уменьшается, в этой точке мы объясняем это тем, что побеждает следствие греха.
с) Грех, который уже положен, есть неоправданная действительность, он есть действительность и полагается индивидом как действительность в раскаянии, однако раскаяние не становится свободой индивида. Раскаяние в своем отношении к греху сводится к возможности, иными словами, раскаяние не может отменить грех, оно может только мучиться из-за него. Грех продвигается вперед в своих последствиях, раскаяние следует за ним по пятам, правда, всегда отставая на мгновение.
Раскаяние принуждает себя глядеть на ужасное, однако оно, подобно тому безумному королю Лиру ("O du zertrummter Meisterstuck der Schopfung"), потеряло бразды правления и сохранило лишь силы печалиться. Здесь страх достигает своей вершины.
Раскаяние потеряло рассудок, и страх потенцируется в раскаяние. Последствия греха продвигаются вперед, они влекут индивида за собою, подобно тому как палач тащит за волосы женщину, а та кричит от отчаяния. Страх забегает вперед, он обнаруживает эти последствия еще до того, как они наступили, подобно тому как можно по собственному состоянию определить, что погода меняется; последствия приближаются, индивид трепещет, как конь, который, храпя, замирает у того места, где он однажды испугался. Грех побеждает. Страх в отчаянии бросается в объятия раскаяния. Раскаяние отваживается на последнюю попытку. Оно постигает последствия греха как наказание, а гибель — как следствие греха. Оно погибло, его суд состоялся, приговор не вызывает сомнений, а усугубление осуждения состоит в том, что индивида следует протащить по жизни до самого места казни. Другими словами, раскаяние стало безумным.
Жизнь дает достаточно возможностей наблюдать то, что было показано здесь.
Подобное состояние весьма редко встречается среди совершенно испорченных натур, обычно оно свойственно только людям более глубоким ибо требуется значительная оригинальность и упорство безумной воли, чтобы не оказаться подведенным под рубрики (а) и (b). Никакая диалектика не в состоянии победить софизмы, которые каждое мгновение могут порождаться безумным раскаянием. Подобное раскаяние несет в себе некое самоуничижение, которое в своем выражении и в диалектике страсти оказывается намного сильнее, чем истинное раскаяние (естественно, в другом смысле оно намного бессильнее, однако, как наверняка заметил каждый, кто наблюдал нечто подобное, удивительно то, каким даром убеждения и каким красноречием наделено такое раскаяние, способное обезоруживать все упреки, убеждать всех, кто к нему приближается, а затем вновь отчаиваться в самом себе, когда такое отвлечение миновало). Пытаться остановить это мучение словами и фразами — напрасный труд, и тот, кому это может прийти в голову, может всегда быть совершенно уверен, что все его проповеди будут подобны детской болтовне по сравнению со стихийным красноречием, которое служит такому раскаянию. Такое явление может наблюдаться как в отношении к чувственному (приверженность к пьянству, к опиуму, к разгулу и так далее), так и в отношении к чему-то более высокому в человеке (гордость, тщеславие, гнев, ненависть, вызов, хитрость, зависть и так далее). Индивид может раскаиваться в своем гневе, и чем глубже человек, тем глубже и его раскаяние. Однако раскаяние не может сделать его свободным, в этом он ошибается. Подходящий случай приходит; страх уже обнаружил этот гнев тут, в наличии, каждая его мысль трепещет, и страх высасывает из раскаяния все силы и качает головой; все происходит так, как будто гнев уже победил, человек уже предчувствует разрушение свободы, которое наступит в следующее мгновение; это мгновение наступает, гнев побеждает.
Каковы бы ни были последствия греха, уже то, что данное явление происходит в существенном масштабе, всегда служит знаком более глубокой натуры. И если такое явление наблюдается в жизни редко, это означает, что надо быть настоящим наблюдателем, чтобы замечать его чаще, потому что все это скрывают, а часто и просто пытаются изгнать прочь — люди прибегают к тем дачи иным хитрым средствам, чтобы истребить этот зародыш высшей жизни. Нужно просто обратиться за советом к нормальным людям, и тотчас же станешь таким, как большинство их, причем всегда можно получить и поручительство пары надежных свидетелей, что с тобой действительно все в порядке. Самое надежное средство освободиться от искушений (Anfaegtelse) духа — это как можно скорее стать бездуховным. Если только обратить на это внимание вовремя, все устроится само собой, что же касается самого искушения, можно объяснить все это тем, что его вообще не было, или же, в крайнем случае, рассматривать его как очаровательную поэтическую выдумку. В старые времена дорога к совершенству была узкой и одинокой, путешествие по ней постоянно нарушалось блужданиями, подвергалось разбойничьим нападениям грех, преследовалось стрелами прошлого, которые столь же опасны, как стрелы, выпущенные ордами скифов; теперь же к совершенству отправляются по железной дороге, в приятной компании, и, прежде чем человек может вымолвить хоть слово об этом, смотришь, а он уже приехал.
Единственное, что поистине способно обезоружить софистику страха, — это вера, мужество верить, что само состояние является новым грехом, мужество отказаться от страха без страха, а на это способна только вера; вера не может тем самым уничтожить страх, но сама, будучи вечно юной, снова и снова выпутывается прочь из смертного мгновения страха. На это способна только вера ибо только в вере синтез вечен и возможен в каждое мгновение.
* * *
Нетрудно увидеть, что все изложенное здесь принадлежит сфере психологии.
А с точки зрения этики все вращается вокруг того, чтобы индивид обрел свое правильное место сообразно своему отношению к греху. Как только это достигнуто, индивид, раскаиваясь, оказывается в грехе. Будучи рассмотрен в идее, он в это же самое мгновение приведен к догматике. Раскаяние — это высшее этическое внутреннее противоречие, — частью потому, что этика сразу же требует себе идеальности, но должна довольствоваться тем, что получает раскаяние, — частью же потому, что раскаяние становится диалектически двусмысленным относительно того, что оно должно убрать; это такая двусмысленность, которую догматика убирает лишь в Примирении, в котором явственно выступает определение первородного греха. Кроме того, раскаяние задерживает действие, а ведь последнее есть как раз то, чего требует этика. В конце концов раскаяние должно стать объектом для самого себя, поскольку мгновение раскаяния становится и нехваткой действия. Потому это было настоящим этическим взрывом, исполненным энергии и мужества, когда старший Фихте сказал, что на раскаяние нет времени. Правда, тем самым он не доводил раскаяние до его диалектической вершины, где, будучи положенным, оно снимет самое себя в новом раскаянии и где оно сразу же после этого разрушится.
То, что было представлено в этом параграфе, равно как и в прочих разделах этого произведения, — это то, что с психологической точки зрения можно было бы назвать психологическим отношением свободы к греху, или, опять же с психологической стороны, состояниями, понятыми как приближение к греху. Это изложение не претендует на то, чтобы объяснять грех этически.
§2. СТРАХ ПЕРЕД ДОБРОМ (ДЕМОНИЧЕСКОЕ)
В наше время редко услышишь, чтобы говорили о демоническом. Отдельные сообщения об этом, которые можно найти в Новом завете, касаются самых общих вещей. Когда теологи пытаются разъяснить их, они охотно углубляются во всевозможные наблюдения о том или ином неестественном грехе, причем они находят для этого соответствующие примеры, где животное начало получает такую власть над человеком, что оно выдает себя почти что нечленораздельным звероподобным рыком, зверским выражением лица или же звериным взглядом; порой звериная сущность в человеке может достигнуть выраженной формы (физиономическое выражение этому — Лаватер), порой же, подобно исчезающему посланнику, эта сущность лишь молниеносно дает ощутить то, что таится внутри, точно так же как некий взгляд или жест безумца, который короче самого краткого мгновения, становится пародией, насмешкой и карикатурой на разумного, осмотрительного и остроумного человека, с которым он стоит рядом и беседует. Все, что теологи замечали в этой связи, вполне может быть верным, но важнее всего то, что лежит в основе.
Обычно это явление описывают таким образом, что становится ясно видно: то, о чем тут говорится, — это рабство греха — состояние, которое я не могу описать лучше, чем вспомнив об одной игре, во время которой двое людей прячутся под одним плащом, делая вид, будто там только один человек, — один из них говорит, другой же жестикулирует, причем совершенно случайным образом, без всякой связи с речами первого; ибо совершенно так же зверь облекается в человеческий образ и теперь продолжает все больше и больше искажать его своей жестикуляцией и интермедией. Между тем рабство греха — это еще не демоническое. Как только грех полагается, и индивид продолжает упорствовать во грехе, возникают два образования, одно из которых описано в следующем параграфе. Если не обращать внимания на это, демоническое вообще нельзя определить. Индивид пребывает в грехе, и его страх — это страх перед злом. Если смотреть на него с более высокой точки зрения, такое образование находится внутри добра; ведь именно поэтому оно страшится перед злом. Другое же образование — это демоническое; индивид пребывает тут во зле и страшится перед до ром. Рабство греха — это несвободное отношение ко злу, но демоническое — это несвободное отношение к добру.
Потому демоническое проявляется ясно только тогда, когда его касается добро которое, таким образом, приближается к его границе извне. По этой причине достойно внимания, что завете демоническое впервые появляется только тогда, когда к нему приближается Христос; пусть имя этому демону — легион (см. Матф., 8. 27, 34; Марк, 5. 1-20; Лука, 8. 26 — 39), или же он нем (см. Лука, 11. 14), само явление тут одно и то же — это страх перед добром; ибо страх с одинаковым успехом может, выражаться как в немоте, так и в крике. Добро означает, естественно, восстановление свободы, спасения, искупления, как бы их ни называли.
В старые времена о демоническом речь заходила довольно часто. Здесь не важно, занимается ли, занимается ли человек штудиями, которые могли бы помочь ему заучивать наизусть и цитировать ученые и любопытные книги. Легко набросать разнообразные замечания, которые вполне могут быть справедливыми и вполне могут соответствовать действительности время от времени. Это будет иметь определенное значение, поскольку различие таких замечаний может привести к определению самого этого понятия.
Демоническое можно рассматривать как эстетически-метафизическое. Само явление подпадает под рубрику несчастья, судьбы и тому подобного, а потому его можно рассматривать по аналогии с тем, как человек может от рождения быть слабоумным и так далее. В этом случае к этому явлению стоят в отношении сочувствия. Между тем, подобно тому как желание — это самое жалкое из всех сольных искусств, сочувствие, во всяком случае, в том смысле, в каком это слово обычно употребляется, есть самое жалкое из общественных умений и искусств. Сочувствие, далекое от того, чтобы послужить добру страждущего, скорее способствует удовлетворению собственного эгоизма. Человек просто не осмеливается в более глубоком смысле задуматься о чем-то подобном и потому спасается через сочувствие.
Только если сочувствующий в своем сочувствии относится к страждущему таким образом, что он в самом строгом смысле слова постигает, что речь идет тут о его собственном деле, только если он умеет так соединить себя со страждущим, что в своей борьбе за объяснение он борется за себя самого, отрекаясь от всякой бездумности, слабости и трусости, только в этом случае его сочувствие обретает значимость и только в этом случае он, возможно, найдет в нем смысл, поскольку сочувствующий отличается от страждущего тем, что он страдает в более высоком смысле. Если сочувствие относится к демоническому таким образом, вопрос будет стоять не о паре утешительных слов, не о внесении своей небольшой лепты или пожатии плечами; ведь раз некто стонет, ему есть о чем стонать.
Коль скоро демоническое — это судьба, она может приключиться с каждым. Этого нельзя отрицать, даже если в наше трусливое время люди делают все возможное, чтобы посредством развлечений и янычарской музыки шумных мероприятий удерживать на расстоянии одинокие мысли, — точно так же как в американских лесах держат на расстоянии диких зверей посредством факелов, криков и ударов в литавры. Именно поэтому люди в наши дни так мало могут узнать о высочайших духовных искушениях (Anfaegtelser), — но тем больше узнают обо всех этих пустяшных конфликтах между людьми или между мужчиной и женщиной — конфликтах, которые несет с собой сверхутонченная жизнь высшего света и салонов. Если истинно человеческое сочувствие воспринимает страдание как надежное поручительство и прибежище, значит, нужно прежде всего выяснить, в какой степени речь идет о судьбе и в какой — о вине. И такое различение должно быть проведено с заботливой, но также и с энергичной страстью свободу, так, чтобы человек мог решиться держаться за это, пусть даже весь мир рухнет, пусть даже ему покажется, что своей неколебимостью он нанесет непоправимый вред.
Демоническое рассматривали, вынося ему приговор с этической стороны. Хорошо известно, с какой ужасной суровостью оно преследовалось, выслеживалось, наказывалось. В наши дни мы содрогаемся, когда об этом рассказывают, и мы становимся чувствительными и сентиментальными, когда думаем о том, что в наше просвещенное время никто так не поступает. Это вполне может быть и так, но разве сентиментальное сочувствие намного больше заслуживает похвалы? Не мое это дело судить и осуждать подобное поведение, мое дело — его наблюдать. То, что оно было столь этически сурово, как раз и доказывает, что там сочувствие было лучшего качества. Когда это сочувствие само соединялось с этим явлением в мысли, тут не могло быть иного объяснения, помимо того, что само это явление было виной. Поэтому такое сочувствие было убеждено, что в конечном счете само демоническое должно было соответственно своей лучшей возможности желать, чтобы против него была обращена вся жестокость и суровость . И если уж взять пример из близкой области, — разве не Августин требовал для еретиков наказания, даже наказания смертью? Разве ему при этом недоставало сочувствия? А может быть, отличие его действий от того, что принято в наше время, состояло скорее в том, что сочувствие не делало его трусливым и потому он мог сказать относительно себя самого: "Если бы нечто подобное приключилось со мною, дай Бог, чтобы рядом была церковь, которая не оставила бы меня, но использовала бы всю свою власть для моего исправления!" Но в наши дни человек боится того, чтобы — как однажды сказал Сократ — его резал и прижигал врач ради надежды на исцеление.
Демоническое обычно рассматривалось как нечто, на что следует воздействовать медицинским образом. А это значит:mit Pulver und Pillen ("порошками и пилюлями" (нем.)), а потом даже и клистирной трубкой. Теперь аптекарь и врач соединяются вместе. Пациента удаляют, чтобы другие не испугались. В наше отважное время мы не решаемся сказать пациенту, что он должен умереть, мы не решаемся позвать священника, боясь, что он умрет от ужаса, мы не решаемся сказать одному пациенту, что примерно в то же время другой умер от той же болезни. Пациента удаляют, сочувствие будет справляться о его состоянии, врач обещает возможно скорее предоставить таблицы и статистический обзор, чтобы можно было посчитать средние цифры. Ну а когда есть средние цифры, все объяснено. С точки зрения подхода, направленного на медицинское рассмотрение, это явление остается чисто физическим и телесным, и потому, как это часто делают врачи, in spesie ("в особенности" (лат.)) врач в одной из новел Э.-Т.-А. Гофмана, здесь нужно просто взять понюшку табаку и сказать: "Это серьезный случай".
То, что тут возможны три разных способа рассмотрения, явственно показывает двусмысленность этого явления, а также то, что оно в некотором смысле принадлежит всем трем сферам: телесной, душевной и духовной. А это указывает на то, что демоническое обладает куда большим охватом, чем обычно полагают, поскольку человек является синтезом души и тела, кото-рый основан на духе, так что нарушение в одной из частей сказывается и на всем остальном. И если только обратить внимание на то, какой охват имеет демоническое, возможно, одновременно станет ясно, что даже многие из тех, кто стремится рас-сматривать это явление, сами подпадают под эту категорию, равно как и то, что следы этого можно найти в каждом человеке, точно так же как каждый человек является грешником.
Поскольку же на протяжении всего этого времени демоническое означало самые разные вещи, так что в конце концов оно пришло к тому, что может означать буквально что угодно, лучше всего сейчас было бы попытаться некоторым образом определить это понятие. В этой связи следует обратить внимание на то, какое место мы ему уже отвели прежде. В невинности не может быть и речи о демоническом. С другой стороны, нужно отказаться от всяких фантастических представлений о заключении договора со злом и тому подобного, вследствие которых человек якобы становится совершенно злым. Из-за этого и появлялось противоречие в суровом подходе, свойственном прежним временам. Люди предполагали нечто подобное и все же высказывались за наказание. Но само по себе наказание было не только необходимой самозащитой, но также и средством спасения (либо спасения самих заинтересованных лиц при достаточно мягком наказании, либо спасения всех остальных, если виновник наказывался смертью); однако там, где речь могла идти о спасении, это значило, что индивид не так уж целиком подпадал под власть зла, если же он полностью оказывался под властью зла, само наказание становилось противоречием. Если кто-то задастся вопросом, насколько демоническое представляет собой проблему для психологии, я отвечу, что демоническое это состояние. Из такого состояния может постоянно возникать единичное греховное действие. Однако состояние — это возможность, даже если в своем отношении к невинности оно вместе с тем является и действительностью, полагаемой через качественный прыжок.
Демоническое есть страх перед добром. В невинности свобода еще не полагалась как свобода, ее возможностью в индивидуальности был страх. В демоническом же отношении обратно. Свобода полагается как несвобода; ибо свобода тут потеряна. Возможность свободы здесь — это опять-таки страх. Различие тут абсолютно; ибо возможность свободы проявляется тут в отношении к несвободе, каковая выступает чем-то прямо противоположным невинности, которая в свою очередь есть определение в направлении свободы.
Демоническое — это несвобода, которая хотела бы отгородиться от всего.
Между тем это было и остается невозможным; несвобода постоянно сохраняет некое отношение, и даже когда последнее, по видимости, исчезло, оно все же присутствует здесь, так что страх тотчас же проявляется в первое же мгновение соприкосновения с добром. (См. то, что говорилось в предшествующих разделах в связи с новозаветными рассказами.)
Демоническое — это закрытое (det Indesluttede) и несвободно открываемое.
Оба эти определения обозначают, как это и должно быть, одно и то же. Ведь закрытое — это как раз нечто немое, а когда ему все-таки приходится выражать себя, это происходит не но доброй воле, поскольку свобода, лежащая в основании несвободы, вступая в коммуникацию со свободой извне, восстает и выдает при этом свою несвободу точно таким же образом, как индивид, помимо своей воли, выдает себя в страхе. Потому "закрытость" (eIndesluttede") должна пониматься здесь в совершенно определенном значении; ведь когда о ней говорят вообще, она может означать высшую свободу. Скажем, Брут, Генрих 5 Английский, когда он был еще принцем Уэльским, а также многие другие были "закрыты" вплоть до того времени, когда оказалось, что такая закрытость была на самом деле соглашением с добром. Поэтому подобная закрытость была тождественна расширению, и ни одна индивидуальность не бывает столь широка в самом прекрасном и благородном смысле слова, как та, что закрыта в лоне великой идеи. Свобода — это как раз то, что расширяет. В противоположность этому, я полагаю, что ??? ?????? ("в основном смысле" (греч.)) слово "закрытость" можно употреблять применительно к несвободе. Вообще, для зла обычно применяется более метафизическое выражение: говорится, что это есть нечто "отрицательное"; этическим выражением для этого, когда его воздействие наблюдается в индивиде, как раз и есть "закрытость". Демоническое не закрывается от всех с чем-то, нет, оно закрывается в себе самом, в этом и заложен глубокий смысл наличного бытия: несвобода как раз сама и делает себя пленницей. Свобода всегда является communicerende (тут не вредно даже иметь в виду и религиозный смысл этого слова), несвобода становится все более закрытой, она не желает никакой коммуникации. Это можно наблюдать во всех областях. Это проявляется в ипохондрии, в чудачестве, это проявляется во всех высших страстях, когда те вводят в глубокое непонимание систему молчания . И как только теперь свобода касается закрытости, последней становится страшно. В повседневной речи есть один оборот, который в высшей степени выразителен. О ком-нибудь говорят: он не желает "открыться" в словах. Закрытое — это как раз немое; речь, слово — это то, что освобождает, то, что освобождает от пустой абстракции закрытости. Пусть "х" означает здесь демоническое, отношение свободы к этому — это нечто, лежащее за пределами "х", законом же явления демонического будет то, что оно против своей воли "открывается" в речи. В речи ведь как раз и заложена коммуникация. Поэтому демонический человек в Новом завете говорит Христу: ?? ???? ??? ???; он продолжает, полагая, что Христос пришел, чтобы погубить его (страх перед добром). Или же демонический человек просит Христа идти другим путем. (Там, где страх был страхом перед злом, как в первом параграфе, индивид находит свое прибежище в спасении.)
Жизнь в изобилии предлагает тут примеры из всех возможных областей и во всех возможных степенях. Закоренелый преступник не желает делать признания (демоническое как раз и заключено здесь в том, что он не желает устанавливать коммуникации с добром, претерпевая свое наказание). Против этого есть один способ, который, вероятно, применяется крайне редко. Это молчание и власть взгляда. Если у того, кто ведет допрос, хватит телесных сил и духовной гибкости выдержать все это так, чтобы и мускул не дрогнул, если хватит сил продержаться пусть и шестнадцать часов кряду, он добьется этого в конце концов, и признание вырвется у преступника как бы помимо его воли. Ни один человек, совесть которого нечиста, не может вынести молчания. Если его просто поместить в одиночную камеру, он впадает в оцепенение. Но вот такое молчание, когда напротив него сидит судья, когда писцы ждут, собираясь вести протокол, — такое молчание есть самый глубокомысленный и проницательный допрос, самая ужасная пытка, хотя и допустимая; между тем все это не так легко осуществить, как может показаться. Единственное, что может принудить закрытость говорить, — это либо более высокий демон (ибо у каждого дьявола — свой срок), либо добро, которое способно хранить молчание абсолютно, так что если какая-нибудь хитрость попытается смутить добро посредством такого молчаливого допроса, будет посрамлен сам допрашивающий, и окажется, что он в конце концов испугается самого себя и вынужден будет прервать молчание. Но перед лицом подчиненного демона и подчиненных человеческих натур, у которых сознание Бога не столь уж сильно развито, закрытость, безусловно, побеждает — поскольку первые попросту не способны это вынести, а последние во всей своей невинности привыкли перебиваться со дня на день и жить так, что все, что у них на сердце, то и на языке. Просто невероятно, какую власть над такими людьми может обрести закрытость, как они в конце концов стонут и молят хотя бы об одном-единственном слове, которое могло бы прервать молчание; правда, и неловко так попирать ногами слабых. Могут подумать, что нечто подобное случается только среди князей и иезуитов, и чтобы составить себе более ясное представление о чем-то подобном, следует припомнить Домициана, Кромвеля, Альбу или того генерала, принадлежавшего ордену иезуитов, который сам стал чуть ли не именем нарицательным для такого явления. Нет, вовсе не так, все это встречается гораздо чаще. Однако следует проявлять осмотрительность, вынося суждение об этом явлении; хотя само явление может быть одним и тем же, причины его бывают совершенно противоположными, поскольку индивидуальность, которая прибегает к деспотизму и пытке закрытости, сама может страстно желать заговорить, сама может ждать более высокого демона, который способен вынудить ее к открытости.
Однако палач закрытости может относиться к своей закрытости и эгоистично. Об одном этом я мог бы написать целую книгу, хотя я и не был, соответственно обычаям и привычкам сегодняшних наблюдателей, в Париже или Лондоне, как будто там можно узнать нечто великое, как будто там можно узнать что-то другое, помимо болтовни и расхожей мудрости коммивояжера. Стоит только обратить внимание на то, что поблизости, и наблюдателю хватит пяти мужчин, пяти женщин и десяти детей, чтобы обнаружить все человеческие душевные состояния, которые только возможны. То, что я сказал сейчас, вполне может иметь некоторый смысл, в особенности для того, кто имеет дело с детьми или же стоит с ними в каком-нибудь отношении. Крайне важно, чтобы ребенок был воспитан посредством такого представления о возвышенной закрытости и чтобы при этом его держали подальше от закрытости неправильной. Во внешнем плане нетрудно определить, когда наступает подходящий момент, чтобы позволить ребенку обходиться одному, однако в духовном отношении все это не так-то легко. В духовном плане эта задача весьма трудна, и от нее нельзя откупиться по дешевке, наняв гувернантку или заведя себе прогулочную коляску. Искусство состоит в том, чтобы постоянно присутствовать и все же не присутствовать, так, чтобы ребенок мог получить свободу развиваться самостоятельно, между тем как вы сами за этим постоянно наблюдаете. Искусство состоит в том, чтобы в высшей степени и на возможно более высоком уровне предоставить ребенка самому себе, при этом придав своему кажущемуся отказу вмешиваться такой вид, чтобы суметь одновременно совершенно незаметно быть в курсе всего. На это вполне можно найти время, даже если вы служите королевским чиновником, нужно только пожелать. Если захотеть, можно сделать все, что угодно. И отец или воспитатель, который сделал все для вверенного ему ребенка, но при этом не мешал ему становиться закрытым, все равно принял на себя тем самым величайшую ответственность.
Демоническое — это закрытое, демоническое — это страх перед добром. Пусть закрытое будет обозначено как "х", и его содержание — тоже как "х": это может быть самое ужасное или самое незначительное, — нечто мрачное, о присутствии которого в жизни немногие даже подозревают, но также и сущие пустяки, на которые никто не обращает внимания . Но что же тогда будет означать добро как некий "х"? Оно означает раскрытие . Раскрытие может опять-таки означать как самое возвышенное (спасение в его настоящем смысле), так и самое незначительное (случайное замечание); все это не должно нас запутывать, категория все равно остается одной и той же; общее в предшествующих явлениях то, что они демоничны, пусть даже в остальном различие так велико, что голова может закружиться. Раскрытие здесь — это добро, ибо раскрытие — это первое выражение освобождения. Потому и говорится, как в старом присловье: если осмелиться назвать нужное слово, ослепление колдовства исчезнет; потому и лунатик пробуждается, стоит только окликнуть его по имени.
Виды столкновения закрытости с раскрытием могут быть бесконечно различными, могут выказывать бесчисленные оттенки; ибо пышное разрастание духовной жизни не уступает буйству природы, а духовные состояния столь же бесчисленно разнообразны, как цветы земные. Закрытость может жаждать раскрытия, может страстно желать, чтобы такое раскрытие положило ему конец извне, чтобы это могло наконец с ним случиться. (Это, конечно, неправильное понимание, поскольку здесь устанавливается женственное отношение к свободе, полагаемой в таком раскрытии, равно как и к той свободе, которая полагает это раскрытие. А потому несвобода вполне может продолжать оставаться здесь, пусть даже само состояние станет более счастливым.) Она вполне может желать раскрытия в некоторой степени, все-таки сохраняя хоть небольшой остаток, чтобы спустя какое-то время вновь начать свою закрытость. (Таково положение с подчиненными духами, которые ничего не делают еn gros ("целиком" (франц.)).) Она может желать раскрытия, но incognito. (Таково изощренное противоречие закрытости. Между тем примеры его можно найти в существовании поэтов.) Раскрытие может уже победить, но в последнее мгновение закрытость отваживается на последнюю попытку, она достаточно изобретательна, чтобы превратить само раскрытие в мистификацию; тогда закрытость побеждает .
Однако я не решаюсь продолжать дальше, да и как я мог бы закончить даже алгебраические исчисления, не говоря уж о том, чтобы попробовать отразить или нарушить молчание закрытости в надежде сделать ее монолог доступным для слуха; ибо речь ее — это конечно же монолог; недаром, когда мы хотим описать закрытого человека, мы говорим: "Он разговаривает сам с собою". Но я займусь здесь только тем, чтобы — подобно тому как закрытый Гамлет увещевает своих двух друзей — дать "allem einen Sinn aber keine Zunge".
Между тем мне хотелось бы указать на столкновение, чья противоречивость столь же ужасна, как и сама закрытость. То, что закрытый человек таит в своей закрытости, может быть так ужасно, что он сам не решается это выразить, даже для себя самого, потому что ему кажется, будто, выражая это словесно, он тем самым впадает в новый грех или же снова подвергается искушению. Для того чтобы такое явление могло произойти, в самом индивиде должно быть некое смешение чистоты и нечистоты, что случается крайне редко. Чаще всего это происходит, если индивид, когда он совершал нечто ужасное, попросту не владел собою.
Таким же образом бывает, что человек, когда он был пьян, совершил нечто, о чем он смутно помнит, зная вместе с тем, что это было нечто столь дикое и безумное, что ему почти невозможно узнать в этом самого себя. Подобный же случай может произойти с человеком, который некогда был безумен, причем его память сохранила некие отпечатки такого прежнего состояния. Решающим образом определяет, будет ли явление демоническим, позиция индивида по отношению к раскрытию, а также то, готов ли он пронизать этот факт свободой и готов ли он принять эту свободу на себя. Если только он этого не желает, явление демонично. Это следует ясно сознавать; ведь даже тот, кто желает этого, все равно по сути своей демоничен. У него имеются как бы две воли: одна подчиненная, бессильная, стремящаяся к раскрытию, и другая, более сильная, которая стремится к закрытости; однако именно то, что последняя оказывается сильнее, как раз и доказывает, что человек по сути своей демоничен.
Закрытость — это и невольное раскрытие. Чем слабее изначально индивидуальность или чем более гибкость свободы поглощается на службе у закрытости, тем более вероятно, что тайна в конце концов вырвется наружу. Малейшего прикосновения, мимолетного взгляда или чего-то в этом роде оказывается достаточно, чтобы началось это ужасное, или — сообразно содержанию закрытости — комическое чревовещание. Само чревовещание может возвещать о себе прямо или опосредованно, подобно тому как сумасшедший может выдать свое сумасшествие, указывая на другого человека и объясняя: "Он мне совсем не нравится, он наверняка сумасшедший".
Раскрытие может произойти в словах, когда, скажем, несчастный кончает тем, что навязывает свою тщательно скрывавшуюся тайну всем вокруг. Оно может проявиться в выражении лица, во взгляде; ибо бывает такое выражение глаз, которым человек невольно выдает то, что скрывает. Бывает обвиняющий взгляд, который раскрывает то, что, пожалуй, страшно и понимать, бывает подавленный, умоляющий взгляд, который не особенно побуждает любопытство заинтересоваться его невольным телеграфным сообщением. Сообразно своему отношению к содержанию закрытости все эти знаки опять-таки могут быть комичными; ведь, к примеру, существуют смешные вещи, пустяки, тщеславные задатки, ребячливые капризы, проявления мелочной зависти, небольшие медицинские психические отклонения и тому подобное, которые часто раскрываются, таким образом, в своем невольном страхе.
Демоническое — это внезапное. Внезапное — это, с другой стороны, некое новое выражение для закрытого. Когда рефлексия касается содержания, демоническое определяется как закрытое, когда же рефлексия касается времени, оно определяется как внезапное. Закрытое представляло собою воздействие негативного отношения индивидуальности к самой себе.
Закрытость постоянно закрывает себя все больше и больше от всякой коммуникации. Но коммуникация — это, в свою очередь, есть выражение непрерывности, отрицанием же непрерывности и будет внезапное. Можно было бы подумать, что закрытость содержит в себе поразительную непрерывность; на самом же деле все обстоит совершенно наоборот, хотя в сравнении с вялым и бескровным внутренним распадом, который снова и снова растворяется в своем впечатлении, закрытость и имеет некое подобие непрерывности. Непрерывность, которой обладает закрытость, легче всего сравнить с головокружением, какое должен испытывать волчок, постоянно вращающийся на своем острие. Стало быть, если закрытость не доводит человека до полного помешательства, которое являет собою печальное perpetuum mobile ("постоянное, вечное движение" (лат.)) постоянного "Einerlei" ("одно и то же" (нем.)), индивидуальность все же сохраняет некоторую непрерывную взаимосвязь с остальной человеческой жизнью. По отношению к такой непрерывности прежняя, иллюзорная непрерывность закрытости как раз и будет проявляться как внезапное. В это мгновение она здесь, а в следующее — исчезла, но как только она исчезла, смотришь — а она уже снова здесь, целиком и полностью. Она не может встроиться ни в какую непрерывность или пронизать ее собою, однако то, что проявляется таким образом, как раз и есть внезапное.
Если бы демоническое было чем-то телесным, оно никогда не оказалось бы внезапным. Когда лихорадка, или безумие, или что-нибудь в этом роде все время возобновляются, можно в конце концов обнаружить их закон, причем такой закон в значительной степени снимает внезапность. Но действительно внезапное не знает над собою закона. Оно не относится к числу явлений природы, но представляет собою психическое явление, наружное проявление несвободы.
Внезапное, точно так же как и демоническое, есть страх перед добром. Добро означает здесь непрерывность; ибо первым наружным проявлением освобождения оказывается непрерывность. Стало быть, при этом жизнь индивидуальности в значительной степени сохраняет доступную ей непрерывную взаимосвязь с остальной человеческой жизнью, тогда как закрытость в людях сохраняется как некая абракадабра внутри непрерывности, абракадабра, которая сообщается лишь с самой собою, а потому снова и снова является чем-то внезапным.
Сообразно своему отношению к содержанию закрытости, внезапное может означать ужасное, однако для наблюдателя воздействие внезапного может представляться также комически. В этом плане каждая индивидуальность имеет в себе нечто от такого внезапного, точно так же как каждая индивидуальность имеет в себе нечто от навязчивой идеи.
Мне не хотелось бы продолжать это рассмотрение дальше; и только чтобы подкрепить мою категорию, я напомню о том, что внезапное всегда имеет свое основание в страхе перед добром, поскольку тут есть нечто, чего не желает пронизывать насквозь свобода. Среди всех образований, которые лежат в страхе перед злом, внезапное будет соответствовать слабости.
Если мы пожелаем теперь иным способом прояснить, как это демоническое оказывается внезапным, нам достаточно чисто эстетически рассмотреть вопрос о том, каким образом лучше всего представить демоническое. Если некто пожелает представить себе Мефистофеля, он может с легкостью вложить ему в уста определенные реплики, если, конечно, он собирается использовать его в качестве некой силы в драматическом действии, вместо того чтобы постигать его в действительной сущности. Мефистофель тут, собственно, оказывается представленным не сам по себе, но сводится к образу злого и остроумного интригана. Тут, конечно, испаряется его сущность, тогда как народная легенда, напротив, рассматривала его правильно.
Согласно легенде, дьявол три тысячи лет сидел и думал, как ему погубить человека, и в конце концов он это придумал. Ударение делается здесь на трех тысячах лет, и представление, вызываемое таким числом, — это как раз представление о демонической, замышляющей недоброе закрытости. Если бы некто пожелал, чтобы сущность Мефистофеля испарялась тем же самым способом, он мог бы тем не менее обратиться к другому представлению. И тогда окажется, что Мефистофель по сути своей мимичен . Даже самые ужасные слова, звучавшие из пропасти зла, не способны оказать действие, подобное внезапности прыжка, который заложен внутри области мимического. Пусть даже слово действительно ужасно, пусть даже некий Шекспир, Байрон или Шелли нарушает тут молчание, само слово всегда сохраняет свою спасительную мощь; ибо даже все отчаяние, вся мрачность зла, собранные в одном слове, все же не так ужасны, как молчание. Мимическое может выражать тут внезапное, хотя это вовсе не значит, что мимическое, как таковое, становится поэтому внезапным. В этом плане балетмейстер Бурнонвилль имеет большие заслуги за представленный им образ Мефистофеля. Ужас, который охватывает тебя, когда видишь, как Мефистофель впрыгивает в окно и замирает в позе прыжка! Этот порыв в прыжке, напоминающий нападение хищной птицы, резкое движение хищного зверя, — он ужасает вдвойне, поскольку обычно взрывается внезапно изнутри совершенно спокойного положения, — производит бесконечно сильное впечатление. Поэтому Мефистофелю следует как можно меньше двигаться вокруг; ведь такое движение — это своего рода переход к прыжку, оно содержит в себе предчувствие самой возможности прыжка.
Поэтому первый выход Мефистофеля в балете "Фауст" — это не просто какой-то театральный прием, он предлагает зрителю некую глубокую мысль. Слово и речь, как бы кратки они ни были, все же имеют определенную непрерывность, и причина этого, если посмотреть на все in abstracto, состоит в том, что они звучат во времени. Но внезапное — это совершенная абстракция от непрерывности, от предшествующего и последующего. Так это и обстоит с Мефистофелем. Его еще не было видно, и вот он вдруг стоит тут во плоти, он действительно из плоти и крови, и быстроту его нельзя выразить сильнее, чем сказав, что он стоит тут в прыжке. Если прыжок перейдет в движение вокруг, воздействие будет ослаблено. Поскольку Мефистофель представлен здесь таким образом, его появление производит впечатление демонического, которое внезапно появляется как тать в ночи, потому что именно вору свойственно подкрадываться незаметно. Но одновременно Мефистофель раскрывает и свою сущность, которая в качестве демонической как раз и является чем-то внезапным. Таким образом, демоническое есть внезапное в движении к этому демоническому; порой оно поднимается в человеке, порой же он сам и является им, поскольку он демоничен, независимо от того, овладело ли им демоническое целиком, со всей его плотью и кровью, или же оно присутствует лишь в некой бесконечно малой его части. Таким образом, демоническое всегда тут, и, таким образом, несвободе становится страшно, и, таким образом, движется ее страх. Отсюда и направленность демонического в сторону мимического — не в значении прекрасного, но в значении внезапного, резкого, — а это нечто, что в жизни часто случается наблюдать.
Демоническое — это нечто бессодержательное, скучное. Так как в связи с внезапным я привлек внимание к проблеме эстетического представления демонического, мне хотелось бы теперь еще раз вернуться к этому же вопросу. Как только демона наделяют речью и собираются теперь представить его художнику, которому необходимо решить такую задачу, нужно ясно осознавать все эти категории. Он знает, что демоническое по сути своей мимично; внезапного, однако же, он не может добиться, поскольку этому мешают реплики. Он не станет заниматься жульничеством, стараясь сделать вид, будто благодаря внезапному и отрывистому выкрикиванию отдельных слов он в состоянии добиться истинного впечатления. Потому он совершенно правильно избирает нечто прямо противоположное, то есть скучное. Непрерывность же, которая соответствует внезапному, — это то, что можно было бы назвать "неумиранием". Скука, неумирание — это как раз и есть непрерывность внутри Ничто. Теперь число, приведенное в народном сказании, можно понять несколько иначе. Три тысячи лет подчеркиваются здесь не в плане внезапного; вместо этого весь этот огромный промежуток времени вызывает представление о мрачной пустоте и бессодержательности зла. Свобода спокойно пребывает в непрерывности, противоположность этому — внезапность; однако противоположность будет заложена и в самом таком спокойном пребывании, вызывающем представление о человеке, который выглядит так, будто он уже давно умер и похоронен. Художник, понимающий все это, тотчас же убедится в том, что, найдя правильный способ представить демоническое, он вместе с тем нашел и подходящее выражение для комического. Комического воздействия можно добиться совершенно тем же способом. Если удерживать на расстоянии все этические определения зла, используя тут только метафизические определения пустоты, у нас останется лишь тривиальное, которому нетрудно придать комический аспект .
Бессодержательное, скучное означает опять-таки нечто закрытое. В отношении к внезапному рефлектирующее определение закрытого обращено в направлении к содержанию. Если теперь я включу сюда определения "бессодержательного", "скучного", то в рефлексии это будет связано с содержанием, тогда как закрытое с формой, которая соответствует этому содержанию. Таким образом, все понятийное определение оказывается замкнутым и завершенным; ибо формой бессодержательного как раз и оказывается закрытость. Следует постоянно помнить о том, что, в соответствии с предложенным мною речевым употреблением, человек не может быть закрыт в Боге или в добре, поскольку такая закрытость означала бы как раз величайшее расширение и величайший охват. Потому, чем определеннее развита в человеке совесть, тем более он широк, даже если в остальном он закрывает себя от всего мира.
Пожелай я теперь напомнить о терминологии новейшей философии, я мог бы сказать, что демоническое там — это негативное, Ничто, которое подобно девушке-эльфу: когда смотришь на нее со спины, видно, что она полая внутри. Однако я делаю это не слишком-то охотно, поскольку в теперешнем окружении и в процессе обращения эта терминология стала такой любезной и гибкой, что может теперь обозначать что угодно. Негативное — если бы мне пришлось использовать это слово — означало бы форму Ничто, точно так же как бессодержательное соответствует закрытому. Но в негативном есть тот недостаток, что оно определяется скорее во-вне; оно обозначает отношение к чему-то другому, что как раз и отрицается, тогда как закрытое обозначает именно само состояние.
Если негативное понимается таким образом, я ничего не имею против того, чтобы это слово использовали для обозначения демонического, при условии, что негативное окажется в состоянии избавиться от всех причуд, которые ему вбила в голову новейшая философия. Негативное все больше и больше становилось предметом насмешек, и само это слово уже заставляет человека улыбаться, подобно тому как улыбаются, когда в жизни или, например, в песнях Беллмана встречаешь одного из этих забавных персонажей, — вначале он был трубачом, затем мелким служащим на таможне, потом — держателем гостиницы, а там, глядишь, и почтальоном. Поэтому и иронию объясняли как негативное. Первым придумал это объяснение Гегель, который сам, как ни странно, не особенно разбирался в иронии. О том, что был Сократ, благодаря которому ирония появилась на свет и который дал этому ребенку имя, о том, что его ирония была как раз закрытостью, которая началась с того, что он закрылся от людей, закрылся в самом себе, чтобы углубиться в божественное, собственно, он начал с того, что закрыл дверь и посчитал дураком всякого, кто остался снаружи, закрыл дверь, чтобы говорить скрытно, — обо всем этом никто особенно не беспокоится. Обычно слово "ирония" употребляют применительно к тому или иному случайному явлению, и считается, что тут-то как раз есть ирония. Затем приходят болтуны-последователи, которые, несмотря на все свои всемирно-исторические обзоры, к сожалению, лишены всякой более глубокой способности рассмотрения и понимают в понятиях столько же, сколько понимал в изюме тот благородный юноша, который во время экзамена на лицензию зеленщика в ответ на вопрос, откуда берется изюм, сказал: "Наш мы обычно берем у профессора на Твергаде".
Теперь мы снова возвращаемся к определению, согласно которому демоническое — это страх перед добром. Если бы, с одной стороны, несвобода была бы способна полностью закрыться и гипостазировать себя, но, с другой стороны, если бы она не стремилась делать это снова и снова (в этом и заложено противоречие: несвобода как будто желает чего-то, тогда как на самом деле она как раз утратила свою волю), демоническое не было бы страхом перед добром.
Поэтому страх явственнее всего виден в мгновение соприкосновения. Независимо от того, означает ли демоническое в единичной индивидуальности нечто ужасное, или же, напротив, оно подобно пятнам на солнце или маленькому светлому пятнышку на мозоли, целиком демоническое и частично демоническое должны быть определены одним и тем же образом, и даже маленькой, незначительной части демонического оказывается страшно перед добром совершенно в том же смысле, как и тому, кто полностью охвачен демоническим. Рабство греха — это, конечно, тоже несвобода, однако его направленность, как это было показано выше, совершенно иная, его страх — это страх перед злом. Если это не представляют себе твердо, то ничего вообще нельзя объяснить.
Несвобода, демоническое есть, стало быть, некое состояние. Таким образом это и рассматривает психология. Напротив, этика видит, как из него все снова и снова внезапно появляется новый грех; ибо только добро есть. единство состояния и движения.
Между тем свободу можно потерять разными способами, а соответственно этому различны и виды демонического. Эти различия можно рассмотреть теперь, подводя их под следующие рубрики: соматически-психическая утрата свободы и пневматическая утрата свободы. Благодаря предшествующему изложению читатель наверняка уже свыкся с тем, что я использую понятие "демоническое" в расширительном смысле, хотя следует заметить, что этот смысл не более расширен, чем это позволяет сделать само понятие. Немного толку в том, чтобы превращать демоническое в какого-то чудовищного людоеда, которого вначале боишься, а затем просто игнорируешь, поскольку прошло уже немало столетий с того времени, как такого людоеда можно было встретить в мире. Такое предположение — большая глупость; ибо демоническое, вероятно, никогда еще не было ты распространено, как в наше время, разве что в наши дни оно проявляется по преимуществу в духовны областях.
1.Соматически-психическая утрата свободы
В мои намерения не входит предлагать тут высоко ученое философское рождение об отношении души и тела, решая, в каком смысле душа сама создает свое тело (независимо от того, понимается ли это на греческий или же на немецкий манеж), или, чтобы уж вспомнить выражение Шеллинга, в каком смысле свобода посредством акта "корпорации" сама полагает свое тело. Всего этого мне здесь не нужно; для своих целей я могу, сообразно своим слабым силам, выразиться так: тело является органом души. а также органом духа. Как только это служебное отношение прекращается, как только тело восстает, как только свобода заключает с телом тайный союз против себя самой несвобода оказывается тут же рядом в качестве демонического. Если тут есть некто, еще недостаточно четко ухвативший разницу между тем, что я излагал в предыдущих параграфах, и тем, что я излагаю в этом параграфе, покажу это здесь еще раз. Пока свобода еще сама не примкнула к партии бунтовщиков, страх свойственный революции, конечно же будет присутствовать, но только как страх перед злом, а не как страх перед добром.
Нетрудно заметить, какое многообразие бесчисленных проявлений включает в себя демоническое в этих областях — проявлений, некоторые из которых столь исчезающе малы, что они проявляются только при микроскопическом наблюдении, другие же — столь диалектичны, что нужно поистине обладать большой ловкостью в применении самой категории, чтобы понять, что проявления могут быть под нее подведены. Напряженная чувствительность, напряженная раздражительность, неврастения, истерия, ипохондрия и тому подобное — все это различные ее проявления или могут быть таковыми. Поэтому трудно говорить обо всем этом in abstracto, поскольку сама речь тут становится алгебраичной. Так что большего я тут сделать не могу.
Крайней точкой в этой области является то, что обычно называют животной испорченностью. Демоническое в этом состоянии проявляется в том, что оно говорит, как то демоническое в Новом завете, которое восклицало в связи с освобождением: ?? ???? ??? ???? ("что у меня общего с тобою?" {греч.)). Потому оно избегает всякого соприкосновения; с добром, независимо от того, озабочено ли последнее тем, чтобы помочь ему стать свободой, или же соприкосновение здесь было совершенно случайно. Однако уже этого вполне достаточно, ибо страх крайне проворен. Потому от такого демонического обычно получают ответ, который выражает весь ужас этого. состояния: "Оставьте меня в покое с моим жалким положением"; или же можно услышать, как такой человек говорит, вспоминая определенный момент своей предшествующей жизни: "Вот тогда я, наверное, мог бы быть спасен", — самые ужасные слова, которые только можно себе вообразить. Никакое наказание, никакие громоподобные речи не страшат такого человека, и напротив, его страшит каждое слово, которое ставит себя в отношение к свободе, каковая сама забилась в основание несвободы. Иным образом проявляется в этом состоянии и страх. Среди таких демонических личностей встречается некое единение, в котором они с таким страхом и так неразрывно приникают друг к другу, что ни одной дружбе неведомо подобное внутреннее отношение. Французский врач Дюшатле приводит в своей работе подобные примеры.
И эта общительность страха повсеместно встречается в этой области. Уже сама по себе общительность служит подтверждением того, что тут присутствует демоническое; ибо когда соответствующее состояние оказывается проявлением рабства греха, общительности нет, поскольку такой страх — это страх перед злом. Дальше мне не хотелось бы продолжать. Здесь для меня главное — просто держать в порядке свою схему.
2. Пневматическая утрата свободы
а) Общие замечания. Это образование демонического широко распространено, и мы сталкиваемся с самыми разными его проявлениями. Демоническое, естественно, не зависит от различного интеллектуального содержания, оно зависит от отношения свободы к данному содержанию , а также к возможному содержанию в его отношении к интеллектуальному, причем демоническое может наружно проявляться как неторопливость, которой хочется "еще раз подумать"; как любопытство, которое никогда не становится чем-то большим, чем простое любопытство; как нечестный самообман; как женственная слабость, которая постоянно обращается к другим за утешением; как возвышенное пренебрежение; как ничтожная деловитость и так далее.
Содержание свободы, если смотреть на него с интеллектуальной стороны, есть истина, и истина делает человека свободным. Однако именно поэтому истина есть произведение свободы в том смысле, что свобода все снова и снова создает истину. Само собой разумеется, что здесь я не имею в виду остроумие новейшей философии, которая знает, что необходимость мышления и есть его свобода, и которая поэтому, говоря о свободе мышления, говорит, по существу, только об имманентном движении вечной мысли. Подобное остроумие способствует лишь тому, чтобы нарушить и усложнить коммуникацию между людьми. Напротив, то, о чем я говорю, совсем легко и просто: свобода существует только для единичного индивида и в той мере, в какой он сам создает ее своим действием. Если истина существует для индивида каким-то иным образом, если человек препятствует ей существовать для него таким образом, мы имеем дело с явлением демонического. Всегда хватало тех, кто громко возвещал об истине, однако весь вопрос в том, признает ли человек истину в глубочайшем смысле, даст ли он истине пронизать собою все его существо, примет ли он все ее следствия, не подготовит ли он на всякий случай лазейку для самого себя и поцелуй Иуды для последствий этой истины.
В новейшие времена уже достаточно много говорилось об истине; сейчас же пора сделать значимыми уверенность и внутренний смысл, и не в абстрактном смысле, в котором трактовал это Фихте, но совершенно конкретно.
Уверенность, внутренний смысл, которые достижимы только посредством действия и в действии, как раз и решают, демоничен индивид или нет. Если только твердо придерживаться этой категории, все прочее расступается, и становится например, ясно, что своеволию, неверию, насмешке над религией недостает не содержания, как обычно полагают, а уверенности, причем совершенно в том же смысле, в каком ее не хватает суеверию, раболепию, ханжеству. Негативным явлениям недостает уверенности именно потому, что они пребывают в страхе перед содержанием.
У меня нет желания говорить высокие слова обо всей нашей эпохе; но тот, кто наблюдал ныне живущее поколение, едва ли может отрицать, что неверное отношение, вследствие которого оно страдает, а также причина его страха и беспокойства заложены в том, что, с одной стороны, истина прирастает в своем охвате и величине, отчасти даже в своей абстрактной ясности, тогда как, с другой стороны, уверенность постоянно уменьшается. Какие только сверхъестественные метафизические и логические усилия ни предпринимались в наше время, чтобы только предложить некое новое, исчерпывающее доказательство бессмертия души, абсолютная правильность которого объединяла бы все более ранние доказательства, но, как ни странно , когда это я, уверенность еще более сокращается. Мысль о бессмертии несет в себе некую силу, в своих следствиях — некую весомость, а в своем приятии некую ответственность, которая, вероятно, способна перекроить всю жизнь настолько что человек это боится. А потому такой человек успокаивает и освобождает свою душу, напрягая мышление в поисках нового доказательства. Да и что представляет собой такое доказательство, как не "добрые дела" в чисто католическом смысле слова! Каждая подобная индивидуальность, которая — если уж придерживаться приведенного примера — умеет выдвигать доказательства бессмертия души, однако сама вовсе не убеждена в этом, всегда будет страшиться всякого явления, которое затрагивает ее таким образом, что она вынуждена искать более глубокого понимания того, как же человек может в самом деле быть бессмертным. Э то будет тревожить индивида, он будет чувствовать себя болезненно задетым, когда совсем простой человек станет совсем просто говорит о бессмертии. В противоположном же направлении ему может недоставать внутреннего смысла. Последователь самой суровой ортодоксии вполне может быть демоничен. Ему все это прекрасно известно, он преклоняет колени перед святыми, истина для него — это внутреннее понятие церемоний, он говорит о встрече перед престолом Божьим, и ему известно, сколько раз там нужно поклониться; ему известно все — совсем как человеку, который может доказать математическую теорем, когда там стоят буквы АВС, но не тогда, когда их заменяют на DEF. Поэтому ему становится страшно, как только он слышит нечто, не являющееся буквальным повторением прежнего. И как же он похож на современного спекулятивного мыслителя, который обнаружил новое доказательство бессмертия души, но теперь попал в смертельную опасность, поскольку не может предъявить это доказательство, не имея при себе своих тетрадок! И чего же не хватает им обоим? Конечно, уверенности.
Суеверие и неверие оба являются формами несвободы. В суеверии самой объвктивности — как голове Медузы — приписывается власть обращать в камень субъективность, и несвободе вовсе не хочется, чтобы заклятие было снято. Для неверия же высшим и на первый взгляд самым свободным выражением является насмешка. Однако насмешке не хватает как раз уверенности, именно поэтому она и насмехается.
И существование скольких насмешников, если бы к ним только можно было заглянуть в душу, напомнило бы о том страхе, с которым демоническое восклицает: "?? ???? ??? ??? !" ("Что у меня общего с тобою!" (греч.)) Вот уж поистине примечательное явление: вероятно, немногие столь тщеславны и ранимы в том, что касается минутной славы, как насмешники.
С каким старательным усердием, жертвуя своим временем, прилежанием и писчебумажными материалами, спекулятивные мыслители в наше время трудились над тем, чтобы предъявить всеобъемлющее доказательство существования Бога. Однако по мере того как растет совершенство доказательства, похоже, что уверенность уменьшается. Мысль о существовании Бога, как только она полагается как таковая для свободы индивида, обладает некой вездесущностью, которая, если даже человек не желает действовать во зле, содержит нечто неловкое для всякого осмотрительного индивида. И поистине нужен внутренний смысл, чтобы жить в прекрасном и внутреннем единстве с этим представлением; и это гораздо более трудный фокус, чем быть образцовым супругом. Каким болезненно задетым должен поэтому чувствовать себя такой индивид, когда он слышит совсем простые и наивные речи о том, что Бог все-таки есть. Построение доказательства существования Бога есть нечто, чем можно научно и метафизически заниматься только от случая к случаю, однако мысль о Боге настойчиво навязывает себя человеку при всех обстоятельствах. Чего же не хватает такой индивидуальности? Конечно, внутреннего смысла. Внутреннего смысла может недоставать и в ином плане. Так называемые "святоши" часто бывают предметом насмешек мира. Сами они объясняют это тем, что мир лежит во зле.
Это, однако же, не совсем верно. Если подобный святоша не свободен в своем отношении к собственному благочестию, то есть если ему при этом не хватает внутреннего смысла, он с чисто эстетической точки зрения оказывается комичным. А значит, и мир тут прав, когда смеется над ним.
Когда кривоногий человек желает выступать в роли танцмейстера, но при этом не в состоянии показать ни одной танцевальной позы, он комичен. Точно так же обстоит дело и с особой духовного звания. Нетрудно заметить, что подобный святоша как бы отсчитывает про себя такт, совсем как человек, который не умеет танцевать, но довольно сносно разбирается в танцах, чтобы уметь отсчитывать такт, пусть даже ему никогда не везет настолько, чтобы он к тому же мог попасть в такт, танцуя. Точно так же святоша знает, что религиозное всегда абсолютно соизмеримо, что религиозное — это не что-то, свойственное лишь определенным случаям и мгновениям, он знает, что религиозное всегда можно иметь при себе. Однако когда он уже собирается сделать его соизмеримым, он оказывается несвободен, и нетрудно заметить, как он тихонько отсчитывает такт про себя, причем, несмотря ни на что, он все время ошибается и дела складываются неудачно — со всеми его взглядами, обращенными к небу, сложенными руками и тому подобным. Потому такой индивид столь страшится каждого, кто не имел подобной тренировки, а для того чтобы приободрить себя, он и хватается за все эти грандиозные наблюдения относительно того, что мир ненавидит благочестивых.
Стало быть, уверенность и внутренний смысл — это действительно субъективность, хотя и не в прежнем, совершенно абстрактном смысле. Вообще, несчастье новейшей науки состоит в том, что все стало ужасно грандиозным. Абстрактная субъективность столь же не уверена в себе и в той же степени лишена внутреннего смысла, как и абстрактная объективность. Когда об этом говорят in abstracto, это невозможно заметить, и потому правильно будет утверждать, что абстрактной субъективности не хватает содержания. Когда же об этом говорят in concreto, такое содержание ясно проявляется, поскольку индивидуальности, которая стремится превратить себя в абстракцию, точно так же недостает внутреннего смысла, как и той индивидуальности, которая превращает себя просто в церемониймейстера.
в) Схема исключения или отсутствия внутреннего смысла. Отсутствие внутреннего смысла — это всегда некое определение рефлексии, а потому всякая форма становится двойственной формой. Поскольку люди привыкли рассуждать об определениях духа совершенно абстрактно, никто обычно не склонен в них чересчур вглядываться. Чаще все это полагается так: непосредственность и противостоящая ей рефлексия (внутренний смысл), а затем синтез (или субстанциальность, субъективность, тождество, как бы это тождество ни называлось: разум, идея, дух). Однако в сфере действительности все не так. Тут непосредственность — это вместе с тем и непосредственность внутреннего смысла. Поэтому отсутствие внутреннего смысла прежде всего зависит от рефлексии.
Потому всякая форма отсутствия внутреннего смысла — это либо активность-пассивность, либо пассивность-активность, и какой бы они ни была — первой или второй, — она пребывает в сфере само-рефлексии. Сама форма проходит через существенную серию нюансов, по мере того как определение внутреннего смысла становится все конкретнее и конкретнее.
Согласно старой поговорке, "понимать и понимать — две разные вещи", и это действительно так. Внутренний смысл — это одно понимание, однако in concreto важно то, как следует понимать такое понимание. Понимать речь — это одно, но понимать, к чему она относится, — совсем другое; понимать то, что говорит человек, — это одно, понимать же его самого из сказанного им — совсем другое. Чем конкретнее содержание сознания, тем конкретнее становится понимание, и коль скоро такое понимание отсутствует в отношении к сознанию, мы имеем дело с проявлением несвободы, которая стремится отгородить себя от свободы. Если мы возьмем, например, конкретное религиозное сознание, которое одновременно содержит в себе исторический момент, понимание должно вступать в отношение к нему. Поэтому мы можем рассмотреть здесь пример двух соответствующих форм демонического. Если, скажем, некий суровый ортодокс приложит все свое старание и ученость, чтобы доказать тезис, согласно которому каждое слово Нового завета имеет своим источником соответствующего апостола, внутренний смысл для него постепенно исчезнет, и он в конце концов будет понимать нечто совершенно отличное от того, что ему хотелось понять. Если некий свободомыслящий приложит всю свою проницательность, чтобы показать, что Новый завет был написан только во втором веке, это значит, что он боится как раз внутреннего смысла, и потому ему просто необходимо поставить Новый завет в один ряд со всеми прочими книгами . Самое конкретное содержание, каким может обладать сознание, — это сознание самого себя как индивида, — не чистое самосознание, но самосознание, которое настолько конкретно, что ни один писатель, даже самый богатый словами, даже самый мощный в своих описаниях, еще не был способен представить хоть одно такое сознание, а между тем каждый человек как раз и является таким сознанием. Самосознание — это не созерцание, и тот, кто полагает, будто оно таково, не понял сам себя, ибо он видит, что сам одновременно находится в становлении, а потому ничем и не может быть для отгороженности созерцания. Значит, это самосознание есть действие, а такое действие, в свою очередь, есть внутренний смысл; и всякий раз, когда внутренний смысл не соответствует этому сознанию, мы получаем какую-то форму демонического, коль скоро отсутствие внутреннего смысла проявляет себя наружно как страх перед его обретением.
Там, где отсутствие внутреннего смысла вызывается неким механизмом, всякие речи об этом окажутся напрасным трудом. Однако здесь все не так, и потому в каждой форме такого отсутствия есть своя активность, даже если она начинается благодаря пассивности. Явления, которые начинаются с активности, больше бросаются в глаза, и потому их легче постигнуть, однако при этом забывают, что в этой активности опять-таки проявляется пассивность, а потому противоположное явление никогда не берется в расчет, если говорят о демоническом.
Я хочу привести теперь пару примеров, просто чтобы показать, что схема верна.
Неверие — суеверие. Они полностью соответствуют друг другу; им обоим недостает внутреннего смысла но только неверие пассивно благодаря активности, а суеверие активно благодаря пассивности; первое является, если угодно, более мужественным образованием, второе же — более женственным, и содержанием обоих образований оказывается само-рефлексия. С точки зрения их сущности они представляют собой одно и то же. Неверие и суеверие оба оказываются страхом перед верой; однако неверие начинается в активности несвободы, суеверие же начинается в пассивности несвободы. Обычно наблюдение обращено лишь на пассивность суеверия, а потому оно выглядит менее существенным или более извинительным, в зависимости от того, применяются ли к нему эстетически-этические или этические категории. В суеверии есть слабость, которая поистине обманчива; между тем в нем всегда должно быть достаточно активности, чтобы оно оказывалось в состоянии сохранять свою пассивность. Суеверие является неверующим относительно себя самого, неверие же суеверно относительно себя самого. Содержанием обоих оказывается само-рефлексия. Удобство, трусость и малодушие суеверия находят, что лучше оставаться в этой само-рефлексии, чем покидать ее. Гордость, вызов и высокомерие неверия находят, что — отважнее оставаться в само-рефлексии, чем покидать ее. Самая утонченная форма такой само-рефлексии — это всегда та, которая становится интересной для самой себя, пока она желает выйти из этого состояния, все время самодовольно укрепляясь в нем.
Лицемерие — возмущение. Они также соответствуют друг другу. Лицемерие начинается благодаря активности, возмущение же начинается, благодаря пассивности. О возмущении обычно судят мягче; между тем, если индивид остается в нем, в этом индивиде должно быть достаточно активности, чтобы выдерживать страдания возмущения и вместе с тем не желать его покидать. В возмущении заложена некая восприимчивость (ведь дерево или камень не возмущаются), которая принимается в расчет даже при снятии возмущения. Напротив, пассивность возмущения находит, что гораздо приятнее просто сидеть спокойно и позволять последствиям этого возмущения набирать проценты и проценты с процентов. Потому лицемерие — это возмущение самим собой, а возмущение — это лицемерие относительно самого себя.
Обоим недостает внутреннего смысла, и оба они не осмеливаются прийти к самим себе. Потому всякое лицемерие кончается тем, что человек начинает лицемерить с самим собой, поскольку тогда лицемер начинает либо возмущаться собой, либо доводить самого себя до возмущения. А потому и всякое возмущение, если оно не устранено, кончается лицемерием перед другими, поскольку возмущенный человек благодаря изначальной активности, силой которой он и остается в возмущении, превращает свою восприимчивость во что-то иное, а значит, ему теперь приходится лицемерить перед другими. В жизни случается также, что индивид, который пришел в возмущение, в конце концов начинает пользоваться этим возмущением как фиговым листком для чего-то, что в противном случае потребовало бы покровов лицемерия.
Гордость — трусость. Гордость начинается благодаря активности, а трусость благодаря пассивности, в остальном же обе они представляют собой одно и то же; ибо в трусости заложено все-таки достаточно активности, чтобы сохранять бодрствующим страх перед добром. Гордость — это и основе своей трусость: ибо она достаточно труслива, чтобы не желать понимать, что поистине жмется гордостью; как только ее принуждают к этому пониманию, она тотчас же становится трусливой, с шумом рассыпается на части и лопается как мыльный пузырь. Трусость — это в основе своей гордость, ибо она достаточно труслива, чтобы ни разу не пожелать понять даже требований непонятой гордости; как только она сжимается таким образом, она сразу же демонстрирует свою гордость, умея довести до сведения всех, что еще никогда не понесла поражения; поэтому она горда тем негативным выражением гордости, которое спешит сообщить, что никогда еще не терпело неудачи. В жизни случается, что какой-нибудь весьма гордый индивид был достаточно труслив, чтобы стать как можно менее заметным, и все это — как раз ради того, чтобы спасти свою гордость. Если бы активно гордый и пассивно гордый индивиды оказались сведены вместе, причем в то самое мгновение, когда первый пал, можно было бы тотчас же получить возможность убедиться в том, насколько на самом деле горд трус .
с) Чтo такое уверенность и внутренний смысл? Их, конечно, нелегко определить. Между тем сейчас мне хотелось бы сказать: они суть серьезность. Это слово понятно каждому но с друг стороны, весьма примечательно, что не так уж много слов, которые становились бы предметом рассмотрения реже, чем это слово. Когда Макбет убил короля, он воскликнул: "Von jetzt gibt еs nichts Ernstes mehr im Leben: // Alles ist Tand, gestorben Ruhm und Gnade! // Der Lebenswein ist ausgeschenkt!"
Макбет конечно же убийца, и потому слова на его стах обретали пугающую и поразительную истинность, однако каждый индивид, который потерял внутренний смысл может точно так же сказать: "Der Lebenswein ist ausgeschenkt", а также "jetzt gibt es nichts Ernstes mehr im Leben, Alles ist Tand", ибо внутренний смысл это как раз тот источник, из которого струится вечная жизнь, причем вытекает из этого источника как раз серьезность. Когда Екклезиаст говорит: "Все суета сует", он подразумевает in mente ("в сознании" (лат.)) именно серьезность. И напротив, если слова эти о том, что все суета сует, сказаны лишь после того, как серьезность утрачена, мы имеем дело всего лишь с активно-пассивным выражением этой суеты (вызов тоски) или же с пассивно-активным ее выражением (вызов легкомыслия и остроты), а значит, пришло время для плача или для смеха, но серьезность тут потеряна.
Насколько мне известно — в меру моей осведомленности — не существует ни одного определения того, что такое серьезность. Если таких определений действительно нет, это меня только порадует, не потому, что я такой уж поклонник современного текучего и взаимослиянного мышления, которое сторонится каких бы то ни было определений, но потому, что в отношении экзистенциальных понятий всегда будет проявлением большего такта воздержаться от каких бы то ни было определений, ведь человек едва ли может испытывать склонность к тому, чтобы постигать в форме определения то, что по самому своему существу должно пониматься иначе, что он сам понимал совершенно иначе и что он совершенно иным образом любил; в противном же случае все это быстро становится чем-то чужим, чем-то совершенно иным. Тот, кто действительно любит, едва ли может находить радость, удовольствие, не говоря уже о развитии и содействии, в том, чтобы докучать себе определениями того, что же такое, собственно, эта любовь. Тот, кто живет в ежедневном и все же праздничном общении с представлением о том, что Бог существует, едва ли может пожелать отравить это все для самого себя или же видеть, как это отравляется вследствие того, что он сам по частям, с трудом подбирает определение того, что же такое Бог. Так же обстоит дело и с серьезностью, каковая представляет собою столь серьезную вещь, что даже определение ее окажется легкомыслием. И я не говорю так оттого, что мысли мои лишены ясности, или же оттого, что я боюсь, как бы тот или иной сверхпроницательный спекулятивный мыслитель не отнесся ко мне с некоторым подозрением, будто я сам не знаю прекрасно, о чем я говорю, — спекулятивный мыслитель, который так же упорно держится за развитие своих понятий, как математик держится за свои доказательства, и который поэтому говорит обо всем остальном то же, что повторял некий математик: "Ну и что это доказывает?"; ибо мне кажется, то, что я здесь говорю, служит куда лучшим, чем всякое понятийное развитие, доказательством того, что я всерьез знаю, о чем идет речь.
Хотя я не склонен сейчас давать определения серьезности или же с серьезностью трактовать шутку абстракции, мне все-таки хотелось бы предложить здесь несколько ориентировочных замечаний. В "Психологии" Розенкранца есть определение "настроениям". На странице 322 он говорит, что настроение — это единство чувства и самосознания. В предшествующем изложении он прекрасно объясняет, "da8 das Gefuhl zum Selbstbewu8tsein von dem Subjekt als der seinige gefuhlt wird. Erst diese Einheit kann man Gemut nennen. Denn fehlt die Klarheit der Erkenntnis, das Wissen vom Gefuhl, so existiert nur der Drang des Naturgeistes, der Turgor der Unmittelbarkeit. Fehlt aber das Gefuhl, so existiert nur ein abstrakter Begriff, der nicht die letzte Innigkeit des geistigen Dasteins erreicht hat, der nicht mit dem Selbst des Geistes Eines geworden ist" (см. С. 320-321).
Если обратиться теперь вспять и проследить его определение "Gefuhl" ("чувство" (нем.)) как того, что для духа является "unmittelbare Einheit seiner Seelenhaftigkeit und seins Bewuсtseins" (С. 242), а также вспомнить о том, что в определении "Seelenhaftigkeit" ("душевность" (нем.)) принималось во внимание единство с непосредственными определениями природы, тогда, соединив все это, можно получить представление о конкретной личности.
Серьезность и настроение соответствуют друг другу таким образом, что серьезность является более высоким, равно как и более глубоким выражением для того, что представляет собою настроение. Настроение — это определение непосредственности, между тем как серьезность, напротив, является приобретенной оригинальностью настроения, тогда как сохраненная оригинальность настроения заложена в свободе, а поддерживаемая оригинальность — во вкушении блаженства. Оригинальность настроения в ее историческом развитии проявляет как раз вечное в серьезности, отчего, скажем, серьезность никогда не может сделаться привычкой. Привычкой Розенкранц занимается в разделе "Феноменология", а не в разделе "Пневматология"; однако привычка относится и к последнему, и привычка возникает, как только из повторения исчезает вечное. Если оригинальность приобретается и сохраняется в серьезности, она является последовательностью и повторением, но как только в повторении отсутствует оригинальность, мы имеем дело с привычкой.
Серьезный человек серьезен именно благодаря оригинальности, посредством которой он возвращается в повторение. Часто говорят, что живое и внутреннее чувство сохраняет эту оригинальность, однако внутренним смыслом чувства является огонь, который может тотчас же остыть, коль скоро серьезность более его не поддерживает; с другой же стороны, внутренний смысл чувства неопределен в своем настроении, то есть в один момент он может быть более внутренним, чем в другой.
Приведу один пример, чтобы сделать все возможно более конкретным. Каждое воскресенье священник должен читать предписанную молитву, и каждое воскресенье он должен крестить нескольких детей. Предположим теперь, что он искренне воодушевляется, однако огонь может и гаснуть, этот священник будет, скажем, потрясать и трогать людей, но один раз больше, а другой — меньше. Только серьезность способна regelma Big ("равномерно", "упорядоченно" (нем.)) каждое воскресенье возвращаться к тому же самому с равной оригинальностью .
Однако это "то же самое", к которому серьезность должна снова возвращаться все с той же серьезностью, может быть только самой этой серьезностью; в противном случае она станет педантизмом. Серьезность в том смысле означает саму личность, и лишь такая серьезная личность и есть действительная личность, и лишь серьезная личность может делать что-то с серьезностью; ибо, для того чтобы делать нечто с серьезностью, необходимо прежде всего знать, что выступает предметом этой серьезности.
В жизни нередко говорят о серьезности; один серьезно относится к государственному долгу, другой — к категориям, третий — к театральной постановке и так далее. Ирония быстро обнаруживает, что все это происходит таким образом, и здесь ей есть чем заняться; ибо каждый, кто серьезен не там, где нужно, ео ipso ("тем самым" (лат.)) комичен, хотя столь же комичное травестированное окружение и мнение такого окружения могут относиться к этому в высшей степени серьезно. Потому нет более точного масштаба, помогающего определить, к чему в своей глубочайшей пригоден индивид, чем выяснение, к чему же в своей жизни он относится серьезно, а это можно узнать благодаря собственной разговорчивости человека, а можно хитростью вытащить из него его тайну. Ведь человек вполне может родиться с определенным настроением, но вот с серьезностью он никогда не рождается. Само выражение "то, к чему в своей жизни он относится серьезно" должно, естественно, пониматься в строгом смысле слова как то, из чего индивид в глубочайшем смысле выводит свою серьезность, ибо после того как человек поистине стал серьезен относительно того, что является предметом серьезности, он может, пожелай он теперь этого, серьезно обходиться с самыми разными вещами, однако вопрос состоит в том, стал ли человек прежде серьезен относительно предмета серьезности. Такой предмет присущ каждому человеку — ибо это он сам, — и тот, кто не стал серьезным относительно этого, но приобрел серьезность относительно чего-то другого, чего-то громадного и шумного, — тот, несмотря на всю свою серьезность, просто шутник, и даже если ему и удается некоторое время обманывать иронию, ему все же еще придется, deo volente ("если будет на то воля Божья" (лат.)), стать комичным; ибо ирония ревнует к серьезности. И наоборот, тот, кто серьезен там, где нужно, доказывает здравие своего духа именно тем, что он способен обходиться со всем прочим как чувствительно, так и шутливо, — пусть даже дураки серьезности холодеют, когда он шутливо трактует нечто, по поводу чего они стали так ужасно серьезны. Но вот в том, что касается серьезности, он не потерпит никаких шуток; стоит ему забыть об этом, с ним может приключиться то же, что и с Альбертом Великим, когда тот высокомерно похвалялся перед божеством своей спекулятивной философией , — и вдруг совершенно поглупел, или же то, что случилось с Беллерофоном, который спокойно садился на Пегаса, пока служил идее, но сразу же свалился с него, как только попробовал злоупотребить Пегасом, заставляя его везти себя на свидание с земной женщиной. Внутренний смысл, уверенность — это и есть серьезность. Это кажется несколько скудным; если бы я по крайней мере сказал, что это субъективность, чистая субъективность, ubergreifende ("всеохватывающий" (нем.)) субъективность, — тут я сказал бы хоть что-нибудь, и это наверняка сделало бы кого-то серьезным. Однако я могу выразить серьезность также и другим способом.
Как только не хватает внутреннего смысла, дух оказывается конечным. Стало быть, внутренний смысл — это вечность или вечное определение человека.
Если действительно стремиться к тому, чтобы исследовать демоническое, нужно всего лишь обратить внимание на то, как постигается вечное в индивидуальности, и сразу же можно во всем разобраться. В этой связи новейшее время предлагает самое широкое поле для наблюдений. О вечном в наши дни говорят достаточно много, его отвергают и принимают, и надо сказать, что как первое, так и второе (в зависимости от способа и метода, которым это делается) выдает недостаток внутреннего смысла. Однако тому, кто не понял вечное по достоинству, не понял совершенно конкретно , — ему не хватает внутреннего смысла и серьезности.
Мне хотелось бы здесь говорить подробнее; тем не менее я укажу на некоторые моменты.
а) Некоторые отрицают вечное в человеке. Но в то же самое мгновение "der Lebenswein (ist) ausgeschenkt" ("вино жизни пролито" (нем.)), и каждая такая индивидуальность оказывается демонической. Если же полагается вечное, настоящее оказывается чем-то другим, чем его желает видеть человек. Человек боится этого и тем самым оказывается в страхе перед добром. Он может теперь продолжать отрицание вечного сколь угодно долго, все равно тем самым ему не удастся целиком изгнать жизнь из вечного. И даже если он уже готов признать вечное до определенной степени и в определенном смысле, он все равно будет бояться его в некотором ином смысле и в более высокой степени; но как бы активно он при этом ни отрицал вечное, ему все равно не избавиться от него целиком. В наши дни вечного боятся слишком сильно, даже если нечто подобное признается в абстрактных и весьма лестных дня вечного выражениях. В то время как сегодня некоторые правительства живут в страхе перед разными там буйными головами, слишком многие индивиды живут в страхе перед одной лишь буйной головой, которая на самом-то деле является истинным местом успокоения, — перед вечностью. Потому они возвещают о мгновении, и точно так же как путь к гибели вымощен благими намерениями, вечность легче всего уничтожить одними лишь мгновениями. Но отчего же люди так ужасно спешат? Если даже нет никакой вечности, мгновение все равно столь же долго, как если бы она была. Но страх перед вечностью превращает мгновение в абстракцию. Впрочем, такое отрицание вечного может выражаться непосредственно и опосредованно самыми разнообразными способами: как издевка, как прозаичное самоопьянение рассудочностью, как деловитость, как воодушевление временным.
b) Некоторые постигают вечное совершенно абстрактно. Подобно голубым горам, вечное является границей временности, но тот, кто мощно живет внутри временности, никогда не достигает границы. Единичный индивид, который выглядывает наружу в поисках вечности, оказывается пограничным постовым, который стоит за пределами времени.
с) Некоторые пригибают вечное внутрь времени рад воображения. Понимаемое таким образом вечное оказывает чарующее воздействие, человек уже не знает, мечта это или действительность. Вечность со своими мечтательными мыслями печально или лукаво заглядывает внутрь мгновения, подобно тому как лунный свет мерцает в освещенной роще или зале. Мысль о вечном становится фантастическим конструированием, настроение же все время остается тем же: "Я ли тут вижу все это во сне, или это вечность видит сны обо мне?"
А некоторые даже просто и прямо, без всякого там кокетливого двойственного смысла, постигают вечность как нечто, пригодное лишь для фантазии. Подобное постижение нашло себе определенное выражение в тезисе: "Искусство — это предвосхищение вечной жизни"; а ведь поэзия и искусство являются примирением только для фантазии, они вполне могут обладать Sinnigkeit ("чувственность" (нем.)) интуиции, но уж никак не Innigkeit ("внутреннее" (нем.)) серьезности. Некоторые рисуют вечность мишурой фантазии, а потом сами же томятся по ней. Некоторые видят вечность на апокалиптический манер, они подражают Данте, между тем как сам Данте, как бы он ни уступал взгляду воображения, все-таки никогда не снимал действия этического акта суждения.
d) Некоторые постигают вечность метафизически. Человек твердит "Ich — Ich" так долго, что он сам становится самым смешным из всего возможного: чистым "я", вечным самосознанием. Некоторые так долго говорят о бессмертии, что в конце концов сами становятся не бессмертными, но бессмертием. И, несмотря на все это, они внезапно обнаруживают, что бессмертие так и не удалось включить в систему, а потому они сосредоточиваются теперь на том, чтобы обеспечить ему местечко в приложении. В связи со всеми этими смешными происшествиями, справедливыми остаются слова Поуля Меллера о том, что бессмертие должно присутствовать повсюду. Но если это так, временность превращается во что-то совсем иное, чем они желали. Или же некоторые постигают вечность метафизически, так что временность комически сохраняется в ней. С чисто эстетически-метафизической стороны временность комична. ибо она есть противоречие, а комическое всегда лежит внутри этой категории. Если вечность постигается теперь чисто метафизически, а вместе с тем, по той или иной причине, в ней желают также сохранить временность, конечно же оказывается довольно комичным, что вечный дух сохраняет воспоминание о том, что он много раз попадал в денежные затруднения. Однако все усилия, которые предпринимаются, чтобы укрепить вечность, оказываются напрасными, превращаются в ложную тревогу, — ведь чисто метафизическим образом ни один человек не становится бессмертным, и ни один человек не становится уверен в своем бессмертии. Однако, если он получает уверенность в этом некоторым другим образом, комическое не навязывает себя ему. И пусть даже христианство наставляет о том, что человек должен будет дать отчет в каждом суетном слове, произнесенном им, а мы понимаем это просто как предположение о полном припоминании, безошибочные признаки которого порой встречаются уже здесь, в этой жизни, — пусть даже учение христианства не может, наверное, найти себе лучшего освещения, чем в том резком противопоставлении, которое предлагалось в представлении греческой культуры, в соответствии с которым бессмертным нужно прежде всего испить из Леты, чтобы забыть, — все равно отсюда никоим образом не следует, что воспоминание непременно должно непосредственно или опосредованно становиться комичным, — непосредственно, поскольку человек вспоминает о самых смехотворных вещах, опосредованно же, поскольку эти смехотворные вещи преобразуются в существенные решения. Именно потому, что необходимость давать отчет и сам суд — это нечто существенное, существенное и будет действовать, подобно летейскому питью, на несущественное, хотя конечно же при этом существенным окажется многое такое, о чем вы никогда бы так не подумали. В забавных пустяках жизни, в ее случайностях, во всех ее угловатостях и неловкостях жизнь не присутствует существенным образом, потому все это прейдет, но только не для души, которая существенно присутствует в них, но для которой они едва ли получат комический смысл. Если человек целенаправленно размышлял о комическом, если он изучал его как знаток, постоянно проясняя свои категории, такому человеку нетрудно будет понять, что комическое принадлежит именно временности, ибо тут содержится противоречие. С метафизической и эстетической стороны человек не может остановить его, не может помешать ему в конце концов поглотить всю временность, а это непременно случится с человеком, который достаточно развит, чтобы использовать комическое, но недостаточно зрел, чтобы различать inter et inter ("между одним и другим" (лат.)). Напротив, в вечности всякое противоречие оказывается устраненным, временность пронизана вечностью и сохраняется в вечности; однако там нет и следа комического.
Однако о вечности не желают задумываться серьезно, перед вечностью испытывают страх, а страх может выдумать сотню всяких способов уклониться. Но это как раз и есть демонизм.
Глава пятая. СТРАХ КАК СПАСАЮЩЕЕ СИЛОЙ ВЕРЫ
В сказках братьев Гримм есть история об одном молодом парне, который отправился на поиски приключений, чтобы узнать, что такое страх. Пусть наш искатель приключений идет своим путем, не заботясь о том, далеко ли он забрался в ужасное в своем путешествии. Однако мне хотелось бы отметить, что это приключение, которое должен испытать всякий человек: нужно научиться страшиться, чтобы не погибнуть либо оттого, что тебе никогда не было страшно, либо оттого, что ты слишком отдаешься страху; поэтому тот, кто научился страшиться надлежащим образом, научился высшему.
Если бы человек был зверем или ангелом, он не мог бы страшиться. Именно потому, что он есть синтез, он и способен испытывать страх; и чем глубже он пребывает в страхе, тем более велик этот человек, хотя и не в том смысле, в каком люди это обычно понимают, когда страх наступает из-за чего-то внешнего, из-за чего-то, что лежит за пределами человека, — нет, это понимается в том смысле, что человек сам создает страх. Только в этом смысле можно понять и то, что говорилось о Христе: что душа его скорбела смертельно, равно как и слова, сказанные Христом Иуде: "Что делаешь, делай скорее". И даже те ужасные слова, о которых сам Лютер страшился проповедовать: "Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?", — даже они не выражают страдание столь же сильно, ибо эти последние слова обозначают состояние, в котором находился Христос, тогда как первые обозначают отношение к состоянию, которого нет.
Страх — это возможность свободы, только такой страх абсолютно воспитывает силой веры, поскольку он пожирает все конечное и обнаруживает всю его обманчивость. Ни один Великий инквизитор не имел под рукой столь ужасных пыток, какие имеет страх, и ни один шпион не умеет столь искусно нападать на подозреваемого как раз в то мгновение, когда тот слабее всего, не умеет столь прельстительно раскладывать ловушки, в которые тот должен попасться, как это умеет страх; и ни один проницательный судья не понимает, как нужно допрашивать обвиняемого — допрашивать его, как это делает страх, который никогда не отпускает обвиняемого — ни в развлечениях, ни в шуме повседневности, ни в труде, ни днем, ни ночью.
Тот, кто воспитывается страхом, — воспитывается возможностью, и только тот, кто воспитывается возможностью, воспитывается сообразно своей бесконечности. Поэтому возможность — тяжелейшая из всех категорий. Правда, мы часто слышим нечто прямо противоположное: что возможность так легка, а действительность так тяжела. Но от кого же мы слышим подобные речи? От пары жалких людей, которые никогда и не знали, что такое возможность, и которые, после того как действительность доказала им, что они ни на что не годятся и ни на что не будут годиться, теперь жульнически возродили возможность, которая некогда была столь прекрасна, столь волшебна; между тем оказалось, что в основании этой возможности лежала некая толика юношеских дурачеств, которых уж скорее пристало бы стыдиться. Потому под возможностью, о которой говорят, будто она так легка, обычно понимают возможность счастья, удачи и тому подобного. Между тем это вовсе не возможность, это скорее обманчивая уловка, которая украшена и приодета человеческой испорченностью для того, чтобы сама эта испорченность могла иметь основание жаловаться на жизнь, на мироустройство, равно как и повод для того, чтобы самой приобретать важность. Нет, в возможности все равно возможно, и тот, кто поистине был взращен возможностью, постиг ужасное точно так же хорошо, как и доброжелательное. Так что, когда выпускник школы возможности выходит в мир, он знает лучше, чем ребенок знает свою азбуку, что абсолютно ничего не может требовать от жизни и что ужасное, гибель, уничтожение живут поблизости от каждого человека, и когда он целиком и полностью постиг, что всякий страх, перед которым он так страшился, может уже в следующее мгновение обрушиться на него самого, у него появится иное объяснение для действительности; он будет восхвалять действительность, и даже если она тяжко давит на него, он будет думать о том, что она все-таки гораздо, гораздо легче, чем возможность. Только таким образом и может воспитывать возможность; ибо конечное и все конечные отношения, в которых отведено место индивиду, — будь они незначительны и повседневны или же имей они всемирно-историческое значение, — все равно воспитывают только конечным образом, и человек всегда может заморочить их болтовней, всегда может вытянуть из них еще что-то другое, всегда может поторговаться, как-нибудь ускользнуть от них, всегда может держаться немного в стороне, всегда может помешать себе, безусловно, научиться чему-нибудь у них; и если человек сделает это, единичный индивид снова должен будет иметь в себе возможность и сам строить то, у чего ему нужно учиться, пусть даже в следующее мгновение то, у чего он научился, вообще не признает, что человек этот им воспитан, но попросту абсолютно лишит его власти.
Однако для того чтобы индивид мог, таким образом, оказаться безусловно и бесконечно воспитан возможностью, такой человек должен быть честен по отношению к этой возможности и должен иметь веру. Под верой я понимаю здесь то, что Гегель однажды и по-своему совершенно правильно называл внутренней уверенностью, которая предвосхищает бесконечность. Когда с открытиями возможности обходятся честно, возможность обнаружит все конечные вещи, однако будет идеализировать их в форме бесконечности, она будет в страхе превозмогать индивида до тех пор, пока он снова не победит ее в предвосхищении веры.
То, что я говорю здесь, вероятно, многим покажется темными и глупыми речами, поскольку эти многие похваляются тем, что им никогда не приходилось страшиться. На это мне хотелось бы возразить, что конечно же не следует страшиться людей или конечных вещей, однако только тот, кто прошел насквозь страх возможности, только тот воспитан так, чтобы не страшиться, и не потому, что он уклоняется от ужасов жизни, но потому, что эти ужасы всегда слабы по сравнению с ужасами возможности. Если же говорящий полагает, напротив, что величие его состоит в том, что он никогда не пребывал в страхе, я с удовольствием предложу ему мое разъяснение: это произошло потому, что он совершенно бездуховен.
Там, где индивид обманывает возможность, благодаря которой он воспитывается, он никогда не достигает веры; и вера его становится неким событием конечного, точно так же как его школа есть школа конечного. Однако возможность обманывают всевозможными способами: ведь иначе каждый человек, стоило ему только высунуть голову в окно, сразу же видел бы достаточно, чтобы возможность могла начать, исходя из этого, свои экзерсисы. Вы, вероятно, видели гравюру Ходовецкого, представляющую сдачу Кале, увиденную глазами людей четырех различных темпераментов; задачей художника было дать различным выражениям возможности отразиться в чертах лица людей четырех разных темпераментов. Даже самая обычная жизнь наверняка имела свои происшествия; но речь идет о возможностях, заложенных в индивиде, который честен с самим собой. Рассказывают об одном индийском отшельнике, который два года подряд жил на одной росе, что однажды он прибыл в город., попробовал вино и стал пьяницей. Эту историю, как и все подобные ей, можно понимать по-разному, ее можно видеть в комическом свете, а можно — в трагическом; однако индивиду, воспитанному возможностью, довольно и одной подобной истории. В то же самое мгновение он абсолютно соединился с этим несчастным, и он не знает никаких выходов, основанных на конечном, посредством которых можно было бы освободиться от этого. Теперь страх возможного обрел в нем свою добычу, пока ему не придется передать его свободным вере. Ни в каком другом месте он не обретает покоя, ибо все прочие места успокоения — это просто пустая болтовня, даже если в глазах других людей это считается мудростью. Видите, вот почему возможность столь абсолютно воспитывает. В обычной действительности ни один человек еще не был настолько несчастен, чтобы не сохранить хоть небольшой остаток прежнего счастья, и понимание по праву утверждает, что, если человек хитер, он всегда сумеет себе помочь. Однако тот, кто осуществил обучающий переход возможности в несчастье, потерял все, как никто еще не терял в действительности. Но если он все же не обманул возможности, которая стремилась научить его чему-то, если он не запутал своей болтовней страх, который стремился сделать его свободным, он и получает это все обратно — как никто другой в действительности, пусть даже тот и получит нечто десятикратно; ибо ученик возможности обретает бесконечность, тогда как душа другого рассеялась в конечном. В действительности ни один не может погрузиться так глубоко, чтобы ему невозможно было погрузиться еще глубже и чтобы не было хотя бы еще одного или многих, которые погрузились еще глубже. Однако тот, кто погрузился в возможность, — взгляд его затуманился, глаза его утратили ориентировку, — так что он даже не может ухватиться за ту масштабную линейку, которую обычные люди протягивают погружающемуся в качестве спасительной соломинки; слух его был закрыт для посторонних вещей, так что он даже не услышал, какова была тогда рыночная цена людям среди его современников, он не услышал, что сам столь же хорош, как и большинство людей. Он погрузился абсолютно, однако затем он вновь поднялся из глубины пропасти, легче, чем все, что давит и ужасает в жизни. Ну конечно, я не отрицаю, что тот, кто был воспитан возможностью, подвержен опасности, — и не опасности, свойственной тем, кто был воспитан конечным, опасности попасть в дурную компанию или сбиться с пути самыми разными способами, — нет, он подвержен опасности падения, то есть самоубийства. Если в самом начале своего воспитания он неправильно понял страх, так что тот не стал вести его к вере, но, напротив, прочь от нее, он погиб. И наоборот, тот, кого воспитывает возможность, остается со страхом, он не позволяет себе обмануться, бесчисленными подделками под нее, в его памяти точно пребывает прошедшее; и тогда нападения страха, как бы они ни были ужасны, все же не заставляют его бежать. Страх становится для него прислуживающим духом, который даже против собственной воли вынужден вести его туда, куда он, охваченный страхом, хочет идти. Потому, когда страх возвещает о своем приходе, когда он хитроумно показывает, что нашел теперь некое совершенно новое средство ужасать, которое намного ужаснее всего, что применялось прежде, он не уклоняется и уж тем более не пытается удержать страх на расстоянии шумом и путаницей, — нет, он приветствует приход этого страха, приветствует его празднично, так же как Сократ радостно принял чашу с ядом, он закрывается ото всех вместе со страхом, он говорит, как пациент перед операцией, когда этой болезненной операции пора начаться: "Ну что ж, теперь я готов". И страх входит в его душу и внимательно осматривает все, и устрашениями выманивает из него все конечное и мелкое, а затем ведет его туда, куда он хочет идти.
Когда в жизни происходит тот или иной необычный случай, когда всемирно-исторический герой собирает вокруг себя героев и совершает героические поступки, когда наступает кризис и все становится значительным, люди стремятся быть причастными к этому; ибо это воспитывает. Вполне возможно. Однако существует гораздо более удобный способ, каким можно получить основательное воспитание. Возьмите ученика возможности, поместите его посреди ютландской вересковой пустоши, где ничего не происходит и где величайшим событием будет то, что с шумом взлетит глухарь, — и он будет переживать все совершеннее, точнее, основательнее, чем тот, кто получает аплодисменты на всемирно-исторических подмостках, если этот последний не был воспитан возможностью.
Когда индивид, таким образом, через страх оказывается воспитан к вере, страх будет искоренять то, что он сам же и создал. Страх обнаруживает судьбу, но как только индивид хочет утешиться судьбой, страх поворачивается и убирает судьбу прочь, ибо судьба подобна страху, а страх, подобно возможности, является магической картинкой. Если индивид в своем отношении к судьбе не воспитан, таким образом, самим собой, этот человек всегда будет иметь некий диалектический остаток, который не может быть устранен ничем конечным, точно так же как веру в лотерею теряет тот, кто не теряет ее вообще, но может потерять ее лишь оттого, что постоянно проигрывает. Даже в отношении к самому незначительному страх тотчас же оказывается под рукой, как только индивидуальность пытается хитростью ускользнуть от чего-то или же пытается хитростью что-то получить. Само по себе это нечто незначительное, и снаружи, у конечного индивид ничему не может научиться в том, что этого касается, однако страх существенно сокращает все, он мгновенно разыгрывает козырную карту бесконечности, категории, и тут уж индивид не может тасовать карты наугад. Такой индивид не может бояться судьбы во внешнем смысле слова, не может бояться ее поворотов, ее поражений; ибо страх в его душе уже сам представил себе судьбу и забрал у него абсолютно все, что только способна забрать судьба. Сократ говорит в "Кратиле", что ужаснее всего быть обманутым самим собою, поскольку в этом случае обманщик всегда с вами; точно так же можно сказать, что это счастье — иметь при себе такого обманщика, который благочестиво обманывает и постоянно отлучает ребенка от груди, прежде чем в это начнет вмешиваться со своей ерундой конечное. Если в наше время индивид и не был воспитан, таким образом, возможностью, все же у этого времени есть некая замечательная особенность для каждого, в ком заложено более глубокое основание и кто жаждет научиться добру. Чем дружелюбнее и спокойнее время, чем яснее все идет своим размеренным ходом, так что и у добра есть своя награда, тем легче индивиду обманывать самого себя, когда оказывается, что на самом деле его стремления были обращены на прекрасную, но все же конечную цель. В наши времена нужно быть не более шестнадцати лет от роду, чтобы понять, что тот, кто выступает сейчас на подмостках жизни, подобен человеку, который путешествовал из Иерихона и подвергся нападению грабителей. Потому тот, кто не желает погрузиться в жалкое состояние конечного, принужден в глубочайшем смысле вырываться наружу, к бесконечности. Подобная предварительная ориентация аналогична воспитанию в возможности, и подобная ориентация не может иметь места иначе как через возможность. Так что, когда смышленая опытность подвела итог своим бесчисленным расчетам, когда игра уже выиграна, приходит страх, еще до того как игра была выиграна или проиграна в действительности, и этот страх крестом спасается от дьявола, и смышленая опытность становится беспомощной, и самые хитрые комбинации этой смышлености и рассудительности исчезают как пустая глупость при соприкосновении со случаем, который страх строит благодаря всемогуществу возможности. Даже в самых незначительных вещах, как только индивид пытается найти хитрый поворот, который остается всего лишь хитрым, когда он пытается ускользнуть от чего-то, и представляется весьма вероятным, что это ему удастся, ибо действительность — не такой строгий экзаменатор, как страх, — тотчас же появляется и страх. Если от этого хотят уклониться, ссылаясь на то, что речь идет о чем-то совершенно незначительном, страх сразу же делает это незначительное примечательным, так же как маленькое местечко Маренго стало примечательным в истории Европы, поскольку именно здесь произошла великая битва при Маренго. Если индивид не отлучится от смышленой опытности через себя самого, он никогда не станет цельным, ибо конечное всегда объясняет все только по частям, но никогда полностью, и тот, кого неизменно подводит его рассудительность (а даже это немыслимо в действительности), может искать причину этого в самой рассудительности и собираться стать еще рассудительнее. С помощью веры страх выводит индивида отдохнуть к Провидению. То же самое происходит в отношении к вине, каковая является вторым элементом, обнаруженным страхом. Тот, кто учится узнавать свою вину только через конечное, оказывается потерянным в конечном, между тем как в конечном вопрос о том, виновен ли человек, не может быть разрешен иначе как внешним, юридическим и в высшей степени несовершенным образом. Поэтому тот, кто учится узнавать свою вину только по аналогии с полицейским судом и судом государственным, вообще, по сути, не понимает, что он виновен, ибо если человек виновен, он виновен бесконечно. Поэтому, когда подобный индивид, воспитанный исключительно конечным, не получает никакого полицейского приговора или суждения общественного мнения о том, что он виновен, он становится самым смехотворным и самым жалким из всех людей, образцом добродетели, который немного лучше, чем большинство других, но не совсем так же хорош, как священник. И какая помощь может понадобиться такому человеку в жизни? Ведь, пожалуй, еще до своей смерти он может попасть в коллекцию замечательных примеров. У конечного можно многому научиться, но только не тому, как страшиться, разве что в весьма посредственном и извращенном смысле. И напротив, тот, кто поистине научается страшиться, будет как бы двигаться в танце, стоит только заиграть страхам конечного, а ученикам конечного — потерять рассудок и мужество. В жизни можно часто обмануться таким образом. Ипохондрик страшится каждой мелочи, стоит, однако же, случиться чему-то важному, как он начинает дышать легче, а почему? Потому что даже такая важная действительность все же не настолько ужасна, как возможность, которую он сам изобрел; пока он выдумывал эту возможность, ему нужны были все его силы, тогда как теперь он может бросить все эти силы против действительности. Между тем ипохондрик — это просто несовершенный самоучка в сравнении с тем, кто был воспитан возможностью, ведь ипохондрия отчасти зависит от телесного, а потому она случайна . Настоящий же самоучка в такой же мере и ученик Господень, как сказал уже один писатель , или, чтобы уж не употреблять выражение, которое слишком напоминает об интеллектуальной стороне, он ????????? ??? ??? ?????????? и, в той же самой степени, ????????. Тот, кто в своем отношении к вине взращен страхом, успокоится поэтому лишь в Примирении.
Данное рассуждение заканчивается здесь, где оно и началось. И как только психология завершает свое рассмотрение страха, он должен быть передан догматике.
ПРИМЕЧАНИЯ
"Понятие страха" ("Begrebet Angest") опубликовано Кьеркегором в 1844 году. Это произведение подписано псевдонимом Вигилий Хауфниенсий, то есть Копенгагенский сторож. В своем "Заключительном ненаучном послесловии к "Философским крохам"" Кьеркегор специально останавливается на предполагаемом авторстве трактата. Он пишет: "Понятие страха" существенно отличается от других работ, подписанных псевдонимами, поскольку форма его ясна и даже несколько дидактична. Возможно, автор полагал, что на этой стадии может понадобиться сообщение знания, прежде чем окажется возможным переход к развитию внутреннего содержания. Последняя же задача скорее стоит перед тем, кто, как предполагается, по сути, обладает знанием и кому нужно не просто узнать нечто, но получить надлежащее воздействие. Несколько дидактичная форма книги, несомненно, послужила причиной, отчего она пользовалась некоторым расположением в глазах ученых доцентов, в отличие от других работ под псевдонимами. Не могу отрицать: сам я нахожу, что такое расположение объясняется лишь недоразумением, а потому мне особенно понравилось, что одновременно была опубликована веселая книжица Николая Нотабене. Эти книги под псевдонимами обычно приписываются одному и тому же автору, ты что теперь, если кто-то и надеялся на появление нового дидактического сочинителя, принужден будет отказаться от такой надежды, увидев, что из-под того же пера вышло легкомысленное сочинение" (Kierkegaard S. Samlede (Vwrker. VII. Б. 229). Собственно, в случае с "Понятием страха", в отличие от "Болезни к смерти" и самого "Заключительного ненаучного послесловия", псевдонимичность произведения вообще не особенно существенна. Кьеркегор отмечает в своем Дневнике: "Некоторых, возможно, встревожит мой набросок наблюдателя в "Понятии страха". Однако он там вполне уместен и помечает собою всю работу, подобно водяному знаку. В конце концов, у меня всегда было поэтическое отношение к своим произведениям, именно поэтому я прибегаю к псевдонимам. По мере того как книга развивает некую тему, вырисовывается и соответствующая ей индивидуальность. К примеру, Вигилий Хауфниенсий очерчен в нескольких книгах, но я поместил его набросок также и в эту" (см.: Papirer. 5. А 34).
Психологический очерк Кьеркегора "Понятие страха" посвящен проблеме первородного греха (Arvesynd, букв.: "наследственного греха"), лежащего в основе страха (Angest). Дело в том, что, даже еще не согрешив, человек уже может столкнуться с томительным беспокойством, безотчетным страхом, тревогой, не находящими своего источника и повода во внешнем мире. По мысли Кьеркегора, причиной, точнее, истоком страха может быть лишь самый первый грех, в который впал Адам, — грех, открывший дорогу смерти. По сути, позднейшее фрейдистское сопряжение и противопоставление — любви как эротического влечения и смерти — уходит своими корнями в библейскую историю о потере невинности, первородном грехе и неизбежной гибели (гибели, которая снимается только после искупительной жертвы Христа). Однако, с точки зрения Кьеркегора — и в отличие от всевозможных натуралистических трактовок, — именно падение Адама, этот вселенский, сакральный акт, делает чувственное начало в человеке греховным. Ведь в христианстве религиозное начало действительно снимает эротическое, однако это происходит не так, как полагают приверженцы полной аскезы: эротическое, чувственное снимается там не как греховное, но скорее как нечто безразличное, ибо дух не ведает сексуальных различий. Мы желаем преодоления страха, говорит Кьеркегор, ибо не в состоянии вынести перспективы полного уничтожения, смерти; но для того чтобы преодолеть смерть, а значит, и страх, важно не избавиться от чувственности, — нет, главное — это прекращение греховности. А это уж, с одной стороны, личная задача каждого индивида, которому вменено не грешить, с другой же стороны, это задача Божественного милосердия, которое одно лишь способно снять с человека (и человечества) бремя первородного греха. Понятно, что вторая часть этой битвы (по большому счету) уже выиграна, ибо кровью Христа уже были смыты и грех, и страх, и смерть; важно теперь, чтобы эта жертва оказалась значимой для всякого индивида, чтобы он сумел, перестав через гордыню и свою собственную греховность, принять ее и очиститься ею.
И. Г. Гаманн считал Сократа в некотором смысле предшественником и провозвестником Христа. Учению Гаманна была свойственна некоторая "эксцентричность", которая состояла в том, что, по его мнению, познание и язык в конечном счете обязаны своим появлением сексуальному началу. Цитата взята из книги Гаманна "Sokratische Denkwurdigkeiten", Кьеркегор цитирует его по берлинскому изданию (Hamann Х б. Schriften. П. Berlin, 1821. Б. 12). См. также прим. 1 к книге "Страх и трепет".
Профессор Поуль Мартин Меллер (1794 — 1836) преподавал философию в Копенгагенском университете. Кьеркегор посещал его лекции по истории античной философии, читал исследования по Аристотелю и перевод аристотелевского трактата "О душе". Меллер был любимым наставником Кьеркегора; восхищение ученика еще более явно выражено в набросках посвящения, сохранившихся в бумагах Кьеркегора: "...воодушевлению моей юности, доверенному свидетелю моих начальных устремлений; моему потерянному другу; моему читателю, которого так недостает... трубному гласу моего пробуждения; желанному предмету моих чувств" (Papirer. У. В 46). Считается, что как раз в трактате "Понятие страха" Кьеркегор развил некоторые идеи, замеченные еще в лекциях и книгах Меллера. Надо сказать, что посвящение Меллеру в общем-то делало настолько прозрачным псевдоним Кьеркегора, что имя Вигилий Хауфниенсий появилось не столько в силу теоретической необходимости, сколько из соображений деликатности.
"Радость о Дании" ("Glaede. over Danmark") — стихотворение Меллера, написанное в бытность им судовым священником во время плавания на Дальний Восток. В своем Дневнике Кьеркегор пишет о том, как он слышал исполнение стихотворения в Королевском театре уже после смерти Меллера и был тронут до слез словами: "Помните путешественника, отправившегося далеко" (Papirer. II. А 216, запись 1838 года).
Это краткое предисловие было добавлено позднее, когда Кьеркегор уже решил издать книгу под псевдонимом. Первоначальное предисловие оказалось выброшенным и позднее вошло под номером 7 в сборник предисловий (см.: Eierkegaard Я. Samlede (V(R)rker. У).
См.: Иоанн, 3.29: "Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха".
Отсылка к балладе Гете "Певец".
См.: Бытие, 12.3: "...и благословятся в тебе все племена земные".
См.: Матф., 6.34: "Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы".
См.: Матф., 7.21: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!" войдет в Царство Небесное..."
Восклицание, выражающее энтузиазм и воодушевление; происхождение его не совсем ясно. Помимо понятного "браво", "брависсимо" в него включены еще немецкие выражения: "крайняя нужды" и "гром Божий". Все вместе, вероятно, можно рассматривать как восторженную божбу.
См.: Первое посл. к Коринфянам, 2.3: "...и был я у вас в немощи и в страхе и в вещном трепете".
Известно, что декан философского факультета Копенгагенского университета помечал своей резолюцией "imprimatun", то есть "к печати", все диссертации перед их публикацией. В комедии Хольберга "Эразм Монтанский" Пер, служка в приходе, спрашивает Эразма, студента, только что вернувшегося из Копенгагена: "А кто в этом году Imprimatur?" — поскольку полагает, что это своего рода титул почтенного профессора, а не обычная практика одобрения рукописей.
Отсылка к "Науке логики" Гегеля, 1, книга 2, раздел 3. В гегелевской концепции действительность рассматривается в последнем разделе той части Логики, которая посвящена "сущности". Однако вслед за Адольфом Тренделен бургом Кьеркегор считает, что действительность должна включать в себя случайность, тогда как для Гегеля это нечто, относящееся лишь к необходжости.
Строго говоря, упрек здесь обращен не против Гегеля, но скорее против гегельянцев-датчан Р. Нильсена и Х. Л. Мартенсена, которые действительно определяли веру как нечто непосредственное.
Ophaeve (дат.) — прямая калька с немецкого aufheben, то есть "снятия" в гегельянском смысле, когда нечто уничтожается, прекращается сил, но вместе с тем и сохрняется в некотором новом виде.
Forsoning (дат.) — у датских гегельянцев, в частности у П. М. Штиллинга, "примирение" используется как термин спекулятивной философии, тогда как у Кьеркегора это слово несет отчетливую религиозную окраску.
Скепсис здесь относится к агностицизму Kaнта, полагавшего, что вещив-себе в отличие от явлений феноменального мира недоступны нашему познанию.
В тексте Кьеркегора — "метод и манифестация" (Methoden оg Manifestationen), но, строго говоря, Гегель пишет о "самоочевидном", или "самопроявлении" (Selbstoffenbarung). — См.: Энциклопедия философских наук. Часть III; Философия духа. § 383.
По мысли Шеллинга "интеллектуальная интуиция" — это орган всякого трансцендентального мышления. Интеллектуальная интуиция подобна интуиции художника, это способность видеть единство во множественности и разнородности, наконец, интеллектуальная интуиция — это "органическое постижение", благодаря которому природа достигает своего высшего развития, воплощаясь в творческой позиции человека, ибо в конечном счете интуитивно постигать предмет и творить, "конструировать" его — одно и то те (см.: Шеллинг Ф.-В. Система трансцендентального идеализма).
Mediation (дат.), то есть медитация, опосредующее звено.
"Логос" (греч.); в христианстве "логос" означает прежде всего "слово" как внутреннюю сущность Бога (см.: Иоанн, 1.1), в философии те он определяет "мышление", находящее себе наивысшее выражение в "логике".
В гегелевской логике "негативное" — это антитезис, отрицающий первоначальный тезис; способствуя возникновению синтез негативное оказывается движущим принципом, творческим началом, которое ведет к появлению чего-то нового.
Exempli gratia: Wesen ist was ist gewesen, ist gewesen — это tempus praeteritum от seyn, ergo, Wesen — это das aufgehobene Seyn, бытие, которое было. Таково логическое движение. Постольку, поскольку человек в гегелевской логике (такой, какой она является сама по себе и вследствие усовершенствования всей его школы) желает доставить себе неудобство, удержав и собрав вместе всех фантастических домовых и кобольдов, которые, будучи предприимчивыми ребятами, поспособствуют логическому движению, возможно, спустя некоторое время, почувствует себя обманутым, узнав, что нечто, предстающее теперь как выдуманная острота, некогда сыграло большую роль в логике, — и не просто как попутное разъяснение и остроумное замечание, но как главный наставник по части движения, наставник, который и превратил гегелевскую логику в чудо и приделал логическим размышлениям ноги, чтобы они могли на них двигаться; однако при этом никто не заметил, что длинная мантия восхищения скрывала под собой ходовой механизм, подобно тому как Лулу может бегать вокруг, а никто и не увидит внутри механического устройства.
Движение в логике — это заслуга Гегеля, в сравнении с которой не стоит и упоминать ту позабытую заслугу, которая у Гегеля была и которой он пренебрег, чтобы погнаться за неведомым, — заслугу по упорядочению многообразными способами категорийных определений и их последовательности.
Вечным выражением для логики является то, которое элеаты по недоразумению переносили на существование: "Ничто не возникает, все есть".
Exempli gratia (например): сущность — это то, что стало; стало — это tempus praeteritum (прошедшее время) от быть, ergo (потому) сущность — это "снятое бытие" (лат. н нем.). Кьеркегор соединяет здесь связкой "потому" (ergo) два тезиса из "Науки логики" Гегеля.
Отсылка к опере "Лулу" К. Ф. Гюнтельберга (С. Р. Guntelberg).
Tilvaerelse (дат.) — "наличное бытие", "наличное существование" — в отличие от "существования" вообще (Eksistens); обозначает видимое, наблюдаемое, данное существование в феноменальном мире. Tilvaerelse прямо соответствует немецкому термину Dasein.
Собственно, Гегель употребляет термин "иное", а не "необходимое иное". — См.: Наука логики. II. Раздел 3. Глава 3.
Анна-Луиза Сталь-Гольстейн говорила, что даже самые незначительные люди выглядят умными, коль скоро они знакомы со спекулятивной философией (см.: Stael-Holstein Anne Louise. De Allemagne. Paris, 1814. III. Bd. 8).
То, что наука в такой же степени, как поэзия и искусство, предполагает некое настроение как в творце, так и в воспринимающем, то, что ошибка в сочетании цветов может раздражать так же, как и ошибка в развитии мысли, в наше время совершенно предано забвению, равно как совершенно забыто внутреннее и забыто определение присвоения: радуясь всему тому великолепию, что мы сочли уже присвоенным или от чего в своей страстности отказались, уподобясь псу, который преследовал свое отражение. А ведь всякая ошибка порождает собственного врага.
Ошибка мышления оставляет за дверью диалектику, отсутствие или подмена настроения оставляет за дверью как своего врага комическое.
Отсылка к басне Эзопа, в которой пес, тащивший кусок мяса, выронил его, когда стал преследовать собственное отражение в речке.
В подготовительных набросках к "Понятию страха" Кьеркегор пишет: "Из того, что было сказано, может показаться, что грех не принадлежит ни одной науке, поскольку метафизика не способна его ухватить, психология не способна его преодолеть, этика принуждена его игнорировать, а догматика разъясняет его посредством первородного греха, каковой, в свою очередь, она принуждена разъяснять, заранее его же предполагая. Это верно, но верно также и то, что грех находит себе место внутри всей совокупности новой науки, которая заранее очерчена в имманентной науке, начинающейся с догматики в том же самом смысле, в каком первая наука начинается с метафизики" (Papirer. У. В 49:12).
Если обдумать это тщательнее, появляется достаточно возможностей заметить, как остроумно все-таки было озаглавить последний раздел Логики "Действительность", поскольку этика этого ни разу не достигает. Потому Действительность, которой завершается логика, не более указывает в направлении действительности, чем то Бытие, с которого эта логика начинается.
Относительно этого момента можно найти всевозможные замечания в произведении "Страх и трепет", изданном Иоханнесом де Силенцио (Копенгаген, 1843). Здесь автор многократно дает желаемой идеальности эстетики наткнуться на требуемую идеальность этики, чтобы в таком взаимном столкновении сделать очевидной религиозную идеальность в качестве того, что как раз и является идеальностью действительности, — и потому она столь же желанна, как эстетика, и не так невозможна, как этика, — однако это происходит таким образом, что эта идеальность внезапно прорывается в прыжке и в позитивном настроении: "Погляди, все стало новым", равно как и в негативном настроении, которое является страстью абсурда, чему соответствует понятие "повторение". Либо все наличное существование (Tilværelse) приходит к концу в требован этики, либо все условия отметаются в сторону, и вся жизнь, и все наличное существование начинаются заново не благодаря их имманентной непрерывности с прошедшим, что является противоречием, но благодаря трансцендентности, которая пропастью отделяет повторение от первого наличного существования (Tilværelse), так что подобная связь оказывалась бы всего лишь метафорическим выражением — как если бы некто сказал, что прошедшее и последующее соотносятся друг с другом так же, как вся совокупность живых существ, обитающих в море, относится к существам, живущим на земле и в воздухе, хотя, по мнению некоторых естествоиспытателей, морские обитатели во всем их несовершенстве все же дают прототипы того, что жители воздуха и земли являют собою наглядно. Относительно этой категории можно сравнить также "Повторение" Константина Констанция (Копенгаген, 1843). Эта книга — поистине забавная и занимательная книга, чего явно желал и ее автор; однако, насколько мне известно, он является и первым, кто энергично взялся за "повторение", сделав очевидным его понятийное значение для того, чтобы разъяснить отношение между языческим и христианским посредством невидимой вершины и discrimen rerum (лат. — "поворотная точка (в ходе) вещей"), где наука сталкивается с наукой, пока новое научное знание не явится на свет Божий. Однако он снова спрятал все, что обнаружил, облачив это понятие в издевку соответствующего представления. Трудно сказать или, точнее, понять, что подвигло его на это, ибо он ведь сам говорит об этом; он пишет, "чтобы его не поняли еретики". Поскольку он и собирался заниматься этим только с эстетической и психологической сторон, все должно было излагаться юмористически, и воздействие следовало направить к тому, чтобы слово означало все то вообще, то самое незначительное из всего, а переход, или, точнее, постоянное падение с облаков, осуществлялся посредством своей низкокомической противоположности. Между тем на странице 34 он все же довольно определенно передал целое: "Повторение — это интерес метафизики и одновременно тот интерес, на который внезапно натыкается метафизика; повторение — это развязка во всяком этическом воззрении; повторение — это conditio sine qua non (лат. — "непременное условие") для всякой догматической проблемы". Первый тезис содержит намек на тезис, согласно которому метафизика является незаинтересованной, — то же самое Кант полагал и об эстетике. Как только появляется интерес, метафизика уходит в сторону. Поэтому слово "интерес" запрещено. В действительности же появляется весь интерес субъективности, и тут на него внезапно натыкается метафизика. Пока повторение еще не положено, этика становится связующей силой, и, наверное, потому говорят, что развязка лежит в этическом воззрении. Если повторение не положено, догматика вообще не может существовать; ибо в вере начинается повторение, а вера — это орган для догматической проблемы. В сфере природы повторение заключено в ее неколебимой необходимости. В сфере духа задача состоит не в том, чтобы добиться от повторения некой перемены — а таких перемен ведь волей-неволей хватает в повторении, как если бы дух стоял лишь во внешнем отношении к различным повторениям духа (вследствие чего добро и зло, сменяли бы друг друга, как лето и зима), — нет, задача состоит в том, чтобы превратить повторение в нечто внутреннее, в собственную задачу свободы, в ее высший интерес, как если бы свобода действительно — в то время как все меняется — способна была внести повторение в действительность.
Здесь отчаивается конечный дух. Константин Констанциус намекнул на это, когда сам отошел в сторону и позволил внезапно проявиться повторению силой религиозного в истории некоего молодого человека. Потому Константин и говорит много раз, что повторение — это категория религиозная, что она слишком трансцендентна для него, что это движение силой абсурда, а значит (стр. 142), вечность есть истинное повторение. Всего этого не заметил г-н профессор Хайберг, хотя это произведение стремилось лишь к тому, чтобы стать изящным и элегантным пустячком, а все его знания, которые, подобно его новогодним подаркам, весьма торжественны и роскошны, способствуют лишь тому, что он с большой важностью доводит предмет до той точки, с которой Константин начинает, доводит его до момента, на котором, если вспомнить новейшее произведение, эстетик из "Или — или" прерывает свой рассказ в очерке "Плодопеременное хозяйство". Если Константин действительно почувствовал себя польщенным, вкусив, таким образом, редкую честь, которую ему оказывает, несомненно, изысканное общество, значит, он, по моему мнению, раз уж написал такую книгу, действительно, как говорят, совершенно помешался; с другой стороны, если такой писатель, как он, пишущий, чтобы быть неправильно понятым, вдруг совершенно забылся и не имел бы достаточно неколебимости, чтобы сдержать свое слово и не дать профессору Хайбергу себя понять, значит, он опять-таки должен был помешаться. Но этого мне, пожалуй, не стоит опасаться, ибо то обстоятельство, что он до сих пор ничего не ответил профессору Хайбергу, определенно указывает на то, что он вполне понимает себя.
См.: Второе посл. к Коринфянам, 5.17: "Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое".
Неявная отсылка к высказыванию Клемента Александрийского, заявлявшего, что он излагает христианское учение в неявной форме, дабы уберечь его от злоупотреблений непосвященных.
Сноска идет, естественно, на первое издание "Повторения"; в современном издании сочинений Кьеркегора это: Samlede (Vaerker. III. S. 189.
В своей "Критике способности суждения" Кант пишет, что всякое суждение о прекрасном, окрашенное хотя бы малейшим интересом, пристрастно, а потому не является чистым суждением вкуса, — а чтобы иметь право выносить суждение в делах вкуса, необходимо совершенное безразличие, беспристрастность (раздел I,§ 2).
Страница указана по первому изданию "Повторения"; в современном издании сочинений Кьеркегора: Samlede (Vaerker. III. Я. 254.
В своем ежегоднике "Урания" Й.-Л. Хайберг обсуждает "Повторение", однако, согласно его интерпретации, "повторение" относится к миру природных явлений, тогда как у Кьеркегора, естественно, речь идет о повторении в жизни духа, в существовании отдельного индивида. По словам Кьеркегора, "во всей этой книге ни слова не сказано о повторении как феномене природы. Я рассматривал повторение в царстве свободы. Знаменательно, что у греков свобода еще не полагалась как свобода; потому первым ее выражением стало припоминание, ибо только в припоминании свобода обладала жизнью вечной. Современный же взгляд должен как раз выражать свободу с повернутостью в будущее, а сюда-то и относится повторение" (Papirer. IV. В 111).
Отсылка к Демокриту, согласно учению которого атомы порождаются во вселенной как бы в водовороте, будучи неограниченными в своем числе и размерах (см.: Диоген Лаэрций. IX. 44).
Кьеркегор подразумевает здесь прежде всего сочинение Шлейермахера "Христианская вера" ("Der Christliche Glaube"), существенно повлиявшее на его собственную концепцию первородного греха.
По Аристотелю, теоретическая философия имеет три раздела: математику, физику и первую философию. Последняя рассматривает бытие как таковое, представляет собой вершину теоретического рассмотрения, она занимается всеобщими свойствами действительности, общими принципами устройства вселенной; порой она определяется Аристотелем также как теология (см.: Аристотель. Метафизика. Книга 5, 1).
Шеллинг помнил об этом аристотелевском наименовании ради своего различения негативной и позитивной философии. Под негативной философией он понимал логику — это достаточно ясно; напротив, мне гораздо менее ясно, что он, собственно, понимал под позитивной философией, помимо того, что для него позитивной, несомненно, была та философия, которую он сам собирался развить. Не стоит подробнее вдаваться в это, поскольку, помимо моего собственного взгляда, ничто не удерживает меня здесь.
Об этом напоминает Константин Констанциус своим указанием на то, что имманентность внезапно натыкается на "интерес". Только с этим понятием, собственно, и появляется действительность.
Вероятно, неявная отсылка к Лейбницу; см. об этом подробнее в "Философских крохах" (Samlede (Vaerker. IV. Б. 209).
В начале своего рассмотрения Кьеркегор представляет традиционные концепции первородного греха: католический подход, с его точки зрения, диалектически-фантастичен, а "федеральная теология" — исторически-фантастична; представления Августина и Тертуллиана располагаются где-то между концепциями православной и протестантской церквей. Однако в традиционных религиозных представлениях грех Адама берется только в связи с последствиями, которые он имел для всего человеческого рода, и при этом совершенно упускалось из виду, что значил этот грех для самого Адама. Как пишет в своем Дневнике Кьеркегор, первородный грех "есть настоящий парадокс... Парадокс образуется соединением качественно разнородных категорий. "Первородный" (в датском arve — букв.: "наследственный") — это категория природы. "Вина" же — это этическая категория духа. Рассудок говорит: но как же могло кому-нибудь вообще прийти в голову соединит их вместе, то есть утверждать, будто наследственным является нечто, по самой своей природе неспособное быть наследственным. В это следует верить. Парадокс в христианской вере всегда имеет дело с истиной перед Богом. Здесь привлекается сверхчеловеческий масштаб и сверхчеловеческая цель, — а по отношению к ним возможно лишь одно отношение — отношение веры" (Papirer. Х. А 481, запись 1850 года).
"Сверхъестественный и восхитительный дар, дарованный божеством" (лат.) — выражение взято из Фомы Аквинского (см.: Кьеркегор. XIII. 134; Hutterus redivivus. § 80. 4; § 81).
"Федеральная теология" была разработана в Голландии Иоганном Кокцеем (Coccejus) в середине 17 века. Согласно ей, догматика распадалась на раздел добрых дел (соответствующий состоянию невинности) и раздел милости Божьей (после грехопадения). Адам, в качестве представителя всего человеческого рода, единолично занимал собою первый раздел. См.: Hutterus redivivus. § 26. 10.
Лютер. Шмалькальдские тезисы (1538) в их латинском варианте. Часть III. Раздел 1. 3.
"Первородный грех — это настолько глубокое и омерзительное извращение человеческой природы, что он не может быть постигнут человеческим разумением, но должен быть познан и принят на веру из откровения Писания" (лат.).
"Родовой порок" (лат.) — термин, используемый Тертуллианом в его трактате "О душе" (De Anima. 41). Проводится различие между падением (peccatum originale originans, то есть "первородным грехом порождающим") и собственно первородным грехом, вызванным, падением (peccatum originale originatum, или "первородным грехом порожденным"). См.: Hutterus redivivus. § 84.1, а также: Шлейермахер. Христианская вера. § 71.
"Первородный грех" — "передающийся изначально" (лат.).
"Грех порождающий" и "грех порожденный" (лат.). — См. прим. 45.
"Отсутствие образа Божия, потеря изначальной праведностью" (лат.). — См.: Формула согласия. Часть II: Твердое заявление. 1.10, и Апология Аугсбургкого исповедания веры. II. 15 — 23.
"Наши противники утверждают, что сладострастие — это наказание, а не грех" (лат.). — Апология Аугсбургского исповедания веры. И. 38 и 47.
"Порок, грех, проступок, вина" (лат.). — См.: Формула согласия. Часть II; Твердое заявление. 1,9 и сл., и Аугсбургское исповедание веры, 1, 2.
"Каковая теперь насылает гнев Божий на тех, что грешили по примеру Адамову" (лат.).
"Из чего следует, что все мы, в силу непослушания Адама и Евы, ненавистны Господу" (лат.). — Формула согласия. Часть II: Твердое заявление. 1.8 — 9; см. также: Посл. к Римлянам, 5.12 — 14: "Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили... Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего".
То, что Формула Согласия запрещает мыслить такое определение, должно оцениваться как раз в качестве доказательства энергичной страсти, благодаря которой ей удается снова заставить мышление коснуться немыслимого; это энергия которая поистине достойна восхищения в сравнении с современным мышлением, движущимся весьма лениво и медленно.
Потому, если бы отдельный человек мог совершенно отпасть от рода, его отпадение сразу же определило бы род иначе; в отличие от этого, если бы некое животное отпало от своего вида, это было бы для вида совершенно безразлично.
Пелагий (V в.) отрицал понятие первородного греха и полагал, что всякий человек — подобно Адаму до его падения — рождается безгрешным. Социний (XVI в.) отвергал традиционные толкования концепции первородного греха.
"Филантропический индивидуализм" — морально-религиозное филантропическое движение основанное Й.-Б. Базедовым (J. В. Basedow) в конце XVIII века. Все эти подходы Кьеркегор считал несущими на себе печать (и пороки) морально-религиозного индивидуализма.
Несколько темное место; смысл его состоит в том, что движение, в котором природа его и цель являются одним и тем же, причем само развитие индивида воплощает в себе напряжение, существующее между ним самим и родом, определяется как движение историческое. Таким образом, совершенство человека, ставящее его выше животного мира, само по себе является противоречием: как индивид, он приемлет в себя вклад предшествующих поколений, но сам должен внести свой вклад ради будущих поколений. Получается, что противоречие ставит человека перед задачей — соединить свое собственное существование с существованием рода. Задача эта и создает историческое движение. — См.: Malantschuk Gregor. Frihedens Problem i Kierkegaards Begrebet Angest. K?benhavn, 1971. 3. 17 — 18.
"Глава рода человеческого по де, по зарождению, по разделу" (лат.) — выражение, встречающееся в учебниках и трактатах по лютеранской догматике. См., например: Bretschneider С. 0. Handbuch der Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche, 1 — II. Leipzig, 1838.
Для Кьеркегора "качество" (Qualitet) обозначает единственный, уникальный характер явления и понятия о нем, причем переход от одного качества к другому осуществим лишь в "прыжке". Однако, в отличие от Гегеля, Кьеркегор полагает, что такой прыжок не может происходить по законам логики он наступает не по необходимости (при накоплении количественных изменений), но только посредством свободы. Поэтому переход от добродетели к пороку не может рассматриваться как количественный процесс. — См.: Философские крохи (Samlede vaerker. IV. 236 — 249).
Вообще, этот тезис об отношении количественных определений и нового качества имеет длинную историю. Собственно говоря, вся греческая софистика основывалась на одних только количественных определениях, так что ее высшее различение проводилось между равенством и неравенством. В новейшей философии Шеллинг первоначально хотел воспользоваться чисто количественными определениями, чтобы разъяснить, таким образом, всякое различие; позднее он порицал то же представление у Эшенмайера (взгляды, выраженные в его диссертации). Гегель выдвинул представление о прыжке, но он выдвинул его в логике. Розенкранц (в своей "психологии") восхищается Гегелем за это. В своем позднейшем произведении (о Шеллинге) Розенкранц порицает Шеллинга и восхваляет Гегеля. Между тем несчастье Гегеля как раз состоит в том, что он стремится придать значение новому качеству и вместе с тем не собирается этого делать, поскольку стремится сделать это в логике, которая, как только это признают, должна обрести иное осознание самой себя и своего значения.
Согласно Шеллингу, существует качественное различие между Абсолютным духом и природой. Причиной возникновения чувственного мира является отпадение от Духа, вселенское падение. — См.: Schelling Е W. 1. Darstellung meines Systems der Philosophie. 1801. § 23 ff
См.: Rosenkranz Karl. Sendschreiben an Р. Leroux uber Schelling und Hegel. Konigsberg 1843; Rosenkranz Karl. Vorlesungen uber Schelling. Danzig, 1843.
Syndighed (дат.); "грех" (Synd) означает действительный грех, "греховность" (Syndighed) — возможность новых, действительных грехов.
В водевиле Й.-Л. Хайберга ("Рецензент и животное" (Heiberg J. L. Recensenten og Dyret). Троп, вечный студент, занимающийся юриспруденцией, говорит: "(Я могу в любое время получить свидетельство того, что я был почти что близок к сдаче экзамена по праву".
Какое значение они имеют помимо этого — как принадлежащие истории рода, как разбег для прыжка (хотя и неспособный объяснить прыжок), — это уже нечто совсем иное.
Известный датский историк религии Х.-Н. Клаузен, говоря о тексте Книги бытия, назвал его "мозаичным мифом" (Clausen Н. N. Katholicismens og Protestantismens Kirkeforfatning, (Lere og Ritus. Kobenhavn, 1825). Наконец, по мнению Кьеркегора, Гегель рассматривал повествование о грехопадении Адама всего лишь как "миф рассудка".
Считалка, в которой после бессмысленных слов, объединяемых общим принципом порождения, вдруг в конце концов образуется вполне нормальное слово.
Речь все время идет о том, чтобы поместить Адама внутрь рода, — совершенно в том же самом смысле, как это важно и для любого другого индивида. На это должна прежде всего обращать внимание догматика, и прежде всего — ради примирения. Учение, согласно которому Адам и Христос стоят в некотором соответствии друг с другом, вовсе ничего не разъясняет, но только все запутывает. Аналогия, может быть, и верна, но по сравнению с понятием аналогия несовершенна. Только Христос — это индивид, который является чем-то большим, чем индивид; однако поэтому он приходит не к началу, но к полноте времени.
Евангелие скорее противопоставляет здесь Адама и Христа. — См.: Посл. к Римлянам 5.17: "Ибо, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа"; Первое посл. к Коринфянам, 15.21 — 22: "Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут..."
Противоположное этому рассматривается в §1: "По мере того как история рода идет вперед, индивид постоянно начинает заново".
Мальчики из сиротского приюта в Копенгагене по традиции носили синюю форму; у каждого из них был свой номер, и не только попечители, но и сами они называли друг друга по номерам.
По словам Гегеля, "когда состояние человека непосредственно и умственно неразвито, он находится в положении, в котором ему не следует быть и из которого он должен освободиться. Таков смысл доктрины первородного греха, без которой христианство не было бы религией свободы" (Основания философии права. § 18. Добавление). В "Энциклопедии философских наук" Гегель говорит: "Тщательнее исследовав миф о грехопадении... мы обнаруживаем здесь выражение всеобщего отношения знания к духовной жизни. В своей непосредственности духовная жизнь определяется далее как невинность и простая вера. Но сущностью духа является то, что такое непосредственное состояние должно быть снято..." (Часть 1. Логика. § 24. Дополнение 3).
Гегель говорит буквально следующее: "Но даже если взять эмпирическое, внешнее отношение, окажется, что в нем нет ничего непосредственного, нет ничего такого, к чему прилагалось бы лишь качество непосредственного, исключавшее бы качество опосредования; но то, что непосредственно, одновременно опосредуется, и сама эта непосредственность по сути своей опосредована" (Философия религии. 1. Часть 1. В III. 2).
По словам Гегеля, "чистое бытие есть в конечном счете чистая абстракция, а потому оно абсолютно негативно; будучи рассмотрено непосредственно, это ничто" (Энциклопедия философских наук. Часть 1. Логика. § 87). В другом своем труде он пишет: "Стало быть, чистое бытие и чистое ничто — это одно и то же" (Наука логики. Книга I. Раздел I. Глава 1, С).
См.: Посл. к Римлянам, 3.19: "...так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом..."
См.: Иоанн, 1.29: "На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира". В одном из набросков к "Понятию страха" Кьеркегор пишет: "...ибо противоречием будет эстетически печалиться о греховности. Единственный, кто невинно печалился о греховности, был Христос, и потому может показаться, будто он печалился о ней эстетически. Но ведь он также нес все грехи мира, и потому он этически печалился о греховности" (Papirer. 5. В 53:5, запись 1844 года).
См. работу швейцарского теолога Леонхарда Устери (Usteri Leonhard. Entwickelung des paulinischen Lehrbegriffs mit Hinsicht auf die ubrigen Schriften des Neuen Testamentes. Zurich, 1832).
То, что Ф. Баадер со своей обычной убедительностью и мощью изложил в многочисленных произведениях касательно значения искушения для упрочения свободы, равно как и в работах, посвященных неверному толкованию, возникающему от одностороннего восприятия искушения как искушения ко злу или же искушения, которое предопределено к тому, чтобы привести человека к падению, тогда как искушение скорее следовало бы рассматривать как иную необходимую сторону свободы, должен, естественно, знать каждый, кто пожелает задуматься о подобных вещах. Повторять это здесь еще раз вовсе не означает, что произведения Ф. Баадера прямо включены в настоящее рассмотрение. Да и продолжить его мысли здесь также невозможно, поскольку мне кажется, что Ф. Баадер не обратил внимания на промежуточные определения. Переход от невинности к вине просто через понятие искушения легко ставит Бога в почти что экспериментирующее отношение к человеку, не принимая во внимание лежащее между этим психологическое наблюдение, ибо то, что промежуточным определением все же становится concupiscentia ("сладострастие" (лат.)), в конечном счете является скорее диалектическим взвешиванием понятия искушения, чем психологическим разъяснением подробностей.
Концепция свободы воли Ф. Баадера основана на предположении, что воля может осознать свою свободу и направленность только посредством выбора, вменяемого ей внешними обстоятельствами; с его точки зрения, все это приложимо также к положению Адама до грехопадения. См.: Baader Franz. Vorlesungen uber religiose Philosophie. Munchen, 1827.
При осаде Пелузия персидский царь Камбиз выставил перед своим войском священных для египтян животных (см.: Polyaenus. Strategemata. 7. 9).
"Все люди, зачатые естественным путем, рождаются с грехом, то есть без страха Божия, без доверия к Богу, и со сладострастием" (лат.). — Аугсбургское исповедание веры. 2. 1.
См.: Бытие, 2.16 — 17: "И заповедал Господь Бог человеку... а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь"; Бытие, 3.4 — 5: "И сказал змей жене: нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло".
См. также: Кьеркегор. Христианские речи (Samlede (Arker. Х, 113).
В Дневнике Кьеркегор пишет: "Природу первородного греха часто объясняли, и все же при этом недоставало главной категории — то есть страха (Angest); а между тем он — самое существенное определение. Страх — это желание того, чего страшатся, это симпатическая антипатия; страх — это чуждая сила, которая захватывает индивида, и все же он не может освободиться от нее, — да и не хочет, ибо человек страшится, но страшится он того, что желает. Страх делает индивида бессильным, а первый грех всегда происходит в слабости; потому-то он по своей видимости случается как бы безотчетно, но такое отсутствие осознания и ость настощая ловушка". — Papirer. III. А 233, запись 1842 года.
(Beaengstelse (дат.) — букв.: "сладкая тревога", но переводчикам хотелось сохранить тот же корень.
Относительно этого можно обратиться к "Или — или" (Копенгаген, 1843), в особенности если обратить внимание на то, что первая часть произведения представляет эту тоску в ее полной страха (angestfulde) симпатии и эгоизме, тогда как вторая часть ее разъясняет.
См. об этом также в "Болезни к смерти".
См.: Бытие, 2.17: "...ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь".
На детских дощечках с азбукой под каждой буквой наклеивалась картинка животного, название которого с этой буквы начиналось.
См.: Бытие, 3.1: "Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог".
Однако это еще ничего не решает в отношении несовершенства женщины сравнительно с мужчиной. И даже если страх свойствен ей в больш ей степени, чем мужчине, это еще никоим образом не служит признаком несовершенства. Коль скоро речь идет о несовершенстве, можно отметить, что оно заключено в чем-то совершенно ином, а именно в том, что женщина в страхе пере д самой собой бежит к другому человеку, к мужчине.
Если бы некто сказал далее, что тут возникает вопрос: как же этот первый человек научился говорить, я ответил бы, что это, конечно, верно, но вместе с тем такой вопрос лежит вне сферы настоящего исследован ия. Причем это не следует понимать так, будто, предложив уклончивый ответ в духе современного философствования, я хотел создать видимость того, что мог бы ответить на этот вопрос в другом месте. Одно только ясно, что не годится представлять самого человека изобретателем языка.
Есть, однако же некоторые основания полагать, что Кьеркегор считал змея символом или сущностью языка. Из предварительного наброска к "Понятию страха" он вычеркнул следующий пассаж: "Если бы некто, желая наставить меня, смазал бы: "В соответствии с изложенным прежде вы могли бы прямо заявить — он (то есть змей) есть язык", то я ответил бы: "Ну, этого я не говорил" (Papirer. У. В 53:11).
См.: Посл. Иакова, 1.13 — 14: "В искушении никто не говори: "Бог меня искушает"; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью".
Скажем, Августин в своем "Граде Божием", XIV. 23, задается вопросом о том, могли бы люди размножаться в Раю, если бы ни один не согрешил. А Франц Баадер (опираясь на взгляды Якоба Беме) предположил, что природа человека до грехопадения могла быть андрогинной.
См.: Бытие, 2.25: "И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились".
"Свободное суждение" (лат.) — свобода абсолютно независимо и безразлично выбирать. Кьеркегор пишет по этому поводу: "Совершенно незаинтересованная воля (equilibrium) — это ничто, химера; Лейбниц непревзойденно доказывает это во многих местах своих трудов; Бейль также это признает (а противоположность Эпикуру)". — Papirer. IV. С 39, запись 1842 или 1843 года.
См. известную сказку братьев Гримм об "умной Эльзе", где героиня горько рыдает над несчастьями, которые еще только могут случиться (Детские и домашние сказки братьев Гримм. 1. номер 34).
См.: Книга Пророка Даниила, 4.30: "Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы".
Сольдин был известным всему Копенгагену книготорговцем, отличавшимся крайней рассеянностью. Говорят, что однажды клиент вошел к нему в лавку, когда Сольдин стоял в стороне на стремянке, пытаясь достать какую-то книгу с верхней полки. Подражая голосу Сольдина, клиент сказал пару слов его жене; тут, повернувшись, книготорговец воскликнул: "Ревекка, а это я говорю?"
См.: Посл. к Римлянам, 8.22: "Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне".
См. главу IV, § 2.
См.: Лука, 18.11: "Фарисей став молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь".
В набросках к "Понятию страха" Кьеркегор пишет: "Вот и еще одно доказательство, что наше исследование не подвержено пелагианской безответственности, неспособной вплести индивида в ткань рода, но заставляющей каждого индивида торчать из этой ткани, подобно незаправленным концам нити. Легко г увидеть, что исследование защищает концепцию рода таким образом, чтобы не лишать индивидов их силы и не вносить неясность в понятие индивида, равно как з и в понятие рода. Если же греховность рода полагается Адамовым грехом... в том 4 же смысле, в каком лапчатые птицы все имеют лапчатые ноги, понятие индивида ь окажется снятым, равно как и понятие рода. Ибо именно здесь и лежит отличие ) между понятием человеческого рода и понятием вида животного" (Papirer. У. В 53:15, запись 1844 года).
"Надежда твари" (греч.) — Посл. к Римлянам, 8.19: "Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих". Это слово, означающее "нетерпеливое ожидание", "надежду", в датской Библии переведено как Forlengsel, то есть "тревожое ожидание", в немецкой же — как angstliche Harren, или "страшащееся ожидание". Сам греческий термин встречается в Евангелии дважды: в цитированном Послании к Римлянам и в Послании к Филиппийцам, 1.20, где оно обычно переводится как "надежда" (при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью"). У Кьеркегора этот термин встречается один раз в "Заключительном ненаучном послесловии" (Samlede Verker. 7. 164) и дважды — в "Понятии иронии" (Samlede Vwker. XIII. 173, 258).
Догматика как раз и должна толковаться таким образом. Каждая наука должна прежде всего энергично держаться за свое собствен ное начало и не вступать в сложные и запутанные связи с другими науками. Если догматика решает разъяснить греховность или доказать ее действительность, никакой догматики из этого никогда не получится, все ее существование станет проблематичным и туманным.
В набросках к "Понятию страха" это рассуждение получило следующее продолжение: "...напротив, ей следует начинать с Искупления, а ух объясняя Искупление, она тем самым косвенно объясняет греховность" (Papirer. У. В 53:17, запись 1844 года).
У самого Шеллинга довольно часто идет речь о страхе, гневе, муке, страдании и тому подобном. Однако к этим выражениям следует относиться с некоторым недоверием, чтобы не спутать воздействие греха на творение с тем, что описано у Шеллинга, — с состояниями и настроениями Бога. Подобными выражениями он как раз обозначает, если я могу так выразиться, творческие муки рождения у божества.
Подобными фигуральными выражениями он обозначал то, что сам порой называл негативным и что у Гегеля было представлено словами: "негативное, более точно определяемое как диалектеское, как иное (?? ?????)". Подобная двузначность проявляется и у Шеллинга: ибо он говорит о меланхолии, простирающейся над всей природой, и одновременно — о тоске божества. Однако прежде всего главной мыслью Шеллинга было то, что страх и тому подобное обозначают по преимуществу страдания, испытываемые божеством в процессе творения. В Берлине он выразился еще определеннее, сравнив Бога с Гете и Й. фон Мюллером, которые хорошо чувствовали себя, только когда творили; при этом он напомнил также о том, что блаженство, которое не способно сообщить себя, есть несчастье. Я вспоминаю об этом здесь, поскольку эти его высказывания уже были опубликованы в брошюре Мархейнеке, иронизирующего над ними. Этого не следует делать, ибо мощный и полнокровный антропоморфизм имеет значительную ценность. Ошибка тут совершенно в ином, здесь скорее можно усмотреть пример того, каким странным все становится, когда метафизика и догматика искажаются тем, что догматику рассматривают метафизически, а метафизику — догматически.
См.: Afarheineke Philipp. Zur Kritik der Schellingschen Offenbarungsphilosophie. Berlin, 1843. 96a. В современном датском языке у употребляемого здесь термина "Alteration" осталось лишь значения "волнение", "возбуждение"; Кьеркегор использует его в этимологически более раннем смысле — для него это "переменю", сопровождаемая внутренним томлением и "возмущением" природы.
Само слово "перемена" (Alteration) в датском языке 96а прекрасно выражает эту двузначность. "Alterere" употребляют в смысле изменения, искажения, появления из некоего изначального состояния (предмет становится чем-то иным), однако слово "altereret" означает также "испуганный", поскольку по сути это и есть его первое неизбежное следствие. Насколько мне известно, в латыни это слово вообще не употребляется в таком значении, зато, как ни странно, используется слово "adulterare" ("искажать", "извращать"). Французы говорят "alterer les monnaies" ("подделывать деньги") и "etre altere" ("измениться, исказиться"). У нас это слово в обыденной речи вообще употребляется только в значении "быть напуганным", так что можно часто слышать, как какой-нибудь простой человек говорит: "Я прямо в лице переменился". Во всяком случае, я слышал, как нечто подобное говорила одна рыночная торговка.
См.: Holberg J. Erasmus Montanus. 3. 5.
Естественно, это касается только человеческого рода, поскольку индивид тут определен как дух; напротив, среди животных каждый последующий экземпляр столь же хорош, как и первый, или, точнее, быть первым здесь совершенно ничего не значит.
В набросках к "Понятию страха" Кьеркегор пишет: "...и неспособность страшиться является доказательством, что данный индивид — либо животное, либо ангел, — а они оба, также и в соответствии с Писанием, менее совершенны, чем человек. "Большая" чувственность в женщине сама по себе вполне безразлична в отношении же к идее она является выражением совершенства поскольку в идеале она всегда усматривается вы нечто превзойденное и усвоенное в свободе" (Papirer. и. В 53:23).
См.: Бытие, 3.16: "Жене сказал: ...и к мужу твоему влечение твое, н он будет господствовать над тобою".
В набросках к "Понятию страха" читаем в связи с этим: "Только животное может оставаться наивным в сексуальных отношениях; человек не способен на это, потому что он есть дух, — сексуальность же, как крайняя точка синтеза, конечно же восстает против духа". — Papirer. 5. В 53:27.
Там же, в набросках, говорится: "...ведь моральный брак никоим образом не наивен, и все же он никоим образом не аморален. Вот почему я всегда говорю, что только грех делает чувственность греховностью". — Papirer. 5. В 53:28.
Вместо этой вводной фразы раздел в набросках начинался длинным вступлением. В нем Кьеркегор, между прочим, вспоминает об истории обольщения невинной девушки, описанной в его "Дневнике соблазнителя" — части трактата "Или — или" ("Enten — eller"). Вот еще один отрывок из набросков, представляющий существенный интерес: "...в каком же смысле сексуальность является греховностью? Если человек каждое воскресенье слышит восклицания о любви, которая пребывает в духе и в истине, позволяя при этом эротике гаснуть, ты что брачные отношения становятся столь духовными, что сексуальное в нмх совершенно исчезает, тогда монастырь и воздержание были бы для него гораздо вернее" (Papirer. 5. В 53:29).
См: Матф., 23.4: "Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их".
Пояснение Кьеркегора, из набросков к "Понятию страха": "...просто когда глядишь сам на себя. Психология может с легкостью умножить число подобных примеров, но тут следует остеречься, чтобы такое (рассматривание себя) не было следствием скрытого желанию" (Papirer. 5. В 53:30).
См.: Memorabilia. II. 6.32 — 33.
В набросках к "Понятию страха" сказано: "Сократ имел в виду, что эротическое было сведено к безразличию и стало комичным, а потому можно любить и безобразных" (Papirer. 5. В 53:31).
Таким же образом следует понимать и то, что Сократ говорил Критобулу о поцелуях. По моему мнению, каждому тут ясно, что Сократ никак не мог столь патетически толковать об опасности поцелуев, равно как ясно и то, что он отнюдь не был каким-то пугливым увальнем, не дерзающим даже взглянуть над женщину. Разумеется, в южных странах и среди более страстны народов поцелуй означает нечто большее, чем здесь, на севере (относительно этого можно обратиться к письму Путеана, адресованному Иоанну Сакку: nesciun nostrae virgines ullum libidinis rudimentum oculis aut osculis inesse, ideoque fruuntur. Vestrae sciunt. См. также: Фома Кемпийский. (Dissertatio de osculis у Пьера Бейля), однако Сократу — ни как иронику, ни как моралисту — не пристало говорить так. Когда некто чересчур усердствует как моралист, он возбуждает страсть и заставляет ученика почти помимо воли иронически восставать против своего учителя. Отношение Сократа к Аспазии указывает на то же самое. Он общался с нею, совершенно не заботясь о том, что она вела довольно-таки двусмысленную жизнь. Он желал просто научиться чему-то у нее (см. Атеней), и, похоже, что у нее были к этому таланты, поскольку рассказывают, как мужья приводили своих жен к Аспазии просто для того, чтобы те могли чему-то у ее научиться. Но, как только Аспазия пожелала произвести на него впечатление своим очарованием, Сократ, по всей вероятности, и разъяснил ей тогда, что нужно любить уродин и что поэтому ей не следует расточать свои прелести понапрасну, так как для осуществления этой цели с него довольно Ксантиппы (см. рассказ Ксенофона о взглядах Сократа на его отношения с Ксантиппой). К сожалению, весьма часто случается так, что к чтению люди подходят, уже заранее составив себе об этом предварительное мнение, так что не удивительно, если у каждого есть уже совершенно четкое представление, будто циник почти всегда бывает и развратником. Между тем именно среди циников можно найти примеры такого толкования эротического как комичного.
"Наши (бельгийские) девушки не знают, что поцелуй или взор очей могут быть началом похоти, а потому предаются им. Ваши-то (итальянские) знают" (лат.). Цитата взята из статьи "Путеан" Словаря Пьера Бейля. У Кьеркегора был немецкий перевод словаря, изданный в Лейпциге в 1741 — 1744 годах. Вообще, о Бейле Кьеркегор узнал впервые, читая Лейбница.
См.: Deipnosophistai. Книга 5.
См.: Плутарх. Перикл. 24.2.
Об отношении Сократа к жене см.: Платон. Пир. II.10.
Каким бы странным это ни показалось тому, кто не привык к отважному рассмотрению явлений, существует как бы совершенное соответствие между ироническим толкованием эротического как комического у Сократа и отношением монаха к mulieres subintroductae. Злоупотребление туг, естественно, возможно только для того, у кого есть вкус к подобным злоупотреблениям.
Изначально и по идее отношения монахов к "впускаемым в монастырь женщинам" (а именно их и обозначает специальный латинский термин) было отношением духовного товарищества или наставничества; разумеется, бывали и отклонения.
В набросках к "Понятию страха" Кьеркегор добавляет в этом месте: "Если эротическое не чисто, этот тревожный страх становится гневом, если же тревога (Angest) не присутствует вовсе, эротическое становится животным" (Papirer. 5. В 53:33).
См.: Исход, 20.5: "Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня", а также: Второзаконие, 5.9.
См. в связи с этим раздел о "количественной бесконечности" у Гегеля: Наука логики. I. Книга 1. Раздел 2. Глава 1 С.
Согласно зоологическим представлениям того времени, это животное с ногами лягушки и хвостом саламандры, которое проходит цикл развития, противоположный нормальному развитию лягушки, чтобы в конце концов стать рыбой.
Кьеркегор подразумевает здесь Канта, который полагал, что у человека нет врожденной злой воли и что чувственная природа человека сама по себе не зла. Зло состоит в том, что человек черпает сильнейшие свои импульсы и побуждения к действию из эгоизма и самолюбия, а не из морального закона, стоящего над эгоизмом. — См.: Кант Иммануил. Религия в границах только разума. Сходные взгляды на природу человека разделял и Гегель: зло для него состоит в настойчивом утверждении собственных субъективных особенностей и игнорировании всеобщего. — См.: Философия права. ~ 139, а также: Философия религии. II. Часть 3.2.3. Иначе говоря, оба эти мыслителя полагали, что человек сам наделен возможностью знать и осуществлять добро, — а это полностью противоречит христианской доктрине.
Считается:, что тут Кьеркегор имеет в виду Н. Грундтвига, предложившего крайне субъективную интерпретацию нордической мифологии. — См.: Grundtvig N.F.S. Nordens Mythologie. Kpbenhavn, 1832.
Это заслуживает более подробного осмысления; ибо как раз в этой точке должно разъясниться, как далеко простирается новейший принцип, согласно которому мышление и бытие есть одно и то же, если, с одной стороны, человек не желает тревожить его несвоевременными, а частью и просто мелкими недоразумениями, а с другой — все-таки не хочет иметь некий высший принцип, который обязывал бы его к бездумности. Только всеобщее существует благодаря тому, что оно мыслится и позволяет себя мыслить. Главное в единичном индивиде — это как раз его негативное собственное отношение ко всеобщему, его отталкивание от всеобщего. Однако как только такое отталкивание мысленно убирается прочь, единичный индивид оказывается снятым, а как только отталкивание мыслится, само оно преобразуется таким образом, что человек либо не мыслит его, но только представляет себе это, либо же мыслит его и просто представляет себе, будто оно снимается в мышлении.
Латинское речение unum noris omnes выражают то же самое на латинский манер, если под unum понимается сам наблюдатель, тогда никто не проявляет любопытства к omnes, но серьезно держится за одно, которое действительно является всем. В это люди обычно не верят, они полагают даже, что в этом заложено слишком много гордости; но причина скорее состоит в том, что они чересчур трусливы и покойны, чтобы отважиться понять истинную гордость, чтобы добиться такого понимания.
"Познай самого себя" (греч.). В гегельянской интерпретации (в том числе и у датских последователей Гегеля — П. Штиллинга и Й.-Л. Хайберга) принцип "познай самого себя" означает не побуждение к узнаванию собственных особенностей, склонностей и черт характера, ибо такое знание негативно по своему отношению к абсолюту. Скорее это призыв к наиболее конкретному и всеобщему познанию человеческого духа, выражающего себя в истории рода и государства. — См.: Гегель. Энциклопедия философских наук. Часть 3. Философия духа. § 377 и дополнение.
"Если познано одно, познано все" (лат.). — Теренций. Формио. 2.1.1.265. Вот это выражение действительно стало сущностью Кьеркегорова метода: это единственная возможность не упустить из виду индивида, в котором, как во всяком существующем субъекте, воплощен дух. Речь идет не о мелких конкретных отличиях одного индивида от другого, но о познании сущности человеческой личности, — и уж через это — о познании мира и места человека в этом мире.
Считается, что после восстания из мертвых сексуальные различия сохраняются, но excluso semine et lacte ("за исключением семени и молока". — Hutterus redivivus. § 1ЗО, 7.
По христианской догматике, ангелы лишены пола. См. также: Лука, 20. 34 — 36; Бретшнайдер. 1. § 101.2
Безгрешность свойственна человеческой природе Христа. См. упоминавшийся учебник христианской догматики К. Бретшнайдера, II, § 136.
"Веселость" (нем.). — Гегель говорил о "тоске" (Wehmut) и "веселости" (Heiterbeit) греческой культуры и эллинизма вообще. — См.: Философия религии. II. Часть 2. Раздел II. П. С.
Overgangen (дат.). Согласно Кьеркегору, гегелевская логика не может объяснить перехода: "Древняя философия, самая древняя в Греции, занималась преимущественно проблемой движения, посредством которого мир и начал существовать... Самая же недавняя философия в основном занята движением — но движением в логике... Современная философия никогда не могла объяснить движения" (Papirer. IV. А 54, запись 1843 года). Кьеркегор различал диалектические переходы в сфере мысли и так называемые "патетические" переходы, происходящие в царстве свободы, — переходы, которые непременно требуют прыжка: "Возможен ли переход от количественного определения к качественному без прыжка? И разве вся мизнь не основана на этом?" (Papirer. IV. S. 87): "Всякое определение, для которого, в свою очередь, существенным определением будет бытие (Veren), лежит вне имманентной мысли следовательно — вне логики" (Papirer. IV. С. 88). Проблема движения рассмотрена Кьеркегором специально в Преамбуле к "Философским крохам".
"Созерцатели" (греч.) — секта греческих монахов, которые, подобно индийским йогам, приводили себя в состояние экстаза созерцанием собственных пупков; они полагали, что таким образом непосредственно общаются с божеством. В одной из своих дневниковых записях Кьеркегор замечает: "Нет ничего более опасного для человека, ничего более парализующего, чем некое изолирующее самосозерцание, в котором исчезает всемирная история, человеческая жизнь, общество, короче, все, — и, подобно созерцателям собственных пупков, человек, описывая эгоистические круги постоянно сидит, уставившись в свой пупок" (Papirer. II. А 187, запись 1837 года).
Кьеркегор подразумевает здесь, конечно, представление Гегеля о "чистом бытии", которое тождественно "ничто" и составляет вместе с тем предпосылку построения всей системы философии. Иронизируя над Гегелем и его претензиями на "беспредпосылочность" Системы, Кьеркегор даже записал в своем дневнике юмористическую сценку — диалог между Гегелем и Сократом, — посвященную этим сюжетам (см.: Papirer. VI. А 145, запись 1845 года).
Потому, когда Аристотель называет переход от возможности к действительности движением (???????), это следует понимать не логически, но в связи с исторической свободой.
У Платона мгновение понимается чисто абстрактно. Для того чтобы приспособиться к этой диалектике, нужно отдавать себе отчет в том, что мгновение — это не-существующее, подведенное под определение времени. Не-существующее (?? ?? ??; ?? ????? у пифагорейцев) занимало философию древности столь же сильно, как оно занимает современную. У элеатов не-существующее понималось онтологически, так что все, что о нем утверждалось, могло утвертдаться только в качестве противоположности тому, что было единственно существующим. Если проследить это дальше, можно увидеть, что это понятие вновь появляется во всех областях. В метафизической пропедевтике этот тезис был выражен следующим образом: "Тот, кто высказывает нечто не-существующее, вообще ничего не говорит". (Это неверное представление опровергается в "Софисте", а неким более мимическим образом уже в раннем диалоге, в "Горгии".) Наконец, в практической области софисты использовали не-существующее, для того чтобы посредством этого снять всевозможные поняты нравственности, скажем: не-существующее не есть, ergo ("следовательно" — лат.), все истинно, ergo, все хорошо, ergo, обмана и тому подобного нет.
Сократ выступал против этого во многих диалогах. Платон занимался этим преимуществеяно в "Софисте", который, как и все платоновские диалоги, искусно демонстрирует то, в чем наставляет, поскольку софист, чье понятие и дефиницию пытается дать диалог, рассуждая по преимуществу о не-существующем, сам есть, нечто несуществующее; таким образом, понятие и пример одновременно вступают в существование в той битве, которая обращена против софиста, причем битва эта кончается не тем, что он уничтожается, но тем, что он вступает в существование, что для него хуже всего, ибо теперь-то ему, несмотря на всю софистику, которая делала его невидимым, подобно доспехам Марса, приходится наконец выбираться на свет. Новейшая философия, по существу, отнюдь не продвинулась дальше в своем постижении несуществующего, несмотря на то что эта философия считает себя христианской. Греческая и современная философия полагают, что все вращается вокруг того, чтобы привести не-существующее к наличному существованию, поскольку прогнать его прочь или заставить исчезнуть кажется крайне легким.
Христианское же воззрение полагает: не-существующее постоянно присутствует здесь как ничто, из которого все было сотворено — как видимость и суетность, как грех, как чувственность, которая далека от духа, как временность, которая забыта вечностью, а потому все вращается вокруг того, чтобы прогнать его прочь и явить свету дня существующее. Только в этом направлении может быть исторически правильно схвачено понятие Примирения, иначе говоря, в том смысле, в каком оно было принесено в этот мир христианством. Когда же постижение идет в противоположном направлении (как продолжение движения, вытекающего из того, что не-существующее не присутствует здесь), значит, Примирение испарилось, значит, оно оказалось вывернуто наизнанку. "Мгновение" же представлено Платоном в "Пармениде". В диалоге выявляются противоречия в самих понятиях, причем Сократ выражает это таким определенным образом, что если даже это и не пристыжает ту прекрасную, древнюю греческую философию, то вполне способно пристыдить новейшую хвастливую философию, которая, в отличие от греческой, относится с величайшим притязанием не к самой себе, но к людям и их восхищению. Сократ замечает, что нет ничего замечательного в том, что некто способен продемонстрировать противоположность (?? ????????) некой единичной вещи, участвующей в разнообразии, однако поистине достойно восхищения, когда некто способен продемонстрировать противоречия в самих понятиях (??? ?? ?????? ??, ???? ????? ????? ????????? ??? ?? ?? ????? ?? ??, ????? ??? ????? ?????. ??? ???? ??? ???? ??????? ???????. — ВС). Способ достижения этого есть способ экспериментирующей диалектики. Предполагается, что Единое (?? ??) есть и что оно не есть, показывая затем, что следует отсюда для него самого и для всего остального. Тогда мгновение проявляется здесь как некая чудесная сущность (??????, греческое слово тут особенно удачно), которая лежит между движением и покоем, не пребывая ни в каком времени, причем входя внутрь этой сущности и выходя из нее наружу, движение переходит в покой, а покой — в движение. Потому мгновение становится категорией перехода (????????); ибо Платон показывает, что мгновение точно таким же образом связано с переходом от Единого ко многому и от многого к Единому, с переходом от подобия к различию и так далее, равно как и то, что в мгновении нет ни ??, ни ?????, ни определенного, ни смешанного (???? ??????????? ???? (???????????). Среди прочего, заслуга Платона состоит также и в том, что он прояснил это затруднение; однако мгновение все же остается здесь беззвучной атомистической абстракцией, которую не объясняют тем, что ее игнорируют. Если бы логика просто готова была признать, что она не знает перехода (а если ей известна такая категория, она должна найти себе место в самой системе, пусть даже она действует в рамках этой системы), тогда станет яснее, что исторические области, равно как и всякое знание, которое опирается на исторические предпосылки, знают мгновение. Эта категория крайне важна для того, чтобы проводить различение между христианством и всей языческой философией, а также отделять христианство от такой же языческой спекуляции внутри него самого. В другом разделе диалога "Парменид" показаны следствия того, что мгновение рассматривается в качестве подобной абстракции. Если предположить, что Единое наделено временной определенностью, получается, что здесь возникает противоречие: Единое (?? ??) оказывается старше и младше самого себя и многого (?? ?????), а затем оно снова не оказывается ни старше, ни моложе самого себя и многого (151 Е). Однако же Единое все же должно быть, говорится здесь, причем "бытие" определяется следующим образом: участие в сущности или природе настоящего времени (?? ?? ????? ???? ?? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ??? ????????). При дальнейшем развитии противоречие проявляется в том, что настоящее (?? ???) колеблется между значениями: "настоящее", "вечное", "мгновение". Такое "сейчас" (?? ???) лежит между "было" и "будет" и конечно же Единое в своем переходе от прошлого к будущему не может не задержаться в этом "сейчас". Оно задерживается в этом "сейчас", оно не становится старше, но уже есть старше. В новейшей философии абстракция достигает своей вершины в чистом бытии; однако чистое бытие есть самое абстрактное выражение для вечности, а в качестве Ничто оно опять-таки есть мгновение. Здесь снова проявляется важность мгновения, поскольку лишь посредством этой категории можно придать вечности ее настоящее значение, ибо вечность и мгновение становятся тут крайними противоположностями, тогда как обычно диалектическое колдовство, напротив, вынуждает их обозначать одно и то же. Только в христианстве становятся понятными чувственность, временность, мгновение — именно потому, что только с христианством вечность становится действительно существенной.
Греч.: "то, чего нет".
См.: Софист, 237 е, 257 Ь, 258 d — е.
В "Горгии" Сократ говорит о риторике и софистике как ложных подражаниях права и справедливости (464 Ь и сл.).
Кьеркегор имеет здесь в виду шлем Гадеса, который делал невидимым того, кто его надевал. В своей битве против Ареса (Марса) Афина надела шлем себе на голову (см.: Илиада. 5.845).
"Ho вот если кто-то сможет доказать, что нечто единое в себе самом есть многое, — или же что сама множественность едина, — тогда я действительно начну удивляться" (греч.).
Греч.: "то, что лишено места".
Греч.: "одно".
Греч.: "многие".
Более точный перевод: "ни нечто отделенное, ни соединенное" (греч.).
Согласно Кьеркегору, платоновское "бытие" — это нечто, не просто участвующее в мире идей, в сущности, но вместе с тем и то, что происходит в чувственном мире сейчас, в настоящее время.
Кьеркегор подразумевает конечно же Гегеля и Шеллинга; правда, можно отметить, что эти философы следуют тут некой более древней традиции — например, Августину, не говоря уж об Аристотеле.
Обычное название коляски извозчика в Копенгагене.
Подход Гегеля, об этом см.: Система философии. Часть 2. Философия природы. § 259 и добавление.
Это, впрочем, есть пространство. Опытный читатель легко найдет здесь доказательство правильности моего изложения, ибо для абстрактного мышления время и пространство совершенно тождественны (nacheinander и nebeneinander), и таковыми же они остаются и для представления, и это поистине так в определении Бога как вездесущего.
Нем.: "друг за другом".
Нем.: "друг подле друга".
Согласно гегелевскому анализу, чувственное сознание — это нечто, замкнутое на "здесь" и "сейчас". — См.: Феноменология духа. А, I.
"Присутствие богов" (лат.) — то есть "настоящее время" предполагает возможность непосредственного вмешательства божества. — См.: Теренций. Формио. III. 1.1.345.
См.: Тегнер. Сага о Фритьофе. IX. Кьеркегор имеет в виду также иллюстрацию на титульном листе стокгольмского издания 1825 года.
Достойно внимания то обстоятельство, что греческое искусство достигает своей вершины в пластике, которой не хватает как раз взгляда. Глубокая основа этого, однако же, заключена в том, что греки не постигали в глубочайшем смысле понятия духа, а потому они также не постигали в глубочайшем смысле чувственность и временность. Как велика здесь противоположность с христианством, где Бог изобразительно представлен именно как око!
В Новом завете есть поэтическое описание мгновения. Павел говорит, что мир прейдет во мгновение ока, ?? ????? ????? ???? ???????. Тем самым он также выражает идею о том, что мгновение соизмеримо с вечностью, — именно потому, что мгновение гибели в то же самое мгновение выражает вечность. Позвольте мне наглядно пояснить, что я имею в виду, и простите, если для кого-то в этом образе будет нечто оскорбительное. В Копенгагене как-то жили два актера, которые сами едва ли полагали, что их представление могло иметь какое-то глубокое значение. Они выходили на сцену, становились друг напротив друга и начинали затем мимически представлять то или иное страстное столкновение. Когда мимическое действие уже шло полным ходом и глаза зрителей следили за развитием истории, ожидая того, что должно было произойти, актеры внезапно останавливались, как бы неподвижно окаменев в мгновенном мимическом выражении. Воздействие этого может быть в целом комичным, поскольку мгновение случайным образом становится соизмеримо с вечным. Воздействие пластического основано на том, что вечное выражение выражается как раз вечно; напротив, комическое состоит в том, что случайное выражение оказывается введенным в вечность.
"Во мгновение ока". — См. Первое посл. к Коринфянам, 15.52: "Вдруг, во мгновение oza, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся".
См.: Кьеркегор. Философские крохи (Samlede Vaerker. IV, 239).
У Платона "воспоминание" использовано как доказательство бессмертия души: ведь даже наше восприятие прекрасного в природе объяснимо, с его точки зрения, только благодаря знанию подобных всеобщих понятий из прежнего опыта (см.: Федон. 72 е и сл.).
Здесь следует снова вспомнить о категории, посредством которой я и поддерживаю все это; я имею в виду категорию "повторение", благодаря которой в вечность можно войти, двигаясь вперед.
Задача философа, по Платону, состоит в "умирании" для телесных наслаждений, для чувственности вообще, — только так можно надеяться приобщиться к вечности. — См.: Федон. 64 а и сл.
Лат.: "разделение", "граница".
Посл. к Галатам, 4.4: "Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены..."
В набросках к "Понятию страха" Кьеркегор пишет: "Индивид чувственно определен, и в качестве такового он также определен временем во времени; но он ведь также и дух, то есть он должен стать духом, и в качестве такового — вечным. Каждый раз, когда вечное касается временного, тут появляется будущее, ибо, как уже было сказано, оно есть первое выражение вечного. Точно так же как прежде дух — поскольку он устанавливался в синтезе, или, скорее, поскольку он должен был устанавливаться там, — появлялся как возможность свободы, выраженная в страхе индивида, так и будущее является теперь возможностью вечного и выражается в индивиде как страх" (Papirer. 5. В 55:9).
В набросках к "Понятию страха" в связи с этим говорится: "Если найти новое выражение для того, что уже было сказано, страх — это действительно discrimen (иное выражение) субъективности. Поэтому совершенно ясно, что этому соответствует "будущее" и "возможность" (Papirer. У. В 55:10).
Из определения временности как греховности, в свою очередь, следует смерть в качестве наказания. Смерть есть некое продвижение вперед чью аналогию, si placet, можно найти в том, что даже в связи с внешними проявлениями смерть возвещает о себе тем ужаснее, чем совершеннее органическое строение живого существа. В то время как смерть и увядание растения распространяют аромат, который почти что прекраснее его обычного бальзамического запаха, гибель животного, напротив, отравляет воздух. В некотором глубоком смысле справедливо, что, чем выше в своей ценности стоит человек, тем ужаснее смерть. Зверь, собственно, не умирает; но там, где дух полагается как дух, смерть проявляется аж нечто ужасное. Потому страх смерти соответствует страху рождения, хотя мне и не хочется повторять здесь то, что было сказано — частью истинно, частью остроумно, частью вдохновенно, частью же просто легкомысленно: что смерть есть метаморфоза. В мгновение смерти человек находится на крайней точке синтеза; дух как бы не может присутствовать здесь; он, конечно, не может умереть, но ему приходится ждать, поскольку телу нужно умереть. Языческое представление о смерти — именно потому, что их чувственность была наивнее, а их временность — беззаботнее, — было мягче и дружелюбнее, однако ему не хватало высшего. Когда читаешь прекрасное эссе Лессинга "Как древние представляли себе смерть", нельзя отрицать, что оказываешься тронутым приятной тоской при виде этого спящего гения, или при созерцании той прекрасной торжественности, с какой гений смерти склоняет голову и гасит свой факел. Есть нечто, если угодно, неописуемо убедительное и привлекательное в том, чтобы довериться такому проводнику, утешающему как воспоминание, в котором нет мышления. Однако, с другой стороны, есть нечто мрачное в том, чтобы следовать за этим немым проводником, ибо он ничего не скрывает, его образ — это не инкогнито; между тем он здесь, он и есть смерть, а с нею все оказывается позади.
Есть необъяснимая тоска во всем, когда видишь этого гения дружелюбно склонившимся над умирающим и гасящим своим поцелуем последнее дыхание последней искры жизни, между тем как все, что было пережито, уже исчезает одно за другим, а смерть остается здесь как тайна, которая, будучи сама необъяснимой, объясняет все; она объясняет, что вся жизнь была игрой, которая кончается тем, что все — великие и ничтожные — уходят отсюда, как школьники по домам, исчезают, как искры от горящей бумаги, последней же, подобно строгому учителю, уходит сама душа. И потому во всем этом заложена также немота уничтожения, поскольку все было лишь детской игрой, и теперь игра закончилась.
Лат.: "если угодно".
См. эссе Г.-Э. Лессинга "Как древние представляли себе смерть" (Lessing Gotthold Ephraim. Sammtliche Schriften. Berlin, 1825. III. К. 75 — 159).
См. также эссе Кьеркегора "По эту сторону могилы" в "Трех речах по воображаемым случаям" (Samlede Vaerker. V. S. 226 ff.
Известная датская присказка: когда огонь догорал, зрители говорили, глядя на последние искры: "Вот уходят школьники", после последней же искры они восклицали: "А вот ушел и учитель".
Изложенное выше могло быть представлено и в первой главе, однако я предпочел развивать эти идеи здесь, поскольку они непосредственно ведут к тому, что за ними следует.
Посл. к Ефесянам, 4.19: "Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью".
Кьеркегор имеет в виду Сократа и Гаманна. См. также эпиграф к "Понятию страха".
См. также: Первое посл. к Коринфянам, 2.4: "И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы..."
См.: Матф., 5.13; Лука, 14.14. Интересно, что буквальный перевод греческого ??????? в этой цитате как раз означает "тупой", "оцепеневший".
Гегель неоднократно говорит о фатуме как о чем-то тождественном необходимости. См., например: Философия истории. Часть 2. Раздел 2. Глава 2; Философия религии. II. Приложение. Доказательство существования Божия, номер 16; Энциклопедия философских наук. Часть 1. Логика. § 147. Дополнение.
См.: Первое посл. к Коринфянам, 8.4.
Гегель определяет это так: "Под гением нам следует понимать особую природу человека, который в каждой ситуации и в любых обстоятельствах сам определяет свои действия и свою судьбу". — Энциклопедия философских наук. Часть 3. Философия духа. § 405. Дополнение 3.
В гегелевской терминологии нечто "в-себе" — это то, что не зависит ни от чего другого; для Канта "вещь-в-себе" означает объект, существующий независимо от форм человеческого восприятия. Применительно к гению эта категория означает, что он обладает своими целями и законами внутри себя.
14 июня 1800 года Наполеон разбил австрийцев в битве при Маренго, 2 декабря 1805 года он разбил австрийцев и русских у Аустерлица. Говорят, что, когда 7 сентября 1812 года солнце встало над Москвой, Наполеон воскликнул: "Где же солнце Аустерлица?"
См.: Плутарх. Цезарь. 38.
Известно, что Талейран родился в знатной семье, но из-за хромоты был предназначен к церковной карьере; однако он не захотел покориться судьбе и сделал блестящую светскую карьеру. По мнению Кьеркегора, хромота Талейрана могла быть знаком свыше, и, отрешись тот от временного, обернись он к самому себе и божественному началу, — мог бы появиться религиозный гений. Считается также, что, рассказывая историю Талейрана, Кьеркегор подразумевает и собственную судьбу.
Важно иметь в виду, что Кьеркегор вовсе не считал, что в религиозной сфере возможно появление такого гения, как, скажем, в литературе или математике. Говоря "религиозный гений", он не подразумевает некоего виртуоза в религиозной сфере, но того, кто соединяет в себе гения и религиозного человека. См. статью Кьеркегора "Различие между гением и апостолом" (Samlede Vaerker. Xl. 95 — 109).
"Карпократианцы" — гностическая секта 2 века. По их мнению, человек, прежде чем он достигнет совершенства, должен вкусить от всякого опыта, даже самого прискорбного и ужасного. Нечто подобное Кьеркегор усматривает и в учении Гегеля, где зло есть неизбежное связующее звено на пути к добру. Будучи еще студентом теологии, Кьеркегор записал в дневнике: "Разве не правильно поступать так, как члены той древней секты... — пройти через все пороки просто для того, чтобы обрести жизненный опыт" (Papirеr. 1. А 282, запись 1836 года).
Повторение жертвоприношения в Ветхом завете оказывается для Кьеркегора указанием на его несовершенство, равно как и свидетельством того, что "настоящее отношение греха еще не положено". См.: Посл. к Евреям, 9.24 — 28: "Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище... но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Бойкие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею..." Эти стихи Евангелия Лютер противопоставлял католической концепции жертвоприношения во время мессы.
Для греков вопрос о религиозном не мог быть поставлен таким образом.
См.: Протагор. 320 и сл.
См. также сходные идеи о монашеском движении, высказанные Кьеркегором в "Заключительном ненаучном послесловии" (7. 351 — 354).
См.: Матф., 25.21: "Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю"; Лука, 17.33: "Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее".
Считается, что Талейран сказал испанскому посланнику Искьердо: "Речь была дана человеку, чтобы скрывать свои мыслю". Эдвард Янг пишет в своей поэме "любовь к славе" (1.207 — 208): "Где естественные цели языка пришли в упадок/И люди говорят только, чтобы скрыть мысли". Кьеркегор ссылается на них также в дневниковой записи 1844 года (Papirer. 5. А 19).
Между тем не следует забывать о том, что аналогия здесь неправомерна в том отношении, что, рассматривая последующего индивида, мы имеем дело не с невинностью, но с подавленным сознанием греха.
Проблема "что такое добро" — это проблема которая все ближе подходит к нашему времени, поскольку она имеет решающее значение для вопроса об отношениях между церковью, государством и нравственностью. Однако при ответе на нее следует проявлять осмотрительность. До сих пор истинное удивительным образом имело преимущество, так как эта троица "прекрасного", "доброго" и "истинного" оказывается понятой и представленной в сфере истинного (в познании). Добро вообще не может быть определено. Добро есть свобода. Только для свободы и в свободе существует различие между добром и злом, а такое различие никогда не бывает in abstracto, но только in concreto. Потому человек, не обладающий достаточным опытом, может поистине прийти в замешательство, когда Сократ мгновенно возвращает то, что казалось бесконечно абстрактным, то есть добро, назад к наиболее конкретному. Эта сократическая процедура была совершенно правильной; он ошибался только в том (с точки зрения греков, он поступал правильно), что он постигал добро с некоторой внешней стороны (как полезное, телеологическое в конечном смысле). Различие между добром и злом действительно существует для свободы, но не in abstracto. Такое недоразумение возникает потому, что человек превращает свободу в нечто совсем иное — в объект мышления. Однако свобода никогда не бывает in abstracto. Если только человек дает свободе хоть мгновение, чтобы выбрать между добром и злом, мгновение, когда свобода не находится ни в одном из них, тогда в это мгновение свобода уже больше не свобода, но бессмысленная рефлексия. В чем тогда польза от этого эксперимента, он только все запутывает. Если (sit venia verbo) свобода остается в добре, она вообще ничего не знает о зле. В этом смысле можно сказать о Боге (если кто-то не поймет этого, тут нет моей вины), что он ничего не знает о зле. Я никоим образом не хочу сказать этим, что зло — это просто нечто негативное, das Aufzuhebende; напротив, то, что Бог о нем ничего не знает, что Он ничего не может и не хочет знать о нем, и есть абсолютное наказание для зла. В этом смысле предлог ??? используется в Новом завете для обозначения удаленности от Бога, от божественного, если я могу так сказать, игнорирования зла.
Если постигать Бога конечным образом, тогда для зла конечно же очень удобно то, что Бог его игнорирует, но поскольку Бог — это бесконечное, его игнорирование есть прямо-таки уничтожение живой плоти; так что зло не способно обходиться без Бога даже просто для того, чтобы быть злом. Приведу пример из Писания (II посл. к Фессалоникийцам, 1.9), где говорится о тех, кто не знает Бога и не повинуется Писанию: ??????? ????? ???????? ??????? ???????, ??? ???????? ??? ??????, ??? ??? ??? ????? ??? ?????? ?????.
Лат.: "абстрактно".
Лат.: "извините за слово".
Нем.: "то, что должно быть снято".
Греч.: "от", "прочь".
"Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его" (греч.).
"Свободное суждение" (лат.). В набросках к этой части Кьеркегор пишет: "Liberum arbitrium, которое мотет с равным успехом выбрать добро или зло, является в основе своей искажением понятия свободной воли и выражает неспособность дать ей какое-либо объяснение. Свобода означает быть в состоянии. Добро и зло не существуют нигде, помимо свободы, поскольку само их различение возникает только посредством свободы" (Papirer. 5. В 56:2). Отсылка к Лейбницу подразумевает "Теодицею", § 319 — 320. См. также примеч.
Букв.: "ленивое рассуждение" (греч.), все другие термины образуют синонимическую цепь. Обозначают они фаталистический взгляд, согласно которому следствия полностью зависят от судьбы, и на них совершенно не влияет, что именно делает человек. См., например: Лейбниц. Теодицея. § 55.
В соответствии с формой исследования, я могу указать на отдельное состояние лишь весьма коротко, почти алгебраически. Настоящему описанию здесь не место.
Это сказано с этической точки зрения; ибо этика не смотрит на состояние, она видит лишь, как это состояние в то же самое мгновение является новым грехом.
См.: Шеллинг Ф.-В. Система трансцендентального идеализма, 4, A, Второй тезис, где Шеллинг утверждает, что лишь некоторые люди, "гении действия", способны свободно и достойно действовать вне рамок закона. Для Кьеркегора, конечно же, такое смешение эстетического и этического подходов к индивиду — вещь совершенно невозможная.
Шекспир. Король Лир. IV.6: "0 ты, погибший шедевр природы" (Кьеркегор цитирует немецкий перевод А. Шлегеля и Л. Тика. Берлин, 1839 — 1840).
О двух видах "искушения" см. подробнее в "Страхе и трепете". Фундаментальное различие между ними ясно представлено в дневниковых записях Кьеркегора: "Здесь мы видим отличие в том, как следует бороться с искушением (Fristelse) и духовным испытанием (Anf(R)gtelse): в случае искушения правильным будет противиться ему избеганием. В случае же духовного испытания через него следует пройти. Искушения следует избегать; постарайтесь не видеть и не слышать то, что вас искушает. Если же это духовное испытание, идите ему навстречу, надеясь на Бога и Христа" (Papirer. Х. А 637, запись 1849 года). Оба термина зачастую переводятся как "искушение".
Собственно, это не совсем точно. Иоганн Готлиб Фихте полагал, что человеку не следует предаваться чрезмерному, ненатуральному раскаянию, поскольку оно обычно сводится к увлекательной и болезненной по своей сути саморефлексии; по его мнению, человеку следует скорее уж идти дальше, доверяясь божественной природе, заложенной в нем самом. — См.: Fichte J. G. Nachgelassene Werke. Bonn, 1835. III. S. 349.
См.: Lavater Johann Caspar. Physiognomische Fragmente. 1 — IV. Leipzig, 1775 — 1778.
Тот, кто не настолько развит этически, чтобы ощутить утешение и облегчение, когда в минуты его наибольшего страдания кто-нибудь нашел бы в себе мужество сказать ему: "Это не судьба, это вина", ощутить утешение и облегчение, если бы эти слова были сказаны ему прямо и серьезно, тот развит этически не а в таком уж высоком смысле; ибо этическая индивидуальность ничего не боится больше, чем судьбы и эстетических головоломок, которые под покровом сочувствия могут обманом выманить у нее сокровище — ее свободу.
Опираясь на текст Писания: "Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой" (Лука, 14.23), Августин требовал в Карфагене, чтобы против еретиков-донатистов применили силу — в качестве долга братской любви, чтобы привести их к истинной вере (см.: Contra Candentium, 1, 28). О "наказании" еретиков говорил Тертуллиан (Scorpiace, П).
См.: Платон. Горгий. 479 а.
Видимо, в рассказе "Двойник", хотя с точностью установить это невозможно.
В подготовительных материалах к "Виновен?/Не виновен?" из "Стадий на жизненном пути" ("Stadier paa Livets Vei") Кьеркегор пишет: "Все мы наделены некоторой психологической проницательностыю, некоторой наблюдательностью, но когда эта наука или искусство проявляется в своей бесконечности, когда она оставляет незначительные уличные происшествия и домашние случаи, чтобы преследовать свою излюбленную дичь — закрытого человека, — тогда всем это быстро надоедает" (Papirer. У. В 147).
Кьеркогор подразумевает здесь шекспировских персонажей.
Букв.: "сообщающееся" (лат.), однако термин этот применяется также для обозначая принятия Святых Даров во время причастия.
Уже было сказано, но я могу повторить это еще раз: демоническое имеет гораздо больший охват, чем обыкновенно думают. В предыдущем параграфе были указаны образования, развивающиеся в ином направлении; здесь же приводится вторая серия таких образований, и тот способ, каким она у меня представлена, позволяет провести различение через всю последовательность. Если кто-то может предложить лучшее подразделение, пусть он это сделает; однако в этой области нелишним будет проявлять некоторую осмотрительность, ибо в противном случае все тотчас же смешивается.
"Что у меня общего с тобою" (греч.). См. также: Марк, 5.17.
Умение применять собственные категории — это conditio sine qua non чтобы наблюдение имело какой-то более глубокий смысл. Когда явление в некоторой степени присутствует, большинство людей обращают на него внимание, но не могут его объяснить, поскольку им недостает подходящей категории; если же у них есть такая категория, значит, у них есть и ключ, который подходит ко всему, где есть хоть след данного явления; ибо явление, подведенное под категорию, повинуется ей так же, как духи кольца повинуются этому кольцу.
Лат.: "необходимое условие".
Я специально употребил здесь слово "раскрытие"; я вполне мог бы назвать добро и "прозрачностью". Но если бы я боялся, что кто-нибудь может неправильно понять само слово "раскрытие" и развитие его отношения к демоническому, решив, будто речь здесь идет о чем-то внешнем, о некой ощутимо раскрытой исповеди, которая конечно же, будучи чем-то внешним, ничему не может помочь, если бы я боялся этого, я, разумеется, выбрал бы другое слово.
Нетрудно заметить, что закрытость ео ipso означает ложь, или, если угодно, неправду. Однако неправда — это как раз несвобода, которая страшится раскрытия. Поэтому дьявола называют также Отцом лжи. Я конечно же всегда был готов признать, что существует большая разница между ложью и неправдой, между ложью и ложью, между неправдой и неправдой, однако категория все равно остается одной и той же.
См.: Иоанн, 8.44: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи".
Кьеркеор цитирует немецкий перевод "Гамлета" (1.2): "Всему (дайте)понимание, но не язык".
Автор "Или — или" обратил внимание на то, что Дон Жуан по сути своей музыкален. Именно в том же самом смысле дня Мефистофеля справедливо, что он по сути своей мимичен. С мимическим все произошло так же, как с музыкальным: обычно полагали, будто все, что угодно, может стать мимическим и все, что угодно, — музыкальным. Существует балет под названием "Фауст". Если бы композитор действительно понял, что заложено в таком мимическом постижении Мефистофеля, ему никогда не пришло бы в голову превратить "Фауста" в балет.
Кьеркегор имеет в виду балет, поставленный в Копенгагене Антуаном Огюстом Бурнонвиллем, — балет, в котором сам Бурнонвилль танцевал Мефистофеля. Премьера балета прошла в 1832 году.
Именно поэтому представление маленького Винслева, сыгравшего Клистера в пьесе Хайберга "Неразлучные", было столь глубоко: он правильно понял скучное как комическое. То, что влюбленный, как раз когда он истинно влюблен, имеет во внутренне непрерывном такой образ, который является чем-то прямо противоположным, бесконечной пустотой, — и вовсе не потому, что Клистер дурной человек, не потому, что он неверен, ибо он ведь, скорее всего, действительно влюблен, но потому, что тут он снова оказывается лишним добровольцем, совсем так же, как это было на таможне, — все это производит сильное комическое впечатление, особенно если акцент делается на скучном. Положение Клистера на таможне получает комический аспект несправедливо — ведь, Боже мой, ну что может Клистер поделать, если продвижения по службе нет, — однако по отношению к собственной влюбленности он ведь был сам себе хозяин.
Водевиль шел в Копенгагене с 1827 по 1834 год.
Карл Михаэль Беллман (XVII в.) — шведский литератор, известный своими описаниями народной жизни.
См. книгу Кьеркегора "Понятие иронии" (Samlede Vaerker. 13).
Это следует постоянно иметь в виду, несмотря на все иллюзорные представления о демоническом или речевую практику, когда для описания этого состояния прибегают к таким выражениям, что появляется искушение забыть о том, что несвобода есть проявление свободы и потому не может быть объяснена с помощью категорий естественной науки. Даже когда несвобода в самых сильных выражениях утверждает, что она сама не желает чего-то, это неправда: в ней постоянно есть воля, которая сильнее всякого желания. Само состояние может быть крайне обманчивым, ведь можно довести человека до отчаяния, просто сдерживаясь и удерживая эту категорию чистой вопреки всей его софистике. Этого не следует бояться, однако не следует и пускаться в юношеские эксперимен-ты в подобных областях.
В предварительных набросках к "Понятию страха" Кьеркегор вместо соматически-психической и пневматической потери свободы говорит о свободе, утраченной животно, интеллектуально и религиозно (см.: Papirer. 5. В 72:24).
Термин "корпоризация" встречается у Шеллинга в работе "Философские исследования о сущности человеческой свободы" ("Philosophische Untersuchungen Gber das Wesen der Menschlichen Freiheit"), 1809 год.
Паран-Дюшатле был автором книги "О проституции в городе Париже". Точнее определить отсылку не представлялось возможным.
В Новом завете встречается выражение ????? ???????????? (Посл. Иакова, 3.15). Если судить по тому, как она описана в этом месте, категория не становится особенно яснее. Однако если принять во внимание слова ??? ?? ???????? ?????????? ??? ????????? (Посл. Иакова. 2. 19), становится ясно, что в демонической мудрости человек как раз вступает в несвободное отношение к данному знанию.
"Бесовская мудрость" (греч.). — Посл. Иакова, 3.15: "Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская".
"И бесы веруют и трепещут" (греч.). — Посл. Иакова, 2.19: "Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут".
См.: Иоанн, 8.32: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными".
Кьеркегор подразумевает здесь, конечно, Гегеля. См.: Энциклопедия философских наук. Часть 1. Логика. § 35.
См.: Fichte 1. O. Uber den Begriff der Wissenschaftslehre.
В числе мыслителей нового времени, выдвинувших аргументы против фейербаховского скепсиса относительно бессмертия души, были Карл-Фридрих Гешель (К. F. Goschel) и в Дании — наставник Кьеркегора Поуль Мартин Меллер. Кьеркегор пишет об этом в своем Дневнике (Papirer. 2. А 17, запись от 4 февраля 1837 года).
Кьеркегор подразумевает, видимо, Бруно Бауэра с его критикой синоптических повествований Нового завета.
Впрочем, в религиозной сфере демоническое может обладать обманчивым сходством с искушением. А с чем именно мы имеем дело, нельзя решить in abstracto.
Скажем, благочестивый верующий христианин может впасть в страх, если, например, ему страшно идти к причастию. Это искушение, точнее, то, является ли это искушением, будет ясно из его отношения к этому страху. Напротив, демоническая натура вполне может зайти так же далеко, его религиозное сознание может стать столь конкретным, что внутренний смысл, которого он страшится и от которого намеревается бежать в своем страхе, становится чисто личным пониманием сакрального понимания. Однако он готов идти только до определенной точки, затем он прекращает движение и собирается оставаться всего лишь познающим; он хочет тем или иным способом стать чем-то большим, чем эмпирическая, исторически определенная, конечная индивидуальность. Ведь тот, кто просто пребывает в искушении, стремится выйти к чему-то, от чего его пытается отторгнуть это искушение, между тем как демонический человек сам, соответственно своей более сильной воле (воле несвободы), желает бежать прочь, тогда как более. слабая воля в нем хотела бы продолжать. Вот этого различия и нужно держаться; ибо в противном случае демоническое понимается столь абстрактно, что ничего подобного никогда и не могло быть, как будто воля несвободы укреплялась здесь как таковая, а воля свободы не присутствовала снова и снова, пусть даже в самой слабой форме и во внутреннем противоречии. Если кто-нибудь захочет познакомиться с материалами, связанными с религиозными искушениями, их можно в изобилии найти в книге Герреса "Мистика". Сам я должен честно признаться, что мне никогда не хватало мужества основательно и целиком проштудировать эту книгу: такой в ней ощущается страх.
Во всяком случае, я заметил, что он не всегда умеет различать между демоничес ким и искушением; потому этим произведением следует пользоваться с осторожностью.
См.: Gorres Joseph von. Die christliche Mystik. 1 — IV. Redensburg, 1836 — 1842.
В своем трактате "De affectionibus" Декарт обращает внимание на то, что одна страсть всегда соответствует какой-то другой этого не происходит только с восхищением. В деталях изложение довольно слабо, однако меня заинтересовало, что он делает исключение именно для восхищения, поскольку, как известно, согласно взглядам как Платона, так и Аристотеля оно представляет собой страсть философии, причем такую страсть, с которой начинается философия. Впрочем, восхищению соответствует зависть, новейшая же философия наверняка упомянула бы еще сомнение. Между тем в этом-то и заложен основной порок новейшей философии: она стремится начинать с отрицательного, вместо того чтобы начинать с положительного, которое ведь всегда является первым совершенно в том же смысле в каком attirmatio ставится первым в тезисе "omnis affirmatio est negatio".
Вопрос о том, что идет первым — положительное или отрицательное, — крайне важен, и единственный новейший философ, который высказался за положительное, это, вероятно, Гербарт.
Трактат Декарта "О страстях, или аффектах души" — Descartes. Tractatus de Rassionibus Annimae; Passiones, sive Affectus Animae; Amsterdam, 1685.
Лат.: "утверждение".
Лат.: "всякое утверждение есть отрицание (иного)".
В своей "Всеобщей метафизике" Иоганн Гербарт утверждает, что объективная реальность и бытие независимы от воспринимающего субъекта, и потому не подвержены отрицанию. См.: Herbart J. F. Allgemeine Metaphysik. I — II. Konigsberg, 1828 — 1829.
Кьеркегор цитирует немецкий перевод Макбета:
Отныне нет больше ничего серьезного в жизни,
Все суета, погибли честь и слава!
Вино жизни разлито.
См.: Rosenkranz Karl. Psychologie oder die Wissenschaft vom subjektiven Geist. Konigsberg, 1837. Перевод цитаты: "...что чувство разворачивается в самосознание, и наоборот, что содержание самосознания ощущается субъектом как нечто собственное. И только такое единство можно назвать "настроением". Если же недостает ясности сознания, знания чувства, существует лишь порыв природного духа, оцепенение непосредственного. С другой стороны, если недостает чувства остается только абстрактное понятие, которое не достигло последней внутренней сути духовного существования, которое не стало одним с собственным "я" духа" (нем.).
"Непосредственное единство своей душевности и своего сознания" (нем.).
Мне всегда доставляет радость предполагать, что читатель уже успел прочитать столько же, сколько и я. Такое предположение способствует экономии усилий как того, кто читает, так и того, кто пишет. Потому я заранее полагаю, что читатель знаком с этой работой; если же это не так, мне хотелось бы посоветовать познакомиться с ней, ибо это действительно полезная книга, и если бы автор, который во всем остальном отличается здравым смыслом и гуманным интересом к человеческой жизни, смог к тому же отказаться от своей фанатической веры в пустую схему, он избежал бы того, чтобы время от времени казаться смешным. Но то, что он говорит в этом параграфе, по большей части весьма неплохо; единственное, что временами невозможно бывает понять, — это грандиозная схема, равно как и то, каким образом совершенно конкретное изложение может ей соответствовать. (В качестве примера я приведу с. 209 — 211. "Das Selbst — und das Selbst. I der Tod. 2 der Gegensatz von Herrschaft und Knechtschaft".)
"Я" — и "Я": 1. Смерть; 2. Противоположность господства и рабства (нем.).
Именно в этом смысле Константин Констанциус (в "Повторении") говорил: "Повторение — это серьезность наличного существования" (С. 6), поясняя, что серьезность жизни вовсе не состоит в том, чтобы быть королевским объездчиком, пусть даже последний всякий раз садится на свою лошадь со всей возможной серьезностью.
См.: Samlede Vaerker. III. 175.
См.: Marbach. Geschichte der Philosophie. 2. Teil. S. 302, примеч.: "Albertus repente ех asino factus philosophus et ех philosopho asinus", Tennemann. Bd. 8, 2. Теi1. S. 485, примечание. Есть и более определенное сообщение о другом схоластике, Симоне Торнаценсии, который полагал, что Бог должен быть ему благодарен за то, что он доказал его троичность, поскольку если б он только захотел — "profecto si malignando et adversando vellem, fortioribus argumentis scirem illat infirmare et deprimendo improbare". В качестве награды за все свои труды добрый человек был превращен в глупца, которому понадобилось два года, чтобы выучить алфавит. См.: Tennemann. Geschichte der Philosophie. Bd. 8. Независимо от того, действительно ли он это сказал и говорил ли он другие вещи, которые ему приписывают (например знаменитое богохульство средних веков о трех великих обманщиках), если ему чего-то недоставало, то уж, конечно, не суровой серьезности в диалектике или спекулятивном мышлении, но серьезности для того, чтобы понять самого себя. Можно найти немало аналогий этой истории, а в наше время спекулятивная философия обрела такую силу, что она едва ли не попыталась сделать Бога неуверенным в самом себе подобно монарху который в страхе сидит и ждет: превратит ли его государственное собрание в абсолютного или только в ограниченного правителя.
"Альберта внезапно превратили из осла в философа и из философа — в осла" (нем.).
"Если из хитрости и злобы я пожелал бы сделать это, я мог бы ослабить этот (тезис) более сильными аргументами, и опровергнуть его, сведя к ничтожной малости" (лат.).
Несомненно, что именно в этом смысле Константин Констанциус сказал о вечном, что оно есть истинное повторение.
См.: Samlede Vaerker. III. 254.
Кьеркегор подразумевает здесь Фихте, в философии которого все выводится из "я", включающего в себя аспект Абсолюта.
См.: M?ller Poul М. Efterladte Skrifter. II. K?benhavn, 1842.
См.: Матф., 12.36: "Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда".
"Сказка о том, кто решил узнать, что такое страх" — Детские и домаш ние сказки братьев Гримм. 1. номер 4.
См.: Матф., 26.37; Марк, 14.33, 34; Иоанн, 12.27, 13.27.
См.: Марк, 15.34.
Кьеркегор, по-видимому, спутал две работы немецкого художника и гpaвера Даниэля Ходовецкого: "Прощание Каласа" и "Сдачу Кале".
Букв.: Heksebrev ("ведьмино письмо") — набор картинок из частей людей и животных; если их вывернуть и сложить по-новому, картинки перетасовываются и дают новый образ. Та же метафора используется Кьеркегором и в "Или — или".
См.: Платон. Кратил. 428 d.
См.: Лука, 10.30. Но человек путешествует здесь из Иерусалима в Иерихон.
Поэтому Гаманн употребляет слово "ипохондрия" в более высоком смысле, когда он говорит: "Diese Angst in der Welt ist aber der einzige Beweis unserer Heterogeneitat. Denn fehlte uns nichts, so wurden wir es nicht besser machen, als die Heiden und Transcendental-Philosophen, die von Gott nichts wissen und in die liebe Natur sich wie die Narren vergaffen; kein Heimweh wurde uns anwandein. Diese impertinente Unruhe, diese lieilige Hypochondrie ist vielleicht das Feuer. womit wir Opfertiere gesalzen und vor der Faulnis des lanfenden secudi bewahrt werden mussen" (Bd. 6. S. 194).
Cм. "Или — или".
Cм. "Пир" Ксенофона, где Сократ использует это слово применительно к самому себе.
Кьеркегор пишет в Дневнике: "В шестом томе, на сто девяносто четвертой странице своих сочинений (указанное берлинское издание) Гамани делает замечание, которое может мне пригодиться, хотя он сам не понял его так, кы мне хотелось бы его понять, — да и не думал более об этом" (Papirer. III. А 235, запись 1842 года). Далее приведена та же цитата, что и в "Понятии страха": "Однако этот страх в мире есть единственное доказательство нашей гетерогенности. Не нуждайся мы ни в чем — мы были бы ничем не лучше язычников и трансдендентальных философов, которым ничего не известно о Боге и которые как глупцы влюбляются в прекрасную природу, — и тогда мы не испытывали бы никакой тоски по родине. Это дерзкое беспокойство, это священная ипохондрия, возможно, и есть тот огонь, на котором мы готовим жертвенных животных и уберегаемся от гнили нынешнего seculi (века)".
"Тот, кто сам по себе занимается философией" (греч.).
"Тот, кто заботится о вещах Божиих" (греч.). Можно вспомнить, что в Первом послании к Фессалоникийцам (4.9) Павел говорит: "О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга", используя словj, то есть "ученики Божьи".
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
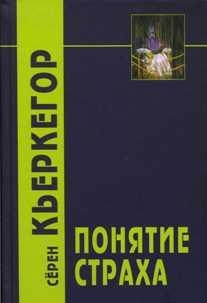


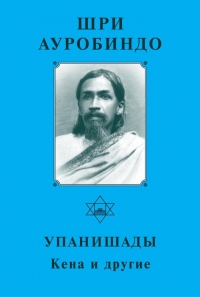
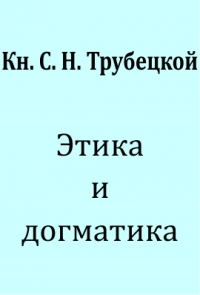






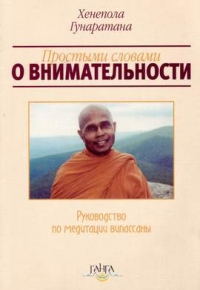
Комментарии к книге «Понятие страха», Серен Кьеркегор
Всего 0 комментариев