Владислав Альбинович Маевский Афон и его судьба
В.А. Маевский и его книга
Имя Владислава (Владимира) Альбиновича Маевского (1893–1975) почти неизвестно на родине. Такова обычная судьба многих представителей русской интеллигенции, начинавших свою деятельность в разгар Первой мировой войны. На чужбине, в эмиграции, ему удалось опубликовать более тридцати пяти книг[1], причем диапазон интересов этого писателя, историка, литературного критика и даже поэта чрезвычайно широк.
Биографические данные о нем очень скудны[2]. В. А. Маевский родился на Украине, в Кременчуге, и принадлежал к древнему польскому роду Маевских. В 17 лет, преисполненный «отваги и самоуверенности», он хотел поступить в Михайловское артиллерийское училище, но по пути в Петербург раздумал и вернулся обратно, не выдержав разлуки с домом. Он решает посвятить себя литературе – но от судьбы не уйдешь, и как большинству его ровесников Владиславу предстоит провести под ружьем немало лет.
Первые печатные опыты двадцатилетний юноша посвятил описанию своего знакомства с Балканами, которое произошло во время Балканской войны 1912–1913 гг., где Владислав Альбинович воевал добровольцем. Первая его книга «Путевые наброски» (СПб., 1913) – это результат поездок по Турции, Сербии, Черногории и Далмации. Уже в ней Маевский заявил о себе как о поборнике славянского единства, основанного на православии. И этой идее В. Маевский остался верен всю жизнь. На Балканах, в Югославии, пройдет затем первая половина его жизни в эмиграции, и он на деле послужит укреплению сербско-русского братства.
С первых шагов литературной деятельности Маевский показал себя разносторонним писателем. Так, 1913 г. в Харькове увидела свет небольшая книжка Маевского на специальную тему: «Значение статистики». В дальнейшем Владислав Альбинович будет затрагивать самые различные темы: напишет исследования о И. С. Шмелеве, А. С. Пушкине, П. А. Столыпине, известных церковных публицистах Скворцове и Тихомирове и даже о Льве Толстом. Много трудов автор посвятил духовной жизни Югославии, писал художественные произведения и воспоминания о своей военной юности, об эмиграции и уделял внимание проблемам крестьянского хозяйства, но главным предметом его литературного творчества стала Святая Гора Афон.
В начале Первой мировой войны Владислав Альбинович издал в Москве сборник статей «Великая Россия и героическая Сербия». Желая делом следовать своей идее, он отправился на фронт добровольцем, служил в лейб-гвардии саперном полку и получил звание штабс-капитана. Революция застала Маевского на фронте, и скоро он оказался в рядах Добровольческой армии на юге страны. В 1919 г. он командовал взводом гвардейского конно-подрывного полуэскадрона, состоявшего в основном из юнкеров, затем служил в отдельной гвардейской инженерной роте. О Гражданской войне Маевский впоследствии расскажет в книге «Повстанцы Украины: 1918–1919 гг.» (Белград, 1938).
Добровольцам приходилось сражаться не только с красными, но и с махновцами, петлюровцами и другими «освободителями» Украины. Полк Маевского брал Чигирин и родной Кременчуг, дрался под Киевом и Нежином. Писатель вел фронтовые записи, описывал боевые действия, впоследствии все эти материалы сложились в целый ряд произведений («Наброски с фронта» (Киев, 1918); «Гвардейские саперы» (Новый Сад, 1938); «В сиянии славы»). Предназначались эти книги русскому юношеству, понесшему основные тяготы Гражданской войны Гражданская война закончилась для Владислава Альбиновича, как и для многих его соотечественников: 25 января 1920 г. он отплыл из Одессы в Константинополь, там голодал и бедствовал вместе с такими же беженцами, как и он. Вот как написал об этом другой эмигрант, митрополит Вениамин (Федченков): «Со всех сторон, как мухи на падаль, окружили нас пароходики, шаланды, лодки, предлагая пищу, фрукты и даже пресную воду. Да… На многих судах уже не хватало ее, и люди были готовы напиться за золото. И, насколько помню, этой водой торговали преимущественно греки. Православные христиане, они – увы! – показали себя нисколько не менее корыстными, чем турки, даже, говоря откровенно, более. Печально это писать, но такова была правда истории». Позже эту печальную правду пришлось подтвердить самому Маевскому: «…Святая Гора Афон привлекла такое внимание греческого правительства не своей святостью и вековой славою, а своим богатством, созданным всеми православными народами… Захватив Афон, греки ввели туда большие полицейские отряды и издали строжайшее распоряжение об обязательном принятии всеми насельниками греческого подданства… Турки – враги всего, что противно исламу, – хранили в душе своей пиетет к православной вере и ее святыням, которого очень мало у греков-христиан. Турки следили только за порядком и безопасностью этого исключительного места и его великих насельников и гордились тем, что в их государстве находится величайшая православная святыня».
Скоро писатель оказался в эмиграции в Югославии и начал сотрудничать с русскими православными организациями, поступил на богословский факультет Белградского университета. Ему удалось устроиться библиотекарем в Сербскую Патриархию. Превосходное владение сербским языком обратило на Маевского внимание Сербского Патриарха Варнавы (Русича), воспитанника Санкт-Петербургской духовной академии. В апреле 1930 г. Маевский стал его личным секретарем. Тогда же началась активная научная и литературная деятельность писателя. Работа личным секретарем Патриарха открыла перед Маевским новые возможности. Он предпринял четыре паломничества на Святую Гору, написал небольшую брошюру об Иверской иконе на Афоне[3] и первый очерк, посвященный Афону[4]. Тогда же он опубликовал работу о роли Крестовых походов на Православном Востоке[5]. В 1941 г. вышла еще одна книга Маевского об Афоне, посвященная сербскому монастырю Хиландар[6]. Тогда же написал он двухтомный труд о Сербском Патриархе Варнаве, большом друге России, выпустил под своей редакцией сборник «Русское Зарубежье – Патриарху Варнаве» и напечатал другие научно-литературные труды[7]. Впоследствии югославский период жизни стал материалом для фундаментального труда: «Русские в Югославии: взаимоотношения России и Сербии» (Нью-Йорк, 1960. Т. I; Нью-Йорк, 1966. Т. II). В этой книге он не только анализировал русско-сербские отношения в эмиграции, но и представил прекрасный материал по истории Русской Православной Церкви за границей.
После оккупации фашистами Югославии В. А. Маевский оказался на территории самопровозглашенного государства усташей – Хорватии. Был подвергнут аресту и выпущен под наблюдение полиции, но все равно продолжал принимать активное участие в жизни русской эмиграции на территории Югославии. Его литературно-общественная деятельность возобновилась почти десять лет спустя, когда отгремела Вторая мировая война и улеглись вызванные ею потрясения. После Второй мировой войны, после немецкого концлагеря он попал в Швейцарию, где возобновилась его дружба с И. С. Шмелевым, начавшаяся в Крыму в революционное лихолетье. Начался новый этап в общественной деятельности Маевского. Он пытается использовать эмигрантские круги для противодействия правительству Греции, проводящего политику вытеснения негреческого монашества с Афона, привлечь к решению этой проблемы международные организации и представителей Московского Патриархата.
Находясь в Швейцарии, Владислав Альбинович получил возможность восстановить связь с русским Афоном. И вот к нему стали приходить тревожные вести о вымирании, запустении и разрушении русских обителей. Писатель решил обратиться к собору Русской Церкви США, который открывался примерно в это время. 8 сентября 1946 г. он отправил пространный меморандум на имя председателя Предсоборной комиссии архиепископа Виталия. В этом документе он предложил интересное решение проблемы: «Большое религиозное движение среди десятков русских беженцев, группирующихся вокруг свободной Зарубежной Церкви, свидетельствует о том, что смену для афонского монашества найти очень легко, что она уже существует, необходимо лишь переправить ее на святую Гору». Одновременно он выступил со статьей «Промедление смерти подобно» в газете «Новое русское слово» от 20 октября 1946 г. Собор не смог уделить внимания афонской проблеме, так как на повестке дня неожиданно встал вопрос о соединении с Московским Патриархатом в рамках автономии.
Писатель был не в состоянии в одиночку преодолеть заслон греческих чиновников, надежно закрывший на Афон путь русскому человеку. Но он продолжал настойчиво призывать православных людей к решению этой проблемы, в том числе и своих собратьев по перу. Он писал письма, статьи, книги. В 1950 г. вышел в свет сборник «Афонские рассказы», остающийся и сегодня одной из лучших книг о Святой Горе. Жанр и структура сборника позволила автору включить в него материал всех своих посещений Афона в 30-е гг. XX в., благодаря чему возник единый высокохудожественный образ афонской жизни после Первой мировой войны – наиболее мрачного в жизни монашеской республики. Несмотря на достаточно мягкую и весьма уместную критику националистической политики греческого правительства, которое начиная с 1926 г. жестоко и цинично добивалось сокращения численности монашества на Афоне вообще, а негреческого монашества в особенности, с момента появления книги въезд на Святую Гору для Маевского был закрыт. Он знал, чем рискует, но на карте стоял тот Афон, сохранение которого стало целью его работы. Его голос был услышан. Выступили со специальными обращениями писатель Г. Д. Гребенщиков и адвокат И. М. Цап. Через шесть лет после начала борьбы за русский Афон группа православных христиан во главе с архиепископом Зарубежной Церкви Леонтием написала петицию в ООН. Только в июне 1963 г. писателю удалось еще раз посетить Святую Гору в составе официальной делегации Московской Патриархии, в качестве личного переводчика архиепископа Никодима (Ротова), когда весь европейский мир отмечал 1000-летие Афона. Такое представительное паломничество, каким стало празднование 1000-летия Афона, оказалось первым за весь почти сорокалетний период унижения, глумления и в итоге истребления афонского монашества светской властью православного греческого государства. То, что открылось высоким гостям, произвело на них сильное впечатление. Писатель стал свидетелем резких слов, с которыми Болгарский Патриарх Кирилл обратился к Патриарху Афинагору: «Господь взыщет с Вас, а история Вас осудит, если в Ваше Патриаршество угаснут славянские лампады на Святой Горе». Вселенский Патриарх Афинагор, в чьей юрисдикции находится Афон, вынужден был дать публичное обещание воздействовать на греческие власти с целью изменения ситуации. Но на деле она только ухудшилась. Старые монахи в 60-е гг. XX в. вымирали, пополнения не было или почти не было. Многие здания не только келий, но даже скитов и монастырей разрушались. Афон оставался закрытой для посторонних зоной, и он умирал. Поэтому появление в 1969 г. книги под названием «Афон и его судьба» преследовало цель не только рассказать о чуде, которым является Святая Гора и ее монашеские обители. Это было уже требование немедленно вмешаться, обращенное как к Православным Церквям Европы и Америки, так и к международным организациям, таким как ООН, да и просто ко всем цивилизованным людям. В новую книгу вошли прежние рассказы почти в полном составе, но автор сгруппировал их по трем главам в соответствии с хронологией своих посещений Святой Горы. Текст был немного сокращен и отредактирован, приобрел большую динамичность, но читался по-прежнему легко и увлекательно. Сверив состав сборника «Афонские рассказы» с новой книгой, мы обнаружили, что четыре текста были изъяты автором, очевидно в целях сокращения[8], а еще один очерк, «Нужды Афона», разросся в самостоятельный раздел, названный «Угашаемый светильник». Материалы его рассказывают о расправе православной Греции над своими братьями – негреческими монахами Афона.
Об отчаянном положении монахов Святой Горы, ставших, по сути, узниками греческой полиции полуострова, в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. начали говорить не только православные публицисты. В конце концов общественное мнение перестало закрывать глаза на происходящее. Появились вопросы к греческому правительству. Сербская, Русская и Болгарская Церкви так же настойчиво требовали соблюдения прав своих членов на Афонской Горе. Возвысили голос представители русских православных общин в Европе и Америке. Все это привело к постепенному (насколько возможно более медленному) смягчению позиции греческих властей по недопущению на Афон иноков негреческой национальности. Это был перелом. Появилась надежда сохранить Афон не только православным и монашеским, но и многонациональным. И в этом была заслуга прекрасной книги рыцаря Святой Горы – В. А. Маевского.
«Окончательно вопрос о общеправославном Афоне конечно может быть решен только тогда, когда Великая Россия вернется к прерванному своему историческому пути и призванию среди православного мира», – эти слова писателя можно назвать пророческими. Не наступает ли это время сегодня?
В конце 40-х гг. Маевский переехал в США, поступил на работу в Свято-Тихоновскую семинарию в г. Саут Канаан, штат Пенсильвания, где преподавал различные дисциплины, как богословские, так и исторические. Там начинается довольно тесно общение Владимира Альбиновича с сербским святителем Николаем (Велимировичем), и вскоре владыка присоединился к профессорско-преподавательскому составу семинарии. Маевский до конца своей жизни продолжал издавать как монографии, так и статьи в периодической печати русской эмиграции. Скончался он 16 января 1975 г., похоронен в Пенсильвании, на кладбище города Розлин. Книги Маевского ждут переиздания в России, где его имя становится все более известным и привлекательным. Оно действительно достойно своего места в отечественной словесности. Предлагаем вниманию читателей ряд очерков Владислава Маевского, описывающих путевые впечатления писателя от поездки на Афон, о памятных встречах с насельниками Святой Горы.
Книги В.А. Маевского
Путевые наброски (Турция, Сербия, Черногория, Далмация). СПб., 1913. Значение статистики. Харьков. 1913.
Великая Россия и героическая Сербия (сборник газетных статей). М., 1914. Распределение продуктов продовольствия. Киев, 1914. Вешние воды. Пг., 1914. Т. I.
Эволюция крестьянского хозяйства 1902–1912 гг. в Полтавской губернии. Киев, 1915.
Будущая Югославия. Киев, 1916.
Наброски с фронта. Киев, 1918.
Искры. Нови-Сад. 1931. Т. II.
Сербский патриарх Варнава и его время. Белград, 1932. Т. I–II.
Иверская Божья Матерь. Белград, 1932.
Революционер-монархист (Тихомиров). Нови-Сад, 1934.
Русское Зарубежье – Патриарху Варнаве / Сборник под ред. Вл. А. Маевского. Белград, 1935.
Крестовые походы и борьба на Востоке. Дрезден, 1935.
Народный Патриарх. Сремски Карловцы, 1936. Т. I–II.
Святая Гора. Сремски Карловцы, 1937.
Женщины. Белград, 1937.
Гвардейские саперы. Нови-Сад: Русская типография С. Ф. Филонова, 1938. (другое название: В сиянии славы. Государевы саперы).
Повстанцы Украины. Белград, 1938.
Неугасимый Светильник. Шанхай, 1940. Т. I–II.
Лавра Хилендар. Нови-Сад, 1941.
Афонские рассказы. Париж, 1950 (репринт: Коломна, 1993).
Трагедия богоискательства Льва Толстого. Буэнос-Айрес, 1952.
Внутренняя миссия и ее основоположник (В. М. Скворцов). Буэнос-Айрес, 1954.
Памяти Ивана Сергеевича Шмелева. Мюнхен, 1956.
По тропинкам прошлого. Буэнос-Айрес, 1957.
Христианство и социализм. Буэнос-Айрес, 1959.
Патриарх Варнава и конкордатная война. Б. м. (США), 1958.
Взаимоотношения России и Сербии. Буэнос-Айрес, 1960. Т. I.
Лесна, Хопово и Фуркэ. Сан-Паулу, 1962.
Борец за благо России (Столыпин. К 100-летию со дня рождения). Мадрид, 1962.
На грани двух эпох. Трагедия императорской России. Нью-Йорк, 1964.
Дореволюционная Россия и СССР. Мадрид, 1965.
Взаимоотношения России и Сербии. Т. II. Русские в Югославии (1920–1945). Нью-Йорк, 1966.
На ниве церковной. Мадрид, 1968.
Афон и его судьба. Мадрид, 1969.
Исторические очерки. Б. м. 1973.
Вступление
Полуостров, лежащий на юге Македонии и носящий название Халкидонский, вдается в Эгейское море тремя отдельными полуостровками, из коих самый восточный называется Афоном – Святой Горой. Несмотря на свыше тысячелетнее существование иноческих поселений на Афоне, и поныне сохранилось много девственных мест, дебрей и неприступных утесов. В физическом отношении Афон представляет удивительный уголок в целом мире. Почти вся поверхность горы, ее склоны и долины покрыты вековыми, высокими деревьями и мелким кустарником разной породы. Густолиственные кедры, прекрасные и разукрашенные вьющимися по их стволам и ветвям стеблями и цветами омелы, благоухающие певги и стройные кипарисы; крепкие буки и дубы, тенистые платаны и черные тополи, плакучие ивы и громадные каштаны; маслины, миртовые, миндальные, апельсиновые и лимонные деревья; вишни и виноград, розы, яблони и груши, – вот обычные представители афонской флоры. Прекрасный вид восполняется многочисленными источниками воды. А разнообразные представители пернатого царства непрерывно оглашают воздух пением и криками. И над всем господствует яркое тропическое солнце.
Эта примечательная местность и служила с древних времен наиболее любимым очагом православного греко-славянского монашества.
Первоначальные иноческие поселения на Афоне относятся ко времени возникновения христианского монашества (IV век). Но они проявлялись в форме одиночного подвижничества и анахоретства. Лишь в царствование византийского императора Константина Погоната (668–685 гг.), отдавшего Афон в полное распоряжение монахов, здесь возникли монастыри, небольшие по размерам и населению и не богатые материальными средствами. В иконоборческую эпоху VIII века прилив монахов на уединенный и далекий от гонений Афон увеличился. Но в XI веке местное население неоднократно подвергалось опустошительным набегам со стороны арабов и морских пиратов.
Императоры Македонской династии своими щедрыми пожертвованиями и покровительством содействовали умножению монашества на Афоне. Но особенно укрепилось афонское монашество в X веке благодаря трудам святого Афанасия Афонского († 1001 г.), который впервые построил большой монастырь на самой территории Афона, ввел в нем общежительное устройство и дал своей киновии новый устав, определявший ее жизнь и церковно-богослужебный строй. По образцу этой Лавры Св. Афанасия стали на Афоне возникать и другие монастыри (Иверский, Каракальский, Кутлумушский и др.), в коих жизнь монахов стала устрояться на началах киновии. Вместе с тем продолжало процветать и анахоретство, эта изначальная форма афонского иночества. Высота иноческих подвигов была так почтенна, что в средине XI века Афон в первый раз и официально был назван Святой Горой – в уставе императора Константина Мономаха от 1046 года.
В то время здесь было до 180 монастырей и громадное число монахов: в одной Лавре Св. Афанасия их было больше 700. Они проводили строгую религиозно-созерцательную жизнь, и не было различия между рабом и господином; здесь царили истинная свобода и справедливость.
В царствование византийской династии Комнинов (XII век) Афон пользовался и внешним благополучием, и внутренним благоустройством. Один из императоров этой династии, Алексей I, даже узаконил, чтобы Афон был независим от всякой власти – гражданской и церковной, в том числе и патриаршей, и подчинялся только императору. Ближайшее высшее управление афонскими монастырями возлагалось на совет игуменов во главе с первым из них – протом; епархиальной власти (епископу соседнего города Иериссо) предоставлялось только право хиротонии афонских священников и диаконов по желанию монастырей.
К началу XIII века Афон был весь усеян монастырями, так что казался одним большим монастырем, представлялся всецело иноческим царством. В то же время единством духовных целей он роднил все племена и соединял в одну общину представителей разных народностей. Все стремились к одной цели – вечному спасению, для всех Афон был высшей школой православно-христианского подвижничества. Это был монашеский рай, место святое, дом Божий и Врата Небесные… Но вслед затем в истории Афона наступила другая пора.
В 1204 году, после завоевания Константинополя латинянами, подпал под их власть и монашеский Афон; высшее управление взял на себя Римский Папа Иннокентий III, а ближайшее о нем попечение было предоставлено Севастийскому латинскому епископу. При императоре Михаиле VIII Палеологе (1259–1282 гг.), который по соображениям политическим и личным затеял церковную унию с Римом в 1274 году, афонские монахи подверглись жестокому преследованию за устойчивость в исповедании православия.
В эпоху династии Палеологов (XIV век) Афон пользовался сравнительным благополучием благодаря щедротам и покровительству императоров. Один из них, Андроник Старший, отказался от непосредственного управления Афоном и подчинил его власти Константинопольского Патриарха. В 1453 году Афон был завоеван турками, но пощажен от разорения и получил право свободно совершать христианское богослужение. В последующее время подвергся бедствию – в царствование султана Селима II (1566–1574 гг.), который отнял в пользу казны все монастырские имения. И с того времени многие монастыри впали в бедность. В 1821 году, во время восстания греков, на Афон вступили турки и заняли монастыри. Взята была большая контрибуция, некоторые монастыри были ограблены и разорены, монахов частью разогнали, а частью предали смерти. Султан Махмуд хотел срыть монастыри, но пощадил по ходатайству русского императора Александра I. После этого Афон стал пополняться монахами только после заключения мира русских с турками в Адрианополе в 1829 году.
* * *
На Афоне существует 20 больших монастырей: 17 греческих, 1 русский, 1 сербский и 1 болгарский. Они занимают господствующее положение и при посредстве своих представителей (антипросопов) составляют центральное управление Афона, именуемое Протатом, которому принадлежит вся власть – административная, законодательная и судебная – в отношении ко всем иноческим учреждениям Афонской Горы.
После монастырей второе по значению место принадлежит скитам (13), расположенным на земле одного из 20 монастырей, коему и принадлежит право высшего управления скитом. К иноческим учреждениям относятся также и келлии (было их около 200), которые тоже расположены на земле одного из полноправных монастырей. Они имели свой храм, иногда два-три, а во главе не игумена, а геронта-старца. От келлий надо отличать каливы (около 400), представлявшие отдельное небольшое здание на земле монастыря или скита, проданное геронту и одному его ученику, но без права наследственной передачи другим; после смерти обоих калива снова переходила в собственность монастыря или скита.
Первое паломничество на Афон
Приезд. Монастырь Св. Пантелеимона
Было это давно. А вот вспомнилось так ясно, будто было совсем недавно.
Наш пароход Добровольного флота рано утром вошел в Дарданеллы, соединяющие Мраморное море с Эгейским или архипелагом и Средиземным морем. Простояв на якоре часа два в городе Дарданеллы, пароход вышел в море, направляясь к Святой Афонской Горе.
До глубокой ночи большинство паломников теснилось на площадке носовой части парохода, откуда был уже виден серебристый шпиль Афона.
По мере приближения нашего парохода к Святой Горе окутавшие ее густые облака постепенно редели, и Афон все более и величественнее восставал пред нашими глазами. А поздно вечером загрохотал тяжеловесный якорь; паломники засуетились. Желающие высадиться на Афон стали надевать на плечи свои котомки, готовясь сойти в большие деревянные баркасы и лодки.
На берегу в Дафни встретили нас приветливые русские монахи и разместили в подворьях обителей и келлий афонских.
Не успели мы привести себя в порядок с дороги, как нас позвали к чаю и закуске. Чай был приготовлен в коридоре у террасы, с которой открывался чудный вид на афонский залив. С одной стороны коридора расположены были кельи иноков-гостинников, а с другой – светлый, просторный зал с диванами и креслами для приезжих гостей и большими портретами и картинами по стенам.
Закуска состояла из сельдей, нарезанных кусочками, на тарелках и черного хлеба. На длинных столах стояло несколько больших металлических чайников; в каждый из них в кипяток был засыпан чай и сахар, отчего получилось питье вкусное и нужное для истомившихся паломников. Подкрепив силы, мы в первом часу ночи встали из-за стола.
Ночь была тихая, темная. Только мягкий плеск моря нарушал глубокое безмолвие афонской ночи. Несмотря на сильное переутомление и усталость, в душе чувствовалась отрада, мир. Благодатный трепет объял душу, и явилось непреодолимое желание помолиться; чувствовалось единение духа с молитвой насельников Святой Горы.
Едва начало светать, меня разбудили паломники, отправлявшиеся на мулах и ослах в монастыри, в подворьях которых они ночевали. Наш багаж был отправлен в Пантелеимонов монастырь, и большинство паломников пошли пешком. До монастыря было ходу час с небольшим.
Встретили нас с большим радушием, вниманием и любовью. Разместили в огромном корпусе, вне монастырской ограды, на берегу. В течение этого дня знакомили нас со святынями этой великой и древней обители, старались привлечь внимание наше к исконному благочестию Афона, где тогда процветало монашество и русские обители ежегодно в стенах своих принимали десятки тысяч паломников из России.
1
Изрядно утомившийся от путешествия и множества новых впечатлений, я вскоре улегся спать. А утром проспал бы, вероятно, значительно дольше, если бы в слух мой не ворвался неожиданный и осторожный, но все же упорно-настойчивый звук, тотчас же напомнивший мне о месте моего пребывания. Стучал в дверь фондаричный[9], отец Паисий, одновременно со стуком произнесший обычное монашеское приветствие, так чудесно звучащее во всех православных обителях: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже, помилуй нас!» Я тотчас же отозвался, по-монашески «поаминил». Отец Паисий явился ко мне оповестить о важном деле – о предстоящем визите к их знаменитому игумену, отцу архимандриту Мисаилу, старцу восьмидесяти двух лет и гордости не только этой славной обители, но и всего русского монашества на Святой Горе.
– Первоначально вас просит зайти к себе отец наместник, – весело и любезно сообщил мне инок. – Пожалуйте за мною, отец наместник уже ждет!
Я быстро собрался и через несколько минут длинными и прохладными коридорами уже подходил к маленькой двери келийки отца наместника, в которую постучался мой спутник, произнося традиционное «молитвами святых отец». Дверь нам открыл келейник отца наместника, симпатичный и с открытым лицом схимонах, отец Иаков. А через минуту я уже находился в обществе иеросхимонаха отца Иоанникия, произведшего на меня с первого же знакомства самое отрадное и серьезное впечатление. Это был образец хорошего русского инока, дополненный качествами от природы смышленого русского человека. А вышел он из своеобразной – одной только старой России известной, крепкой и патриархальной семьи второй половины XIX столетия, когда эта среда еще не была заражена упадком нравов.
Интересна сама по себе личность отца Иоанникия. Помимо высокой религиозной настроенности, примерной монашеской жизни и трудов по хозяйству он принес монастырю огромную пользу и завидной стойкостью своих убеждений. Так, во время имябожеской смуты именно он стал определенно на сторону противников этого движения, удерживая слабых и мятущихся. И в качестве опытного типографа он тогда оказал значительные услуги неимябожеской части братии и представителям Священного Синода печатанием воззваний, обращений и т. д. Большую стойкость проявил отец Иоанникий и в другом исключительном событии монастырской жизни. В 1913 году, возвращаясь из Палестины, в Пантелеимонов монастырь на Афоне прибыл злополучный Григорий Распутин. В то время он находился в расцвете своего влияния на многих высоких лиц русской церковной и государственной жизни. По своей непосредственности и малокультурности он часто этим кичился, запугивая окружающих и нередко злоупотреблял этим своим влиянием, принося жалобы на неповинующихся его притязаниям.
И вот, прибыв в Пантелеимоновский монастырь, Распутин сразу же стал оказывать дурное влияние на некоторых малодушных и темных монахов, особенно молодых послушников. Он вносил в их среду свойственный ему дух изуверства и отрицания духовной дисциплины. Но сила его влияния в Петербурге, казалось, так велика, что скромное монашеское начальство растерялось. Только молодой, стремительный и крепкий духом отец Иоанникий не сробел. Он лично отправился к Распутину, смело указал ему на вред для обители от его в ней дальнейшего пребывания и вносимого им соблазна и потребовал немедленного ухода из монастыря… Невзирая на сопротивление, дьявольскую злобу и угрозы, Распутин все же вынужден был немедленно покинуть стены обители и первым пароходом выехал в Россию.
Конечно, злопамятный Распутин не преминул отомстить стойкому афонскому иноку. Когда отцу Иоанникию понадобилось отправиться в Россию по сбору милостыни на обитель, «старец Григорий» добился синодального запрещения ему на въезд туда.
* * *
Сидели мы с отцом Иоанникием, попивали чаек и так оживленно, дружески разговаривали, будто были хорошо знакомы много лет. При этом я искренно наслаждался его речью, от которой так и веяло крепким севером далекой и милой родины. Он был чистой воды великоросс, несмотря на долгий срок пребывания на Афоне, сохранивший характер русской народной речи, казавшейся мне теперь особенно дорогой и очаровательной.
А она так и лилась, эта замечательная речь «говорком», сверкая меткими народными словцами и поговорками, поражая своей находчивостью и остроумием, знанием людей и человеческой жизни. Так говорили когда-то в старой и доброй России торговые люди. Так, вероятно, говорили русские бояре и замоскворецкие купцы при Алексее Михайловиче и Великом Петре. И отец Иоанникий, перенеся эту русскую речь через десятилетия, теперь щедро ей обдаривал меня. Время проходило быстро в приятной беседе, и жаль было уходить от такого замечательного русского самородка. В его лице соединялась ревность о славе Божьей и высоком достоинстве русского монашества на Афоне с личным подвигом иноческого жития, неослабное попечение о строгой уставности богослужения и жизни родной обители с несокрушимой энергией в настойчивой работе для устранения нужды иноков.
Везде он успевал побывать, все видел и во всем принимал личное участие. При такой наклонности и горении к работе ему естественно было взять на свои крепкие рамена и управление обителью, когда старец игумен монастыря, архимандрит отец Мисаил, изнурительным недугом лишен был способности передвигаться.
– Отец игумен уже ждет вас! – сказал наместник. – Из своих покоев он никуда не выходит, но дорогих гостей принимает с любовью и радостью… Что поделаешь! Такова, видно, Господня воля, приходится отцу игумену не покидать кресла… Паралич. Да и возраст преклонный: больше восьми десятков годков… Но голова у нашего отца игумена и поныне светлая. Дай Боже, такую голову каждому и молодому! Впрочем, сами убедитесь.
Отец Иоанникий был прав. Прошло не более получаса – и я уже уходил от архимандрита Мисаила, овеянный обаянием этого удивительного маститого старца. Знаменитый игумен отец Мисаил был «уходец» из патриархальной семьи, и з толщ и русского народа. Еще безусым юношей прибыл он на Афон по горячему и полному веры побуждению и поступил в Пантелеимонов монастырь. Тогда началось длительное и упорное прохождение монастырской школы под строгим руководством опытных старцев, постепенно возводивших молодого инока на непонятную для мирского человека духовную высоту, открывавшую ему путь к высоким подвигам. И он прошел много послушаний, из которых самое важное – многолетнее настоятельство в Константинополе на монастырском подворье. Именно это послушание и дало ему большой житейский опыт, сильно расширило его кругозор.
Вообще, несмотря на почти полное отсутствие систематического школьного образования, отец Мисаил всегда отличался не только большим природным умом, но и умением себя держать с представителями различного общества и положения. Он обладал природным большим тактом в разговоре, житейской мудростью и находчивостью. Иногда только некоторая природная застенчивость замечалась в этом выдающемся монахе, но ответы его всегда были метки и живы. Лишнего он не говорил никогда и вообще всегда держался скорее сдержанно, с истинным монашеским достоинством и редкой скромностью.
Прошли многие годы, и из молодого инока выработался опытный старец, славившийся своей строгой жизнью и являвшийся образцом истинно-аскетической жизни для других монахов. И пришло время, когда братия сама с любовью и уважением возложила на отца Мисаила игуменство над собой. Но это явилось для него наиболее тяжким послушанием в ряду всех других, исполненных тогда, когда он сам еще находился под игуменской властью.
Монастырь Св. великомученика и целителя Пантелеимона на Афоне громаден. Хозяйство его разнообразно и сложно. Братия в прежние времена была многочисленна, и необходимо было обладать колоссальной силой воли, опытностью и умом, чтобы нести ответственность за благополучие обители и поддерживать престиж и высоту духовной власти. И этих качеств с избытком хватало у отца Мисаила, несмотря на его возраст и развившиеся под конец жизни недомогания, приковавшие маститого старца к креслу. Но это обстоятельство, однако, не помешало отцу игумену принять меня у себя с исключительной любезностью, отеческой ласковостью и заставить искренно наслаждаться интересной беседой с ним и отеческими наставлениями, исполненными жизненной мудрости и душевной ясности.
В облике игумена отца Мисаила было что-то патриархальное, нечто от идеального монаха доброго старого времени. Не входя сам в подробности и мелочи административно-хозяйственной жизни огромного монастыря, отец Мисаил имел дар избирать хороших помощников, которым доверял ведение монастырских дел. При этом он любил покровительствовать людям с образованием, прекрасно относился к ним и старался дать им подходящие послушания. Вообще, это был человек мира. Благодатное спокойствие, сияющая ясность духа, кротость и терпение – вот отличительные черты характера этого прекрасного человека. «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи», – вспоминаются при мысли о нем слова преподобного Серафима Саровского. Но выше всего у отца Мисаила был дар отеческой любви.
* * *
Я все с большим наслаждением прислушивался к густому баску мудрого старца, который ласково обдаривал меня своими отеческими наставлениями, как дорогим подарком, наполнявшим мою душу лучшими чувствами. Отец Мисаил как-то невольно подчинял себе всех окружающих своими богатыми душевными качествами, влияние которых в значительной степени подкреплялось еще и внешней импозантностью его величественной фигуры. Он был высок ростом, широк в плечах и крепок телосложением, являлся как бы аллегорическим изображением доброго и могучего духа Святой Руси. И эти особенности бросались в глаза даже тогда, когда этот старец сидел в своем глубоком кресле, скованный тяжким недугом. И в то же время каждого посетителя поражала почти детская ласковость и доброта отца Мисаила.
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! – благословил меня при прощании отец игумен. – Еще зайдете не раз, конечно, до отъезда!
Поклонившись милому старцу, я вышел из его покоев, согретый исключительной задушевностью.
2
Время шло незаметно. Утомленный долгим хождением по обширной и живописной территории Пантелеимонова монастыря, как-то подошел я к морю. Уже наступил чудесный южный вечер, и на западе тихо угасала багрово-золотая полоска зари. А из-за афонских горных массивов робко выплывала полная луна, с каждой минутой набиравшаяся все большей силы и уверенности. Вскоре она как бы окончательно оправилась от «смущения» и тогда залила своим кротким и мягким светом и небо, и землю.
В эти минуты я случайно посмотрел в сторону хребта и пика Святой Горы – и положительно замер от удивления и восторга. Картина, представившаяся моим глазам, была поистине фантастической. Иссиня-темной, исполненной тайны и святости возвышалась Афонская Гора над целым царством сверкающего, зеркально гладкого простора, каким являлось все море, не волнуемое ни единым движением воздуха, ни ветерка. Ни один пароход, ни одна лодка – не нарушали в эти дивные минуты божественного покоя этого прекрасного уголка вселенной. И только изредка долетало до слуха едва заметное и полное нежности плескание морских вод о каменистый берег.
Незабываемое настроение навевают на человека эти вечерние морские всплески – таинственны, редки и в то же время упорно-неизбежные, безгранично-свободные от всего того, что порождено мирской суетой. И еще глубже, еще ощутительнее становится тайна этих всплесков, когда тихий шепот моря начинает смешиваться с тихими, редкими ударами колоколов обители, призывающими к всенощному бдению.
Прошло уже много времени с тех пор, как я, охваченный самыми лучшими чувствами, долго стоял лицом к лицу с этим удивительным видом на величественную Святую Гору, охваченную гигантской рамкой из блеска моря и лунного света. Но и сейчас эта дивная картина встает передо мной, как наяву, вместе с ее береговыми всплесками и редкими ударами колоколов обители. И как благоговейно замирает тогда сердце, как неудержимо тянет снова туда – к чудесным красотам Афона и его святынь… И как прискорбно, что эта единственная и величайшая твердыня православия так трудно достижима для громадного большинства из нас – обездоленных и усталых людей, чающих душевного покоя, укрепления в вере и Божьей помощи.
В этот вечер по своем возвращении в монастырскую гостиницу я быстро уснул. Но в полночь внезапно был разбужен плавной, певучей мелодией, которая неслась ко мне. Проснулся, привстал и в первую минуту со сна вообще не в силах был вспомнить: ни где я, ни что это. Приоткрыл свою дверь – и понял тогда, что это идет «полунощница» в соседнем параклисе. Я быстро оделся, прошел коридором и в полутемном храме простоял всю службу. Затем снова улегся и тотчас же заснул, для того чтобы на утро пробудиться полным бодрости и самого радужного настроения.
Уже благовестили к воскресной обедне. И за открытыми окнами моего номера снова ярким золотом горели все купола монастырских церквей. Горели купола собора целителя Пантелеимона и храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, куда я и направился. И получил я величайшее духовное удовлетворение. Воскресное богослужение в Покровском соборе совершалось с большой торжественностью и по своей благоговейности производило сильное впечатление. Прекрасно пел монашеский хор, вернее, два больших хора, на обоих клиросах, из песнопений которых особенно отличалось «Тебе поем», по своему напеву представлявшее нечто редчайшее и нигде ранее мною не слышанное. Это напев самобытный, афонский: сами монахи сочинили это «Тебе поем». А когда и в чье владычество – Господь его ведает. Может лет и пятьсот тому назад: ведь здесь нет земного времени…
После окончания литургии ко мне подошел монах-гостинник и сказал: «Теперь милости просим пройти в свой номерок и напиться чайку после литургии. А потом отец наместник просил вас пожаловать на общую трапезу».
В урочный час особый колокольный звон возвестил о созыве всех иноков на трапезу. Я немедленно покинул номер и в сопровождении фондаричного отца Паисия поспешно направился к трапезной. Туда со всех сторон огромной обители уже стекалось множество людей в черных рясах и клобуках. И уже вскоре я очутился в большой и очень высокой трапезной, сплошь по стенам и потолку расписанной живописью духовного содержания и вмещавшей громадное число иноков всех монашеских степеней, не говоря уже о послушниках в подрясниках и скуфейках. Длинные и узкие столы тянулись от одного конца до другого, приятно лаская глаз чистотой и симметрично расставленными по местам скромными монашескими приборами, старинными кувшинами и массивными чашками.
Провожатый привел меня в самый отдаленный конец трапезной, к головному столу, где сидит игумен, наместник и наиболее заслуженные старцы. «Отец наместник просит вас сесть здесь, по его левую руку, – пояснили мне любезно ласковые старцы. – Сейчас батюшка сам выйдет к братии». Все иноки тем временем уже стояли у своих мест, занимая их во всю длину громадных столов. Не было слышно ни единого слова: все чинно безмолвствовали, ожидая прихода отца наместника и, конечно, не позволяя себе в эти минуты прикасаться к столу и пище. Так прошла еще минута-другая. И вдруг все монахи почтительно устремили глаза к широко раскрытым дверям: вошел отец наместник в мантии, в клобуке и с длинным двурогим посохом в руке. И едва он дошел до своего места, по левую сторону коего в смущении стоял я, – как мощный хор грянул «Отче наш» и Славословие. Вслед за этим отец наместник благословил «ястие и питие», давая тем возможность всем собравшимся приступить к еде.
В тот же момент на высокую кафедру вошел дежурный инок и по звонку отца наместника приступил к чтению жития святых – традиция обычная во всех православных общежительных обителях. В течение всего трапезования за столами царило гробовое молчание, и не только младшие иноки, но и седобородые старцы не позволяли себе разговаривать. Только один раз, в середине трапезы, монотонное чтение «Жития» прервал колокольчик отца наместника: тогда сидящие за столами набожно осенили себя крестным знаменем и потянулись за кружками с водой.
Наконец, по удару того же колокольчика вся масса иноков покорно поднялась для участия в так называемом чине Панагии. Это древнейший православный обряд, в давние времена соблюдавшийся и в монастырях России, но впоследствии почему-то забытый. Сохранился он на Афоне, пройдя через века до наших дней без всяких изменений. Это особое краткое богослужение, совершаемое над лежащей на блюде обыкновенной просфорой, при всеобщем пении «Достойно есть» и колебании над ней воздуха несколькими старшими иеромонахами. Напева «Достойно есть», подобного тому, какой пришлось слышать при Панагии в Свято-Пантелеимоновом монастыре, я тоже не слыхал ранее нигде. И, слушая его впервые, был я до глубины души восхищен и поражен торжественностью и своеобразной красотой этого песнопения. И опять я узнал об афонской же его самобытности: создали это «Достойно» сами афонские иноки, ушедшие от мира к подножию Святой Горы и давно не имевшие ничего общего со светскими песнями и звуками. И мне стало понятным, что только здесь и могут рождаться такие напевы, ибо ни один, даже самый лучший духовный композитор, не сможет создать того, что постепенно создавали какие-нибудь безвестные и смиренные певуны-иноки, долгие годы не слышавшие ничего, кроме того же церковного пения, чередовавшегося с колокольным звоном или шумом моря.
Пение «Достойно есть» при обряде Панагии продолжается достаточно долго, значительно дольше того, как иеромонахи, колеблющие над просфорой воздух, закончат свое священнодействие. Не прекращается пение и тогда, когда после окончания освящения просфоры она разламывается на части особыми дежурными эклессиархами, а затем в сопровождении дьяконов со звенящими кадильницами разносится на блюде по рядам всей братии. Каждый инок тогда, отделив от просфоры-панагии совсем незначительную частицу, благоговейно ее съедает, предварительно подержав ее над курящейся кадильницей, несомой другим эклессиархом. Таков этот строго иноческий и древний обряд старого Афона[10], от которого так и веет прелестью нашей чудесной церковной истории.
* * *
Трапеза окончилась. Получив благословение отца наместника, я стал пробираться к выходу, затерявшись в густой толпе черных клобуков, мантий и простых послушнических подрясников. Так же как и во время трапезы, все иноки двигались молча, не переговариваясь и не окликая друг друга. Пребывая в их толпе, я еще за несколько шагов до выходных дверей заметил, как каждый инок, покидая трапезную, обходит кого-то лежавшего на полу. А уже через несколько секунд и я увидел тех, кого так бережно обходили монахи. Это были – лежавшие ниц перед выходившими из трапезной – повар, трапезарь и чтец, просившие таким образом смиренно прощения у каждого монаха за какую-либо оплошность, допущенную во время обеда или изготовления пищи. О таком прощении эти иноки-работники, согласно древнему афонскому обычаю, ежедневно просят своих братьев, в знак монашеского смирения, которым прочно проникнута жизнь афонских подвижников.
* * *
На четвертый день большой группе вновь прибывших паломников был дан проводник монах, и они отправились по горе; желавшие иметь мула или осла, платили 5–6 рублей. Путешествие по горе продолжалось 2–3 недели, но я в нем не принял участия, так как прежде хотел ознакомиться с жизнью в Пантелеимоновом монастыре – самой большой и старейшей русской обители на Афоне.
Утреня начиналась здесь, как и на всем Афоне, в 12 часов ночи. Звон начинался за 15 минут, а звонки будильщиков в коридорах всех братских и гостиных корпусов раздавались за полчаса до начала утрени. Схимники вставали за час и, исправив положенное келейное правило, шли к утрене. И начиналась утреня, когда вся братия и паломники сойдутся в церковь; это очень строго соблюдалось.
Будничная утреня продолжалась четыре часа, полиелейная – более пяти часов, обедня – два-три часа, вечерня – полтора-два часа, вечернее правило – около часа. Кроме того, в Пантелеимоновском монастыре, хотя не в главной церкви, в продолжение седмицы бывали всенощные бдения, которые начинались в 9 часов вечера и продолжались до 4–5 часов утра. В воскресные и праздничные дни и в дни великих святых всегда совершались бдения. Эти бдения были более торжественны, продолжались не менее 10–12 и иногда даже и 15 часов. Например, в память святого великомученика и целителя Пантелеимона бдение продолжалось с 5 вечера до 8 часов утра.
День у афонской братии распределялся так: простояв 6–7 часов у утрени и ранней литургии, братия расходилась по своим делам и послушаниям. Поздняя литургия не для всех была обязательна. По окончании ее, около 10 часов утра, бывала общая братская трапеза, на которую шли вместе и паломники. Все кушанья холодные приправлялись афонским оливковым маслом.
После обеда до вечерни оставалось 3–4 часа, и в этот промежуток времени некоторые немного отдыхали, а потом опять несли послушание. Вечерня начиналась около 3-х часов; после нее ужин и опять в церковь к вечернему правилу, которое кончалось в начале 8-го часа вечера. А тут недалеко и 12-й час, когда звонок будильщика опять звал в церковь на молитву.
Отсюда видно, сколько свободного внебогослужебного времени имели в своем распоряжении иноки. Кроме того, еще келейное правило, да и чтению Священного Писания нужно было уделить время. Вместе со всем этим в монастыре широко была развита и хозяйственная часть: кузнечные, слесарные и столярные мастерские, типография, иконописные, производство капитальных построек и всевозможные тяжелые работы.
В потреблении пищи тогда в Пантелеимоновском монастыре держались таких правил. По понедельникам, средам и пятницам бывал только обед и два раза давался кипяток для чаю, в остальные дни – обед и ужин и один раз кипяток.
При входе в трапезную обращало внимание паломников, что кушанья уже расставлены были на столах, для каждого в отдельной глиняной посуде; поэтому горячие кушанья приходилось употреблять уже остывшими. Если в положенные дни подавалось вино, то это было не что иное, как хороший кислый квас, не имевший ничего общего ни с вином, ни с какими другими спиртными напитками.
Суровость подвижнической жизни глубоко отражалась и на внешнем виде иноков. Они как будто не жили на земле, а всецело погружены были внутрь себя, и мысль их как бы занята была будущей жизнью. Кроме гостинников, они не вступали в разговоры с паломниками, чтобы не развлечь своего внимания и сосредоточения мысли.
Желавшим вступить в число братства иноки представляли те внутренние тяготы и скорби, которые должен пережить каждый новоначальный монах. В первый год у сознательного подвижника происходила, естественно, сильная борьба. Это был год или два больших испытаний, по выражению иноков. Потом уже бывало легче.
В 1968 году Пантелеимонов монастырь постигло большое несчастье. Пожар уничтожил ряд помещений и ценнейшую библиотеку. Храмы, к счастью, не пострадали.
Старый Руссик Икарея
1
Отдохнув и осмотревшись, на шестой день вчетвером зашагали мы в Карею – административный центр Афона. Компания была приятная: талантливый художник, молодой священник и православный англичанин, родившийся в Москве. Восхождение к Руссику происходило медленно, шаг за шагом, причем эти шаги делали не только люди, а и наши осторожные и вместе с тем поразительно умные и выносливые мулашки. На первом муле, покрытом ковром, восседал я, на другом был навьючен мой несложный багаж, третий же предназначался для муллария (моего проводника-монаха) отца Илиодора, милейшего карпаторосса, в большинстве случаев продвигавшегося пешком и тщательно выбиравшего путь для следовавших за ним животных.
Путь к Руссику – исторический путь, который много веков пролагался тысячами подвижников и богомольцев по склонам гор, расположенных уступами один над другим и покрытых прекрасной афонской растительностью. Здесь, на этих склонах, – буйное царство маслиничных деревьев, каштанов и другой густой и пахучей зелени, только изредка прерываемой небольшими лужайками. А за этими лужайками дорога опять идет всё вверх, пробегая то около живописно тянущихся в стороне построек Ксенофского скита и утопающих в зелени отдельных калив, то вдоль полуденным солнцем разогретых древесных стволов, за которыми блещет и искрится чудесный простор моря.
– А вот уже и Руссик! – сказал мой спутник, отец Илиодор, указывая на купола и постройки, окруженные каштановым лесом. – Великим почетом пользовался в старые годы этот славный монастырь у русских и сербских царей. Здесь ведь принял иноческий постриг от русских монахов и святой Савва, сербский просветитель и угодник Божий.
Обитель эта, как явствует из ее грамот и хрисовул, была еще в Средние века по общему согласию прота и всех монастырей афонских уступлена в вечное владение русским и с тех пор оставалась в их руках до своего запустения, т. е. до исхода XVII столетия. Тогда же, по свидетельству нашего знаменитого паломника пешехода Василия Барского, подверглась она горькой участи. Политические обстоятельства не позволяли ее поддерживать, как бывало прежде, из России, и она пришла в упадок.
С тех пор и до середины XIX века оставался в запустении на горе, в дремучем лесу Старый Руссик, обросший вековыми каштанами и дубами. Посреди его развалин возвышалась из зеленой чащи одиноко стоящая башня, где некогда постригся сербский царевич Растко, впоследствии святой Савва.
Но не забыты были на Святой Горе благодеяния и имя русское. В начале прошлого столетия господарь валахский князь Каллимахи по просьбе своего духовника, старца Саввы, решился обновить эту обитель Руссика, но уже не на старом ее месте, а на берегу моря, где была некогда монастырская арсана (пристань). Там он соорудил церковь с небольшой обителью. Но не успел устроить и ее благосостояние, потому что вскоре был казнен по проискам врагов своих у султана. А немного времени спустя скончался и духовник его Савва. Но сотрудник последнего, ревностный Герасим, остался во главе скудной общины, которую всеми средствами старался поддержать.
Помня, что некогда она была русская, и не ожидая никакой помощи от греков после их восстания, старец Герасим старался привлечь в нее русских. Сперва пригласил он из малороссийского скита Св. Илии благочестивого князя Аникиту Шихматова с несколькими иноками. Прошло несколько лет, и старец Герасим убедился на опыте, что без русских нельзя существовать обители Руссику, потому что от нищеты своей она впала в тяжкие долги. И чтобы поддержать начатое дело, он пригласил двух русских иноков, Павла и Иеронима, которые с немногими учениками уже несколько лет подвизались в одной из келлий, принадлежавших Ставроникитскому монастырю. Они отозвались на призыв, поселились у Герасима, и вскоре молва об их труженической жизни и денежные средства, которые получали они из России, привлекли многих их соотечественников в обитель Руссика. И уже в скором времени уплачены были все долги, начали созидаться новые строения и церковь Св. Митрофана, затем и обширные монашеские келлии.
Я с благоговением посмотрел на безмолвные и ярко освещенные полуденным солнцем стены Старого Руссика, простоявшие здесь столько веков и являвшиеся свидетелями событий, столь знаменательных для многих народов. Старый Руссик на Афоне – это подлинная колыбель здешнего русского монашества, первый молитвенный очаг тех русских иноков и подвижников, какие со всякими трудностями достигали Афона, пробираясь сюда с отдаленных просторов древней Руси. Именно здесь, в Старом Руссике, впервые зазвучала русская монашеская речь, и сюда же стали постепенно стекаться для духовных подвигов Божьи люди с берегов Волги, Тихого Дона и других бесчисленных рек нашей необъятной родины.
Русские поселились в Старом Руссике в очень далекое время, и с тех пор началась многовековая и славная история этой обители, долгое время тесно связанная с историей Сербии и ее королями. Красочное предание о факте, послужившем первопричиной этой исторической связи, хорошо известно русским людям, связавшим свою полную превратностей жизнь с братьями-сербами и их государством. Это предание о сербском царевиче Растке, сыне князя Стефана Неманича I, постригшемся в древнем русском монастыре Руссике в монашество против воли родителей и впоследствии сделавшемся первосвятителем сербским.
Как гласит легенда, произошло это при следующих обстоятельствах. Подвизавшиеся на Святой Горе русские иноки по бедности должны были ежегодно направляться в соседние страны для сбора пожертвований на их возрастающий монастырь. Блуждая по Сербской земле, эти иноки-сборщики пришли к королю Стефану и вошли в близкое общение с младшим его сыном, царевичем Растко. Красочные рассказы афонских иноков о духовном подвижничестве русских обитателей Афона так пленили душу царевича, что он тайно покинул родительский дом и бежал на Афон для принятия иночества. Бегство сына разгневало короля, и он отправил на Афон гонцов со строгим наказом привезти в отчий дом царевича. Посланные отыскали царевича, но поручения короля до конца исполнить все же не смогли: успокоив придворных своего отца, Растко в тот же день упросил игумена постричь его в иночество. И царевич Растко был пострижен тогда, когда посланцы отца, приняв почетное угощение от братии монастыря, спокойно отдыхали в отведенном им помещении. А Растко к моменту их пробуждения уже стоял перед образом с деревянным крестом и свечой в руке в маленькой монастырской церкви, облаченный в мантию и клобук. Опоясанный параманом, он уже носил имя Саввы, данное ему игуменом при переходе в новую жизнь.
Старый король Стефан после получения письма бежавшего сына впал в яростный гнев и самолично отправился на Афон с намерением наказать монахов, а самого Растка-Савву увезти из монастыря. Но привести в исполнение этот план королю не удалось, в силу причин, далеко не обычных. Будучи встречен на Афоне уже иноком Саввой, во всей красоте его монашеского смирения, строгий сербский король внезапно переродился душой. В результате он сам принял монашество и иноческий постриг с именем Симеона. Дожив впоследствии до глубокой старости, он нашел себе мирную кончину в сербском афонском монастыре, основанном его сыном.
* * *
Ведущий свою историю с 1169 года русский монастырь на Афоне, принявший в свои стены будущего сербского первосвятителя и научителя, за долгие годы своего существования переживал немало различных бед и изменений во внутреннем устройстве и внешних влияниях. Еще в отдаленные времена монастырю Старому Руссику пришлось перенести ряд серьезных скорбей, явившихся следствием татарского владычества над Русью, каковое не могло не отозваться на материальном благополучии этой русской обители, во многом зависевшей от помощи Киева, Москвы и других городов православной страны-покровительницы.
В этот тяжелый период истории древнего Руссика немало было ему сделано добра монахами-сербами, в некоторых случаях прямо спасавшими этот братский монастырь от закрытия. Но с падением Сербского царства и прекращением помощи от сербских государей и вельмож Старый Руссик стал замирать, хотя в нем и обитали монахи-греки, среди коих находились и русские люди. Около 1765 года и они, как было указано, оставили пришедшие в крайнюю ветхость старые монастырские стены. Избрав подходящее место на берегу моря, они положили там основание нового монастыря, который впоследствии разросся в обширную и прекрасную обитель во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона.
В настоящее время от древнего Руссика осталась лишь знаменитая Саввина башня с прилегающими к ней высокими и древними стенами очень крепкой и высокой кладки, остальные постройки – уже позднейшего времени. Величественный и светлый собор мог бы свободно служить украшением большого монастыря. Вообще, древний Руссик затих, умирает. В убогих келиях старого и мрачного здания доживает свой век несколько ветхих старцев-монахов. Тихо кругом, и лишь временами ветер шумит ветвями столетних деревьев, и в шелесте этом чудится тогда красочный рассказ шамкающего старца о прежнем величии этого святого места. А величественный собор позволяет догадываться о широких замыслах и светлых надеждах благочестивых иноков – надеждах, которые были разбиты неожиданно налетевшим ураганом русской революции, вовсе прекратившим приток паломников из России.
Поклонившись мощам святых угодников в прекрасном храме Старого Руссика, я приятно провел время в осмотре монастыря и дружеской беседе с его милыми насельниками. Древний старец, иеросхимонах Нектарий, сославшись на усталость, вскоре удалился в свою келлийку; со мной все время оставались услужливые и любезные: старенький екклессиарх схимонах отец Феофилакт, эконом схимонах отец Виктор и милейший молодой монах отец Флор, с которым мы не разлучались вплоть до нашего отъезда из Руссика. Когда же гостеприимные монахи согласились, наконец, нас отпустить, неожиданно выступил симпатичный схимонах отец Онисифор, монастырский огородник, с просьбой посетить и его. Как было отказаться от сердечного приглашения. И, не садясь на мулашек, мы по дороге свернули и на «владения» отца Онисифора, который после демонстрации своего огорода не преминул предложить гостям скромное монашеское угощении в виде клубники.
* * *
Развлекаемый поучительным разговором отца Илиодора, вскоре я уже двигался на своей мулашке дальше и через полчаса очутился на хребте горы, где заканчивались трудности, связанные с подъемом. И какой чудесный вид был преподнесен нам как бы в награду за усилия, затраченные на первую часть путешествия. Теперь я стоял на горном хребте, оставив в стороне мулашек и моего добрейшего проводника, и не знал, где и на чем остановить восхищенный взгляд перед открывшимся очарованием. Куда я не устремлял его, всюду сверкало, искрилось и переливалось всеми цветами море, залитое последними лучами клонившегося к закату солнца: с одной стороны простирался архипелаг с разбросанными по нему бесчисленными островами, а с другой – тихо светилась безмятежная гладь залива Монте-Санто. И отсюда же видна была вершина Афонской Горы, казавшаяся теперь как бы вылитой из чистого золота.
Я стоял, как вкопанный, не будучи в силах оторвать глаз от дивной картины… Спокойно присевший около своих мулашек, отец Илиодор как бы прочел мои мысли и сказал:
– Да, это она, наша великая покровительница!.. Воистину Святая Гора… владение Царицы Небесной!.. Посмотришь отсюда, какой ведь близкой она кажется. А на деле выходит до нее каких-нибудь 45–50 километров от этого гребня, не меньше. Больно уж чистый здесь воздух кругом: монастыри и даже каливки наших старцев отсюда также хорошо видны, если присмотреться получше.
Я последовал за указанием моего спутника и вскоре, действительно, стал различать простым глазом то, что он указывал. Мне удалось рассмотреть белые стены храмов и других строений различных обителей, расположенных по склонам горы; заметил и темные пятна калив отшельников, затерявшихся в густых лесных зарослях. Но особенно выделялись золотые купола русских храмов в обителях, ютившихся на горных уступах.
Не помню, сколько времени прошло, пока я, не будучи в силах оторвать глаз от всей этой красоты, безмолвно стоял на лесистом гребне, позабыв о своем проводнике. А отец Илиодор, для которого подобные настроения опекаемых им паломников были, конечно, не новостью, ожидал меня с чисто монашеским смирением и снова заговорил только после того, как мы двинулись в дальнейшую дорогу.
– Теперь уж путь пойдет под гору! – сказал он. – Только здесь будут свои заботы, хотя и не нужно трудиться над подъемом. Зато тропинка каменистая и слишком ухабистая… Нужно по малости двигаться, господин!
Я сошел с флегматичной мулашки и, осторожно ступая, неуверенно зашагал извилистой тропкой. Приходилось задерживаться, нащупывать ногой более надежные и менее скользкие места и думать о сохранении равновесия, чтобы не растянуться на остром щебне. А привычный к этой дороге отец Илиодор, легко переступая с камня на камень и ловко обходя все препятствия, шел впереди; за ним следовали мулашки, после чего все это шествие замыкалось моей скользившей и балансировавшей особой с палкой в руках и походным мешком за плечами.
Зато мое наслаждение окружавшей природой все увеличивалось. Дело в том, что на горном склоне, расстилавшемся за хребтом, растительность становится с каждым шагом все пышнее и роскошнее. А на середине пути между тем же хребтом и восточной подошвой горы путник оказывается окруженным подлинной сказкой флоры. Здесь, на значительной высоте, самый требовательный ботаник найдет множество разнообразных образцов для своих коллекций, начиная от деревьев и растений севера и кончая подобными же представителями полуденных стран. Рядом с нежными маслиничными деревьями благоухали хвоей сосны и ели, уживалось трогательное соседство лавра и мирта с ольхой и кленом; в то же время можно было любоваться красотой и смелостью самых причудливых южных растений, обвивавших громадные стволы кедров и вековых дубов.
2
Солнце светило нам прямо в глаза, рассекая ослепительными лучами легкий туман от лесной сырости. А мы медленно всё подвигались вперед, спускаясь с густо заросших предгорий Афона в глубину Карейской долины.
Стезя наша вилась по самым живописным местам. Было тихо в природе и на душе – как вдруг до нас стали долетать звуки радостного перезвона русского Андреевского скита и греческого карейского унылого благовеста. Он сзывал к божественной литургии странное и единственное в мире население не менее странного и также единственного в своем роде монашеского городка – Кареи, столицы этого монашеского царства.
Уже со склонов горы, по которой сбегает тропинка в Карею, открывается прекрасный вид на старую лавру афонскую – Лавру Келлий. Это вид удивительный и оригинальный, соответствующего которому – по характеру населения и своеобразности быта – не найдется во всем мире. Место первоначального жительства безмолвников по странным судьбам афонского иночества сделалось средоточием их вольного и невольного шума. Прежде всего, Карея – город одних мужчин, так как, согласно многовековой традиции, в него не допускается ни одна женщина. Этот городок – административный центр монашеского царства, живописно расположен в северо-восточной части Святой Горы, в трех часах пути от пристани Дафни. Он сосредотачивает в себе светское и духовное управление этого «царства монахов», при весьма небольшом числе светских лиц: греческого губернатора, почтовых чиновников, полицейских и необходимых всему этому светскому элементу торговцев и ремесленников. Но, подобно афонским инокам, и все эти случайные обыватели Кареи живут в безбрачии или имеют семьи «за морем». Весь городок: все дома, келлии и монастырские кунаки – всё это существует и обслуживается только мужскими руками в течение многих столетий.
В Карее всего одна улица (если можно ее так назвать) и несколько узких, кривых переулков. В центре стоит старинный Успенский собор, низкий и ветхий, имеющий плоскую крышу. А вблизи от него, в старой усадьбе – здание Протата; это высшее церковное управление святой Горы, главный и единственный орган, являющийся административным и правовым центром всего Афона; это общее судилище Горы, где разбираются все дела обителей, а также сношений с Вселенской Патриархией и греческим правительством.
Спустившись с горы и войдя в городок, я сошел с мулатки, по древней афонской традиции, из уважения к святыням Кареи. Продвигаясь по узким и кривым улочкам, я встречал исключительно монашеские фигуры; всюду они безмолвно появлялись и смиренно удалялись, а людей в светском платье почти не было видно: все население Кареи как бы облачено в одну черную монашескую рясу и клобук с наметкой. Зато какими контрастами являлись на всем этом черном монашеском фоне стройные, красивые и яркие фигуры сардаров, охранников Протата. В большинстве случаев, это седые, но крепкие и сильные старики, облаченные в живописный национальный костюм: богато расшитая золотом безрукавка, белая рубаха с пышными рукавами, белые гамаши при синих шароварах и низенькая шапочка с отвисающей кистью.
Отец Илиодор доставил меня в карейский кунак их Пантелеимонова монастыря, прямо к их антипросопу архимандриту Сергию. Гостеприимный старец встретил меня с большим радушием и окружил истинно отеческой заботой, снабдив нужной информацией. Здесь я умылся и отдохнул. Потом, за чашкой чая, долго наслаждался интересной беседой с отцом Сергием, который был культурным человеком и прекрасным монахом. Его жизненно-мудрые суждения, отеческо-поучительные наставления и сердечные утешения на всю жизнь врезались в мою душу, наполнив ее благодарностью к этому прекрасному человеку и примерному монаху.
Главной целью моего путешествия в Карею было выполнение всех формальностей церковного и гражданского управления Святой Горы, которые необходимы для каждого иностранца-паломника, прибывающего на Афон. В полицейском управлении, куда я в сопровождении любезного отца Сергия направился в тот же день, задержали меня не долго. Зарегистрировавшись там, я тотчас же отправился для явки властям духовным. Вслед за моим любезным спутником я прошел сначала через небольшой дворик, поднялся по старой лестнице и вдруг очутился в светлой галерейке, сплошь застекленной. Здесь нас встретил красочный протатский сардар в живописном костюме. Не без смущения прошел я через открытую дверь в небольшую залу, где вдоль стен стояли низенькие турецкие диваны, на которых чинно и неподвижно восседали почтенные и важные иноки с седыми бородами, а один из них имел золотой наперсный крест на черной рясе.
Как я узнал от своего спутника, все эти важные монахи являлись членами Священной Эпистасии, а у стены, на особом возвышении, и сам председатель этой редкой коллегии – протоэпистат, проигумен отец Панкратий, представитель греческого монастыря Ватопеда.
Отец Сергий легким кивком головы предложил мне следовать за собой. Но я уже ранее получил от него соответствующие указания и точно знал, что мне надлежало делать, согласно ритуалу, веками установленному на Святой Горе. Подойдя к восседавшему на троне протоэпистату, я попросил у этого почтенного старца благословение и поцеловал благословлявшую меня десницу. Затем направился приветствовать всех эпистатов, но благословения у них не просил и их десниц не целовал, следуя точно ранее полученным указаниям. Я только, почтительно склонившись, пожал руку каждого из них, а затем, отвесив общий поклон, отошел в сторону в ожидании продолжения этого своеобразного и традиционного восточного приема.
Протоэпистат по-гречески сказал несколько слов сидевшим на диванах у стен своим собратьям и, получив их согласие, любезно пригласил меня сесть. Вслед затем сопровождавший меня архимандрит-антипросоп отец Сергий вручил секретарю привезенный мной пакет с рекомендациями Вселенского Патриарха и Элладского архиепископа, ознакомление с которыми членов Священной Эпистасии производится в обстановке особой торжественности. Секретарь приложил деревянный нож к краю патриаршего конверта и вслед затем почтительно передал его, вместе с ножом, протоэпистату. Последний торжественно разрезал конверт, вынул из него послание Патриарха и передал секретарю для прочтения во всеуслышание. Последний и выполнил это поручение с неменьшей торжественностью.
Прослушав патриаршее послание, эпистаты сначала вполголоса о чем-то посовещались между собой, причем я отлично понимал, что все это делается лишь для выполнения традиционной важности. Было ясно, что все эти полные благолепной важности старцы питают добрые чувства к их новому гостю, каковым явился я, не без смущения ожидавший конца всей этой глубоко поучительной церемонии. Но спустя минуту-другую она уже подошла к концу, и протоэпистат, преподав указания секретарю, направил его в канцелярию для составления соответствующей бумаги. Меня же тем временем любезно усадили на диван, после чего все старцы один за другим в весьма любезной форме начали задавать мне разнообразные вопросы, касавшиеся моей личности, деятельности, тех мест, откуда я прибыл на Афон, и проч. Во время этой моей беседы со старцами передо мной неожиданно выросла громадная и живописная фигура протатского сардара, подносившего традиционное восточное угощение – глико с водой, к каковым через несколько минут присоединилось и ароматное кофе.
Не прошло и четверти часа, как секретарь возвратился, принеся с собой какую-то бумагу, которую он тотчас же вполголоса и прочел всем членам высокого собрания. Старцы одобрительно закивали головами, очевидно, вполне соглашаясь с содержанием прочитанного документа. Затем последовало нечто еще более интересное. Почтенные эпистаты, вынув из недр своих монашеских ряс какие-то маленькие предметы, важно вручили их секретарю: это были четыре части большой печати, прилагаемой к бумагам, исходящим из Протата. Секретарь ловко сложил печать и приложил ее к принесенному документу. Вслед затем печать оказалась вновь разобранной и ее части возвращены старцам. А бумагу секретарь вручил проигумену отцу Панкратию, после чего подошел ко мне для последней формальности: я должен был вручить ему сто драхм протатского налога, взимаемого со всех паломников Святой Горы. После этого сидевший на троне протоэпистат торжественно вручил мне документ с печатью, оказавшийся грамотой Протата ко всем афонским обителям. В ней предлагалось всем настоятелям иноческих поселений Святой Горы принимать меня как желанного гостя, рекомендованного Вселенским Патриархом и Элладским митрополитом, и оказывать мне всяческое содействие при моих паломничествах и научных работах.
Низко поклонившись высокому собранию благочестивых старцев, я поблагодарил их, испросив разрешение сфотографировать почтенное собрание. Затем, приняв благословение от протоэпистата и распрощавшись с остальными старцами и секретарем, я покинул зал Протата в сопровождении отца Сергия и сардара.
Андреевский скит
1
Солнце уже клонилось к закату, когда мы остановились у порты (врат) русского скита Св. Андрея Первозванного. Расположен он по соседству с Кареей, административным центром Афона, на прекрасном участке восточного склона горы, на земле греческого монастыря Ватопеда.
Свято-Андреевский скит, или, как его называют издавна, Серай, живописно стоит среди пирамидальных кипарисов и раскидистых кедров. Он был основан в XVII веке (первоначально в виде келлии) Вселенским Патриархом Афанасием, впоследствии умершем в России в Лубенском монастыре Полтавской губернии и там нетленно почивавшем вплоть до революции. А спустя сто лет другой Вселенский Патриарх, по имени Серафим, тоже сильно возлюбил эту келлию и расширил ее; после этого, подобно своему предшественнику, уехал в далекую Россию, чтобы почить в том же Лубенском монастыре, на Украине. Но окончательно закрепилась за русскими эта прекрасная келлия только в середине XIX века, когда в 1841 году она была приобретена в собственность русскими подвижниками Виссарионом в Варсонофием. А затем, по ходатайству влиятельного русского ученого и путешественника по Востоку А. Н. Муравьева, ее переименовали в скит.
* * *
Еще у порты скита я был очарован любезностью эконома обители, отца Акакия, вышедшего навстречу моему маленькому каравану. Тотчас же он проводил меня на фондарик и передал радушному отцу Иову, гостиннику этой обители. Не прошло и нескольких минут, как мои вещи принесены были в мою комнату, а я, умывшись и переодевшись, прошел в архондарик[11] и с интересом занялся рассматриванием замечательных портретов царей, иерархов и вельмож великой России. Но уже вскоре мое любопытство прервал добродушнейший отец Иов, гостинник:
– Успеете еще рассмотреть наши картины. А вот теперь пожалуйте в столовую: с дороги надо чайку попить.
И я с удовольствием принялся за «чаек», поданный в больших чайниках на рписном подносе. Милые атрибуты незабвенных времен, полные своеобразной простоты… От них так и повеяло на меня нашими ярмарками, московскими чайными и монастырскими гостиницами у Троицы-Сергия, Почаева или на берегах Волги и Оки.
– Может, проследуете теперь к отцу игумену? – спросил отец Иов, убедившись в том, что я уже вполне удовлетворился чаепитием. – Он будет рад побеседовать с вами.
И спустя несколько минут я уже находился в обществе архимандрита отца Митрофана, игумена и главы Андреевского скита. Этот спокойный и вдумчивый инок с лицом аскета сразу произвел на меня неизгладимое впечатление, как своим внешним видом, так и глубоким внутренним содержанием, обнаруженным почти с первых фраз. Это был типичный монах аскетического склада: высок ростом, худощав и сух, что, несомненно, являлось следствием его воздержанной и постнической жизни; сухощавое лицо озаряли умные и проницательные глаза. Он был духовно начитан и обладал способностью понимать самые отвлеченные богословские сочинения. Поэтому после нашей беседы я уходил под обаянием этого редкого человека и духовного руководителя.
* * *
Вечером того же дня неожиданно я познакомился с двумя мирянами, прибывшими на Афон для научных изысканий в области миниатюр древних рукописных книг. Это были два ученых немца – оба люди вдумчивые, солидные и преклонявшиеся перед силой духовных ценностей православной горы. Мы уселись на балконе, откуда открывался чудный вид на окрестности. Лунные блики скользили по склонам, покрытым густой растительностью. Из них выглядывали очертания многочисленных келлий и калив, прятавшихся среди виноградников или в кущах орешника и смешанного леса. А с другой стороны тихо светилась безмятежная поверхность Эгейского моря с его островами.
В оживленном разговоре мы засиделись до позднего вечера. Свежая зелень благоухала особенным, чуть горьковатым запахом, и кругом была такая благодатная тишина, что мы невольно умолкли. И в этой успокаивающей тишине едва лишь доносился мелодичный звон колокольчиков пасущихся овец. Эта мелодичность является характерной для здешних стад, ибо колокольчики особенно искусно подбираются и производят ночью чарующее впечатление.
В скиту Св. Андрея
– Мы должны встать до рассвета, – сказал один из немцев своему коллеге. – Было бы непростительным с нашей стороны преступлением не видеть отсюда восхода солнца из эгейских волн. Вероятно, это божественно по своему величию.
И немец был прав. Как меня ни удерживал Морфей на моем гостиничном ложе после утомительного дня, все же мне удалось вместе с немцами наблюдать восхитительную картину, о которой они говорили накануне. Ранним утром с террасы тихого приюта православной молитвенности на Афоне я наблюдал восход этого изумительного «эгейского солнца». И, конечно, только могу пожалеть, что со мной вместе не находились те, кому суждено читать эти мои строки. Кажется мне, что благодаря только одному этому виду с террасы Свято-Андреевского скита, он с полным правом может носить древнее название «Серай» – той скромной греческой келлии, на месте которой теперь разбросались величественные постройки живописного русского скита.
С громадным интересом и замиранием сердца ожидали мы восхода солнца. Но вот, как громадный – сперва красный, а потом золотой – шар, медленно показалось оно из-за острова Имброса, на мгновение задержалось и вдруг своим могучим ослепительным светом озарило все вокруг. И на минуту все живое невольно замерло от восторга, прославляя Создателя Вселенной… С террасы было видно, как блестели в ярких лучах солнца золоченые главы и кресты разбросанных по всей горе храмов. Было видно, как далеко-далеко, в синеющую даль уходила, серебрясь на солнце, извилистая лента глади морской. А кругом все цвело, улыбалось и пело. И вдруг, в эту нежную восторженную музыку весеннего утра ворвались брошенные невидимой человеческой рукой с высокой колокольни многогласные звуки благовеста. Ранняя монастырская служба начиналась.
2
В Андреевском скиту я застал партию паломников, которые вышли раньше нас из Пантелеимоновского монастыря с проводником. Эти паломники уже побывали в некоторых карейских келлиях и подворьях, затем направились к празднику в Андреевский скит, чтобы отсюда потом паломничать на вершину Афона.
К всенощному бдению зазвонили в восемь часов вечера. Особый уклад афонской жизни и богослужения прославили Святую Гору и возвысили ее на недосягаемую высоту в глазах всего христианского мира. Даже в глазах поработителей своих, турок, насельники Афона издревле стяжали уважение и благоговейное преклонение пред их великими подвигами.
Кто не побывал на Святой Горе в пору расцвета ее и многомонашества, тому затруднительно представить себе тогдашний особенный уклад афонского быта. Отсюда совершенно удалена была суета мирская; здесь мысль человеческая была здорова, свежа и светла. И вот эти питомцы земного удела Богоматери – келиоты, каливиты и сиромахи – из глубоких пустынь пришли теперь под своды храма, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Господа и слиться со всем скитским братством и паломниками во всенощной молитве. В эту ночь все афонские православные разных наций неразрывно слились в священное единое собрание для молитвенного прославления Триединого Бога и покровителя скита, святого апостола Андрея.
Из моей памяти никогда не изгладится это богослужение. Не многочислен был хор, но замечательное исполнение, прекрасна сама мелодия. Не было крикливости многих наших церковных хоров – пение спокойное, плавное. Нечто величественное и вместе с тем плачевно-заунывное, проникающее в душу неслось с клиросов. В глубине души это пение вызывает покаянные движения, окрыляет мысль и уму открывает дверь к таинственным созерцаниям, дает умиление, радость.
Вот какое настроение, какие чувства невольно вызываются афонским богослужением.
Русский монашеский хор пел на великой ектении греческое «Кирие элейсон» (Господи, помилуй) – и пел так, что если бы всю ночь продолжалось это, то не утомило бы слушать. Говорят, что в пении нельзя придать такой выразительности русскому слову «помилуй», как греческому «элейсон»…
До шестопсалмия, начинающегося около двенадцати часов ночи, разрешалось поддерживать в кубе кипяток и пользоваться им для утоления жажды. Один монах, дав мне щепотку чаю и кусок сахару, направил меня в особое помещение. Около громаднейшего куба поленница дров: она служит вместо стола, а дрова, раскиданные тут, вместо стульев. Около окна и на полу, сидя и стоя, торопливо пили кипяток сиромахи и пустынники. И – о, удивление – один сиромах вдруг назвал меня по имени. Я удивленно посмотрел на него.
– Помните, мы с вами вместе были в экскурсии из Ялты в горы?
И я, действительно, припомнил молодого тогда и хорошо одетого человека, который путешествовал по всей России и святым местам. Потом он был, как выяснилось, на хорошей службе. Но от всего отказался, поехал в Святую Землю, потом на Афон – и вот теперь смиренным иноком проживал в пустыньке с одним старцем-иеросхимником… Заговорившись, мы вышли последними. В храме читал шестопсалмие старший иеромонах при тусклом свете лампады.
Многие русские не знают, что удлиняет всенощные бдения на Святой Афонской Горе. Исполнительность, неторопливость, долгое чтение синодика на литии и сугубых ектениях; пред шестопсалмием, между кафизмами и по шестой песни канона читаются длинные святоотеческие поучения.
Бдение кончилось в седьмом часу утра. Ранняя литургия была в церкви святителя Иннокентия. Звон к поздней литургии начался в восемь часов утра. Позднюю литургию, как и всенощное бдение, служил священноархимандрит, настоятель скита, с множеством иеромонахов и иеродиаконов. В конце литургии был отслужен положенный молебен.
По окончании богослужения на открытом дворе на низких длинных столах был приготовлен обед для всех пришедших на праздник бедных сиромах и рабочих. Братская трапезная всех вместить не могла.
* * *
Проживая в те времена продолжительное время в Андреевском скиту, можно было заметить, что скитская жизнь – сравнительно с жизнью в монастыре Св. Пантелеимона – полегче. Богослужение хотя и производило сильное впечатление, но продолжительность его уступала продолжительности в Пантелеимоновском монастыре. При меньшем числе братии (около 550–600 человек) и трапеза улучшена: ежедневно, кроме Великого поста, бывала два раза; кипяток без ограничения.
В скиту пророка Илии
Широкоплечий и крепкий среднего роста, с улыбающимся лицом и умными глазами, он встретил меня в приемной зале для гостей. И вдруг на меня пахнуло чем-то родным, уютным и детски близким. Я почуял себя там, у себя – и не только в России, но на просторах родных полтавских и черниговских полей, среди их хуторов, высокой конопли и волнующейся пшеницы… Это был игумен Свято-Ильинского скита, архимандрит отец Иоанн. Он – игумен «по традиции», ибо скит, по той же традиции – украинский, запорожский. Больше двухсот лет тому назад основан был этот скит блаженным старцем Паисием Величковским – коренным украинцем, знаменитым переводчиком святоотеческих писаний с греческого языка на русский. Вот с тех пор и пошел обычай принимать в эту прекрасную обитель по преимуществу уроженцев южнороссийских губерний, которые и составляли значительное большинство братии до печальных лет российской разрухи.
На долю Ильинского скита выпало большое счастье считать своим основателем великого старца, достойного удивления по его высокой духовной жизни, подвигам и трудам. И он дал этому скиту своеобразный отпечаток – простоватой ласковости и христианской кротости. В ранней молодости инок Платон, снедаемый жаждой пустыни, безмолвия и уединения, покинул родную Украину и отправился в Валахию, где в то время процветало монашество. Но вскоре душа его возжелала совершенного уединения от людей и от мирских соблазнов, и, наслышавшись о Святой Горе Афонской, он отправился туда. Здесь принял постриг в мантийные монахи с наречением Паисием. Когда спустя несколько лет собралось вокруг смиренного Паисия целое братство, он испросил у греческого монастыря Пандократора необитаемую и ветхую келлию во имя пророка Иллии; но вскоре на месте этой келлии основал уже скит.
Своей подвижнической жизнью, трудолюбием, смирением и любовью ко всем он прославился по всей Святой Горе и был в великом у всех уважении. Но не долго, однако, суждено было этому светильнику светить на Афоне и согревать души ищущих спасения. С увеличением братства стало невозможным содержание его, и, забрав с собой шестьдесят четы ре инока, отец Паисий отправился в Валахию, где получил большой монастырь. По уходе его скит Св. Илии преимущественно пополнялся черноморскими казаками, которые, разновременно приходя на Святую Гору, селились в нем. Но, не вмещаясь внутри скита, монахи начали устраивать себе келлии вне его. А средства для жизни иноков и содержания храмов получались из доходов от рыбной ловли на реке Дунае и от пожертвований Черноморского войска. Во время греческого восстания 1820–1821 года на Афон нахлынули турки и разорили Ильинский скит, братия которого разбежалась и частью спасалась в России. Только в 1830 году монахи снова водворились в родном скиту и приложили много усилий, чтобы привести его в прежнее состояние. Но со времени этого нового поселения братии на Афоне и восстановления скита черноморцы больше уже не поступали в этот скит, а определялись туда лишь русские или запорожские казаки, состоявшие в подданстве Турции. В это тяжелое время, когда скит восставал из развалин и нуждался в помощи, туда явился замечательный человек, выдающийся ктитор и благодетель, иеромонах Аникита, в миру князь Ширинский-Шихматов.
В Свято-Ильинском скиту
Но полного процветания скит достиг лишь при старце Паисии втором. Этот трудолюбивый настоятель перестроил весь скит и к 1850 году закончил большой план своих работ. Число иноков снова стало умножаться, и вскоре уже опять недоставало помещений для вновь поступающих. И потому отец Паисий воздвиг еще один корпус, в котором устроил и две церкви. Жертвенные благодетели из России помогли скиту устроить величественный собор и в то же время удовлетворить все потребности обители. И все это довело ее до того цветущего состояния, которое она обрела накануне Первой мировой войны, когда представляла собой огромную и благолепную общежительную обитель. В это время скит имел уже свои обширные подворья в Одессе и Константинополе.
Предание гласит, что знаменитый подвижник и основатель Свято-Ильинского скита великий старец Паисий был человеком, сеявшим вокруг себя семена христианской кротости и необыкновенной доброты. Его простодушная ласковость согревала каждого, кто имел радость с ним встретиться. По всей вероятности, от него и перешла по традиции та же ласковость и теплота ко всем его последователям, населявшим Ильинский скит.
Этот скит расположен на северо-восточном склоне Афонской Горы, на холме, весьма красивом и живописном, но пустынном. С трех сторон он окружен высокими горными склонами, покрытыми вечной зеленью лесов и кустарников. И только с восточной стороны он совершенно открыт, представляя великолепный вид на море с лежащими вдали на голубой глади вод темными пятнами островов. Это – Тассо, Имбро и Самофраки, а также обширный остров Лемнос, наполовину скрытый за голубым туманом. За тем же туманом, но еще более густым и уже молочно-белым, едва виднеется на северо-востоке снежная заоблачная цепь гор Македонии. А там – высоко в лесной чаще, что к северо-востоку от Ильинского скита, – едва виднеется небольшой болгарский скит Ксилургу. В древние времена и он принадлежал русским монахам. Значительно ниже, на расстоянии получаса хода от скита Св. Илии, красуется древний греческий монастырь Пандократор, обнесенный высокой стеной, с еще более высокими башнями. Издали это не монастырь в современном представлении, а скорее полный средневекового величия замок.
От Ильинского скита до Кареи два часа ходьбы, а до моря – полчаса. Скит удален от дороги, вблизи его нет жилья. И потому здесь постоянная тишина и безмолвие, много способствующие инокам проводить жизнь сосредоточенную и нерассеянную. В этом тихом скиту я провел незабвенных две недели, занимаясь в библиотеке и душой отдыхая в беседах со своими новыми друзьями. Но самым сильным воспоминанием является радостная память о церковных службах в этой обители. Помимо ежедневных служб я имел счастье встретить здесь и один из особо чтимых двунадесятых праздников, когда все службы отличаются особой торжественностью. Но всенощное бдение здесь, на Афоне, все же выделяется своей красотой, славой и своеобразием.
Накануне праздника часов в пять ударили в било. И этот стук возобновляли три раза в течение получаса. Потом ударили в большой колокол, а за благовестом последовал и трезвон. Приятно удивило меня в храме и привлекло внимание, когда прекратилось чтение псалма и часть стихов его стали петь попеременно оба хора. Пение это невольно вливало религиозную бодрость. А когда совсем стемнело, величественный собор начал освещаться в разных местах лампадами и свечами; после одиннадцати часов началось бдение, весьма утомительное для непривычного паломника. Утомительное, но в то же время следует признать, что молитвенное чувство не только не ослаблялось в течение продолжительного бдения, а даже, наоборот – все возрастало.
Плавные, точно воздушные экклесиархи, полупевучее чтение почтенными старцами, таинственный полумрак храма и мерцающие пахучие свечи из чистого воска – все это создавало особое и проникновенное настроение. А между важнейшими моментами бдения те же неслышные экклесиархи погружали собор в еще больший мрак. И тогда мерцали лишь лампочки у канонархов и лампады у чудотворной иконы. Впечатление глубокое и неизгладимое в душе моей оставило чудное пение. Кто имел счастье слышать это пение и видеть стройность, чинность и благоговейность афонского богослужения, тот не может не восторгаться им. Я и теперь как бы еще слышу эти чистые высокие голоса – свободные и естественные, неспешное, благоговейное внимание хора к словам канонарха, это ловимое сердцем и износимое из сердца, как хвала или как молитва, повторение их… Пение и чтение отличалось точностью, правильностью и выразительностью исключительной.
Утреня окончилась только после четырех часов утра. Перед началом праздничной литургии был один только трезвон. Огромный собор сиял светом, а богослужение наполняло душу высокой радостью, принятию которой, конечно, немало содействовало минувшее бдение, отстранившее от мыслей и сердца ненужные впечатления. Нарядные облачения, чинное и благолепное хождение, торжественные выходы духовенства – это все усиливало незабываемое впечатление.
* * *
С чувством покоя в душе покидал я этот тихий скит, сердечно провожаемый отцом игуменом и свободными от послушания иноками, среди которых особенной любовью меня окружали верные друзья и земляки-монахи отец Рафаил и отец Петр. На прощание все мы снова говорили о родине нашей и о великих испытаниях, выпавших на ее долю. Говорили о великом зле, которое так победоносно разгуливало по земным просторам, взрастившим и вскормившим большинство братьев скита. Вспоминали свою прекрасную родину старцы афонские с любовью, по-своему, по-монашески: без ненависти и злобы против кого-либо.
– Нехай все буде так. Тильки прийде цей велыкий день, прийде Воскресение! – спокойно сказал один из моих провожатых, старый инок из моего же уезда.
И видно было, что в пришествие этого великого дня непоколебимо твердо верил старый инок из уроженцев Полтавской губернии и все его братья во главе с отцом игуменом.
Паломничество по святой горе
Нас было тогда трое русских и один серб. Вышли мы из нашего славного монастыря в продолжительное паломничество по афонским обителям. И прежде всего начали восходить на крутизны узкой, необработанной тропинкой по направлению к северо-западу через Ксеноф, Зограф; перебрались через хребет горы на северную оконечность ее в Хиландарскую сербскую Лавру. А оттуда косогором северо-восточного кряжа через греческий Ватопед и Ксилургу – в Карею. Спустившись к Иверу и Климентовой пристани, мы прошли этой стороной среди обрывистых диких скал к вершине. Посещали келлии и каливы; к сожалению, не долго в них задерживались, хотя было много интересного, дотоле невиданного и неслыханного.
Но сколько нам пришлось преодолеть трудностей в пути по Афону! Невольно вспоминались легкость паломничеств по обителям родной земли… Часто случалось нам влезать на высокую и крутую гору, то проходить по крутому склону или ползти по груде мрамора с великой осторожностью. Часто случалось пробираться на гору по колючему и густому кустарнику, который цеплялся за одежду и препятствовал ходу, а под ногами – пропасть. Но самые большие опасности в пути представляет местность на южной оконечности главной горы, начиная от Лавры Св. Афанасия до Дионисиата и на вершину шпиля, особенно в осеннее время, когда там появляется снег.
Вследствие таких затруднительных путей неоднократно приходилось роптать на насельников Святой Горы, особенно в первые дни нашего паломничества. Неудобство пути мы приписывали нерадению монахов: много сот лет, думалось нам, живут они среди таких непроходимых мест, а не поправят для себя дороги. Но когда мы прошли эти пути и посетили дивные обители главных пустынножителей Афона, то при виде их бытового положения у нас взамен ропота невольно появлялось сожаление и раскаяние в своем ропоте на неудобства путей сообщения на Святой Горе.
Любопытная представлялась нам картина, когда мы смотрели с высот холмов. Всюду множество прекрасных строений и мелких хижин, расположенных на разных высотах и уступах горы. Одни из них царят, раскинувшись среди очаровательной местности, а около них, по их владениям гнездится множество скромных жилищ. Есть, впрочем, из них и добрые постройки, расположенные на откупных клочках земли, приобретенных у богатых господарей. Там и здесь видны были сгруппированные здания, благоустройством похожие на первые, но далеко уступавшие им своей бедностью. А рядом с ними, по тем же оврагам и ущельям Святой Горы, видны были убежища горемык земли, которые ютились в хижинах, шалашиках, пещерках и расселинах скал.
Особенно трогательное зрелище расстилается перед взором паломника при выходе из Ильинского скита на Царскую дорогу, которая извилисто ведет от перешейка вдоль узкого хребта до самой главной вершины, местами лесом, а местами кряжем. Отсюда открывается великолепный вид на обширную долину, которую называют Капсал, или что тоже можно было назвать русской колонией, подобно древней Фиваиде, потому что большая часть пустынножителей, заселивших ее, были наши земляки, русские. Капсальская пустыня и кругом прилегающие к ней местности, по юдолиям и ущелиям, исключительно была покрыта келлиями русских подвижников с маленькими крестами над их храмами.
На востоке, в недалеком расстоянии манит к себе путника одно из обширных и заметных зданий – скит Андреевский, а за ним, вдоль берега моря, ряд больших точек – угрюмых и обветшалых греческих монастырей. Впереди на живописном склоне, среди густой рощи и виноградников возвышается пустынная русская обитель – келлия Св. Иоанна Златоустого, с прекрасным собором.
Лавра святого Афанасия
Вокруг главной вершины горы, по ее отвесным и обнаженным оврагам, нет вблизи монастырей – там имеются лишь бедные и бесприютные пустынники, отшельники и сиромахи. Особливо достопамятны здесь для странника своим местоположением и строгостью жизни были подвижнические келлии скитов: Кавсакаливского, Кераси, Каруля, Св. Анны, Богородицы, и другие, расположенные на диких отрогах и в расселинах скал южной или юго-восточной оконечности Святой Горы. И только на северо-восток от них, на плодородной равнине, величаво красуется Лавра Св. Афанасия с одной стороны, а с другой – монастыри: Св. Павла и Дионисиат. Более десяти веков бесспорных (а по преданиям отеческим и более) иноки афонские неустанно трудились в деле сооружения новых строений, исправляя ветхость и древность святых обителей и храмов, умножая в них ревность своего благоукрашения. Поэтому неудивительно, что памятники живописного художественного дела скопились на Святой Горе от многих времен в количестве неисчислимом; но и самое древнее ее зодчество сохранилось нерушимо. В самом деле, если сочтем, сколько веков пронеслось над Афоном с того времени, как сподобилась Святая Гора посещения Матери Господа, и помыслим о том, сколько венценосцев – начав с Константина Равноапостольного, Феодосия, Пульхерии, Алексия, Аркадия и др. – воздвигали здесь разного рода иноческие обители и храмы, то великое число памятников художественного строения станет нам понятно.
В X веке Афон уже славился на всем Востоке святостью своих обитателей и служил цветущим вертоградом иноческого жития. Древние хартии на м передают, как царственный сын Павел Ксеропота минт (сын императора Михаила Рангавия) и отпрыск благородного древа (византийского дома) Афанасий, приняв ангельский образ, основал здесь стройное единение между пустынниками и отшельниками Святой Горы. Слава подвигов преподобного Афанасия, устроившего пустынную келлию во имя святого Иоанна Предтечи, особенно влекла к нему отовсюду учеников: из Рима, Италии, Грузии, Болгарии и даже далекой России. Многие настоятели знатных монастырей, даже епископы, приходили в его обитель и предавали себя руководству святого старца.
Лавра Св. Афанасия – изумительное произведение X века на Святой Горе, имеющая первенствующее значение в Церкви Царьградского Патриархата. Она воздвигнута в 961 году самим святым Афанасием и стоит в той красивой местности, где дотоле им устроена была в Меланах малая обитель, т. е. пустынная келлия в честь святого Иоанна Предтечи. Она расположена у подошвы восточной стороны громадного отрога Дифона, спустившегося почти от самого верха к заливу Контессо и в непосредственной близости к ней отвесно остановившегося. Область лаврских владений весьма велика: ей принадлежит вся южная оконечность и вершина горы, все подафонье со скитами: Молдавским, Кавсокаливским, Керасейским, Карульским, Аннинским. Так что на всей земле ее расположено было больше 180 подвижнических церквей.
Самая же группа фундаментальных зданий Лавры – среди столь обширного владения и окружающих ее масличных, ореховых, кипарисовых, каштановых, померанцевых и других плодовых деревьев и виноградных лоз – представляется огромным замком со множеством башен и бойниц, в числе которых особенно величаво стоит башня, построенная греческим царем Иоанном Цимисхием. Этот доблестный император, воевавший с русским князем Святославом, облагодетельствовал Лавру богатыми сокровищами, обстроил и укрепил ее так, что удивил ей всю Святую Гору и вызвал неудовольствие в святогорцах. Но и негодование их было более всего на преподобного Афанасия, за то что он допустил соорудить великолепнейший монастырь в своей пустыни и тем нарушил безмолвие иночествующих, разорил древние уставы отцов пустынного подвижничества. Дело перенесено было в Константинополь на суд императора, который вызвал святого Афанасия в столицу и, убедившись в личных его достоинствах, облагодетельствовал его и принял участие в устроении монастыря. Святогорцы просили прощения у святого старца и по примеру его Лавры начали устраивать свои монастыри.
Лавра имеет форму четырехугольника, стены ее в 20–25 метров высоты, и занимает она огромное пространство, разделяясь на две части: на внутренний и внешний двор. Во внутреннем дворе находится вся достопримечательность X века, принадлежащая исключительно самому основателю Лавры: соборный храм, трапезная, больница, странноприимница и все, что нужно было ему для пустынного обще-жительства по строгому уставу. Но в настоящее время Лавра отступила от строгих правил святого Афанасия, и, несмотря на свое огромное богатство, число братства ее не велико, исключительно греческое.
Главный соборный храм, служащий украшением Лавры, весь сложен из дикого камня и увенчан тремя главами с большими крестами; под обрушившимся алтарем этого храма скончался основатель его с шестью мастерами-строителями. Огромный купол покоится на четырех сводах, опирающихся на массивные каменные устои, и украшается трехъярусным хоросом-люстрой и множеством четырехконечных крестов, висящих в виде кадил на сводах храма. Алтарь разделяется на три части, стены его обложены блестящими плитами голубого фаянса, а вокруг – прекрасной резьбы стасидии. Помост испещрен драгоценным разноцветным мрамором. Во всем храме 37 мраморных столбов, окон 70, врат 12, длина его около 60 метров, а ширина – 62. Стены и своды его украшены символическими изображениями, двери двухъярусного иконостаса и кафедра игумена сияют перламутром.
Между святынями Лавры особенно замечательна часть Животворящего Древа, заделанная в крест, украшенный драгоценными жемчугами и сохраняемый в золотом ковчеге, как дар святому Афанасию императора Никифора Фоки. Святые мощи хранятся в двенадцати ящиках алтарного шкафа, соответственно двенадцати месяцам года, в которые чтится их память. В приделе Сорока мучеников находится гробница святого Афанасия. Под сению двух девятисотлетних кипарисов на восьми мраморных столбах возвышается крещальня, увенчанная куполом, внутри расписанным священными изображениями.
Таким образом, бури и грозы житейские, которые пагубно пронеслись над многими обителями и храмами Востока, почти не коснулись мирного афонского вертограда иноческой жизни в течение многих веков. И только ныне свалились на святогорские обители скорби великие по причинам, о которых речь будет в дальнейшем.
Крестовская келлия
Трудный переход был окончен, и мы, немного еще проплутав по соседним греческим келлиям, очутились у цели нашего очередного путешествия – в Крестовской келлии, где были радушно встречены старцем отцом Лотом и наместником его – отцом Филаретом.
Солнце уже перевалило за полдень, когда мы очутились в их обществе, причем каждый из братии спешил окружить нас самыми искренними заботами и вниманием. В тот день Крестовская келлия начинала празднование кануна своего храмового праздника, падающего, как известно, на 14 сентября старого стиля. У нас на родине этот полуосенний день обычно бывал окружен особым ландшафтом в виде широко расстилающихся повсюду опустевших полей, начинающих желтеть деревьев и стоящего над всем этим сентябрьского неба, успевшего утратить очарование летней безмятежности и голубизны. Здесь, на Афоне, в двух шагах от южного моря, этот сентябрьский день ничем не отличался по своему великолепию и силе солнца от июньских и июльских дней: кругом все та же пышная красота и неизменная прелесть голубых небес над головой.
Умывшись с дороги и получив любезно предложенный мне чай, уселся я у открытого окна, выходившего на морскую ширь, простиравшуюся за зелеными кущами рощ и садов, окружавших эту дивную келлию. И опять перед моими глазами была чудесная картина могучей природы, со сверкавшей гладью моря, золотисто-изумрудной листвой великанов растительного царства и строгими свечами уходивших ввысь темных кипарисов. Осторожно вошел отец наместник Филарет – живой, улыбающийся, весь сиявший нездешней радостью бытия, какую только и можно наблюдать у истинных иноков. А из дальнейшего разговора я убедился еще и в том, что у отца наместника была чуткая душа поэта, еще более чистая и возвышенная, благодаря строгой монашеской жизни и полнейшему отделению от мирской суеты.
– Вы уж извините, дорогой гость, но сегодня у нас большие хлопоты и гости. Приходится то и дело отлучаться! – ласково проговорил отец Филарет, с улыбкой смотря на меня чистыми и добрыми глазами. – Ничего нельзя поделать: храмовой праздник. Со всех сторон сходятся к нам соседи-келлиоты, сиромахи, странники… Но и вам интересно будет взглянуть на такое собрание: нигде, кроме Афона, не придется вам наблюдать этих воистину Господних людей. А нам нельзя не угостить их, нельзя не приютить на свой праздник во имя Божье!.. Вас же просим посетить наше вечернее бдение.
Отец Филарет скромно поклонился и вышел из келийки, а я остался у окна, продолжая любоваться расстилавшимися передо мной красотами. Этим, впрочем, пришлось мне заниматься недолго. Где-то совсем близко внезапно раздался сухой и характерный звук удара по сухому дереву – звонкий, приятный и в то же время какой-то настойчивый и упорный. Это ударили в традиционное монашеское било, почти исчезнувшее за последние века в монастырях России, но еще сохранившееся в обителях Афона и частично Балканских стран. И удивительно искусно ударял в это било невидимый мне инок, по-видимому, в совершенстве постигший своеобразную тонкость этого своего послушания. Стуки в било раздавались сначала с большими перерывами, заставляя ухо подолгу выжидать следующего удара, но затем они переходили в настоящую дробь, то мелодично повышавшуюся в своей силе, то постепенно ниспадавшую до подлинного деревянного «шепота», постепенно замиравшего и заканчивавшегося полным молчанием. Но последнее оказывалось только временным: проходили минуты, и умершие, казалось, звуки вновь воскресали с торжествующей живостью и силой. Так повторялось три раза. Затем, вслед за последней остановкой била, раздался удар в большой колокол, за которым вскоре начался перезвон, призывавший к вечернему богослужению.
Не прошло и нескольких минут, как раздался стук в мою дверь: за мной пришел посланный от наместника добродушнейший отец Исайя. Ему было поручено проводить меня в храм, где уже началось торжественное богослужение. И уже через несколько минут я с ним вошел в полутемную церковь, переполненную молящимися и по-праздничному украшенную зеленью; пол тоже был посыпан ей в изобилии.
Совсем необычное впечатление производила толпа богомольцев, наполнявшая небольшой храм: все это были монахи разного возраста. Но в то же время не были эти иноки похожи и на братию одной и той же обители, подобно тому, как это приходится наблюдать в монастырях. В толпе «гостей» Крестовской обители можно было видеть разнообразных монахов-странников, едва прикрытых обветшавшими от времени рясками, обутых в самодельную, сильно поношенную обувь и чуть ли не по самые глаза обросших густыми волосами. Это были странники-сиромахи, которые десятками лет ведут на Афоне скитальческую жизнь, вечно паломничая от одной обители до другой, живя подаянием и не принадлежа ни к какому определенному братству.
– Сиромахи точны, как календарь, и твердо знают, когда и в какой обители престольный праздник, – пояснил мне отец Исайя. – Помолятся они на торжестве, покормятся, а там, глядишь, снова идут куда-нибудь в противоположный край Афона, чтобы поспеть на новый праздник, к новым милостям. Так и живут они всю жизнь свою на Святой Горе, н у, право, как птицы небесные. Порой и не знаешь, где и как умирает такой сиромах. Бывает, что и в лесных дебрях отдает Господу душу свою…
Было 6 часов вечера, когда началась всенощная. Афонское бдение под храмовый праздник – это нечто особенное, производящее неизгладимое впечатление и требующее от непривычного человека большого запаса сил и выдержки. Обыкновенно такое бдение продолжается 8–9 часов, после чего почти немедленно совершается ранняя литургия. Таким образом, вся предпраздничная служба поглощает до 12 часов. Эти долгие службы я выстаивал довольно бодро и без особого утомления; обычно не присаживался в стасидии, что разрешается в известные моменты и монахам. И в этот раз, невзирая на утомление от многочасового пути и томительной жары, я, хорошо освежившись холодной водой, как-то прибодрился и весь был исполнен духовной свежести и силы. Всю вечернюю и ночную службу я выстоял бодро, внимательно следя за чтением, наслаждаясь своеобразными афонскими напевами.
Мерцали свечи, менялись чтецы, входили и выходили темные монашеские фигуры, тихой волной уносились во тьму ночи звуки песнопений и все чаще и громче раздавались вздохи утомленных старцев. А я, не примечая времени, с интересом присматривался и прислушивался ко всему окружающему и благодарил Бога, что привел меня на Святую Гору. Когда же слишком одолевала духота, выходил на терраску и глядел в бездонную пропасть южной ночи и освежался соленоватым воздухом моря, который доносил тихий ветерок вместе с ароматом афонских растений… Но вот литургия окончилась, и, приложившись к кресту, вышел я на монастырский двор, по которому рассыпались гости. Порой они соединялись в небольшие группы «старых знакомых» и вполголоса обменивались своими впечатлениями.
– А, отец Нафанаил! – донеслось до моего слуха из соседней группы. – Вот и привел Господь встретиться снова… А, почитай, не видались уже года четыре!
Я посмотрел в сторону говорившего и увидел древнего монашка, седого, как лунь, и стоявшего с таким же седеньким странничком в помятой скуфейке.
– Больше, чем четыре, отец Софроний! – ответил тот, кого звали Нафанаилом. – Помню, что повстречались мы с тобою в последний раз на Сорок Севастийских мучеников, а тому будет уже лет шесть. Я тогда еще с отцом Феофилом зырянином путешествовал по горе, вдвоем мы сиромашили… Да!
– Может и так, отец… Время-то бежит у Господа и нас к покою могилки приближает. Ну, а где же спутник-то твой. Теперь припоминаю и его, зырянина-то этого.
– А почил Феофил-то мой… давно почил. Вскоре после той нашей встречи почил. В больнице у ильинцев конец свой земной обрел… Там и погребен бысть. Вот теперь один я и странствую.
Пока хозяева суетились в трапезной около больших столов, приготовленных для угощения многочисленных гостей обители, решил я воспользоваться свободным временем и осмотреть усадьбу Крестовской келлии, в чем мне много помог старичок-монах, показывавший замечательные уголки их обительского хозяйства. И я с удовольствием осмотрел виноградники, огороды и вместительные цистерны для собирания дождевой воды, столь необходимой для питья, изготовления пищи и правильного огородничества на горных высотах. И при виде этих доказательств упорного и подлинно-вдохновенного труда крестовских иноков, добровольно ушедших для подвига и труда на Святую Гору, я не мог удержаться от выражения волновавших меня чувств шедшему со мной старцу. Но мой провожатый в ответ на мои похвалы только кротко улыбнулся и слегка махнул рукой:
– Ну, чему уж там учиться у нас! – проговорил он тихо. – Немало есть в миру людей, во много раз лучше нас, недостойных и грешных, мнящих себя близкими к Богу. А к кому он ближе на самом деле – только ему самому и ведомо! Что же касается трудов наших, то и они без его помощи не совершаются… Всё Господь помогает.
Вслед за виноградниками и огородами добрый старец провел меня к усыпальнице, примитивной и крошечной. На Афоне вообще все монашеские усыпальницы устроены по одному образцу и подчиняются одним правилам, т. е. трехлетнему пребыванию монашеского праха в земле и последующему водворению его костей в особое помещение для вечного упокоения.
– Вот это все наши «бывшие» – объяснил мне старец, указывая на правильно сложенные в усыпальнице кости. – Земля еси, в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем…
Пока я в раздумье стоял около открытой двери усыпальницы, из нее вышло жуткое существо в поношенной ряске, с суровым выражением землистого цвета лица, окаймленного жидкой седой бородкой. Это был старец, приставленный к усыпальнице и неизменно пребывающий в соседстве с черепами и костями своих бывших собратьев.
– Вот и отец Мелитон! – сказал мой спутник, добродушно кивнув вышедшему из склепа гробничему. – Блюдет кости скончавшихся и от зла их охраняет.
Но отец Мелитон даже не улыбнулся в ответ на слова добродушного старца.
С уважением отвесив поклон, молча я покинул «Мелитоновы владения». И уже вскоре находился на залитом солнечными лучами дворике обители, постепенно освобождавшемся от странников и других гостей, направлявшихся занимать места за праздничными столами.
* * *
Крестовоздвиженская или, как ее называют на Афоне, просто Крестовская, келлия находится на восточном склоне Святой Горы и расположена на прекрасном выровненном холме, от которого не более получаса ходьбы до морского берега. Позади обители возвышается огромный холм, покрытый каштановыми рощами, придающими особую красоту этой местности. Обитель обсажена огромными кипарисами и издали привлекает взор путника своей колокольней и куполами. Местоположение этой обители изумительно красивое, изобилующее великолепными панорамами, полными живописных красок и безмятежного величия природы. Только на западе эти панорамы несколько заслонены соседними высотами, покрытыми густым лесом. Что же касается востока, то там взор наблюдателя всецело очаровывает лазурное море архипелага, с выделяющимися на его зеркале величественными островами. На южной же стороне глаз долго не может оторваться от гигантского массива Афона, находящегося близко от Крестовской келлии. Хорошо видны с ее холма также Карея, Андреевский скит и множество отдельных келлий, живописно расположенных в изумрудном царстве зелени.
Крестовскую обитель по ее благоустройству свободно можно причислить к ряду лучших святогорских общежительных пустынных келлий. Начало существования этой обители относится к X веку. Как и другие пустынные обители, она была тогда устроена для безмолвного подвижничества особенно ревнующих иноков-греков, удалявшихся из монастыря по благословению своих старцев, дабы проводить остающиеся им дни жизни в пустынном уединении, посте и молитве. В начале прошлого века эта обитель перешла от греков в русское владение. И с того времени она стала благоустроиться, достигнув полного расцвета при старце отце Пантелеимоне. Вследствие усиленного притока братии (до великой войны в этой обители спасалось до 130 монахов) и паломников проводилось усиленно строительство. В результате этого она имеет благоустроенный и красивый вид. Главный корпус с церковью имеет три этажа и весьма красив снаружи. Но, помимо этого корпуса, имеется еще несколько меньших, в которых также размещалась братия. В этой обители имелась еще слесарная, кузнечная и столярная, сапожная, портняжная, хлебная и просфорная; до войны была еще собственная фотография и переплетная.
В Константинополе эта обитель имела с 1900 года свое подворье для приема паломников из России, а в Палестине приобрела Фаранскую Лавру, основанную Харитоном Исповедником. Кроме того, в 1912 году приобретен был в Сирии, на Ливане, близ Бейрута, монастырь Св. пророка Илии, в который тогда было выделено из Крестовской келлии больше сорока человек братии.
Келлия св. Артемия
Пользуясь своим пребыванием у гостеприимных крестовских иноков, я решил посетить и соседнюю с ними русскую келлию Св. Артемия. Эта благоустроенная обитель находится невдалеке от моря и главной дороги, ведущей от Кареи в Лавру Св. Афанасия и на вершину горы. Она находится на половине этого пути, а потому все паломники посещают ее. Основание этой келлии относится к XIV веку. До 1862 года она была в греческих руках, имея печальный и запущенный вид. Но с этого года начинается постепенное ее расширение: на месте старого греческого храма был отстроен новый, а вскоре и второй храм, затем устроен был корпус для братии и другие помещения. В конце же прошлого столетия был выстроен новый большой корпус, увеличена разработка земли и вообще обитель приведена в благолепный вид.
В настоящее время в Артемьевской келлии пять больших построек. Главный, очень длинный корпус имеет два этажа: внизу церковь Покрова Пресвятой Богородицы, трапезная с кухней, братские и паломнические помещения, в верхнем этаже – главный храм во имя святого Артемия с красивым иконостасом. В том же этаже приемные и номера для паломников, настоятельские и братские помещения. Слева к корпусу пристроена отдельно галерея с большой гостиной, из которой открывается дивный вид на море и городок Карею. Перед входом в главный корпус раскинут широкий двор с садом, окруженный несколькими постройками. Слева от главного корпуса находится свечная мастерская, рядом устроены и другие обительские мастерские. У моря обитель имеет свою пристань с всякими принадлежностями для рыбной ловли и собственными судами. Вообще, Артемьевская обитель – одна из самых больших русских келлий на Афоне, братство до великой войны насчитывало до 90–100 человек, и число паломников доходило до 5–6 тысяч в год.
Вот в эту замечательную келлию я и направился в обществе ее настоятеля, старца отца Афанасия, воспользовавшись его настоятельным приглашением после окончания праздничной трапезы у братьев-крестовцев. А сопровождать меня вызывались старые друзья, иеромонах Георгий, иеродиакон Афанасий – ильинские, и милый крестовский монах отец Исайя. Прием, оказанный в Артемьевской келлии, я и теперь не могу вспомнить без умиления. У врат обители приветствовал меня наместник ее отец Адриан. После теплых слов и сердечных пожеланий я вступил под своды прекрасного храма, где увидел всю братию. Глубоко тронутый оказанным мне вниманием, благодарно молился я Вседержителю во время отслуженного заздравного молебна. С благоговением осмотрев храм с его замечательным престолом из чудного мрамора, перешел вместе со старцами в приемное зальце, куда последовали вслед за нами и другие хозяева-иноки.
И теперь еще хорошо помню эту приемную комнату, увешанную по стенам портретами русских царей и православных иерархов, а в застекленных, как в музейных витринах, шкафах сохраняющую интересные экземпляры афонской фауны. Так же никогда не забуду и нашей мирной беседы с отцом настоятелем и его наместником, оказавшимися весьма содержательными и разумными собеседниками. Как объяснил мне за чаем отец Афанасий, их обитель до 1914 года жила в условиях монашеского довольства и порядка, справляясь с задачами собственного хозяйства и не нуждаясь в посторонней помощи. Но после бедственных событий на родине, подобно другим русским обителям «монашеского царства» на Афоне, жизнь иноков в Артемьевской келлии во многом изменилась к худшему, и число братии катастрофически уменьшилось. Нет притока кандидатов монашества, нет и желанных паломников…
Пользуясь гостеприимством и вниманием отца Афанасия и его наместника, я довольно долго пробыл под сенью полюбившейся мне Артемьевской келлии, любуясь с ее возвышенности чудесными видами и вдыхая аромат афонских просторов, со всех сторон доносившийся вместе с предвечерним движением воздуха. Уже набегали вечерние тени, когда я, так же радушно провожаемый хозяевами, вышел за ограду келлии Артемьевской, чтобы поспешить с возвращением в Крестовскую. И в этот момент мне была уготовлена новая приятная неожиданность: с обительской колокольни раздался торжественный трезвон, каким на родине провожали владык и особо почитаемых посетителей. И вот теперь таким посетителем оказался я – русский скиталец, волей Провидения очутившийся в вековой твердыне православия, столь близкой нашей несчастной родине.
Не помню, что сказал я в ответ на этот колокольный звон отцу настоятелю. Вернее – не сказал ничего, от избытка чувств. Но отец Афанасий, вероятно, и не нуждался в моей благодарности: он хорошо знал людей и без их слов.
* * *
Когда я возвратился в Крестовскую келлию, уже наступил вечер и над зеркальной гладью архипелага еще едва заметный при последних проблесках зари вставал молодой месяц.
Погостив у добрейших крестовцев несколько дней, я на рассвете двинулся в дорогу, направляясь к новым приютам молитвенных подвигов наших удивительных иноков. И сколько еще их было впереди – этих чудесных истинных оазисов и твердынь человеческого духа! «Разве обойдешь их всех, отшельников-то, – заметил мой спутник, задумчиво посматривая на голубые туманы, окутывавшие склоны гор. Ведь и не перечесть, сколько их спасается на этих кручах!.. Мирские люди и не знают, что творится у нас на Афоне во имя их спасения и во славу Божью».
Разве мог я в эти минуты не согласиться со словами моего спутника, так хорошо понимавшего великое значение небольшого, но замечательного уголка земли, пребыванию на котором он и сам посвятил свою жизнь.
И мы шли дальше.
Еще по келлиям
Каждая общежительная пустынная келлия – это жемчужина в громадном и великолепном венце православной веры, каковым является весь Афон. Иначе и назвать нельзя эти келлии, ибо от каждой из них исходят незримые лучи живительного, духовного света – света Христовой истины и спасительной красоты Его учения. Келлии Преподобного Евфимия, Вознесения Господня и Св. Николая чудотворца, которую издали трудно и рассмотреть в кущах густой растительности, – какой неизгладимый свет оставили они в моей скитальческой душе! Всё здесь чудно, всё освежает и очищает душу. Да и самый климат тут прекрасный, в этих цветущих долинах, защищенных – и с севера, и с юга – стенами гор. Только с моря доносится сюда теплое и влажное дыхание. Вообще, это один из прелестнейших уголков Святой Горы. Широкая сочная долина врезается глубоко в хребты гор, и ее отлогие скаты, покрытые красивыми каливками, виноградниками, кипарисами, составляют очень эффектные ворота в этот живописный горный проход.
В келлию Вознесения Господня, которая находится между Каракалом и Филофеевским греческими монастырями, мы прибыли час спустя после выхода из гостеприимной Крестовской обители. И здесь нашли опять то же русское радушие и простоту, какие видели раньше в других родных русских обителях, снова чувствовали веяние истинной христианской любви и чистоты душевной.
Как видно было из надписей, уцелевших на остатках старого иконостаса, эта обитель основана в XVII столетии, а в русские руки перешла в 1855 году. Храм не велик, но в нем имеются две замечательные иконы Спасителя и Богоматери, носящие признаки арабского письма. Спаситель изображен с поднятой благословляющей десницей и опущенной шуйцей (левой рукой); от письма получается впечатление, что Спаситель как бы задумался. Богоматерь с Младенцем на правой руке изображена бегущей с развевающимся от ветра покрывалом на ее главе. Здания этой обители – крепкой хозяйственной постройки и состоят из двух-трехэтажных корпусов; есть и еще один двухэтажный корпус с жилой надстройкой; также мастерские, кузница и проч. Во главе тогда многочисленной братии стоял старец-иеромонах отец Илия с дельным помощником отцом Варсонофием. Обитель эта по своему местоположению весьма живописна и благодаря обилию насаждений и природной растительности в летнее время представляется великолепным садом.
Осмотрев святыни Вознесенской келлии и ознакомившись с ее прекрасным хозяйством, мы спустились к большому источнику воды в овраге, также полюбовались живописными рощами, которые раскинулись красивыми террасами. А затем сравнительно быстро перешли из Вознесенской келлии во владения соседней келлии Св. Евфимия, представляющие одну из самых лучших афонских «дач», по изобилию тех хозяйственных даров, какие могут быть даны ее огородами.
Но это хозяйственное благополучие может быть достигнуто только большим трудом. А потому жизнь каждого келлиота – сплошной труд, прерываемый только молитвой, при котором даже на сон падают самые незначительные промежутки времени. И келлиоты трудятся, не делая исключений даже для старцев; в особенности теперь, когда келлии обезмонашились и нет рабочих рук. Поэтому трудиться афонцам в настоящее время приходится не по силам, изнемогая порой до такой степени, что некоторые из старцев после трудового дня остаются на месте работы, не имея сил возвратиться на ночлег в келлию.
И вот я был именно в одной из таких келлий, где вся братия состояла из восьми человек. Эта немногочисленная братия должна была обслуживать усадебное хозяйство, для которого нормально нужно было положить человек пятнадцать хороших работников.
– Что же поделать, когда Богу угодно только нам восьмерым поручить эту келлию, – услышал я простодушные слова старца иеросхимонаха отца Агафангела. – Вот и трудимся, грешные… Только Господь и помогает. А без Его помощи не справились бы.
Осмотрев храм Евфимиевской келлии и побеседовав с радушными хозяевами за предложенным мне по восточному обычаю вареньем с прекрасной ключевой водой, стали мы спускаться к келлии Св. Николая чудотворца, расположенной в широкой долине и окруженной высокими горами и холмами. Опять вокруг меня был настоящий рай с живописными видами на окрестности и далекое море, а сама келлия утопала в густой зелени. И опять меня радовала задушевная и полная глубокого содержания беседа с настоятелем, иеромонахом отцом Георгием, радушно усадившем меня на старенькой терраске над крутым склоном, с которого я мог снова любоваться Божьей красотой.
Эта скромная обитель Св. Николая чудотворца находится в 15–20 минутах ходьбы от греческого Филофеевского монастыря. По древнему преданию, основана эта келлия в начале XIV века несколькими выходцами из господствующего греческого монастыря, искавшими пустыннической жизни. А в 1860 году она перешла в русское владение. Настоятель иеромонах отец Георгий, несмотря на скудные средства, много потрудился для благоустроения обители и самостоятельно разработал новый участок земли.
В довоенное время братии было 10–12 человек, а осталось только двое, и старец мужественно борется с нуждой, стараясь сохранить эту древнюю обитель. Непосильно работая по хозяйству и невзирая на свой преклонный возраст, отец Георгий поддерживал строгий порядок богослужений, отличаясь редкой культурностью. На Афоне его очень почитали, а знали далеко за пределами Святой Горы, так как он поддерживал постоянную письменную связь со многими друзьями и благодетелями. Я хорошо знавал отца Георгия, искренне ценил его мудрую беседу и всегда стремился к свиданию с ним, зная его благорасположение и радушие.
Конечно, и здесь не обошлось без трогательного угощения. После чего отец Георгий с иеродиаконом Вениамином решили меня проводить до монастыря Каракал, предложив мне также их единственного мула. Я с радостью воспользовался этим предложением, принимая во внимание усталость своей мулашки, уже достаточно послужившей мне за время предыдущих переходов по горам и долинам Афона.
В беседе с провожавшими друзьями время пролетело быстро, и вскоре уже показался греческий монастырь Каракал, находящийся всего в четверти часа от морского берега.
Второе паломничество
Плавание по архипелагу
Цветущие берега живописной Греции… Море покачивает вас на зеленоватых волнах. По тем же волнам тысячелетиями двигались ладьи человека. И они избороздили эти сине-зеленые воды во всех направлениях, не зная иного простора. Десятки веков сложили грандиозные ступени, от первобытной стадии человеческого существования до позднейшей культуры бесконечной вереницы племен и народов. Произошла знаменательная смена великих религий, политических форм, философских школ и разнообразных принципов и идеалов.
Но все это прожито. Пройден далекий путь…
Когда взгляд окинет бесконечную морскую ширь, охватившую нас отовсюду, возбужденной фантазии кажутся доступными все отдаленные уголки этого поэтического царства: вот далеко впереди вправо, за синей чертой небосклона, скрыты от глаз очертания высокой пустынной горы – мы идем к ней, к Афону; а влево, далеко в глубине, за сотни километров – колыбель народов, библейская родина человечества. Первый шаг первого дикаря запечатлел девственную почву Азии, переступил в Африку, достиг Европы и, пройдя путь многих веков, окреп на огромном пространстве.
На пути к Афону я почти не сходил с палубы, любуясь все новыми и новыми картинами, с каждым часом становившимися все прекраснее. Недаром Байрон называл острова архипелага драгоценным ожерельем вечно-прекрасного моря. Восхищались ими и суровые, закаленные в битвах крестоносцы, сравнивавшие архипелаг с разбросанным по воде цветником. И этот гигантский цветник не прерывался нигде во время плавания по Цикладам: не успевал скрыться из поля зрения один остров, как на смену ему вставал другой, еще более красочный.
И синими, слишком синими казались в этом благословенном краю волны архипелага, доводящего в то же время изумительную прозрачность своих вод до эффекта незнакомого ни одной стране, ни одному морскому простору. Так и чудилось, что, кроме яркого солнца, сиявшего над головой, где-то внизу, под волнами горит и блещет второе такое же светило, дающее возможность простому человеческому глазу постигать все тайны неизмеримо глубоких волн.
Чем дальше наш путь, тем скалистее берега, вдоль которых движется бегущее к заветной цели наше судно. В одних местах отроги этих берегов круто спускались в море, производя грозное впечатление; в иных – им на смену внезапно приходила мирная тишина обширных зеленых лугов или полоска золотистого песчаного берега, залитого лучами непобедимого солнца… Пароход теперь держал путь еще определеннее в сторону Афона. На голубом просторе всплывали цветущие берега, как прихотливые корзины цветов. Они казались плавающими на этих волнах, отражающих и яркую зелень, и красноватые скалы, и караваны опаловых облаков, едва скользящих в прозрачной пелене неба. Но вот справа на горизонте встал гористый Имброс, за ним обозначился фиолетовый абрис Самофраки, а прямо вдали – поднялась из пенистых вод мраморная чаша Лемноса. Сзади нас слабо зарисовываются остроконечные пики Тенедоса, отделенные тонкой водной чертой Безикской бухты.
Не помню, сколько времени плыл я таким образом, ни на минуту не отрываясь от созерцания прекрасных картин. Помню только, что пароход уже миновал живописный остров Тассо, с раскинувшимся напротив него городом Кавалой, когда за голубоватой завесой под узорчатой каймой горизонта начал вырисовываться силуэт Святой Горы – желанной цели моего путешествия. Казалось, что цель была уже совсем близка, но затем выяснилось, что нам пришлось плыть еще часа три, пока пароход поравнялся с южной частью Афонского полуострова. И только тогда очертания Святой Горы стали делаться яснее. А южное солнце тем временем медленно переходило полдень, окружая вершину ее чуть приметным золотым нимбом. Картина была поразительная, чарующая, незабываемая!
Святая Гора, между тем, все приближалась, обнаруживая детали до того времени незаметные и скрывавшиеся за туманной далью. Но все же суровостью дышит величественная природа южной части горы. Мощно-спокойным взглядом отшельника смотрит она в туманную даль, где укрылась беззаботно-веселая Греция. Дикие камни, кое-где по вершинам зеленые пятна растительности, одиноко застывшие деревья и скалы, скалы кругом. А внизу шаловливое море источило базальт и песчаник неустанно бьющими в берег волнами. Красноватые гребни утесов нависли и смотрят вниз на подошвы уступов, одетых пеной прибоя. Не видно жизни, не заметно движения. И все же именно этому грустному одиночеству позавидовал гениальный английский поэт Чайльд-Гарольд, увековечив в чудных стихах свое посещение Афона.
– Вот видите эти темные пятна на горных скатах? – сказал мой спутник. – Присмотритесь хорошенько, вы их легко заметите!.. Видите теперь?
Я с интересом последовал его указанию и вскоре увидел то, на что он указывал: на неприступной высоте оголенного ската уступами кверху, на разном расстоянии одно от другого, на золотившейся от солнца скалистой поверхности горы разбросаны были черневшие пятна-точки. Число их увеличивалось по мере приближения нашего парохода.
– Это пещеры и келлии спасающихся в отшельничестве иноков, – пояснил он. – Немало таких же келлий и в ущельях скал, и в чаще лесов.
Восточный ветер пробежал по архипелагу, покрыв легкой зыбью его синюю гладь, по которой всего только на несколько минут забегали белые барашки.
– Зыбь, – задумчиво проговорил мой спутник. – Но это сейчас же и пройдет, и море станет еще спокойнее, чем раньше.
Скоро мы поравнялись с юго-восточной частью Афона.
* * *
Лязгают цепи. Якорь ныряет в морскую пучину, и мы останавливаемся. К нам несутся от пустынного берега лодки, ныряя по волнам, они доставляют чиновников и пассажиров-монахов. Загремела лебедка и началась выгрузка из трюма, а греческие чиновники стали проверять документы тех пассажиров, которые собирались съехать на афонский берег. Процедура эта обещала затянуться, но обстоятельства мне благоприятствовали, и, удовлетворив всем требованиям представителей власти, я вскоре уже вступил на берег афонской пристани Дафни.
– Не вы ли господин М.? – послышался около меня спокойный, мягкий голос, произнесший мою фамилию. – Отец наместник прислал за вами лодку. Из монастыря целителя Пантелеимона… Ведь это вы, не правда ли?
Передо мной стоял высокий и очень худой седоватый монах в сером подряснике с открытым добрым лицом, сильно обветренным от постоянной работы лодочника. Это был милейший иеросхимонах отец Петр, впоследствии мой большой друг и интересный собеседник. Растроганный любезностью отца наместника и добродушного отца Петра, с ласковой и детски-спокойной улыбкой смотревшего на меня, я назвал себя. После этого последовал за ним к колыхавшейся у берега лодке.
– Пожалуйте! – приветливо пригласил отец Петр. – Путь недолгий, да и море спокойно… Быстренько доберемся в нашу обитель.
В лодке было еще два монаха: средних лет схимонах отец Вениамин, с окладистой черной бородой, и седенький старичок. Они погрузили сначала вещи в лодку, потом вошли туда мы, паломники, – и вскоре уже поплыли по морской глади.
Заходило солнце, и зелень цветущего Афона и в ней утопающие обители – монастыри, скиты, келлии и каливы – представляли чудную картину полной тишины и присутствия Божьей благодати. И пока плыли, мы, не отрываясь, любовались этой красотой. Но вот лодка причалила к пристани Пантелеимонова монастыря, и нас радушно встретила группа ласковых старцев, присланных внимательным игуменом для оказания услуг прибывшим.
* * *
Я поднимался все выше, сопровождаемый услужливым иноком, двигавшимся следом за мной с тяжелыми вещами. И это обстоятельство смущало меня до крайности. Но монашек в выцветшей от солнца скуфейке пребывал в благодушном настроении и, по-видимому, был охвачен непритворной радостью от возможности услужить гостю.
– Вот все же Господь приводит к нам русских людей! – сказал он просто. – Редко, очень редко, но все же приводит… Что сотворилось с Россией-то, Царица Небесная!..
Несколько утомившийся от непривычного подъема, я не мог вести беседы с моим спутником, что, впрочем, он и сам хорошо понимал.
– Ну, теперь уже скоро кончится! – обнадеживал он меня. – Спервоначалу так с каждым гостем бывает, а опосля обвыкаются. Вот сейчас отдохнете на «фандаричке» у отца Паисия. Вот она уже видна, гостиница-то… Умоетесь, чайку попьете и отдохнете.
Направо и налево высились громадные каменные здания монастырских корпусов, среди которых пробегала наша дорога. И их белые стены теперь казались золотисто-розовыми от последних лучей солнца. Такими же прекрасными цветами были окрашены чудесные олеандры и пальмы на пути к гостинице. Прошло еще несколько минут – и я уже находился на фондарике, в длинном и чистеньком коридоре монастырской гостиницы. Мне навстречу вышел любезный гостинник, отец Паисий, тотчас же распахнувший светленький номер.
Помню, как, пройдя на балкончик, я долго не мог оторвать глаз от развернувшейся картины тихих вод Монте-Санто, омывавших находившийся справа гористый выступ полуострова Лонгоса. Чудесно светилось море, нежно зеленели рощи, покрывавшие горные склоны, уже слегка подернутые синими туманами умирающего дня. А значительно ближе, прямо перед моими глазами, целой панорамой развертывался он – наш древний русский монастырь, представляющий по своему положению и богатству построек одно из живописнейших мест на Святой Горе.
Заутреня у святого Пантелеимона
В нашем славном монастыре посчастливилось мне встретить и светлый праздник Христова Воскресения. После молитвенных дней Страстной седмицы настала Великая Суббота. Утреня. Чудное пение погребения Христа. Затем литургия Великой Субботы, когда всей душой почувствовалось, что после скорби, страданий и смерти Спасителя наступает действительно великая радость преславного Воскресения… Подошла и пасхальная ночь. У пантелеимоновцев такой обычай, что светлая пасхальная заутреня начинается в главном соборе, и потом оттуда братия расходится по своим церквам и параклисам с торжественным пением «Христос воскресе»… Там оканчивают заутреню и сразу же начинают литургию.
Кругом темно. Лампадки тихо мерцают. Темные фигуры во мраке тихо спускаются по лестнице к нижнему собору. В храме Покрова Пресвятыя Богородицы закончилась длинная полунощница. Унесли плащаницу в алтарь. И стало в церкви тихо, пусто, торжественно. А ровно в полночь раздался колокольный звон. И после него пение в нижнем соборе: «Воскресение Твое, Христе Спасе» – на славянском языке, а затем то же самое – на греческом. Все монахи с возженными свечами в руках выходили из собора, а за ними вышла и масса священнослужителей в праздничных ризах. После провозглашения могучим басом старца-архидиакона «И о сподобитися нам слышания Святаго Евангелия Господа Бога молим», отец наместник прочел Евангелие, прерываемое колокольным трезвоном.
Затем соединенные крестные ходы из обоих соборов, Пантелеимоновского и Покровского, торжественно обошли вокруг собора. Картина незабываемая: чудесное прославление в монашеском царстве победы жизни над смертью! Торжество из торжеств под звездным куполом южной ночи; мерцание монашеских светильников и проникновенное афонское пение при чуть слышных всплесках волн залива.
Картина величайшего прославления. Впечатление глубокое и неизгладимое в душе! Масса духовенства в нарядных облачениях, иконы, хоругви и зажженные свечи. Все это представляло картину незабываемую, радостную. Но впечатление величия этой чудесной картины еще больше усиливалось от серебристого, радостного и искусного звона колоколов, который разносился далеко по Афонской Горе и таял в водах архипелага… Вернувшись отец наместник провозгласил «Слава Святей» и прочел стих «Да воскреснет Бог». Затем назначенное для служения священство вошло в нижний собор, а остальные поднялись в Покровский.
Трапезная монастыря Св. Пантелеимона
С воскресением Христовым все как бы воскресло, ожило и радостью озарило лица. А с клироса на клирос стала теперь перекатываться победная песнь – и весь храм запылал в освещении свечей и драгоценных лампад… Ликует земля вместе с небом, радуясь о Воскресшем Спасителе.
Во всем мире в Святую ночь в чистом весеннем воздухе носится торжественный гимн Воскресшему, и гул густых колоколов, как волнами, застилается перезвоном серебристых колокольчиков. Но особенно звучно и красиво колокольный звон и благовест раздается со звонниц русских святогорских обителей, в уединении приютившихся по горам и лесам Афона. И когда он раздается среди ненарушаемой тишины, воздух как будто вздрагивает от его удара, как будто разрыдается от его звуков, которые, медленно колыхаясь, несутся между деревьями все дальше и дальше. А потом где-то тонут и только отзвук свой оставляют пожить еще несколько мгновений. Когда же замрет и он, раздается другой удар с теми же переливами. Потом третий – и затем уже звуки сливаются в один властный, призывный гул, особенно чудесный, когда благовест переходит в трезвон.
Возвращаясь к описанию церковных служб Пасхальной недели, следует упомянуть про совершенно особенную и на Святой Горе лишь виденную вечерню в Светлое Воскресение. Для чтения Евангелия в Покровском соборе священнослужители становились гуськом на известном расстоянии один от другого; в царских вратах – отец наместник, а в глубине храма – иеродиаконы. При этом Евангелие читали на разных языках и после каждого стиха экклесиархи звонили в особые колокольчики, давая знак звонарю. А затем плавно разносился гул большого колокола.
Это было необычайно, торжественно и красиво. В другие дни Пасхальной недели за вечерней кадили экклесиархи, тоже имея золоченые ковчеги на плечах, с особенными открытыми кадильницами на серебряных блюдах.
Вообще, всюду на Святой Афонской Горе богослужение было прекрасное, благоговейное и торжественно-медлительное. Но в монастыре Св. Пантелеимона, в Андреевском и Ильинском русских скитах, как и во многих русских келлиях, было оно к тому же истовое и проникновенное, исключительно благолепное и нам родное.
Афонское служение нельзя даже назвать служением – это священнодействие, где все проникнуты важностью совершаемого. И ни у кого не замечается утомления, скуки или желания поскорее дочитать или отслужить. Наоборот – видно лишь общее стремление к молитве и высокой настроенности.
Киновии и идиоритмы
Издавна жизнь монахов на Афоне отлилась в своеобразные формы, которые сохраняются до настоящего времени. Ныне там существует двадцать больших монастырей еще от времен византийских, удержавших за собой наименование царских и ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно Патриарху, помимо местной епархиальной власти. Они занимают господствующее положение среди других учреждений (скитов, келлий и калив) Святой Горы, независимы друг от друга по своему внутреннему устройству и управлению и вполне самостоятельно распоряжаются на землях и участках, им издревле принадлежащих. А в зависимости от своего устройства и управления эти монастыри разделяются на киновии (или общежития) и идиоритмы (или штатные). Вопросы питания меньше всего интересуют не только отшельников, но вообще всех афонских иноков. С первых дней пребывания на Афоне каждый монах усваивал главную афонскую заповедь: всё – для возвышения духа и ничего для услаждения своего телесного естества. И это обстоятельство в значительной степени облегчало их пребывание в «киновиях» – своего рода отшельнических общинах, замечательных строгой и подвижнической жизнью всех своих братий. Строгость жизни в таких киновиях усугубляется и еще одной особенностью, незнакомой даже и одиночным отшельникам.
Эта особенность – полнейшее отречение инока-киновиота от своей воли, поступление в безграничное расположение своего духовника и настоятеля, становящегося как бы головой одного общего тела, членами которого являются все младшие братия киновии. Настоятель направляет каждое действие такого брата, назначает его на все работы и определяет время продолжительности их, по своему усмотрению регулирует часы отдыха братии, всегда являющиеся весьма непродолжительными между молитвой и послушанием. Ни один из братии киновиальной обители не может выйти без благословения за ограду монастыря и слепо подчинен велениям своего духовного главы. А он, в свою очередь, несет на своих плечах тяжкий крест ответственности за души спасающихся под его началом. И при дружной совместной работе духовника и настоятеля с братией – киновийцы всегда достигали замечательных духовных результатов. Поэтому вся такая киновия овеяна полной гармонией духовной жизни, чуждой неурядиц столкновений.
Следует отметить, что у киновийцев никогда не имеется личной собственности. И в этом – заметное отличие киновийцев от келлиотов, которые представляют тип своеобразного афонского инока-хозяина. А по строгости жизни насельники общежительных обителей очень часто приближаются к одиночным отшельникам-каливитам. Трапеза в киновиях всегда очень скромная, почти скудная: по понедельникам, средам и пятницам, а также и в течение поста, киновийцы принимают пищу всего один раз в сутки, не употребляя при этом ни рыбы, ни масла. Есть вне трапезы им строго воспрещается, как и сходиться в келиях для излишних разговоров.
Благодаря этому вся жизнь этих людей, достигающих порой глубокой старости, проходит в непрерывных общих молитвах, чередующихся тяжелыми послушаниями и работами. Утреня у киновийцев ежедневно начинается в полночь. За утреней следует ранняя литургия, а за ней, после краткого перерыва – поздняя. За два часа до захождения солнца начинается вечерня с повечерием, а под воскресенье и праздничные дни все иноки простаивают всенощное бдение, продолжающееся всю ночь.
К общежительным или киновиальным монастырям на Афоне принадлежат следующие двенадцать: русский – Св. Пантелеимона, болгарский – Зограф, сербский – Хиландар, и греческие – Костамонит, Григориат, Дионисиат, Св. Павла, Кутлумуш, Симонопетр, Ефсигмен, Ксенофонт и Ставроникита.
В противоположность киновиям идиоритмами называются монастыри, в которых нет ни общей жизни, ни общего имущества и равенства прав, ни власти игумена. Отцы или братия идиоритма разделяются на проистаменов, или проэстосов (наставников-руководителей), и пангенионов (простых членов общины). Проэстосы управляют и руководят жизнью монастыря. Из среды их избирается священное собрание (синаксис), которое представляет высшую в обители власть и выполняет свое служение через посредство двух избираемых собранием эпитропов или доверенных и одного дикея, действующих во всем под надзором и руководством синаксиса. Но чтобы не был упразднен освященный издревле обычай управления в монастырях при посредстве игумена, таковой избирается и в идиоритмах, но только из класса проэстосов. Только в идиоритмах игумен недолго остается у власти, даже и номинальной: через несколько дней по избрании он канонически отказывается от игуменского звания, получает наименование проигумена (т. е. бывшего игумена) и опять вступает в среду проистаменов, к которой принадлежал и до игуменства. В идиоритмах монахи живут отдельно и обособленно друг от друга, не имея ни общей трапезы, ни общего имущества. Монахам разрешается иметь собственное незначительное имущество, на доходы с которого большинство их и живет. Но только проистамены могут иметь значительную собственность, движимую или недвижимую (сады, огороды). Многие из них живут в особых монастырских помещениях, как в собственных домах, имея своих послушников. И при жизни проэстамены могут распоряжаться своим имуществом по личному усмотрению, но после смерти их собственность целиком переходит в монастырь. В настоящее время к идиоритмам принадлежат восемь монастырей, из коих семь греческих и один сербский.
После монастырей второе по значению место в ряду иноческих учреждений на Святой Горе Афонской принадлежит скитам. Это иноческая община, состоящая из монашеских келлий (аскитирий), расположенных на земле какого-либо из больших и древних афонских монастырей. И центром этой общины служит кириакон, т. е. соборный храм. Дикей настоятельствует скитом; он избирается всем братством и управляет при помощи двух эпитропов и нескольких соборных старцев. Но все это относится к скитам греческим, а русские скиты – Андреевский и Ильинский – имеют внутреннее устройство и управление по образцу общежительных монастырей.
Высшее управление келлиями, а равно и целым скитом, принадлежит тому монастырю, на земле которого он расположен. Вот в этой зависимости и заключается главное отличие афонских скитов от монастырей. Так, например, скит имеет право принимать в состав братства новых членов, но приглашать епископа для рукоположения достойных лиц в священные степени без разрешения своего монастыря не имеет права. Без разрешения того же монастыря скит не имеет права ни ремонтировать свои здания, ни тем более производить новые постройки, и вообще какие бы то ни было сооружения. На своем участке земли, приобретенном по купчей, скит не имеет права производить ломку камня или рубить деревья, хотя бы и насаженные своими иноками. Монастырь взыскивает с иноков, живущих в скитах на его земле, особую плату. Он же признает и утверждает выборы должностных лиц (игумена, эпитропов, дикея), избираемых братством. Монастырь также пользуется правом умиротворять внутренние раздоры и решать всякого рода недоумения и затруднения. Но, в свою очередь, монастырь обязывается защищать интересы скита, находящегося на его земле.
Все взаимные сношения и обязательства, все права скита и порядок его внутренней жизни регулируются специальными договорами и грамотами, составленными по соглашению кириархального господствующего монастыря с подчиненными ему скитскими учреждениями. Эти грамоты, для большей безопасности и официальности, доводятся до сведения центрального управления (Протата) Святой Горы и утверждаются Константинопольским Патриархом.
И скиты по своему устройству разделяются на идиоритмы или штатные и киновии или общежительные. В настоящее время на Афоне существует двенадцать скитов, из коих семь населены греческими монахами, три – русскими (Андреевский, Ильинский и Фиваида), один – молдавский и один – болгарский. Большинство из них принадлежит к идиоритмам; но русские скиты все устроены по типу киновий. Из последних, скиты Андреевский и Ильинский – по внутреннему своему благоустройству, богатству (до революции) и обилию иноков – стояли наравне с монастырями; некоторые даже и превосходили их.
Греческие монастыри Ватопед и Эсфигмен
1
Дорога идет все выше, и скоро горный хребет: его признаки заметны за деревьями в виде более близкого голубого неба. Здесь растут самого разнообразного сорта и вида кустарники и буйно овивающий их плющ, а также и колючий терний. В особенности много последнего, и чем ближе к Ватопеду, тем его больше.
– Эти колючки подлинно ватопедские, – объяснял мой услужливый проводник. – Ватопед по-гречески значит «колючий кустарник». А иные говорят, что то же, что и «дитя в кустарнике». Так и в книжках наших афонских сказано… От этих кустарников и начался давным-давно знаменитый теперь монастырь Ватопед.
И от своего спутника-монаха я впервые узнал легенду об основании Ватопеда. Вот эта красочная легенда.
Царствовал в Константинополе Феодосий Великий, и в награду за его благочестие и добрые дела послал ему Бог трех детей от царицы Плакиллы: сыновей Аркадия и Гонория и дочь Плакадию. Однажды послал Феодосий сына Аркадия в Рим, в гости к Константину, «соцарствовавшему» своему могущественному тестю в Вечном городе. После благополучного пребывания Аркадия у своей родни направился отрок обратно к своему державному отцу на корабле, окруженный заботами блестящей свиты. Несколько дней мирно плыл корабль царевича. Но когда поравнялся он с отцом Имбросом, соседним со Святой Горой, поднялась сильная буря. Страх объял водителей судна и самого царевича, и стал он метаться по корабельной палубе, взывая: «Пресвятая Богородице, помоги мне! Утешение рода христианского, не дай нам погибнуть!» Налетел шквал, тряхнул мачтой; перевернуло корабль с необыкновенной силой в ту сторону, где был царевич. В отчаянии взмахнул руками царский сын, хотел прыгнуть на ту сторону, где ему еще чудилось спасение, но зацепился за лежавшие веревки и упал. Не прошло мгновения, как бурная волна унесла его с собой в бездну.
Блестящие спутники и воспитатели Аркадия пришли в ужас и смятение. «Мы все целы, погиб только царевич! Как же мы возвратимся без него и предстанем пред владыкой нашим? Как оправдаемся в гибели вверенного нам отрока? Лучше умереть всем нам или уйти в пустыню до конца жизни». И вне себя от страха перед царским гневом пристали вскоре несчастные царедворцы со своим кораблем к тому месту, где ныне возвышаются стены и храмы величественной Ватопедской обители. Но когда они, выйдя на сушу, проходили около прибрежных кустарников, то под одним из терновников нашли совершенно невредимого царевича, спавшего на голой земле крепким сном. Пораженные и обрадованные явным чудом, цареградские вельможи прославили Бога за оказанную великую милость. А царевич, пробудившись от сна, рассказал своим попечителям о явлении Матери Божьей в самую страшную минуту и о своем избавлении от неминуемой смерти в морских волнах благодаря Ее вмешательству.
«Я уже пошел ко дну, находясь среди безысходного мрака и холода… и вдруг, будучи в последний раз выброшен на поверхность бушевавшего моря, увидел, что все вокруг засияло от невыразимого света, сильнейшего, чем солнце. И тогда я увидел Матерь Божью, прямо по волнам приблизившуюся ко мне и взявшую меня за руку. „Не бойся ничего со Мною, – сказала Пречистая. – Я тебя выведу на берег“. И я покорно пошел за своей Спасительницей прямо по волнам и вскоре был уже здесь, около этих кустарников».
Выслушав чудесный рассказ царевича, вельможи осмотрелись по сторонам и заметили вдали скромную обитель, в которой нашли несколько бедных афонских иноков. Как свидетельствуют некоторые исторические исследования, этот маленький монастырь и был родоначальником выросшего впоследствии громадного греческого Ватопеда, который был воздвигнут Феодосием Великим в новом и прекрасном виде на месте прибрежных кустарников, среди которых был найден невредимым царевич Аркадий…
Таково красочное предание о возникновении этого замечательного греческого монастыря на Афоне.
* * *
Ватопед расположен на берегу залива Контессо, омывающего северо-восточный склон Афонского полуострова. С трех сторон монастырь окружен горами, покрытыми кустарником, который вскоре переходит в густой лес. Между благоуханным и тенистым царством всякого рода южной флоры и самим Ватопедом разбросались цветущие насаждения, виноградники и фруктовые сады – богатые монастырские владения. И только в одном месте размыкается зелено-синий полукруг окружающих Ватопед горных массивов, уступая место сверкающему под солнцем морю, замечательному по своей красоте в ясные летние дни.
Своей величиной и обширностью занимаемой площади Ватопед превосходит все монастыри на Афоне и считается – по величине своих достатков и грандиозности сооружений – одной из богатейших обителей. Ступени и ступени, чередующиеся площадками, а за ними, на самом верху, – одна последняя и главная, нечто вроде широкой эспланады при главном входе, за которым полутемный проход и уже начинаются внутренние дворы этого древнего и величественного монастыря-крепости. Что ни постройка или храм – подавляющее впечатление грандиозности; грандиозности чисто греческой, создававшейся веками, с массой пристроек и надстроек – и по-своему великолепной.
С благоговением и глубокой верой воздвигали, расширяли и украшали Ватопед великие Константин и Феодосий. Но с прямо противоположной им по своей силе ненавистью уничтожали и разрушали ту же обитель – Юлиан Отступник, арабские шейхи и Михаил Палеолог, замучивший двенадцать членов Ватопедского собора за нежелание принять общение с Римом. В последний раз Ватопед был уже окончательно и фундаментально обновлен в конце XVIII века.
Чрез двойные врата, находящиеся в западной стене, мы прошли на обширный ватопедский двор, со всех сторон окруженный стройными кипарисами. Двор был почти пуст, только где-то в глубине его медленно проплыли две темные монашеские фигуры и тотчас же скрылись за каменным выступом.
– А вот и соборный храм! – сказал мой спутник. – Старинный и замечательный храм. Такого нет нигде на Афоне. Внутри – чудо, а не храм!
Я взглянул перед собой и, увидев невысокую и длинную постройку красного цвета, всей душой потянулся к этому древнему храму, многовековому убежищу горячих молений многих тысяч верующих людей. И я долго любовался его величественным преддверием, украшенным мраморными колоннами и арками. Видел порфировые колонны внутренней церкви, доставленные из Рима еще Гонорием, и долго не мог оторвать глаз от целой галереи потемневшей, но все еще прекраснейшей византийской живописи, украшавшей соборные стены. Громадная часть этих замечательных памятников византийского искусства сделана лучшими мастерами по заказам и образцам самого Панселина.
Ватопедский Благовещенский собор, увенчанный семью куполами, по справедливости именуется афонскими обозревателями и историками кивотом величайших святынь, драгоценных сердцу верующего христианина. И одной из этих главных святынь является чудотворная икона Матери Божьей, именуемой Предвозвестительницей. Имеются в соборе еще четыре чудотворные иконы Богоматери. Каждая из этих святынь имеет свою историю, полную красочности и мистицизма. Но в особенности изобилует трагическими моментами повествование о событиях около иконы Богоматери Закланной, до наших дней хранящей на своей ланите след удара ножом безумца.
Великолепен алтарь соборного храма в Ватопеде. Один из знаменитых русских путешественников и описателей Афона XVIII века Григорович-Барский называет его «небеси подобным». Я был в Благовещенском соборе в те минуты, когда предвечерние солнечные лучи, проникая в окна под куполом, рассыпали золотисто-розовые блики по карнизам и колонкам мраморной стены над престолом и искуснейшим мозаикам, составляющим вместе образ Благовещения: с одной стороны этих мозаик – Матерь Божья, а с другой – Архангел Гавриил с белой лилией. В алтаре имеются три замечательные древние иконы мозаические изящной мелкой работы. А в притворе над входными дверями в полукруге изображение Иисуса Христа мозаикой во весь рост, с молящимися по сторонам Его Богоматерью и Предтечей. Следует отметить, что ватопедские мозаичные работы являются почти единственными на Святой Горе и представляют собой замечательный памятник церковного искусства, коим по справедливости могут гордиться греки.
Близ преддверия соборного храма в Ватопеде возвышается величественная колокольня. Она выше всех святогорских колоколен, хотя при общем взгляде на монастырь с моря или окрестных горных склонов и не доминирует над другими массивными зданиями этой грандиозной обители. Вообще же, кроме Благовещенского храма, в Ватопеде состязаются в благолепии или исторической древности шестнадцать разных церквей. А вне монастыря имеется еще двадцать две церкви. Все замечательно и грандиозно в богатых ватопедских храмах, наполненных вековыми и драгоценными приношениями щедрых благодетелей всего православного мира. Но если говорить о художественной ценности редких церковных предметов (утвари, одеяний и проч.), присовокупляя и их материальную ценность, то нельзя умолчать о знаменитой ватопедской ризнице, которая является хранилищем редчайших сокровищ. И с гордостью следует упомянуть, что многие из этих церковных ценностей относятся к тем дарам, которые широкой рекой лились сюда из России – от царей, вельмож и благочестивого народа русского.
Переночевав на благоустроенном фондарике, весь следующий день я целиком посвятил осмотру замечательной ризницы, чему много способствовало рекомендательное письмо Элладского архиепископа, воспитанника Русской духовной академии. И я должен признаться, что положительно меня подавило впечатление от всего – многочисленного, редкого и ценного, – что удалось увидеть в этой единственной в своем роде ризнице.
С понятным нетерпением я ожидал и возможности обозрения драгоценной ватопедской библиотеки и, главным образом, ее рукописного отдела. Она помещается в угловой башне и образцово содержится. Самыми замечательными между рукописями являются Евангелия, писанные на коже разной величины. Особенно Евангелие XII века, на пергаменте красивого письма, с изображениями евангелистов и с прекрасными миниатюрами. Затем Четвероевангелие X века, на пергаменте с превосходно отделанными золотом и красками симфоническими таблицами. Евангелие и Апостол XII века, Псалтирь тоже XII века. Но наиболее замечательной рукописью является Октатевх (часть Библии от книги Бытия по книгу Руфь) XII века со 168 миниатюрами. Есть в этой библиотеке и несколько других экземпляров Библии XI и XII веков, более мелкого письма. А также: Ветхий Завет 1021 года, Книга Бытия, Притчей и Пророчеств XI века, Триодь XII века и др. Драгоценностью библиотеки является также экземпляр Птоломеевой географии XII–XIII веков со многими картами на пергаменте. Во время моего пребывания в Ватопеде там работали художники из США, присланные для зарисовки замечательных миниатюр из старинных евангелий.
* * *
Однажды вечером, закончив работу в библиотеке Ватопеда, я вышел за его ограду со своим спутником. Наступал вечер, когда мы спустились на берег, где тянулся целый ряд платанов и кипарисов, окутанных вечерним сумраком. Мы шли по берегу, вдыхая свежий запах морской пучины, казавшейся в эти тихие минуты гигантским серебряным зеркалом, не имевшим конца и края. Но мы были не одни в прогулке при первой луне: навстречу нам попадались важно шагавшие старшие монахи, прохаживавшиеся под сумрачными кипарисами и, по-видимому, пользовавшиеся этой привилегией в силу своих почтенных лет и положения в монастыре. Остальная братия в это время уже готовилась отходить ко сну за высокими и строгими стенами своего древнего монастыря-крепости.
* * *
Прогостив в Ватопеде десять дней, из коих большую часть я посвятил осмотру ризницы и работе в библиотеке, на заре двинулся в дальнейший путь к сербскому Хиландару. И на этот раз я пользовался услугами любезного моего проводника отца Харлампия и незаменимых мулашек, хорошо отдохнувших и откормившихся в гостеприимном Ватопеде. Кстати, заговорив о гостеприимстве Ватопеда, нужно объективно подчеркнуть, что, по общему и вполне справедливому мнению, из всех греческих монастырей на Афоне именно эта древняя и славная обитель окружала своих гостей особым вниманием и старанием им услужить. Лично я уже второй раз посещал Ватопед, который предупреждался о моем приезде заботливым рекомендательным письмом главы Греческой Церкви известного церковного писателя, ученого и великого иерарха митрополита Хризостома, воспитанника Русской духовной академии. Но сколько мне приходилось слышать от других паломников, русских и иностранных, все они выражали хвалу Ватопеду за внимание и гостеприимство.
2
В приятном разговоре со своим бывалым и интересным спутником отцом Харлампием я и не приметил, как мы уже отделились прибоем шумевшего моря от каменистой тропинки и колючих кустарников. Теперь мы опять поднимались в гору, хотя и несколько отлогую, ибо путь шел по горному перевалу до самого афонского хребта, находящегося приблизительно на полдороге. Когда же путник достигает хребтовой точки, он уже видит с горы монастырь Эсфигмен.
Эсфигмен значит «Утесненный»: с трех сторон он как бы сдавлен горными массивами, изобилующими крутыми обрывами и каменистыми отвесами скал. Только с четвертой, восточной, стороны он свободен от своего горного и утесистого плена и имеет перед собой открытую панораму на морскую ширь, подобно Ватопеду. Эсфигмен – обитель древняя, основание коей некоторые историки относят к V веку. Предание говорит, что ктиторами были император греческий Феодосий Младший и сестра его благочестивая царица Пульхерия. История Эсфигмена – история многих невзгод и тяжких переживаний его иноков, история набегов сарацин и других варваров, неоднократно разорявших обитель. Тем не менее после всех этих потрясений обитель снова восставала из пепла и собирала в своих стенах новые кадры достойных иноков и подвижников.
Для русских особенно ценно, что история Эсфигмена в одном из своих моментов сближает его с историей России и в особенности ее монашества, несмотря на то что это монастырь чисто греческий и братия его состоит из одних иноков-греков. Но по преданию, именно в Эсфигмене, в конце X и начале XI века, подвизался первоначальник русского иночества преподобный Антоний Киевский; по благословению игумена этой обители Феоктиста он удалился в пещеру, высеченную в скале над морем и получившую название Самара. Впоследствии преподобный Антоний оставил Афон и, возвратясь на Русь, под Киевом основал первое монашеское пустынножительство, постепенно разросшееся в знаменитую Киево-Печерскую Лавру. В 1849 году над остатками пещеры преподобного Антония была построена на русские средства небольшая церковь в его честь.
Мне удалось посетить эту святыню. Но чтобы достигнуть этой цели, пришлось приложить много усилий и долгое время пробираться по горной тропинке, восходившей вверх среди крутых каменных скал и колючих кустарников, терзавших нашу одежду. Но когда мы очутились, наконец, на верхней площадке, то я рад был увидеть небольшую церковку во имя преподобного Антония Печерского, выстроенную в чисто русском стиле с типичными деталями этого зодчества. Сама пещера великого подвижника находится на восточной стороне двухэтажной каменной келлии, рядом с ее нижнем этажом. С небольшой площадки перед пещерой – чудесный вид на синеющее море с островами, как бы млеющими под лучами солнца.
Можно думать, что, уединенно подвизаясь в своей пещере, преподобный Антоний не мог не переноситься своей мыслью – при виде этой водной лазури и гор – к другим видам и берегам зеленым, находившимся далеко от Афона. Этими водами и берегами были дорогие сердцу великого славянского подвижника прекрасные виды древней Киевской Руси, с ее безбрежным Днепром и нагорным Киевом, куда впоследствии и возвратился преподобный Антоний для завершения своего подвига.
Эсфигмен не богат. Но несмотря на свои малые достатки, обитель эта величественна и прекрасна. Посреди монастыря стоит главный соборный храм, в котором много древних святынь. Кроме этого храма имеется семь параклисов, а вне обители – еще тринадцать церквей. С северной и южной стороны монастыря его омывает поток горных вод, устремляющихся в море. Над этим потоком нависли темные каменные арки, по всем данным воздвигнутые еще в глубокой древности. На том же потоке устроена водосвятница, также относящаяся к давно ушедшим временам.
От тихого и небольшого Эсфигмена с его висячими балкончиками, террасами, надстройками и высокими переходами веет поэзией, красивыми легендами и своеобразной прелестью скромной монашеской жизни вдали от суетного мира и в непосредственной близости с великолепием и грандиозностью окружающей природы.
Сербский монастырь Хиландар и болгарский Зограф
1
Монастырь Хиландар на протяжении многих столетий тесно был связан с историей Сербии и сербского народа. Это своего рода жемчужина сербов, ценность которой во многих случаях увеличивалась влиянием России и ее государей; это ризница рукописных книг, собрание грамот (повельи) и других драгоценных предметов из славного сербского прошлого.
Издали Хиландар не виден с дороги, как это часто бывает и с другими афонскими монастырями. Он лежит в лощине, к которой ведет извилистая дорога, пробегающая между кустарниками и камнями. И эта дорога ведет путника к Хиландару так, что он в известный момент неожиданно останавливается перед самым входом в древнюю сербскую Лавру – перед ее тройными железными воротами, за которыми тотчас же бросается в глаза высокий пирг (башня), построенный королем сербским Милутином.
Вокруг Хиландара – живописные лесные заросли с буйными кустарниками, масличными деревьями, темными кипарисами и крутыми скатами оврагов, поросших плющом и омелой. Эта славная Лавра основана в исходе VII столетия сербскими иноками царского происхождения Саввой и Симеоном. Как мы уже говорили, юный сербский царевич Растко, убедившись в суетности всего мирского, тайно бежал из дома своего отца, царя Стефана, на Афон и в монастыре Руссике постригся в иночество с именем Савва. Влекомый отеческой любовью, царь Стефан пытался вернуть своего сына, но затем и сам сделался иноком, приняв при пострижении имя Симеона… Отсюда потекли благодеяния сербского царского рода на всю Святую Гору, основан был и сербский монастырь. Получив от родственника своего, греческого императора Алексея Комнена, грамоту на владение местом в лесном урочище Афона – Хилендарии, они в 1199 году заложили и быстро построили на нем монастырь.
Обитель эта стала возрастать с необычайной быстротой, так как в нее стекались сокровища со всей Сербской земли, позволявшие сербам-игуменам возводить великолепные храмы и другие грандиозные сооружения, усиливая хозяйство обители присоединением к ней обширнейших земельных владений. Хиландар некогда имел много имений в Сербии, и в XIII и XIV веках игумен его пользовался старшинством после сербской царицы, Патриарха и наследника престола. Следует упомянуть и о том, что с первых дней своего существования Хиландар занял на Афоне место первой славянской обители и внес твердый славянский дух в многие монастыри Святой Горы, и в них, греческих по основанию, богослужение начали совершать на славянском языке.
Вторым благодетелем и устроителем этого монастыря-лавры был король сербский Стефан Неманья, зять императора греческого Андроника Палеолога. Этот щедрый «ктитор» Хиландара в 1293 году не только воздвиг в нем новый соборный храм, но и укрепил монастырь башнями и бойницами. Но самым цветущим временем Хиландара все же был 1348 год, когда в стенах монастыря несколько месяцев пребывал знаменитый царь Стефан Душан, считавшийся самодержцем всех греков, сербов и болгар. Он во многом способствовал украшению и благоустройству этой исторической сербской обители. С ним тогда была и царица Елена, что являлось совершенно исключительным случаем, ибо женщинам не дозволен доступ на Святую Гору.
Вскоре настали времена тяжкие для всех балканских славян: произошла кровопролитная Косовская битва 1389 года, и Сербская земля оказалась во власти турецких полчищ султана Мурата. Пало Сербское царство, а с ним и Хиландарская Лавра лишилась почти всех своих достояний в Македонии, расхищенных турками. Но тогда взоры молитвенников-славян с Афона обратились на север, к далекой Москве, где царствовал Иоанн Васильевич Грозный. Он не оставил молений хиландарских иноков без внимания: не только он обещал им свою поддержку, но и даровал подворье в Москве, в Китай-городе, по правую сторону Устюжского двора. Право на владение этим подворьем было впоследствии подтверждено царями Феодором Иоанновичем, Борисом Годуновым и первыми венценосцами из Дома Романовых.
Монастырь Хиландар, подобно большинству святогорских обителей, издали представляется огромным замком или крепостью, окруженной стенами с бойницами и высокими башнями. Суровые переживания, многие пожары, нападения врагов и другие невзгоды, которым подвергался Хиландар за время своего многовекового существования, не могли не наложить на эту обитель некоторой печати, несмотря на ремонты и восстановления. Свободным от этого является только прекрасный собор, отличающийся величественностью, красотой и богатством материала, из которого он воздвигнут; отчасти и огромная, прекрасно расписанная трапезная. Собор, построенный в 1303 году, стоит среди монастыря отдельно от других зданий. В нем повсюду цельный белый мрамор, начиная с двадцати шести громадных колонн, уходящих под купол, и кончая карнизами дверей и окон. Помост в соборе – редкий образец мозаичного искусства, представляющий собой соединение различного рода и вида мраморных плиток. А над мраморным ковром этой мозаики величественно высится целое царство красивейших паникадил, драгоценных крестов, развешанных по стенам, и другой церковной утвари огромной художественной ценности и большой стоимости. Не менее замечательны в этом соборе три аналоя: один евангельский и два по клиросам. Все они обложены кожей черепах и в изобилии украшены перламутром, что в общей сложности производит впечатление неописуемой красоты и роскоши. Во внешнем притворе собора на стенах фресками изображены цари и святители сербского рода великих иноков-венценосцев святых Саввы и Стефана.
Царь сербский Стефан, сделавшийся впоследствии смиренным иноком Симеоном, был первоначально погребен в Хиландарском монастыре. Но спустя некоторое время сын его, будущий святитель Савва, перенес нетленное тело своего родителя на далекую родину, в Студеницкий монастырь, и поныне существующий в государстве Югославия. Мраморная гробница, в которой ранее почивало тело святого Симеона, находится в Хиландарском храме до сих пор. Над гробницей образ святого во весь рост.
Под своими сводами древний собор хранит много церковных сокровищ, например, две замечательные катапетасмы, или завесы: сербская – XIV столетия и русская – XVI. Последняя – образец лучшего древнерусского искусства, и она является вкладом царицы Анастасии Романовны, первой супруги Иоанна Грозного. Эта завеса шита по дымчатому брокату венецианских фабрик, затканному густо цветами, золотом, серебром, шелками: голубым, малиновым, красным и золотистым. Работа исполнена в царских мастерских, общее исполнение: все детали могут быть названы верхом совершенства. Там же имеется замечательная плащаница XIV века сербского происхождения.
Первое место в священной чреде чудотворных икон Хиландара занимает образ Богоматери Троеручицы, овеянный обаянием ряда прелестных легенд и преданий. Основная легенда – эта рассказ о событии, повлекшем за собой наименование иконы Троеручицей. Святому Иоанну Дамаскину пришлось подвергнуться тягчайшему гонению со стороны халифа Дамасского: ему была отсечена правая рука. Целую ночь молился Иоанн перед иконой Богоматери и, со слезами приложив мертвую кисть руки к зиявшей ране предплечья, задремал от усталости. И совершилось чудо: когда очнулся Иоанн от своего тяжелого сна, рука его оказалась сросшейся и исцеленной… В память этого события святой Иоанн вычеканил из серебра изображение кисти руки и укрепил его на иконе, перед которой горячо молился в памятную и страшную для него ночь.
Эта икона «Троеручица» сияла своими чудесами в течение многих веков во многих обителях и храмах. Исторические источники свидетельствуют, что она с половины VIII века находилась в палестинской Лавре Св. Саввы Освященного, в келье Св. Иоанна Дамаскина. Но в VIII веке в Палестину прибыл святой Савва, архиепископ Сербский, коему икона эта была дарована палестинцами, как особое благословение царственному иноку. В дальнейшем «Троеручица» некоторое время пребывала в Сербии, а в XV веке оказалась снова в Хиландарском монастыре на Афоне, поставлена была в алтаре собора. Но в настоящее время она там более не пребывает, а занимает исключительное место на игуменской кафедре, каковое положение имеет свое определенное основание. И это основание овеяно прекрасной легендой. «Матерь Божия Троеручица – наша игумения, – с гордостью объясняют хиландарцы. – У нас нет игумена, а есть только проигумен, т. е. наместник, ибо Царица Небесная сама пожелала править Хиландаром. Потому Ее икона и стоит на игуменском месте. И существует об этом трогательное предание». Перед каждой службой и в разных других случаях монастырской жизни предстоятели и другие иноки с благоговением склоняются, прося у Небесной своей Игумении благословения.
Долго я стоял пред этим древним образом Афона, возвышающимся на вековой игуменской кафедре, имея перед собой целую систему мерцающих лампад и разнообразного размера восковых свечей. И тихое чувство искреннего умиления перед древней святыней наполняло мою душу… Кроме соборного храма в Хиландаре имеется десять параклисов.
В один из вечеров, утомленный осмотром достопримечательностей Хиландара и впечатлениями пережитых дней, я вместе со своим проводником-монахом и двумя иноками-сербами сидел на монастырском балконе в ожидании ужина. Небо темнело все больше, и в некоторых окнах обители уже зажглись огни. Монашеский стан после трудового дня готовился отходить ко сну, столь краткому у афонских иноков, встающих до восхода солнца.
– А вот там, за синими горами, – сказал иеромонах отец Арсений, – там за перевалом, начинается ваш «мир». Вот там и наши Скопле, Ниш и Белград. Там и ваши Одесса и Москва. Я был в Одессе еще мальчиком… И вообще там, за этими горами, – мир, ваш суетный мир, от которого мы, помощью Божьей, ушли на Афон, в наши тихие монастырские келлии.
Я взглянул на север по направлению руки монаха и понял, что он говорил. Хиландарская Лавра находится в самой северной части Афонского полуострова, за ней, при следовании далее на север, уже нет более монастырей. Там, далее, за синими горами, действительно начинается «мир», с его суетой и житейскими волнениями, столь чуждыми всему монашескому царству Афона.
* * *
Со времени святого Саввы монастырь Хиландар был книжным и просветительным центром сербского народа. В нем же святой Савва основал и сербскую библиотеку, которая прославилась и существует до сего времени. Пользуясь любезностью хиландарского библиотекаря, архимандрита отца Михаила, я получил возможность работать в этой замечательной сокровищнице старых рукописей и редчайших книг. С понятным нетерпением засел я в этом тихом хранилище древних сокровищ на огромных полках и в шкафах. Радостным трепетом наполнилось мое сердце при виде древних славянских рукописей!
В хиландарской библиотеке имеется Евангелие в замечательном окладе, на котором укреплены пять пластинок византийской эмали. Эти эмали – из редчайших образцов XI века – сохраняют еще оригинальные черты основного античного типа древней византийской живописи. Этому соответствует и палеография надписей, носящая характер письма X века. Нимбы Архангелов – голубые, бирюзового оттенка. Там же имеется большое число Евангелий разного письма и времени.
Евангелие на пергаменте, писанное неким Рома ном в 6845 (1337) году, во дни «благочестивого и первого царя Сербского кир Стефана, а оковано в серебро при царе Стефане Уроше 6868 (1363) года». Евангелие на пергаменте, писанное по приказу царя Георгия, сына царя Теодора-Святослава Болгарского и Греческого в 6830 (1322) году. Евангелие на пергаменте, писанное монахом Дионисием 6869 (1361) года, с припиской: «В то време престави се превысоки господин царь Срьбски, сын св. Кралия Оуроша Стъфань Доушаны…» Евангелие на пергаменте большого формата, писанное Григорием «великославному князю Мирославу». И много еще других рукописных сокровищ.
2
Из сербского Хиландара до болгарского Зографа четыре часа ходу. Все выше и выше в гору бежит извилистая тропинка, постепенно доходящая до хребта, за которым уже начиналось наше нисхождение. Но между подъемом и спуском еще существует нечто среднее, как бы умышленно придуманное в течение столетий афонскими проводниками-иноками для ознакомления паломников со всеми красотами Святой Горы. Это недолгое, но обязательное следование путников вдоль самого хребта по удобной и мягкой дорожке, с которой открываются восхитительные виды по обе стороны. Уже отсюда, с величавой высоты, время от времени частично виден Зограф, показывающийся из-за зеленых кущ окружающих его деревьев. Точно также бывает он виден и во время спуска под гору: древняя обитель и здесь на мгновение показывается, чтобы вскоре снова и надолго исчезнуть.
Но окончательно панорама Зографа открывается перед изумленным взором направляющегося к нему паломника лишь тогда, когда последний далеко спустится вниз почти уже к самому оврагу, на противоположной стороне которого просторно и величественно раскинулась эта древняя обитель. Зографом, или «Живописцем», обитель чудотворной иконы святого Георгия можно назвать не только потому, что во тьме столетий изображение святого великомученика чудесно начерталось на голой доске Невидимого и Великого Художника… Зограф-живописец, будучи расположен в местности необычайной красоты и могучего великолепия, действительно живописен до чрезвычайности, и нелегко найдется тот вдохновенный и талантливейший художник, какой мог бы в точности передать на полотне всю прелесть бесчисленных зографских ландшафтов. И положительно нет часа, если ни минуты, чтобы эти замечательные виды не менялись в своих чудесных оттенках, в зависимости от положения солнца над горизонтом и игры его лучей. Нелегко найти и краски, которые могли бы полностью передать нежность голубых и фиолетовых далей. А чем ближе к Зографу, тем вообще роскошнее и буйнее окружающая его растительность, тем суровее и диче дерби кустарников и тем веселее зеленеющие рядом с ними рощи. И все это вместе взятое с каждой минутой все щедрее дарит восхищенного пришельца благоуханием цветов, кипарисов и оливковых деревьев, мелодичным шумом стремительно несущихся где-то потоков, а также и щебетанием лесных птиц, которых здесь, на севере Афона, несравненно больше, чем в его южных лесах.
Зограф стоит над глубокой пропастью, на широком уступе одной из гор, со всех сторон окружающих обитель. Вследствие того, что еще в XIV веке он неоднократно подвергался нападению морских разбойников и неистовствам латинян в царствование Михаила Палеолога, здания и храмы монастыря долгое время стояли в развалинах и запустении. Они были снова восстановлены только в начале XVI столетия, когда Зограф был отстроен молдовлахийским воеводой Стефаном.
В соборном храме три его бесценных сокровища установлены при трех колоннах, поддерживающих внушительный купол храма – это три чудотворные иконы святого Георгия. Икона «Зограф» стоит перед иконостасом при колонне правого клироса, имея перед собой ряды мерцающих огней лампад и паникадил. Живопись на иконе темна, византийского стиля. На этой иконе, как и на двух других, святой великомученик изображен не на коне, а просто с копьем в руках, в древней броне воинской, в совершенно спокойном положении. Очень хороша риза на этом замечательном образе, и, как видно по надписи на ее нижней кайме, она сделана в далеком Санкт-Петербурге. При колонне левого клироса висит вторая икона святого Георгия, у которой своя красивая легенда: чудодейственной силой приплыла она по волнам морским из Аравии и была найдена ватопедскими монахами около пристани. Третья икона святого великомученика находится при колонне, на которую опирается своей северо-западной частью громадный купол собора. С этой иконой связаны предания о войнах молдовлахийского воеводы Стефана, прилагавшего усилия, чтобы защитить южно-христианские земли от турецких нападений и очистить их от диких выходцев Аравийских степей.
Кроме соборного храма в Зографе имеется еще десять параклисов. И ему принадлежит скит бывший Черный Вир, устроенный русскими при царственных пособиях императрицы Елизаветы Петровны в 1747 году. И до турецкой войны 1829 года здесь жило свыше тридцати малороссиян. Зограф – монастырь исключительно болгарский, общежительный и отличавшийся в довоенные годы многочисленностью своей братии. Как сообщают старые иноки-болгары, еще в первых годах текущего столетия в Зографе насчитывалось до восьмисот монахов, каковой цифре вполне соответствуют и громадные монастырские корпуса. Но в настоящее время эти здания стоят почти пустыми и требуют только излишних хлопот и расходов. Монахи в Зографе гостеприимны, внимательны и хлебосольны. Их старшие иноки не отличаются излишней важностью греческих монахов и, вероятно по старым традициям, принесенным из родной земли, очень любят русских и называют их «братушками».
Остановившись в Зографе на обширном и некогда великолепном архондарике, я хорошо отдохнул от утомительных переходов предыдущих дней и привел себя в порядок для дальнейшего путешествия. Но скоро двинуться дальше мне не пришлось: интересные рукописи монастырской библиотеки настолько меня увлекли, что, пользуясь любезностью симпатичного библиотекаря, пробыл там больше недели.
Главнейшим просветительным центром для болгар в турецкую эпоху были преимущественно два места: Афон и Рыльский монастырь. Поэтому древний Зограф на Афонской Горе является представителем болгарской стихии. А его драгоценное книгохранилище в прошлом служило источником духовного вдохновения болгарского народа. Здесь подолгу работали и отсюда вышли выдающиеся представители болгарской письменности, просвещения и культуры.
* * *
Перед выступлением в новый поход я еще раз побывал в Зографском соборе на ранней литургии. После чего, сделав несколько фотографических снимков, простился с гостеприимными хозяевами и двинулся в путь к морю. Иноки Зографа предупредительно снабдили меня своими мулами и проводником, оказавшимся мне во многом полезным знанием подробностей зографской жизни, о которой информировал меня в интересном рассказе по пути.
Мы направлялись теперь на западный склон Святой Горы, так как я поставил себе целью попытаться в дальнейшем пройти на юг уже берегом моря. И это путешествие оказалось одним из самых приятных, я даже не могу в точности припомнить, сколько времени прошло между моим отъездом из Зографа и прибытием к началу морских просторов. Дорожка к морю все время вилась между величественных дубов, яворов и других благоухавших деревьев. А спустя какой-нибудь час уже значительно поредел их зеленый коридор, обнаруживая прямо перед нами голубую и искрившуюся морскую гладь. И тотчас же за моей спиной послышался голос проводника, весело указывавшего рукой на какую-то высокую постройку, видневшуюся вдали на берегу моря:
– А вот и пирг зографской арсаны[12], живут там наши братья! Зографская арсана представляет собой нечто вроде портового склада на пристани для разгрузки и хранения различных продуктов, приходящих на судах для монастыря. Отсюда же отплывают и суда, нагруженные разными афонскими грузами (лес, дрова, орехи, маслины и т. д.). На арсане обычно имеется и скромный храм.
Отдохнув немного у подножия пирга, двинулись мы в дальнейший путь вдоль берега. Широкие песчаные проталины сменялись грудами скользких камней-кругляков, в течение столетий нагромождавшихся здесь прибоями моря, что доставляло немало огорчений моему старательному и неутомимому мулу.
Он ежеминутно скользил и спотыкался, что на песчаных местах заменялось увязанием.
Но несмотря на такие неудобства путешествия вдоль самого берега, мой проводник все же предпочитал его движению по соседнему горному склону.
– Там, конечно, ехать лучше, господин! – пояснял мне добродушный болгарин. – Только не всегда доедешь вовремя той дорогой, куда нужно. Там столько горных тропинок между кустами, что легко собьют с дороги… Я давно там не ходил и позабыл дорогу. Здесь, правда, труднее, но вернее.
Я, конечно, не пытался спорить с добродушным проводником и вместе с бедным мулом решил примириться с неудобствами нашего трудного пути по грудам камней и песчаным трясинам. Вскоре, однако, все наши мытарства благополучно окончились: вдали, красиво возвышаясь на прибрежной скале, уже виднелся среди садов и цветущих рощ греческий монастырь Дохиар.
В древней лавре св. Афанасия
1
Солнце спускалось, когда мы, усталые, подходили к Лавре – самой древней и славной обители на Горе Афонской. Дорожка теперь вилась по склону горы, по которой тысячи лет назад, может быть, ступал великий пустынник. Подумать только: тысячу или больше лет!..
Был тихий вечер. И радостно отзывалась в душе мелодия лаврского колокольного звона, совершенно особенных и замечательно подобранных колоколов. Этот звон своей мелодичностью ласкает слух и серебристыми певучими звуками духовной радостью наполняет душу паломника.
Но вот и каменный замок Лавры. Это целая крепость. Кругом высокая стена с пятнадцатью маленькими башнями, – крепко отгородились монахи от мира! Впереди высится башня Иоанна Цимисхия, тоже четырехугольная, с зубцами. Из-за стены виднеются купола собора по стене кельи. В общем, что-то архаическое, но красивое и на всю жизнь памятное.
Предъявив свои документы вратарю, мы отдохнули 10–15 минут, пока он вернулся от епитропа и с его благословения пригласил нас в парадный архондарик. Там окружили нас вниманием и приветливостью, соблюдая добрые заветы гостеприимства из глубокой старины. Нас удобно разместили, помогли разложиться и привести себя в порядок после долгой и тяжелой дороги, затем пригласили в столовую. Туда же вскоре пришел и величавый старец-епитроп. Подали восточное угощение: варенье с холодной водой, по рюмке «ракички» – и заключили это ароматным кофе, занимая нас приветливым разговором вплоть до ужина, который накрыли в соседней комнате.
И на следующее утро, когда мы рано поднялись, то в этой же комнате пили черное кофе. А затем любезный фондаричный вывел нас на открытый балкон с чудным видом на вершину Афона и зеленеющий простор окрестностей, где среди лесов и полей виднелись беленькие келлии с виноградниками и фруктовыми садами. И с того же балкона направо открывался живописнейший вид на бескрайное море, в мертвой дали которого узкой полоской виднелись Дарданеллы.
* * *
Эта древняя Лавра, стоящая у подошвы громадного южного отрога Святой Горы, основана в половине X века, во времена греческого воеводы Никифора Фоки. А ее основателем был святой Афанасий, бывший другом этого воеводы, но ушедший на Святую Гору для строгого монашеского подвига в силу своих религиозных устремлений.
Древняя обитель эта представляет собой внутри как бы маленький городок с уличками, тротуарами, фонтанами и садиками, среди которых уходят к голубому небу остроконечные пирамиды высоких кипарисов. Особенно замечательны из них два – многовековые царственные великаны. Между этими кипарисами на восьми мраморных столбах покоится крещальня. Посреди нее – колоссальная чаша, называемая Фиал, высеченная из одного куска драгоценного мрамора.
В чаше этой освящают воду в Крещение Господне и, по обычаю Святой Горы, в первое число каждого месяца.
Главное здание Лавры – его величественный соборный храм. Его венчают три главы, а внутри он выложен блестящими плитами голубого фаянса и расписан по стенам фресками, приписываемыми монаху-художнику Феофану, ученику знаменитого Потемта, жившему на Афоне в XVI веке. В этом соборе находится и гробница святого Афанасия, на верхней плите коей лик подвижника, а около его гробницы хранится посох этого великого пустынника, с которым, по преданию, он пешком пришел на Святую Гору из Царьграда.
Проведенная с гор в алтарь живая струя воды шумом падения своего нарушала глубокую тишину храма. Тусклый свет лампад едва позволял различать очертания высоких сводов и рассеянные по ним золотые сияния многочисленных изображений святых. Все это наполняло душу покоем и обращало мысль к далекому прошлому, образ святого Афанасия представлялся душе живо и выпукло. Преобразователь Святой Горы, возбудивший в свое время ропот между отшельниками за свои постройки, должен получить хвалу и благодарность от всех поклонников ее. Именно ему, его смелости и прозорливой заботе о потомстве они обязаны тем, что видят теперь на Афоне несколько храмов и других зданий из первого христианского тысячелетия.
На земле, принадлежащей Лавре, в скитах и келлиях находится около ста восьмидесяти церквей! Против собора и крещальни – вход в древнюю и замечательную трапезу, крестообразной формы, с абсидой на одном конце и входом на другом. Она очень интересна по устройству, а особенно по живописи, тоже работы Феофана, относящейся к середине XVI века. Трапеза очень высока и освещена окнами, расположенными в верхней ее части. А во всю длину по ее стенам расположены сиденья и мраморные столы из крестообразных плит. Все стены до потолков расписаны множеством фигур, отдельно стоящих, сцен, чрезвычайно сложных и разнообразных, религиозного характера и поучительного содержания. Роспись лаврской трапезы представляется древнейшим, богатейшим и лучшим в художественном отношении памятником этого вида росписи. Вся живопись трапезы чрезвычайно интересна, но, к сожалению, она очень закопчена.
2
Афонские древности представляют собой нечто неопределенное, и причина этого заключается в тех часто неодолимых затруднениях, которые все исследователи встречали на Афоне. В обителях, особенно богатых и древних, две ризницы: одна обиходная, чаще всего в алтаре самой церкви, и старая, где хранятся древности и все драгоценности. И сами монахи – за исключением немногих в обители, бывших у власти, – не знают, какого рода древности имеются в их обители. Тот подбор предметов древности и редкости, который показывается ученым и исследователям (и редким высоким паломникам), не представляет еще все замечательное. Скрываемые от взоров посторонних афонские ризницы сохраняют еще более драгоценные памятники.
Но и среди предоставляемых обозрению паломников имеются предметы замечательные в историческом и художественном отношении. К числу таковых нужно отнести древохранительницу, которая является вкладом императора Никифора Фоки. Запрестольный крест в соборе Лавры из листового серебра, набранный камнями: изумрудами, сапфирами и бирюзой. Он принадлежит к древнейшим памятникам Афона, не позднее X–XI столетия.
Между окладами напрестольных Евангелий на Афоне первое место занимает находящийся в Лавре замечательный оклад Евангелия письма XVI века, на пергаменте, с четырьмя изображениями евангелистов. В алтаре собора Лавры можно видеть и замечательный энколпион митрополита Геннадия из Серр, известного строителя лаврской трапезы. Фигуры превосходно вырезаны, отличаются хорошим рисунком и всеми признаками искусства X–XII веков. Очевидно, этот медальон, как драгоценную панагию, сделал для себя митрополит, а затем пожертвовал на образ. Славится лаврская ризница и богатейшим складом дорогих тканей и парчи, древних церковных облачений, вышивок и проч. Здесь имеются замечательно вышитые орари, епитрахили, саккосы и воздухи, пышные митры, художественные плащаницы и много другого. Еще во время моего предыдущего посещения Лавры Св. Афанасия я познакомился с ее достойнейшим библиотекарем, серьезным и образованным монахом, которого и поспешил разыскать на третий день своего пребывания в древней Лавре, дабы не упустить случая еще раз посетить замечательное книгохранилище. Неизменно любезный и ласковый, без особых формальностей и проволочки он немедленно дал мне на просмотр интересовавшие меня рукописи – конечно, для работы в самой библиотеке. А эта библиотека действительно представляет громадную ценность для ученых-историков и богословов всех стран, независимо от их вероисповеданий. Это поистине роскошная трапеза ума. Достаточно упомянуть, что в лаврской библиотеке сохраняется несколько сот древних рукописей, в числе коих находится больше шестидесяти рукописных Евангелий на разных языках, причем некоторые из них относятся к IV веку! Эти пожелтевшие пергаменты – то испещренные большими, строго выведенными письменами, то исписанные мелкой бисерной скорописью – свидетельствовали об одном и том же чудеснейшем событии мира, озарившем лучезарным светом Божественной Истины все последовавшие человеческие поколения.
В этой библиотеке и весьма интересная драгоценность – Диоскоридова «Ботаника» X века, достойная соперница «Географии» Птоломея библиотеки Ватопедского монастыря. В этой «Ботанике» почти все растения замечательно изображены в красках. Тут же имеется и остаток древности – послание апостола Павла к коринфянам, шедевр IV века! Сохранилась здесь и часть драгоценнейших хрисовулов (царские грамоты) с интересными печатями.
3
Темнело. Теплая, ласковая ночь, тихо обнимая своей черной пеленой все, что ни встречалось у нее на пути, неслышно надвигалась от моря на древнюю Лавру.
Был канун осеннего праздника. Дальние и ближние обители уже тонули в ночных сумерках среди густой зелени, которая сплошь одевала дикие крутые склоны лаврского берега.
А в потемневших лесных зарослях совсем близко – чуть не у самых стен древней лаврской арсаны – мелодично звучали колокольчики пасущихся стад. Но вверху, на горе, где стоял старинный лаврский собор во имя Пресвятой Богородицы, тесно сгрудились древние строения, которые соединялись многочисленными переходами и были обнесены толстыми стенами. На колокольне медленно погасли последние отблески короткой осенней зари, и в эти мгновения вся древняя Лавра стояла озаренная тихим, готовым померкнуть отраженным светом.
По тесному монастырскому двору расхаживали богомольцы и афонские сиромахи. И в гулкий шум шагов по каменным плитам, в тихий шелест одежд и осторожный говор через открытые окна собора вливались разрозненные, бессвязные отрывки всенощного песнопения. Суровый греческий напев, оставляя под тяжелыми сводами всю свою строгость, прилетал сюда, под открытое небо, тихим и гармоничным.
Всюду здесь чувствовалось предпраздничное благоговейное настроение. И казалось, вся древняя Лавра жила теперь напряженно особой, чуждой для остального мира жизнью. Богатая верой давно умерших поколений, она ревниво берегла в своих стенах верующих, пришедших почтить память великого святого. И, обвеянная молитвенными звуками, она встречала надвигавшуюся ночную темноту строгая, высокая, в своей вековой святости недоступная призрачному и мимолетному очарованию этого тихого угасающего дня.
А осенняя ночь медленно ползла снизу вверх. Все ближе, все теснее сжимала она в своих крепких объятиях и далекие берега засыпающего моря и цепи прибрежных холмов горной стороны, строения и деревья, лаврские церкви и башни и все, что так резко, так непохоже и чуждо было друг другу еще так недавно при ясном дневном свете.
Исчезали, сливались со тьмою монастырские стены. А над ними по-своему тихо уже шептались очнувшиеся от дневного забытья деревья, протягивая свои развесистые длинные ветви. Монастырские сады тесно сплетались в ночной тьме с пышной лесной зарослью, искони покрывавшей прибрежные склоны, выступы и кручи. И если под черным покровом ночи обесцвечивалась веселая нарядная одежда земли, то на смену ярким цветам и причудливым обликам дня просыпались радостные, также неисчерпаемо-разнообразные благоухания и песни ночи… А на потемневшем небесном своде загоралась – как всегда, блестящая, загадочная, еще не понятая никем на земле – картина вечности, сотканная из бесчисленных звезд.
В природе начиналась своя торжественная многозвучная всенощная, полная творческого вдохновения и молитвенного восторга. И вдруг, в эту нежную музыку южной ночи ворвались, брошенные невидимой рукой с лаврской колокольни, многогласные звуки благовеста: долгая монастырская служба закончилась. Толпа монахов и богомольцев, расплываясь во все стороны, наполнила собой дорожки и вы ходы Лавры. Верующие шли на ночлег усталые, но растроганные и умиленные, бережно унося с собой настроение сладостного забытья. Рождалось оно в чутких сердцах искренней молитвой в этом святом месте, где развилась и окрепла когда-то вера их предков.
И куда ни шли верующие, всюду – за ними и впереди их – несся торжественный праздничный благовест. Гулкие металлические звуки без жалости вытесняли и гнали далеко прочь от лаврских святынь вкрадчивые голоса суетного мира. И святая древняя Лавра, словно очнувшись от объявшего ее очарования, – вся каждым камнем своего помоста, всеми своими могильными плитами и седыми стенами, башнями и церквами – зазвучала в ответ, гулко отражая привычные звуки своих колоколов и посылая их в теплый и чуткий воздух неспящей осенней ночи.
И до самого моря неслись они, властные, благовествуя и призывая к молитве. И там бесследно погасали, уже обессиленные, уже побежденные ласковыми чарами южной ночи…
Но вот звон смолк. Так же резко и неожиданно, как и начался. И, как всегда после сильного шума, наступила чуткая, жадная до звуков, растревоженная тишина. Отовсюду неудержимо хлынули странные, неуловимые и обманчивые голоса ночи.
Ночь совсем спустилась над древней Лаврой.
Еще теснее сомкнулись потемневшие и обезлюдевшие каменные великаны. Разошлись по своим келиям монахи и утихли многочисленные гости.
* * *
Прошло несколько недель. Утомленный продолжавшимся целыми днями осмотром громадной Лавры и ее замечательных святынь и древностей, я крепко заснул в отведенной комнате. Но на этот раз рано утром разбудил меня мой верный спутник, иеродиакон отец Афанасий, настаивавший на продолжении нашего паломничества.
– Нужно торопиться поскорее попасть в Крестовскую келлию: там бдение по случаю храмового праздника, – сообщил мой заботливый спутник. – А дорога к келлии не везде легкая.
И, покорный указаниям отца Афанасия, я спустя очень недолгое время уже был за лаврскими вратами, где нас поджидали покорные наши мулашки.
Плененный колокол
Не будучи в силах дождаться конца афонского всенощного бдения, длившегося уже несколько часов, я вышел на широкую террасу, чтобы немного освежиться. Да, только на Святой Горе Афонской можно вполне познать всю утомительность и вместе с тем всю прелесть подобных богослужений; утомляя тело, они укрепляют дух и наполняют все существо чувством и настроениями, дотоле совершенно неведомыми в обстановке суетного мира.
И вот, в своей на этот раз телесной немощи еще задолго до начала Великого славословия я покинул полутемный храм, оставляя позади себя мерцание свечей и строгие лики святых на закоптелых иконах и неподвижные черные фигуры иноков, казавшиеся тоже существами нездешними, как и святые на иконах.
На террасе было тихо, лунно и пахло какими-то южными цветами, наполнявшими своим дыханием ночную полутьму. Внизу, под этой старенькой и обширной террасой меланхолично темнели стройные кипарисы и чуть слышно шелестели своими могучими ветвями каштаны, только что сбросившие с себя весенний убор. А за ними – все серебряное, искрящееся, кое-где чуть тронутое огоньками и полное невыразимого величия – расстилалось море, окаймленное с двух сторон высокими и темными громадами берегов. Но не были безжизненны эти берега, и, находясь от них на расстоянии нескольких километров, я все же улавливал среди их угрюмой тьмы признаки человеческой жизни. Этими признаками были мерцающие огни отдельных пустыннических келлий и каливок, разбросанных среди гор и лесных кущ, слегка подернутых туманами. Эти отшельнические огни то зажигались, то гасли – и никто не мог бы установить их число, настолько оно было изменчиво и неуловимо. А совсем далеко впереди ярко и неугасимо горел своими светочами огромный русский скит Св. Андрея, величественно охраняя покой разбросавшейся под ним «Лавры келлий» – Кареи.
Упоенный окружавшей меня красотой и величием, я переживал незабываемые минуты, почти реально ощущая, как благодатная тишина, царившая вокруг, вливалась в душу и наполняла ее восторгом. И вдруг эта тишина нарушилась… Где-то внизу, за неподвижными силуэтами кипарисов и каштанов, внезапно раздался удар колокола. Удар настолько гулкий и мощный, что порожденный им звук сразу наполнил собой всю окрестность и заставил на время забыть о ее безмятежном покое и красоте.
Колокол, породивший этот звук, был, несомненно, настоящим богатырем, подлинным великаном и близким русскому сердцу по воспоминаниям ушедших лет. Ухнув в первый раз, он вслед за первым ударом послал в пространство второй, потом третий. А затем все последующие удары стали сливаться в одну мелодию чудесной колокольной музыки. Рождаясь где-то очень далеко внизу, эта музыка, тотчас же нарастая, невидимыми волнами возносилась вверх, разливаясь по всей Святой Горе, и затем постепенно и тихо таяла в просторах Эгейского моря.
Очарование, меня окружавшее, увеличилось вдвое. Теперь я слышал не только едва уловимое монашеское пение, доносившееся из полутемного храма. С ним теперь чудесно соединялась и эта новая, могуче-прекрасная мелодия, порожденная металлом невидимого колокола-гиганта, напомнившего мне о иных колоколах на далекой и милой, великой и многострадальной родине. «Это русский колокол! – подумал я неожиданно. – Только там, у нас в России, умели лить таких подлинных глашатаев величия Божьего… И как отливали их! Годами собирались, „Ныне силы небесные“ пели, в то время как плавили металл, серебряные рубли дождем летели в огненную массу… Не может быть, чтобы и этот великан был отлит где-либо в иных местах, кроме российских просторов».
Такие мысли проносились в моей голове, а чудесный колокол все гудел и гудел за синей далью, наполняя мою душу радостью.
– Вот как его услышу, так и защемит сердце!.. И не перестанет болеть, пока не затихнет колокол… Да и не у одного меня болит сердце – все наши иноки одинаково страдают и плачут, как только раздается его звон: ведь это наш пленник взывает из темницы, наш русский звон призывает на помощь!
Эти слова, прозвучавшие где-то совсем близко от меня, были резкими и твердыми, и я невольно вздрогнул от неожиданности, услышав их. До этого момента я был уверен, что нахожусь один на террасе, и теперь был несколько озадачен появлением там же какого-то незнакомца. Я осмотрелся и увидел высокую и темную фигуру инока, по-видимому, вышедшего из храма вслед за мной. Монах стоял, прислонившись к перилам, и смотрел вдаль, в ту сторону, где рождались чудесные колокольные звуки.
– Да… звонит, звонит наш колокол, наш горемычный пленник! – опять сказал высокий монах. – Взывает… А мы бессильны, немощны, чтобы выручить его из неволи. Наказаны Господом за наши грехи!.. Только и осталось нам, что слушать его печальный зов из-за чужих стен, а после скорбеть и плакать о потере.
– Простите, батюшка, – решил я, наконец, задать вопрос скорбевшему иноку. – Я не понимаю, о каком пленнике вы говорите и что это за колокол?
– Ах, господин, простите меня грешного!.. В темноте-то я и не разглядел, что вы из наших гостей будете. Значит, недавно на Святой Горе пребываете? А из каких мест России будете?
Я поспешил удовлетворить любознательность моего собеседника, который так и встрепенулся при моих словах.
– Так мы же земляки! Вот радость-то! Ведь я и сам из тех краев. Земляки мы, значит, с вами. Только уж давно покинул я страну нашу. Ой, как давно! Ушел в иночество еще до Японской войны и с тех пор уже так и не отлучался от нашего святого места.
Обменявшись со старым монахом еще несколькими фразами о предметах внешних, я все же поспешил возвратиться к главной теме нашего разговора, завязавшей и наше неожиданное знакомство.
– Да, касательно колокола, мы и позабыли! – спохватился старый инок. – Как же, как же, таких дел нельзя забывать, дорогой землячок, нельзя! – И он обстоятельно начал рассказывать всю так его волновавшую историю, в то время как причина его волнения по-прежнему гудела над ночным афонским простором.
– Еще много лет тому назад было положено начало этой обиде. Случаются несогласия и распри, конечно, и в нашей монашеской среде. Враг-то человеческий еще ехиднее расставляет свои сети. Вот и уловил он нас однажды: нас, то есть насельников этой русской келлии и монахов-греков того монастыря, на земле которого наша келлия воздвигнута. Разговор за разговором, хозяйственный спор за спором – и чем дальше, тем больше и серьезнее. Пошли неприятности, жалобы друг на друга, резкие и ненужные слова при встречах – и очутились мы с греками на положении чуть не настоящей войны. Тяжело это было братии монашеской, но оставить дело так, как грекам хотелось, все же нельзя было: пришлось бы поступиться достоянием и правами обители, а это грозило уничтожением ее. И вот, проходили годы в неурядицах и спорах с греками. И преставился Господу Богу наш старец, неуклонно боровшийся за права обители в течение долгих лет. И как раз случилось так, что в это же время пришел к нам из России громадный и чудный колокол – пожертвование благодетелей, постаравшихся для нашей келлии. Приплыл колокол на пароходе с русскими поклонниками из Одессы. И вдруг очутились около него наши спорщики… „Не получите колокола! – заявили они. – Колокол этот пойдет прямо в наш монастырь за ваши долги“. И забрали они колокол в плен, а мы с плачем и рыданием так и вернулись в свою обитель без благодетельного дара из России.
У моего бедного собеседника теперь уже чуть ли не после каждого слова прерывался голос при рассказе: настолько глубоко переживал он снова их общее монашеское горе.
– Вам, мирским людям, быть может, даже и диковинно слышать о том, что мы, иноки, так горюем из-за такого случая, как этот колокольный звон. Но здесь и наша-то жизнь совсем особенная… И чуем мы, что здесь свалилась на нас незаслуженная и тяжкая неправда – и вот скорбим безутешно. Ведь наш родной благодатный русский колокол у нас пленили… И как же не скорбеть-то нам?.. Э, где там! – махнул рукой инок. – Подошла после этого великая война, а за ней и страшная российская смута, прекратившая заступничество великой России. И пошло еще хуже для нас на Афоне. Для нас, русских насельников, конечно. А сила солому ломит, дорогой земляк… Ох, как ломит! Ну и кончилось тем, что теперешний наш старец, спасая беззащитную обитель, попросту решил сказать грекам примирительно: «Да простит вас Господь наш, братие, за все прежние обиды, и будем жить так, как говорит Слово Божие, в мире и согласии. И в знак этого, братие, держите наш колокол, плененный вами, и владейте им!..» Вот так и кончилось все.
Монах перевел дух, нервно поправил на голове клобук и закончил уже совсем тихо:
– Горько, горько мы все плакали, когда утверждался наш великан на греческой колокольне. Были и мы там, даже сами помогали грекам. Правда, после этого всякие раздоры с ними кончились, мир и согласие восстановились между нашей келлией и их монастырем. Но сердцам нашим все же осталась от колокола в наследство скорбь большая. Как зазвонит, как загудит он в их монастыре, так и наполняются наши сердца печалью безысходной. А бывает, что и плачут многие наши братья. Все еще не в силах мы перебороть нашей человеческой немощи, слушая эти родные звуки. Ведь наш это, наш русский колокол плачет в неволе – и как же не скорбеть русскому сердцу?.. Бывает, что наш старец и выговаривает нам, напоминает о бренности всего мирского, о пренебрежении инока к горестям земли. Но и он, порой, сам задумывается при том же скорбном звоне, ведь и старец наш сам костромской, из-под Кинешмы… Ах, Россия, мать наша родная!
При этих словах инока я заметил, как он сначала поднял руку для крестного знамени, а затем задержал на полпути для того, чтобы утереть набежавшую слезу… Я молчал, в свою очередь, до глубины души проникнутый настроением моего собеседника.
– Ну, а теперь, дорогой землячок, скажите, каково у нас там… на родине? – снова заговорил монах уже несколько более спокойным тоном. – Что вы слышали за последнее время в «мире» о нашей матери-родине?.. Долго ли еще терпеть русскому народу его крестные муки?.. Конечно, все в руках Божьих, и пути Господни неисповедимы. Но как рассуждают мирские-то люди?
Я, как мог, отвечал на его вопросы, успокоительно говоря о том, что было одинаково дорого для нас обоих: о далекой родине, о ее невзгодах и грядущем светлом дне ее воскресения. И так ведя нашу беседу, мы простояли на монастырской террасе так долго, что при наступившем прощании нашем давно уже не было слышно ни монашеского пения из опустевшего храма, ни чудесной мелодии плененного колокола-великана, имеющего историю, столь волнующую русское сердце. Он умолк во время нашего оживленного разговора для того, чтобы в положенный час снова огласить афонский простор.
Паломничество в Подафонье
Время летело незаметно, и приближался отъезд с Афона. Мне же очень хотелось побывать еще раз у своих друзей в Крестовской келлии. И вот представился для этого неожиданный случай: в Андреевском скиту я познакомился с двумя приезжими иностранцами, которые пригласили меня объехать на моторной лодке восточный и южный берег Афона. Выехали мы на заре из греческого монастыря Пандократора, побывали в Ивере и, спасаясь от сильной фортуны (ветер), на ночевку свернули в Лавру Св. Афанасия, где встретили симпатичного англичанина, родившегося в… Петербурге. Вечер провели оживленно в сборной компании перезнакомившихся паломников и долго засиделись в фондаричной (для гостей) столовой. А поутру обходили вместе святыни и древности этой замечательной Лавры.
Тем временем ветер несколько стих. И хотя море еще кипело, мои спутники все же решили обогнуть южную оконечность Афона; но они сильно пострадали за свою самоуверенность: всех их очень укачало. Я же решил в полном одиночестве двинуться в направлении Кавсокаливии-Кирасии, чтобы, навестив отшельников, направить дальше свой путь на Крестовскую келлию. И я отправился из Лавры в этот тяжелый путь.
В расстоянии одного-полутора часа ходу от Лавры Св. Афанасия, на открытой, но пустынной местности, находится молдавский скит. А недалеко от него – пещера святого Афанасия, в которой он любил уединяться после монастырских трудов и отдыхать в безмолвии и тишине. В этой пещере устроены две крошечные церковки – в честь Богоматери и святого Николая чудотворца. По пути от Лавры к скиту на возвышенности обнаженного склона горы находится пещера преподобного Петра, первого афонского пустынножителя. В этой пещере в 681 году поселился святой Петр Афонский, и здесь же после многолетних подвигов он мирно почил в 734 году. В расстоянии двух километров от этой пещеры на отвесной скале находится пещера преподобного Нила. На этом же месте высадился на Афон святой Петр Афонский. Отвесная высота скалы доходит почти до 125–130 метров, и в XVII веке именно в этой пещере преподобный Нил подвизался до смерти своей и здесь же был погребен.
Недалеко от этой пещеры находится келлия с церковью Успения Божией Матери, известная под названием «Келлии Св. Нила», так как и сама пещера к ней принадлежит. В этой келлии при моем тогда посещении жило несколько иноков, занимавшихся выделкой регального масла, которое добывается из особо растущей на Афоне травы.
Отсюда до Кавсокаливского скита около пяти километров, полтора часа ходу. Путь этот очень живописен, но и очень труден. Солнце уже совсем спускалось, когда я, совершенно утомленный и разбитый, подходил только к начальной цели своего путешествия – к местности, называемой здесь Кавсокаливия. Дорожка вилась по лесистому склону горы, и в полном безмолвии этого пустынного края до меня доносился откуда-то снизу один лишь благодатный звон соборного колокола.
На землю уже спустился тихий и теплый вечер поздней весны, когда я, наконец, добрался до самого скита, где меня приняли с полным радушием. Но утомление мое было так велико, что и на другой день я не в силах был покинуть этот скит. Я не жалел, так как это именно обстоятельство дало мне благоприятную возможность подробнее осмотреть замечательный скит и ознакомиться с бытом насельников, отличавшихся высшим подвижничеством.
Кавсокаливский скит основан в XIV веке преподобным Максимом Кавсокаливитом и расположен на прибрежной скале самой южной части Подафонья. Преподобный Максим вел кочующую жизнь: чтобы не привязываться ни к чему земному, он переселялся из келльи в келлию (устрояемых им вроде шалашей), и оставляемые им кельи он сжигал, почему и прозван Кавсокаливитом, что значит «сжигатель шалашей».
Сначала он подвизался в Лавре, а затем удалился в глубокую пустынь, в которой и спасался четырнадцать лет, переходя с одного места на другое. Наконец, по убеждению Григория Синаита он избрал постоянным местом жительства пустынную пещеру, в которой и скончался в возрасте девяноста пяти лет.
В ските, основанном преподобным Максимом, подвизались мужи высокой духовной жизни. А особого благоустройства этот скит достиг в начале XVIII столетия при преподобном Акакие. Он состоял из сорока самостоятельных келлий, из которых до двадцати пяти – с малыми домовыми церквами. В этих отдельных келлиях проживали иноки-подвижники, число которых бывало иногда больше двухсот. До великой войны они являлись представителями нескольких православных народов: греки, русские, сербы, болгары, румыны, но теперь остались почти одни греки. По скитскому уставу они выполняют церковное правило в келлиях, а в соборный храм сходятся только по субботам, воскресным и праздничным дням.
От Кавсокаливского скита в расстоянии двух часов хода при подошве вершины Афона находится русская пустынная келлия Св. Георгия (Кираши), куда я первоначально и решил направиться, чтобы повидаться с друзьями-монахами, передохнуть и уже оттуда направить свой путь на лодке в скит Св. Анны. Вечером прибыл с проводником тот симпатичный англичанин, с которым я познакомился в Лавре. И он настойчиво стал меня убеждать на рассвете следующего дня на лодке отправиться в скит Св. Анны, вернуться на ночлег в Кирашанскую келлию, чтобы затем разойтись: он – на вершину Афона, а я – на Крестовскую келлию. Скита Св. Анны я еще не видал, поэтому быстро согласился несколько изменить и удлинить свое паломничество по Подафонью. И мы рано улеглись, чтобы на заре двинуться в путь.
Восток едва начинал румяниться, когда мы вышли из Кавсокаливии, чтобы спуститься к морю. Плывшие над вершиной Афона облачка еще не освещались и словно стадо барашков разбрелись по светло-изумрудному небу пробуждающегося утра. Обрызганная обильной росой трава наполняла воздух свежим, здоровым запахом горных растений, но густые заросли еще дремали, покоясь в легком предрассветном паре. А далеко на северо-западе синела темная плоскость, по которой тянулась чуть заметная полоска поселений, утопавшая в безбрежной небесной синеве.
Моторная лодка нас уже ждала, и мы тронулись в путь, огибая Карулю, с тем чтобы вскоре сойти на берег у скита Св. Анны. Самый скит этот высится на отвесном и диком отроге оконечности Афонского Горы, среди громадных нависших утесов, недалеко от крутого морского берега.
Скит Св. Анны – самый древний из всех афонских скитов. Он основан в X веке, почти одновременно с Лаврой Св. Афанасия, но только под другим названием. Но уже вскоре после основания своего по причине нападения на него морских разбойников он опустел и только в XVII веке возобновлен Константинопольским Патриархом Дионисием. После великой войны число иноков значительно уменьшилось. А оставшиеся по-прежнему живут во многих самостоятельных келлиях, которые рассеяны по горам и холмам в окрестностях соборного скитского храма, построенного в 1680 году в честь святой Анны.
Скит этот почитается первостепенным на Афоне в аскетическом отношении. Сюда удалялись на безмолвие самые стойкие и закаленные в монашеском подвиге. Знаменитые пастыри подвизались в этом скиту, и многие отшельники выходили из него настоятелями в разные обители.
Жаркий и ясный день клонился к закату, когда мы на обратном пути из скита Св. Анны, приближались к Керасии. Чистое небо на западе уже бледнело, а от оврагов подымались и мягко струились в застывшем воздухе волны вечерней прохлады. Заночевали мы в родной и гостеприимной Кирашанской келлии, решив на заре продолжить наш путь: англичанин – на вершину Афона, а я – на дальнюю Крестовскую келлию. Но ранним утром полил дождь и засверкала молния: пришлось задержаться в Кирашах.
* * *
Я люблю все русские пустынные келлии на Святой Горе и чувствую себя в каждой из них – среди простых и неискушенных насельников их, – как среди давних, испытанных друзей. И принимают келлиоты гостей с особым радушием и трогательной заботливостью. Поэтому и чувствую себя среди них всегда как-то особенно радостно и покойно. Так хорошо мне было всегда во всех русских келлиях, но все же должен признаться, что особенно радость и покой наполняли мою душу, когда я находился в келлии Воздвижения Креста Господня, где живописная природа и чарующие виды как бы сливаются с симпатичным характером и укладом жизни ее обитателей.
А виды отсюда открываются поистине восхитительные! Глянешь направо – чудный вид на вершину Афона и зеленеющий простор окрестностей, где среди лесов и полей виднеются белые келлии с виноградниками и фруктовыми садами; посмотришь налево – по склонам, утопая в зелени, разбросались многочисленные обители. А еще дальше – Карея и блестят величественные купола Свято-Андреевского скита; прямо – широчайший вид на лазурное море с затуманенной далью и узкой полоской Дарданелл.
Эти виды ласкают и развлекают взор, навевая покой в истомленную душу.
Восхождение на вершину Афона
«Кто не был на пике Святой Горы, тот как бы не был на Афоне, хотя бы и исходил вдоль и поперек весь полуостров. Нужно потерпеть, помучиться и на вершину взойти непременно», – так обыкновенно говорят посетители древнего монашеского царства. И, говоря это, порой выбиваются из сил, но все же достигают желанной цели. Так и я решил совершить восхождение на пик Святой Горы, находясь у подножия ее – в келлии Св. Георгия.
Меня разбудили на рассвете. И как ни трудно было мне подниматься после уже пережитой накануне паломнической страды, все же пришлось собрать весь запас своей воли и приготовиться к памятному на всю жизнь восхождению. Заботливый старец келлии заготовил для меня и проводника скромный завтрак, а у ворот обители уже стояли в полном снаряжении наши флегматично-покорные мулашки, снова готовые выполнить свои тяжелые обязанности.
День обещал быть прекрасным: ни одного облачка не было видно на безмятежно-голубом небе. Необъятной казалась и широта открывавшегося перед нашими взорами горизонта, когда мы вышли за ограду гостеприимной обители и стали взбираться на мулашек.
– В такое время лучше всего подниматься, – заметил спокойный проводник. – И дышится легче, и не жарко. Пока начнет припекать солнышко, будем уже высоко. К тому же и на виды можно полюбоваться вдоволь… Чистота воздуха-то какая!
И мы двинулись. Но начало нашего путешествия тотчас же дало себя знать: тропинка, по которой нам пришлось делать свои первые шаги, была чрезвычайно ухабистой, порой пробегавшей около самых обрывов, так что даже мулашки, непрестанно оступаясь, инстинктивно прижимались к выступам скал. Что же касается видов на синевшее далеко внизу море и окрестности, то они, действительно, становились все чудеснее; даже обрывы и пропасти – готовые бесследно поглотить напуганного паломника – казались неописуемо прекрасными и ласкали восхищенный взор.
Долго не наступал час желанной остановки для отдыха в тяжелом восхождении на святогорские крутизны. Но вот, наконец, удостоились мы этого блаженства – достигли келлии Пресвятой Богородицы.
– Подумать только, ведь здесь отдыхала Сама Пречистая! – сказал монах, наш проводник.
И когда до моего слуха долетели эти простые слова, я почувствовал, какая глубокая вера в них заключалась. Несомненно, что человек, произнесший эти слова, ушедший от мира в афонское монашество, непоколебимо верил в чудесную легенду о восхождении на вершину Святой Горы Той, Чье Имя славит весь христианский мир. И вслед за монахом я и сам уже верил в предание и представлял себе картину отдыха Богоматери на заветном месте вершины горы. Вероятно, и тогда, без малого две тысячи лет тому назад, здесь было так же, как и в наше время: так же зеленели покрытые дремучим лесом склоны гор, так же сверкало всеми цветами радуги южное море, и такими же угрюмыми стояли гигантские скалы над бездонными пропастями, клубившимися синим туманом. И, подобно нам, созерцала тогда эти красоты афонской природы Она – тишайшая и чистейшая женщина мира, пожелавшая освятить Своим присутствием будущую твердыню вдохновенных исповедников учения Того, Кого Она столь непостижимо и чудесно родила на свет…
И когда я думал об этом, мне представлялась группа восходивших тогда на гору иных путников, одетых в хитоны и туники и окружавших прекрасную женщину с лицом, сиявшим неземным светом и присевшую на придорожный камень для отдыха…
Келлия, где наконец остановились и мы, представляла прелестный оазис среди безлюдных горных склонов. Эта обитель окружена каменной оградой, около которой тянутся вверх несколько больших сосен – последние представители местной горной флоры, постепенно исчезающей по мере приближения к пику горы. Далее за этой келлией растительность уже совсем исчезает, и начинаются совершенно голые скалы, движение по коим становится все труднее.
Крутизна по мере нашего движения вверх все увеличивалась. Порой нам приходилось буквально висеть над такими стремнинами, что и теперь вспоминаю со страхом. Но, несмотря на все трудности, наше движение не останавливалось. «Что же делать, здесь так все проходят! – ободрительно сказал инок. – А сколько верующих христиан прошло по этим местам, и не перечесть. И ничего, Господь хранит путников».
И эти простые слова ободряли, отгоняя мрачные мысли. Хотелось только идти вперед, чтобы поскорее достичь желанной цели, дабы воистину приобщиться к высокому званию «афонского паломника», ступившего на самое святое место Афонской Горы. Но до него еще было не близко, и синевшие повсюду отвесы скал становились все страшнее. Порой их грозные массивы прямо свисали над головой, готовые ринуться вниз всей своей тяжестью.
– Они едва держатся… эти камни! – объяснил монах. – Оторвались во время землетрясения, как говорят, да и задержались на время. А придет час, встряхнет их что-либо или своя тяжесть под конец оттянет – упадут обязательно. Чай, вчера слышали, как падали эти камни, когда мы шли лесом. Ох, беда, когда такая гора летит к морю: ничего не оставляет после себя на дороге, часто вековые сосны выворачивает с корнем. А вот наши отцы-пустынники все же живут здесь и спасаются!..
Проводник был прав: дикость природы Святой Горы не останавливает келлиотов и пустынников от подвижничества в ее самых страшных местах. И проходя последними, я не раз замечал их уединенные келийки, белевшие среди дремучего леса или на фоне синих скал. Ни деревьев, ни кустика, одна голая поверхность горы – таков последний и самый трудный переход при восхождении к вершине Афона. Двигаться по крутизне приходилось крайне медленно, ибо ноги беспрестанно скользили и попадали на круглые камешки, рассеянные по тропинке и мешавшие прочному упору подошвы. И не только для нас, двуногих и непривычных путешественников, был труден этот памятный подъем: изнемогали от него и наши верные мулашки, которых пришлось оставить далеко внизу, тотчас же по выходе из келлии Пресвятой Богородицы.
Между тем по мере нашего приближения к вершине кругом становилось все холоднее. По совету проводника-монаха мы сделали краткую остановку, чтобы надеть шерстяные куртки, без которых не рекомендуется совершать восхождение даже в жаркое время лета. От келлии Пресвятой Богородицы до вершины всего движения около полутора часа, но именно эта последняя часть пути – самая тяжелая во всех отношениях. За четверть часа до вершины гора делается настолько покатой, что приходится карабкаться по ней при помощи не только ног, но и рук, в то время как за спиной все время остается пропасть. Но стоило только поднять голову и взглянуть вверх перед собой, так все мрачные и тревожные мысли о катастрофе мгновенно исчезали: конец страдного пути паломника уже был ясно виден. Это была маленькая церковка, венчающая собой пик знаменитой Афонской Горы. И глядя на этот редчайший по своему местоположению храм, я почувствовал прилив новых сил для преодоления последних трудностей подъема и стал ползти вверх с удвоенной энергией.
Наконец заветная цель была достигнута – моя нога ступила на самое темя Афона, на самое высокое место этого чудесного края. А представляло собой это место заостренную, неправильной формы мраморную скалу с небольшой площадкой, посреди которой возвышался храм в честь Преображения Господня, длиной не более десяти метров. Первой бросившейся мне в глаза особенностью этой святыни являлось отсутствие креста на куполе, причину чего не замедлил мне сообщить мой проводник.
– Кресты не могут здесь долго стоять на храме! – объяснил он. – Они постоянно ломаются проносящимися здесь бурями и страшными ударами молнии, от которых нет спасения и ничему живому. Потому здесь никто и не живет при церкви. Но усердные иноки все же стекаются сюда со всей горы для богослужений, особенно много народу бывает здесь 6 (19) августа в день Христова праздника.
Знаменитый Гумбольдт полагает, что Святая Гора по перпендикуляру к уровню моря имеет 2065 метров; простые же русские монахи, руководясь, вероятно, одним глазомером, определяют ее высоту в три версты. Во всяком случае гора эта удивительная во всех отношениях; бесподобен и вид, открывающийся со святогорского пика. И старые монахи мне говорили, что отсюда в ясные дни и при склоне солнца к западу можно видеть далекие острова, которые при мне тонули в голубом тумане. Но острова архипелага все были видны. И я без пояснений определял острова Самофраки и Имброс, Тассо и Лемнос, столь любимый Вулканом, где ковали его циклопы заветные брони для витязей Ахилла и Энея; различал берега мифологической Трои и любовался величественным видом Олимпа, красовавшимся над Салоникским заливом своей прекрасной шапкой, покрытой вечным снегом.
Виднелись вдали увенчанные сверкающими снегами синие горы Македонии, являвшиеся по своему угрюмому облику полнейшей противоположностью привлекательной цепи Афонского хребта, ниспадавшей к перешейку в живописных волнах расцветающей зелени. Поразительное, незабываемое зрелище; единственная в своем роде картина! И как занимательно теперь было с этой высоты смотреть на все другие афонские возвышенности и горы, столь внушительные при наблюдении их с моря, лежавшего где-то в глубине бездны. А отсюда все эти великаны казались нам не более как холмиками или плоскими пригорками, слегка покрытыми зеленью (вековой лес!), яркость которой скрывалась под сероватыми клубами облаков, равнодушно проплывавших у нас под ногами.
– А вот и обители наши! – указал мне монах. – Все хорошо видны отсюда. Вот они белеют: вот Руссик, Карея, Ивер, а вот и купол горит на Андреевском скиту!
С волнением внимал я простым словам монаха, указывавшего мне различные подробности чудесного вида, который развертывался у меня под ногами. Незабываемые впечатления! Я так ясно различал вдали все те прекрасные и тихие обители, которые перечислял мой спутник, и в то же время я с восторгом думал о безграничном величии того места, на какое меня занес Промысл. Афон, Афон! – думал я. – Святая Земля и Афон… Вот два слова, два образа, два видения, которыми столько веков жила православная душа, особенно душа славянина, душа русского. Ведь если припомнить и вдуматься, то вряд ли можно отыскать для истинно-православных сердец более чудесное повествование, чем повествование о той земле, которую исходил Спаситель, и о той горе, на которой в святых монастырях, скитах и келлиях в высоком подвиге смирения и послушания спасались молитвенники грешной земли.
Теперь с трудно достигаемой высоты я сам любовался всеми этими местами – местами иноческих подвигов, скудости телесной жизни и богатства духовного содержания. И я понял, каким сладостным мечтанием являлось в течение веков для многих благочестивых православных людей паломничество на Святую Гору и каким истинным счастьем было для них же труднодостижимое исполнение этих мечтаний. Я познал, что здесь, на Святой Горе, исходящий от нее невидимый свет может примирить человека с земным миром и приуготовить его к переходу в мир вечной любви и правды.
И разве не велико было значение Афона в течение веков? Весь православный мир знал, что есть на земле светильник, озаряющий, освещающий и просвещающий несчастное человечество, в особенности же православных христиан, изнемогавших под всякими бедами. И не оскудевало масло в чудесном афонском светильнике, ярко горевшем столетиями: росли монастыри, скиты и келлии, расширялось и украшалось все, что служило к славе Божьей. На Афоне собирались сокровища искусства, книжные богатства, мирового значения ценности. Из самых отдаленных стран и глухих углов посылали на Афон свою жертву и богатые, и бедные, несли свои жертвы паломники. И бесконечен был поток верующих людей, шедших к Святой Горе на поклонение. И не все из них уходили обратно – многие оставались навсегда на афонских горах, чтобы трудом и молитвой не только спасти свою душу, но и приумножить эту духовную трапезу, от которой вкушало все православие.
Так было веками. Пока Всевышнему, владеющему всеми временами и сроками, не было угодно ниспослать роду человеческому новые и тяжкие испытания. Но вот пронеслась по грешной, напоенной неправдой земле военная гроза; в смертельной схватке христиане стремились уничтожить друг друга; сильные поднялись на слабых, и казалось, померкло само солнце от кровавого тумана. А в результате неслыханной кровавой схватки народов совершилось дело бесконечно горькое для всех истинных православных христиан: православное русское царство, хранитель и поддержка дела Божьего на Святой Горе, зашаталось и рухнуло. Столп и опора восточного православия, русский народ оказался целиком в руках врагов Христовых, впал в скудость и рабство и перестал быть верным помощником оскудевающей Святой Горе.
– Тяжелые, скорбные времена настали теперь и для нас, грешных! – как бы в ответ на все эти мысли, так меня волновавшие, сказал мой проводник, терпеливо стоявший в двух шагах от меня, в то время как я любовался чудесным видом разбросанных внизу обителей.
– Вот ведь, сколько веков существовал Афон, а теперь что же с ним будет? И паломничество почти что замерло, и молодых иноческих сил не прибывает больше. Нельзя, не допускают. Теперь и работать в славянских обителях, право же, некому: одни, почитай, старцы остались. А куда уж там, старикам-то, производить теперь рубку лесов и доставлять бревна к берегу моря. И стоят, вот, афонские богатства без пользы, пока не придут сюда новые мирские хозяева. А они только того и ждут, только и ждут!
Монах с грустью поник головой, поделившись со мной этими невеселыми мыслями, по-видимому, неотступно волновавшими теперь и всех других обитателей монашеского царства.
* * *
С южной своей стороны Афонская Гора круто обрывиста и имеет под собой пропасть, кажущуюся бездонной. Но картина, открывающаяся взору при его обращении именно в эту сторону, еще очаровательней, с ее бесконечной далью голубого моря, сливающегося на горизонте с такими же небесами, плотно прикрывающими берег уже Малой Азии. Отсюда, с этой головокружительной высоты, кажется темно-голубым и весь воздух, отделяющий нас от земли и моря. И находясь на пике Святой Горы, поневоле начинаешь чувствовать себя прочно отделенным от всего земного и суетного, перешедшим еще заживо в новые, нездешние и вечные сферы.
С горьким чувством приходилось все же уже расставаться с прекраснейшим местом и думать об обратном пути с вершины горы. И я уже готов был двинуться в эту нелегкую дорогу, как вдруг увидел только что появившегося бедно одетого, истощенного монаха в порыжевшей от времени ряске и помятой скуфейке. Бедняга-инок, по-видимому, только что вскарабкался на самый пик, откуда-то издали заметив наше восхождение на него. Усталый и печальный шел этот человек мне навстречу, протянув вперед худую руку с зажатым в пальцах маленьким цветочком.
– Сиромах, старик! – пояснил мне проводник. – Продает бедняга цветочки «Слезы Матери Божьей». Вот хочет и вам предложить на память это растеньице.
Я не замедлил исполнить скромное желание бедного инока и, поспешно достав какую-то мелочь, вручил ее продавцу взамен за горный цветочек.
Библиотека Протата. Отъезд с Афона
На этот раз, заканчивая паломничество, я снова попал в Лавру Келлий – Карею, и, естественно, пожелал немного поработать в древнем книгохранилище Протата. Это было тем более удобно, что я проживал в нашем Андреевском скиту, и до отъезда с Афона оставалось больше недели. И я посвятил восемь приятных дней протатской библиотеке, в которой рукописи почти исключительно церковно-богословского характера. Между ними наиболее замечательными следует назвать следующие: Ветхий Завет, написанный в 1327 году, от книги Бытия до книги Паралипоменон, размера полного листа. Евангелие на пергаменте, расположенное по чтениям и считающееся очень древним (ученые относят его к X веку). Выбор евангельских чтений на пергаменте в большой лист, с изображениями евангелистов, XI века. Паремейник – в четверку на пергаменте; судя по письму, тоже очень древний, вероятнее всего XI века. Есть в этой библиотеке больше десятка славянских книг рукописных и древнепечатных. Псалтирь славянская 1558 года, написанная диаконом Исаией в 1546 году и пожертвованная в протатский собор за душу Мефодиеву; правописание в ней сербское. Между книгами есть и древний помянник протатской церкви на греческом языке, написанный на коже. Судя по первым листочкам, этот помянник относится к XII–XIII векам. Шестоднев Василия Великого – рукопись на пергаменте X века. Творения святого Григория Назианзина – рукопись на пергаменте X века. Жемчужины Златоустого – рукопись на пергаменте в большой лист, тоже X века.
Есть в этой старинной библиотеке исторически весьма ценная переписка с государями и иерархами славянских православных церквей. Но все это пересмотреть я просто не имел времени: приходил к концу мой отпуск, и без того весьма продолжительный.
* * *
Подошел последний день пребывания моего в дорогой русской обители. Распрощавшись с милыми и дорогими ее обитателями, так гостеприимно меня принимавшими, я отправился пешком на пристань Дафни; вещи отправлены были ранее на мулашках проводником. Дафни, подворье Свято-Пантелеимонова монастыря… Беседа за самоваром с добродушным и много видавшим отцом Петром. Томительное ожидание запоздавшего парохода.
Когда в полночь мы в беспорядочной сутолоке перешли из лодки и погрузились на пароход, я долго еще не покидал палубы, будучи не в силах оторвать глаз от силуэта берега и мыслей своих от воспоминаний об этом втором своем паломничестве по святогорским обителям. Но вот пароход повернул и взял направление из залива.
Стоя на палубе, я вслушивался в тишину ночи. И вдруг донесся до меня с темного берега мелодичный церковный звон. Он радостно оглашал афонский простор, а затем постепенно и тихо таял в темных водах Эгейского моря… Этот звон доносился все тише и тише, и все больше меркли огоньки в келлиях подвижников, которые по всей Святой Горе приступали к полунощнице. Но этот далекий святогорский благовест, по волнам морским дошедший до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинственности, точно искал нас, затерянных в море и ночи… И нашел, и соединил с прославлявшими Бога на Святой Земле.
Третье паломничество
Иваница и скит всех святых
Пользуясь пребыванием в нашем монастыре Св. Пантелеимона, в виде отдыха после своих библиотечных занятий решил я предпринять дальнее путешествие, чтобы на севере Афона посетить Крумицу – скит, возделанный и обстроенный огромными жертвами трудолюбивых пантелеимоновцев. И в ближайшее раннее утро я уже плыл вдоль восточного берега Святой Горы на утлой ладье в обществе русских и греческих монахов.
Солнце подымалось все выше и выше; яркие лучи его скользили по лодке, по синей волне и все больше открывали от тумана горные лощины. Пахло утренней сыростью, от которой пробегал бодрящий озноб, и все время ощущалась приятная соленость воздуха. Трудно описать всю прелесть этой утренней поездки вдоль живописного афонского побережья, когда перед нами открывались все новые прекрасные уголки этого чудесного полуострова и в лучах разгорающегося солнца все время менялись цвета, краски и тона.
Вот, в южной дали все больше теряется сливающаяся группа корпусов Ксенофа, а в это время мы уже приближались к массиву древнего греческого Дохиара, с его выделяющейся башней, висящими балкончиками и бесконечными переходами, соединениями и достройками его темных монашеских корпусов. И все это появляется и уходит на живописном фоне южной лазури, пустынных гор и буйной афонской зелени – зелени без конца и края, теряющейся в той же яркой лазури. Апельсиновые и лимонные сады, оливковые рощи, виноградники и горный лес, спокойный и величественный – все так прекрасно в этом царстве векового безмолвия.
Я сошел на берег в местности, которая здесь известна под общим названием Иваницы, – сошел, чтобы посетить ту скромную обитель Всех святых, о которой мне несколько раз упоминали на Святой Горе. И теперь, тридцать уже лет после мрачного преступления всколыхнувшего тогда весь Афон, благочестивые и незлобивые святогорцы частенько вспоминают ее, эту пустынную обитель, так ужасно пострадавшую тогда от ужасного злодеяния. И я действительно не пожалел, что затратил несколько часов на посещение этой скромной, заброшенной и забытой обители… Но что же случилось? Что там произошло и что так всполошило Афон?.. 9 марта 1908 года пришлыми разбойниками был зверски убит иеросхимонах отец Моисей.
По просьбе и благословению Хиландарского сербского монастыря на одном из монастырских участков дикой невозделанной земли, в местности Иваница, этот иеросхимонах Моисей занялся устройством новой русской обители. Местность эта суровая и лишь кое-где населена была отшельниками-пустынниками, не имевшими вблизи духовного утешения вследствие отсутствия храма. И вот, позже восприявший мученическую кончину отец Моисей по настоянию Хиландарского монастыря с великим трудом и иноческим усердием все же успешно устроил там новую обитель. Теперь, ко времени нашего приезда, там уже имелась хорошая морская пристань с большим корпусом и церковью во имя святых Симеона и Саввы Сербских. А невдалеке от нее находился еще один корпус, где жила братия, занимавшаяся хозяйственными работами. И до войны в обители Всех святых спасалось до шестидесяти человек братии. А теперь не было и пяти!..
* * *
Только в это паломничество удалось мне пробраться на дальний север Афонского полуострова. И вот я, наконец, очутился на Крумице, о которой так много слыхал еще в два прежних паломничества на Святую Гору. А местность здесь прекраснейшая, и виды захватывающие.
Вокруг простирались зеленые просторы этого чудного края. Безмолвные горы с их крутизнами и густой растительностью, уходящими к голубому небу строгими кипарисами, с серебряным зеркалом моря, в обе стороны светящимся из-за изумрудной листвы. А там, далеко и внизу, в синеющей дымке тумана виднелись бухты, острова и мирские поселки.
Афонский старец
Продвигался я по узкой и извилистой тропинке, направляясь к уединенному скиту. Тропинка вилась то по залитым солнцем полянам, то под кущами старых деревьев, смыкавшихся над моей головой прочным зеленым сводом. Но только напрасно неопытный путник стал бы искать под этим ветвистым сводом заслуженного отдохновения от духоты и палящего зноя: там, в узком и тенистом коридоре, образуемом вековыми афонскими великанами, было несравненно душнее и жарче, чем под открытым небом.
Несмотря на то что на полях и лужайках не было ни единого у к рытого уголка, куда, казалось бы, не проникал горячий солнечный луч. Идти по таким открытым местам было и легче, и свободнее. Едва тропинка выбегала на их простор, как путника тотчас же обдавал живительный морской ветерок, прерывавший власть солнечных лучей, которые уже тогда не жгли и палили, а нежили лицо и открытую голову.
На одном из лесных поворотов я невольно остановился, не будучи в силах оторваться от восхитительной картины, открывавшейся перед глазами внезапно и во всем своем грандиозном объеме. Слева от меня расстилались очаровательные просторы зеленых долин, правильных квадратов виноградников и холмов, покрытых буйной растительностью. А за этим царством зелени и полных жизни красок земли сверкало и искрилось море, обнесенное рамой берегов.
Я стоял молча. Стоял долго, позабыв в молчаливом созерцании и о цели своего путешествия, и о томящем зное южного дня. Казалось, позабыл и о себе самом.
Море, все залитое солнцем и обнесенное причудливой рамой своих цветистых берегов, как бы млело в истоме, сливаясь на горизонте с нежно-голубой далью небосвода. Живописно выступал из серебряных вод остров Мулине, а по другую сторону, как пышная корзина цветов, в лазурной воде моря вырисовывался остров Тассо, резко отличаясь своими красками и линиями от лежавших значительно дальше островных пятен Имброса, Самофракии и, наконец, уже совсем далекого острова Лемноса. Последний казался темно-лиловым, почти призрачным. А совсем близко, за аллеей стройных и строгих, темными свечами уходивших к небу кипарисов, я вдруг увидел несколько ярко сверкающих настоящим золотом церковных куполов. Это были купола русского скита – родные купола Святой Руси.
Я стоял, как очарованный, не мог оторвать глаз от красоты этого чудесного уголка. Сразу же уйти в дальнейший путь я не мог, не мог так скоро расстаться с овладевшим всем моим существом очарованием. Я уселся под развесистым деревом, решив продлить свое наслаждение лицезрением такого редкого сочетания красоты. И в эти минуты я уже ясно чувствовал, что эта вечная красота вытеснила из моей души все, что годами владело ей, как земное, суетное, докучно-жизненное немощно-человеческое…
Так длилось несколько минут. Не знаю и не помню сколько. Затем мое необычное состояние стало понемногу проходить, и вскоре я опять вернулся к обычным земным восприятиям. И причиной этого явились отчасти какие-то глухие звуки, долетевшие из зеленой рощи. Звуки были похожи на удары лопатой или киркой. По-видимому, где-то близко находился человек, усердно занимавшийся работой среди этого царства красоты и безмолвия.
Я поднялся и начал углубляться в лесную чащу по направлению звуков, которые с каждым моим шагом становились слышнее, хотя и не отличались особой силой. Чувствовалось, что удары наносились рукой немощной и слабой, едва способной вообще нанести такой удар. Движимый любопытством, я быстро миновал сравнительно легко проходимые заросли орешника – и вдруг очутился на лесной опушке, за которой начинались обширные площади одичавших виноградников, разбросанных по отлогому горному склону. И я тотчас же узнал причину, порождавшую загадочные звуки-удары. В нескольких шагах от меня весь залитый лучами яркого солнца усердно копошился какой-то ветхий старец в холщевом подряснике и с очень длинной седой бородой.
По всему видно было, что старый инок нес на себе такое бремя лет, какое едва ли могло ему позволить выполнять какую-либо работу, а тем более т у, какую он все же выполнял под палящим солнцем. А работа эта заключалась в окапывании тяжелой киркой виноградных лоз, на что в жаркое время летнего дня требуется немало сил и от молодого, крепкого человека. Но длиннобородый старец продолжал свое дело, ни на минуту не поднимая при этом головы, так что мое появление на его безмятежно-тихом горизонте по-прежнему оставалось ему неизвестным. «Не вспугнуть бы!» – подумал я, решив все же приветствовать почтенного труженика. И совсем тихо, так, чтобы голос мой все же долетел до его слуха, я произнес:
– Христос воскрес, отец!
Старик медленно поднял голову, а затем стал разгибаться. Но было ясно, что одно уже это разгибание причиняло немало труда и забот его костям, настолько долго совершал он это действие. Наконец длиннобородый дедушка выпрямился во весь свой крупный рост и, тяжело опираясь одной рукой на кирку и приложив другую к глазам, стал пристально смотреть в мою сторону, стараясь распознать того, кто так неожиданно нарушил его покой и полное уединение.
Я сделал еще несколько шагов и уже вплотную подошел к старцу, дабы дать ему возможность свободно ознакомиться с моей личностью. И, по-видимому, она произвела на него благоприятное впечатление, ибо я тотчас же увидел уже озаренное доброй улыбкой старческое лицо и такие же добрые голубые глаза, просто смотревшие на меня из под нависших бровей, вполне соответствовавших своей сединой всей белоснежной растительности, окаймлявшей лицо моего нового знакомого.
– Воистину! – прозвучал негромкий ответ инока. – Воистину воскрес Христос! А вы откуда здесь обрелись господин? И уж не русский ли будете?
– Русский, русский, дорогой отец! Приехал к вам помолиться из Сербии.
Искренняя радость засветилась в глазах милого старца, и он даже перестал опираться на свою тяжелую кирку, настолько его воодушевило известие о моей «русскости» и прибытие из братской страны.
– Владыко милостивый! – заговорил он. – Великая радость для меня ваше посещение, господин! И как это вы догадались, что я, грешный, здесь нахожусь? Видать, услыхали со стороны мою кирку. А я ведь и ковыряю-то ей едва-едва. Вот все же услышали. Что значит молодые уши. Воистину, Сам Господь привел вас сюда!.. Так русский вы человек? О, Господи милосерд!..
Отцу Вивиану – таково было имя старца – как оказалось, было восемьдесят шесть лет. Возраст настолько уже почтенный, что при нормальных условиях работа была бы уже излишней. И тем не менее, этот дряхлый и слабый старец должен был на закате своей многотрудной подвижнической жизни еще трудиться на виноградниках, как обыкновенный и здоровый молодой инок-работник. И притом это являлось для него вовсе не добровольным препровождением времени, а настоящим монашеским послушанием, необходимым для существования других братий и благосостояния их обители.
– Ничего не поделаешь, господин, при теперешнем нашем бедственном положении, когда нет молодых иноков, а остались только старцы! – со вздохом сообщил мне отец Вивиан, поправляя сухой старческой ладонью прядь седых волос, выбившихся из-под старенькой скуфейки.
– Что ни месяц, все меньше становится нас, русских иноков, на Святой Горе. Оскудевает наш русский сосуд монашеский. Не позволяют греческие власти нашим братьям приезжать теперь на Афон, закрыли для них доступ. Да и не только для русских людей закрыли они Гору Святую, а для всех славян… Не пускают даже румын. Вот и нет больше притока новых сил в нашу братию. Мы, старики, кончаем наш греховный жизненный путь, а заменить-то нас вот и некому…
Старец помолчал немного, а затем грустно кивнув на свою кирку, продолжал:
– Вот и с работой тоже беда. Все нам самим, старикам, приходится делать: нет у нас молодых и здоровых работников, как бывало раньше. А силы-то падают, едва-едва в руках какой-нибудь инструмент держится. Что поделаешь, если нельзя без работы оставить обитель? Как жить-то дальше будем? Не окопаешь виноградник, не нарубишь леса, не вспашешь поля – и весь скит пропадает, в пустыню превратится! Вот, как можем, и тужимся, оставшиеся еще на земле грешные рабы Господни, дабы не пропасть совсем. Власти греческие ввели суровые правила, очень суровые. И если будет идти все так и дальше, совсем пропадут на Афоне русские обитатели. А не станет русских иноков, какой же тогда будет русский монастырь?
Старец умолк в печальном раздумье. Не начинал разговора и я после его грустных слов.
– А все это идет оттуда, господин, с нашей матушки родины многострадальной. Все от нее! – возобновил отец Вивиан свою речь после длинной паузы. – Слыхал я немало о том, что сотворили в России, доходили и до нас эти скорбные вести. Испытывает нас Господь Всемогущий! Ничего не поделаешь: попустил Он за наши грехи… Попустил и вот уже сколько лет не хочет помиловать. И никто не знает, никто не скажет, когда же ждать конца нашим испытаниям.
Неожиданно старец поднял одной рукой свою кирку, а затем снова опустил ее, ударив при этом с такой силой, что я невольно обратил внимание на этот необычайный прилив старческой энергии.
– Бога забыли… Вот и вся причина страшных бедствий! – воскликнул старец уверенно. – Забыли заповеди Господни!.. Вот и мучается так долго весь народ, мятется, как в преисподней, не ведая, что творит, и не видя ни в чем ни конца, ни начала! Князь тьмы гуляет по Руси, храмы разрушает, пастырей Христовых убивает, бесчестие и распутство сеет… Только все же придет и этому конец… придет! Дождется и русский народ своего воскресения… дождется!
Старец легко коснулся моей руки своими сухими пальцами и проговорил совсем тихо, одновременно в упор посмотрев на меня своими старческими голубыми глазами.
– Верьте мне, господин, что помилует Господь Бог нашу родину… и ударит час обетованный, когда проснется народ от греха своего и опомнится. Придет, ударит этот долгожданный час… Только нам, грешным, посильнее молиться надобно! А вы откеля, из каких мест будете, господин хороший? Имеете жену, деток?
Я, как мог, отвечал на все вопросы старца, стараясь удовлетворить его любознательность.
* * *
В беседе с этим замечательным старцем время летело незаметно. И я не скоро вспомнил о своем намерении пораньше добраться до сиявшего вдали своими золотыми куполами русского скита Иваницы.
– Отселева уже недалеко до обители. Поспеете, пока еще солнышко высоко. Пошел бы и я, да только уж очень плохой я спутник для молодого человека: ноги уже не носят, как нужно. Да и работы здешней бросить нельзя: некому исполнить послушание. А без работы этой не вырастет виноград, как нужно… Уж вы идите один, дорогой наш гость, с Богом идите. Вот так и доберетесь до скита по этой тропинке, не собьетесь!
При нашем прощании старец опять забросал меня вопросами о Сербии, причем обнаружил большое знакомство со всеми замечательными событиями этой близкой страны, волновавшими ее за последние годы. С искренним уважением распрощался я с милым старцем и спустя короткий срок уже уходил от него вдаль, оставляя позади себя и замечательное место, с которого открывалась незабываемо прекрасная панорама, и самого старца, так неожиданно встретившегося на пути моего паломничества по Афону.
При входе в новый зеленый коридор, начинавшийся шагах в двухстах от места, где я распрощался с отцом Вивианом, оглянулся и еще раз увидел этого посвятившего свою жизнь Богу простого русского человека, проводившего на земле девятый десяток положенных ему лет.
Старец все еще стоял на небольшом холме, весь залитый солнцем, смотрел мне вслед и, по-видимому, не хотел уходить, пока я не скроюсь из вида. И когда я оглянулся, он осенил меня напутственным крестным знамением. Я, в свою очередь, низко поклонился благословлявшему меня старцу. И, думаю, что он так же хорошо видел мой поклон, как и я его крестное знамение.
А спустя еще минуту я уже шел густым зеленым коридором. И с тех пор уже больше никогда не встречался со старцем Вивианом, хотя его тихий старческий облик и знаменательные речи живут в моей памяти до сих пор.
Карпаторосс отец и Ассон
Опять вокруг меня расстилались зеленые просторы. Безмолвные горы с их крутизнами и густой растительностью, уходящими к голубому небу строгими кипарисами и серебристым зеркалом моря, синеющим из-за изумрудной листвы. А там, далеко внизу, в дымке тумана виднелись тихие бухты, острова и мирские поселки. Тропинка вилась среди густых зарослей. И не помню, как я добрел до этого чудесного уголка, открывавшегося на моем пути как бы совсем случайно.
– Да здесь никак пасека Крумицы! – спохватился мой спутник, стараясь рассмотреть что-то за густой зеленью листвы. – Так и есть. Она самая! Здесь отец Иассон спасается и Божьих пчелок обслуживает. Любопытный монах. Вот сейчас сами увидите! – закончил иеромонах Харлампий, сворачивая куда-то в сторону от тропинки.
Минута – и он, отодвинув какой-то засов, уже пропускал меня в небольшую калиточку, за которой вилась узенькая тропинка, пробегавшая над глубоким оврагом, густо заросшим кустарником и деревьями. А вокруг, казалось, на много километров не было никакого человеческого жилья, настолько дикой представлялась вся окружающая местность. И вдруг мы почти вплотную подошли к маленькому домику, в который вели две двери: прямо, по-видимому в жилое помещение, а по терраске направо – в крошечную церковку, где мерцали лампадки. И я невольно сразу же направился вовнутрь этого миниатюрного храма, чтобы приложиться к святыням.
Действительно, редкостным был этот храм, созданный руками всего лишь одного человека и в то же время содержавшийся в исключительном порядке. Как прохладно было в нем после нашего продолжительного перехода под палящим зноем. И какая приятная истома овладела всем телом, когда, помолившись перед закоптелым образом, я вышел спокойно на церковный порог и уселся на скромной терраске. Только тогда, осмотревшись по сторонам, заметил я вдали на косогоре множество ярко окрашенных ульев, разбросанных, подобно грибам, по большой лужайке. А около одного из ульев увидал фигуру монаха в подряснике и с защитной сеткой на голове.
– Отец Иассон, а отец Иассон! – прокричал мой спутник, по-видимому предпочитавший издали сообщить хозяину о нашем приходе и не решавшийся переступать заветные границы пасеки, где жужжали пчелы. – Бросайте работу, отец Иассон, я вам гостя привел. Идите сюда!
Монах-пасечник помахал нам издали рукой в знак своего согласия. И вскоре его освещенная ярким солнцем фигура стала приближаться к келийке, где мы дожидались его. С невольным любопытством поджидал я этого старца-пасечника. Каково же было мое удивление, когда вскоре на терраску взошел не старец, а еще совсем молодой инок, всего несколько лет назад вступивший на землю Афона мирянином-паломником из Прикарпатской Руси, а затем уже навсегда оставшийся для монашеской жизни у подножия Святой Горы.
Отцу Иассону на вид было не больше тридцати лет. Но какой серьезностью и глубоким пониманием принятого на себя сурового подвига веяло от всей его скромной фигуры, облаченной в грубый подрясник. А вместе с этой серьезностью как-то удивительно сочеталось и детское простодушие, и искренняя ласка в голосе, и способность без всякого усилия с его стороны вселять в душу своего собеседника покой и тишину, чего в мирской обстановке редко можно ожидать и от пожилого человека. Весь этот инок как бы соткан из умиротворения и ласковости. И спустя две-три минуты после нашей с ним беседы я уже чувствовал, что нахожусь во власти этого тихого и скромного инока, несмотря на значительную разницу наших лет.
– Рад, очень рад, дорогие гости, что посетили мою пасеку, – медленно говорил отец Иассон, здороваясь с нами. – Здесь хорошо, так тихо, никто подолгу и не заглядывает сюда. В стороне от дороги стоит пасека, да это и лучше для пчелок. А вы из Сербии, господин? – спросил он, посмотрев на меня чистыми глазами. – Хорошая это страна, братская и православная; сербы – наши защитники и покровители. Вседневно молю Бога о короле и Патриархе, дабы Он, Всевышний, дал им силы и духовную мощь для великой работы во славу нашей Церкви.
Я едва успевал отвечать на вопросы монаха-пасечника, стараясь в то же время удовлетворять его вполне понятную любознательность.
– Впрочем, что же это я, грешник! – спохватился наш любезный хозяин. – Ведь вы, вижу, измучились за дорогу под зноем, а я все болтаю и болтаю. Сейчас принесу вам холодненького кваску, а вы тем временем посидите и отдохните.
И он быстро скрылся, для того чтобы вскоре появиться с кувшином, наполненным холодным и шипящим домашним квасом.
– Редкий человек! – заметил мой спутник. – Добрый и работящий, и монах замечательный этот отец Иассон. Из карпатороссов он: пришел с партией своих земляков, да так и остался. Не хочу, говорит, больше возвращаться в мир: истина только здесь и нигде больше. Послушание проходил у замечательного старца-пасечника. Постригли его, и вот оказался и сам прекрасным пчеловодом, когда схоронил своего старца. Больше ста ульев имеет теперь и со всеми сам управляется. Целый день на работе, а ночью в церкви. Очень строгий подвижник!
* * *
Мы долго сидели на маленькой терраске отца Иассона, попивая приятный квас и наслаждаясь ароматным свежим медом, целая гора которого, в янтарных сотах, благоухала перед нами на блюде, любезно поставленном гостеприимным хозяином. А вокруг тихо млела под лучами солнца восхитительная природа, дышавшая цветами, медом, воском и кипарисом. Они окончательно погружали душу и тело в состояние безмятежного покоя.
– Ну, что же это я, все квас да квас! – спохватился милый хозяин. – Постойте минутку, я сейчас поставлю самоварчик. Ну, как же без горячего чайку обойтись? Ведь русские люди ко мне пожаловали, а я все только разговорами их потчую.
И вслед за этими словами отец Иассон пригласил нас перейти во внутреннее помещение, уверяя, что там удобнее и прохладнее. И вскоре мы уже сидели в маленькой и полутемной комнатке, увешанной по стенам какими-то портретами, рассмотреть которые мне сначала мешала темнота. Но, когда привык к ней глаз, я не без удовольствия рассматривал каждое висевшее на стене изображение, так как почти все они оказались близкими моему сердцу. Отец Иассон, по-видимому, сразу почуял, какие мысли и настроения овладели мной при созерцании этих изображений и с какой-то удивительной скромностью сказал:
– Любуетесь… Что же, ведь и я карпаторосс, православный, русский. Никогда ни в Москве, ни в Петербурге не был, а все же Россию за свою любимую родину почитаю… Не привел Господь увидеть – такова Его святая воля, но молиться за всех вас и матушку Россию мы, грешные, не перестаем. И придет час – воскреснет она из мертвых. Разве может быть иначе?
– Как вы свыклись здесь в одиночестве, отец Иассон? – спросил я немного позднее, когда на столе кипел небольшой самоварчик, а на чистой скатерти вместе с медом красовались и куски черного вкусного хлеба. Не тоскуете вы по родным местам, по вашим Карпатам, по родным и близким?
Молодой монах спокойно улыбнулся.
– Что же тосковать о них?.. Господь и над ними всеми и надо мной, грешным… Если бы я знал, что буду о мире вздыхать в монашестве, то не шел бы в монахи. По своей ведь воле и остался здесь. Да и чего скучать-то о мире: вы сами видите, какая здесь у нас благодать… Чего же еще больше человеку нужно? Только работать и молиться подобает, тогда никакая тоска и в сердце не войдет. Работы здесь достаточно: пчелы требуют, чтобы во всякое время года им служить. Но не оставляет меня Господь ни силами физическими, ни милостями духовными. А пчелки… Ну, право же замечательное творение Господнее, эти пчелы: от них одних чему только поучиться можно.
Отец Иассон замолчал, продолжая смотреть на меня с тихой и доброй улыбкой.
Я уже больше не решился беспокоить его ненужными вопросами о его жизни и переживаниях, так как хорошо понимал, что у этого молодого инока был свой определенный и верный кругозор, которому можно было только позавидовать.
Крумицкий арсанщик
Что за счастье бродить по Афону: пройти по дорожке, где прошли стопы великих молитвенников, зайти в келлийку благостного старца или молиться в храме и созерцать величие его святынь, стараясь воскресить в мыслях многовековое прошлое этого поистине монашеского царства.
Вот однажды, прогостив на Крумице, этом райском уголку Афона, решил я совершить плавание в сторону скита Фиваида, чтобы посетить окрестных пустынников. Схимонах отец Пимен, мой гостеприимный хозяин на своей арсане, теперь был энергичным и усердным перевозчиком к месту моего нового паломничества.
После радушного монашеского угощения из вареных автоподов, черного хлеба и кружки холодного красного вина, преподнесенных мне и проводнику моему отцом Пименом на крумицкой арсане, мы спешили поскорее добраться на арсану Фиваидского скита, хозяином которой был некий инок Фома, большой друг нашего отца Пимена.
– Да, обрадуется отец Фома… Ой, как обрадуется, когда увидит дорогих гостей! – говорил приветливый старец, стоя на веслах нашей утлой ладьи. – Ведь великая радость для инока такое посещение! И подумать только, как все изменилось за последние два десятка лет: было время, когда Афон так и кишел русскими паломниками. Откуда только ни прибывали к нашим древним святыням русские люди, из каких краев великой России сюда ни приплывали они. А приедет такой паломник, так уж непременно постарается побывать во всех монастырях и скитах; всюду норовит заглянуть и всем святыням поклониться. И не смотрели тогда русские люди на то, чей это монастырь: греческий, болгарский, сербский или наш же русский. Всякая православная обитель была для них желанной. Благословенное было время!..
Солнце спускалось все ниже. Его лучи, постепенно слабевшие, мягко скользили по лодке, по темневшей воде и проплывающему мимо нас высокому берегу, от которого заметно веяло лесной сыростью, перемешивавшейся с соленой влажностью моря.
– Нужно налегать! – добродушно заметил отец Пимен, одновременно принявшись грести с удвоенной энергией. – Неловко будет, ежели прибудем к отцу Фоме в потемках.
– Ничего, поспеем, – успокаивал гребца добродушный иеромонах отец Харлампий, мой спутник из Андреевского скита. – Теперь уже недалеко. Вот прямо рукой подать.
– Неведомо только, как долго еще Господь сподобит вообще навещать друг друга, – задумчиво промолвил схимонах Пимен, не переставая стоя налегать на весла (на Афоне гребут стоя и глядя вперед). – Ведь никому неведомо, что станется скоро с нашими русскими обителями. Теперь не прежнее золотое время: нет больше великой покровительницы Афона, православной России-матушки. И вот, не пускают больше русских людей на Святую Гору, не желают, чтобы наши обители пополнялись новыми насельниками. И пустеют обители, нет к ним притока новых иноков, доживают в них только старые монахи. А известно, что значит старый инок: сегодня он еще может работать, а завтра уже одряхлел от бремени лет и обессилел, к смерти приблизился. И быстро вымирает теперь русский Афон, на глазах наших вымирает…
Отец Пимен скорбно умолк, охваченный грустными думами, и стал пристально всматриваться в синюю даль, уже заметно охваченную тенями вечера.
– А вот и отец Фома! – радостно заметил он, налегая снова на весла. – Так и есть… это он!.. Ну, давненько я не видал его, друга моего.
Я усиленно всматривался по направлению острого взгляда старца-лодочника, но решительно ничего не видел, кроме синего тумана, окутавшего морской берег. А спустя немного моему взгляду сделались доступны очертания каменных стен арсаны, где хозяйничал отец Фома, но его самого я так и не мог рассмотреть.
– Да неужто же не видите, господин? – удивился старец. – Ведь, как на ладони, стоит на берегу отец Фома! Вот сейчас обрадуется, непременно обрадуется… Да и я, грешный, рад повидать его.
Солнце совсем опустилось за морем, и лесная сырость берегов сделалась еще более ощутительной. Но отец Пимен – вероятно, чтобы сделать приятными последние минуты нашего плавания – не прекращал своих добродушных рассказов, стараясь занимать нас.
– Повидаться с соседом монахом как будто и хорошо, но с другой стороны, лучше и не видаться, – рассуждал он. – Для спасения души, конечно, для соблюдения подвига монашеского: ведь и монахи… люди. И монахи при встречах людьми остаются… Вот что! Ну сойдешься с другим иноком после долгой разлуки и начнешь вспоминать прошлое, перебирать братию, обсуждать монастырские дела. И не убережешься: осудишь кого-нибудь, непременно осудишь. Глядишь, и впал незаметно в грех великий. А потом вернешься к себе, один останешься – и, ох, как тяжело станет… Смиришься, уразумеешь все, но покоя обрести долго не сможешь. Посему одному-то все же легче: ничто не смущает. Читаешь себе монашеское правило утром, читаешь перед отходом ко сну – и душа спокойна.
Отец Пимен помолчал немного, а затем продолжал:
– Ведь вот какой случай со мною был недавно, и все только от того, что я со своим уединением расстался… Вспомнил я недели три тому назад, что у фиваидцев[13] в обители праздник престольный и решил пойти туда к литургии. Собрался, конечно, по-монашески, по-страннически: взял с собою сумочку, а в нее-то положил новенькую свою ряску; смотал ее поплотнее, да и положил. И вот, подумайте только: прошел уже всю дорогу в Фиваиду, прибыл в обитель, открываю сумочку, чтобы в ряску облачиться к литургии – гляжу, а ряски-то и нет… Своим глазам сначала не поверил: хорошо помню, как ее в сумочку-то клал, да как поплотнее свертывал… Помыслил я немного – и побежал обратно на арсану. Конечно, и там ряски своей я не нашел. Снова бегу в Фиваиду, гляжу по тропинкам, под каждый кустик заглядываю – нет и нет моей новенькой ряски… Потом я стал соображать, да под конец, как полагаю, и рассудил правильно: шел я в Фиваиду лесочком, зацепил сумкой за ветку или кустик колючий, а ряска-то, видно, была плохо в мешок засунута… н у, и вывалилась незаметно. Дальше ей пропасть было уже не трудно. Дорогой этой часто ходят мирские, греки-аргаты[14] – народ беспечный и светский, к монахам по своему относящийся. Ну и подобрали эти миряне мою ряску да и унесли с собою в города. А ряска моя была хорошая, новенькая, без единого пятнышка, недавно сам ее справил. Только не новизны мне ее жалко, а вот чего: в этой самой-то ряске принимал я последний раз Святое Причащение, Святых Таин принять удостоился. Искушение!.. Ну разве это не работа врага рода человеческого над иноческим духом? И ведь как тонко он работает, враг-то этот, над нами: идет себе стареньким монах из своей одинокой арсаны на литургию – он, Князь Тьмы, и тут его улавливает. И как ловко ряску-то мою из сумки вытащил, никакой живой человек того бы не сделал… А сколько я после скорбел над этим, сколько думал. Да, трудно бороться здесь с дьяволом… Ох, как трудно! Так он и вьется, так и вьется около монаха…
Крумица
Слушая этот бесхитростный рассказ опечаленного отца Пимена о его пропавшей ряске, я почти и не заметил, как наша лодка в сумерках вплотную подошла к небольшому молу, на котором теперь уже ясно выделялась та монашеская фигура, которую еще издали так хорошо приметил наш перевозчик. А на самом берегу, значительно выше того места, к которому пристала наша лодка, приветливо светился огонек. Это было одно из окон Фиваидской арсаны, тонувшей в сумраке южного вечера.
– Ну, вот и отец Фома! Встречай дорогих гостей, старец! Русский господин и с ним отец Харлампий из Андреевского скита… Чай, давно его знаешь.
Через минуту лодка тихо пристала к старенькому молу, у края которого уже суетился отец Фома, помогая нам выбираться на сушу.
– А я давно уже поджидаю вас, дорогие гости, – говорил он, пожимая мне руку. – Смотрю и смотрю, что за лодка такая в нашу сторону… Вот чуяло грешное сердце, что радость с ней плывет. Вот и дождался… Слава Тебе, Господи! Милости просим, дорогие!
– И я тебя приметил давно, отец, – отозвался наш перевозчик, привязывая лодку. – Спешил доставить тебе гостей еще засветло, да вот и не удалось.
– Не велика скорбь, что и опоздали. Время теперь хорошее, тихое. Спасибо, что надумали меня навестить. Сейчас вскипятим самоварчик. Есть у нас свежая рыбка, только вот под вечер наловил. Закусите после путешествия и покойно переночуете. А как станет развидняться, подымитесь на поклонение в наш скит… Оставайся и ты у меня на ночь, отец Пимен, не оставляй дорогих гостей. Поплывешь к себе обратно ранним утречком.
Но отец Пимен остался тверд в своем намерении, не решаясь на ночь оставлять свою арсану без надзора. Он сердечно простился с нами и быстро исчез со своей лодкой в вечерней тьме. Не прошло и получаса, как мы уже мирно пили чай на терраске второго этажа фиваидской арсаны, с которой открывался незабываемый вид на ночное море. А было оно тихим, зеркально спокойным. Таким же спокойным, как и вся жизнь тех замечательных людей, с коими я вел долгую беседу в этот прелестный вечер. И только здесь, в обстановке тихого и заброшенного уголка Афона, я мог вполне ясно уразуметь, какими замечательными людьми являлись все эти безвестные нашему суетному и шумному миру отшельники Святой Горы Афонской, какими были отец Харлампий, отец Фома и отец Пимен.
Каруля и старец Феодосий
Это название, как и отрывочные рассказы об этой замечательной части Афона, мне приходилось слышать неоднократно еще задолго до непосредственного ознакомления с ним.
– А вы были на Каруле? – спрашивали меня иноки и афонские гости. – Видали ли вы карульских отшельников?.. Знаете ли отца Феодосия?
Вполне понятно, что, паломничая по Святой Горе, я и сам ни на минуту не забывал о существовании этого замечательного места и стремился побывать на нем как можно скорее.
Каруля… Местожительство святогорских монахов-пустынников, единственное по дикости природы и строгости своего безмолвия… Только здесь можно во всей полноте ощутить и понять истинную красоту подвига христианского отшельничества – отшельничества православного, овеянного прелестью вековых традиций и бесчисленных преданий и легенд. Начало Карули относится к X веку. Легенда гласит, что к преподобному Афанасию пришел на покаяние разбойник и попросил у него благословения на пустынную жизнь.
– Много грехов совершил, много душ невинных загубил, святый отче!.. Назначь мне место и покаяние самое строгое. Буду переносить все, чтобы спастись!
Великий авва внял просьбе грешника и, благословив, направил его в самую глухую из всех афонских пустынь, на вершину отвесной прибрежной скалы, господствующей над морской бездной архипелага с южной стороны Святой Горы. Высоту эту, считая от моря до отшельнических келий, определяют до 800 метров, причем некоторые из пустынников, чтобы спуститься вниз, проделывали опаснейший путь, передвигаясь по веревке и упираясь ногами в обрывистую каменную стену на протяжении многих метров. Знаменитый русский путешественник по святым местам XVIII века Василий Григорович-Барский особенно ярко и образно описывает Карулю и головокружительную высоту «орлиных гнезд» ее уединенных насельников:
«К нему же уже приближающимся путь зело жесток и страшен, есть яковаго еще во всем моем путешествии не видел, яко четверть часа требе дратися и руками и ногами семо и овамо завращающися, между ужасными пропастьми каменными, над морем висящими, отнюду зрящему низу, сердце унывает и великое есть тщание шествующему да не како поползнется в пропасти. Со многою нуждой и терпением тамо живущие восходят и нисходят обременении суши, обаче терпят Господа ради да и в вечной жизни имуть мзду».
Я решил исполнить свой паломнический долг перед Карулей во время одного из пребываний своих на пристани Дафни, откуда легче всего отправиться туда вдоль морского берега. И с особым удовольствием вспоминаю теперь это плавание по волнующемуся морю, разнообразие причудливых очертаний диких и скалистых берегов и туманные морские дали с противоположной стороны. Не забуду и чистого, светло-голубого неба, тогда венчавшего нашу небольшую группу во время пути, вместе с ярко горевшим над головой солнцем, палящие лучи которого умерялись морской влагой. Незабываемые переживания, неизгладимые впечатления!.. Высоко-высоко на скалистом обрыве высится вдали неприступным средневековым замком живописный греческий монастырь Симонопетр. Затем наша лодка тихо прошла мимо монастыря Григориата, с изумительной живописностью точно повиснувшего в мареве южного воздуха. А за этими двумя орлиными гнездами следовали монастыри Дионисиат, Св. Павел и еще какие-то приюты отшельников, уцепившиеся за выступы скал.
– Страшно и смотреть! – услышал я замечание одного из спутников. – А вот живут же там наши братья. До скончания своего века живут и подвизаются во славу Божию. А поглядишь, вот-вот оборвется в море их гнездышко!
Я молчал, слушая эти простодушные замечания моего спутника и продолжая в то же время, как зачарованный, смотреть на настоящее чудо Карули, многочисленные каливки которой по мере приближения нашей лодки вырисовывались все яснее на сером граните скал.
– Вот так они поднимаются туда на веревке, – продолжал монах. – Вы видите веревку? Вот, извольте приметить. Она правее черных камней тянется… По веревочке же им и пищу посылают, отшельникам нашим. У веревки на конце корзиночка, ну и кладут в нее проплывающие… Иные каливиты из этих гнездышек лет по десятку не выходят: так там и живут годами в посте и молитве.
Наша лодка остановилась у камня невдалеке от тропинки, ведущей к одному из древнейших скитов – Св. Анны, расположенному среди громадных нависших утесов. Мы вышли: я, мой провожатый и еще один монах, направлявшийся из Св. Пантелеимона тоже на Карулю. Знакомство с последним оказалось для меня особенно ценным: этот схимонах, отец Никодим, был учеником известного всему Афону карульского отшельника, иеросхимонаха Феодосия, которого я очень хотел повидать.
– Вот немного отдохнем на камешка х, а потом и двинемся с Богом! – приветливо сказал отец Никодим. – Понесу сухари своему старцу.
Только теперь я заметил, что с отцом Никодимом был некоторый дорожный груз в виде мешка с сухарями.
– Вы мне и свой чемоданчик извольте! – любезно предложил он, забирая последний и к нему присоединяя еще и большой зонтик моего спутника, иеродиакона Афанасия. – Мне подниматься туда дело привычное, а вам впервые все же будет трудновато.
И отец Никодим легко пошел вперед и вверх, перепрыгивая как коза с камня на камень и, по-видимому, не прилагая особенных усилий для достижения еще далекой от всех нас цели. А мы следовали за ним, но, о Боже, сколь отличным являлось это наше движение.
Солнце палило нестерпимо. Но укрыться от лучей его не было возможности: все было скалисто, раскалено. Останавливались мы с иеродиаконом Афанасием почти после каждых 10–15 шагов, иногда судорожно хватаясь за выступы скал, тяжело дышали и немало мешали отцу Никодиму, принуждая его невольно задерживать свой прыткий ход и докучая ему разговорами и расспросами. Но особенно тяжело было подниматься вверх моему тучному спутнику, беспрестанно утиравшему огромным платком свое лицо. Он положительно задыхался от трудности восхождения. Что же касается меня, то при каждой остановке я находил прекрасное средство почти немедленно забывать эти трудности: стоило мне обернуться – и тотчас же я делался созерцателем неописуемой красоты, все время находившейся за моей спиной во время хода. Позади меня было море с его зеркальной поверхностью вод, дремавших в волшебном полусне под золотыми лучами полдневного солнца. А над всем этим царством красок и света стояли громадные иссиня-темные прибрежные скалы, у ног которых играли и плескались прозрачные волны. Но плескались они тихо, как бы боясь нарушить царившую вокруг тишину этих удивительных мест.
А мы поднимались все выше и выше, оставаясь в полном неведении о том, куда вел нас неутомимый монах и где нам удастся остановиться на более продолжительное время. Но вот, вдруг раздался веселый и звонкий окрик нашего вожатого, показавшийся даже несколько странным по своей простоте в обстановке всего окружающего нас величия.
– Отец Дорофей! А, отец Дорофей! – прозвучало впереди нас. – Веду к вам дорогих гостей-землячков! Выходите-е-е!..
Наш отец Никодим кричал куда-то влево, в направлении к почти отвесному склону горы, находившемуся от нас уже совсем близко. Тропинка в это время свернула влево, и энергичный отец Никодим внезапно исчез за какими-то кустарниками, а через минуту до нас снова донесся его голос, вторично окликавший отца Дорофея. Но последнего так и не отыскали: по уверению отца Никодима, он пошел за «дровишками».
Передохнув, мы двинулись дальше. Тропинка взбегала все выше и круче, а повороты ее были все чаще и неожиданнее. И вдруг перед нами сразу открылась каливка, положительно как бы прилипшая к основанию громадной каменной стены. Отец Никодим, по-прежнему не обнаруживавший признаков усталости от восхождения, радостно стоял теперь перед наглухо закрытой дверцей каливки, наполовину скрытой под гирляндами какого-то вьющегося растения. Он взывал по-уставному, но никто не откликался изнутри.
– Видать, молится старец, – пояснил он. – Ну, да ничего, откроет. И он вновь постучал в глухую дверцу, повторяя обычную молитву. За калиткой послышались старческие шаги, прогремел отодвигавшийся засов – и вслед затем на фоне темного четырехугольника открывшейся дверцы появилось перед нами прекрасное лицо старца-пустынника, одно из замечательнейших человеческих лиц, какие мне приходилось видеть в жизни. Оно было чистым, открытым, обрамленным белыми, как лунь, волосами головы, с такой же белой бородой, ниспадавшей на ветхую монашескую ряску. Но что было самым замечательным, самым чарующим на этом светлом старческом лице – это лучистые и ясные глаза, которыми он как бы обнимал и привлекал к себе всякого приближавшегося. Привлекательна была и его добрая, детски ласковая улыбка, как бы озарявшая все вокруг каким-то нездешним тихим светом.
– Милости просим, дорогие гости! – прозвучал тихий приветливый голос. – Прошу вас… Входите с Богом!
Старец о. Феодосий
Это был прославленный афонский старец-отшельник, иеросхимонах отец Феодосий, в далеком прошлом воспитанник Казанской духовной академии и ее профессор. Впоследствии по глубокому духовному устремлению он удалился на Афон, а затем ушел в отшельничество на Карулю. Здесь, проводя время в посте и уединенной молитве, он не чуждался и богословских вопросов, углубляясь в них и ведя очень интересную полемическую переписку с выдающимися учеными богословами: митрополитом Антонием (Храповицким), профессором Н. Н. Глубоковским, Доброклонским, Титовым и др.
Я спустился в его крошечную, но чистенькую келийку и всецело погрузился в созерцание этого замечательного человека. Я старался понять отца Феодосия, присматривался внимательно и серьезно, боясь пропустить какое-либо его слово, какой-либо случайный ответ. И в то же время с истинным восхищением следил за его спокойными движениями и тихим светом его взгляда. И, делая все эти наблюдения, я вскоре убедился в одной непреложной истине: тихий и приветливый старец, отец Феодосий был человеком исключительным, необыкновенным, выходящим из ряда других людей по сочетанию тех добродетелей, какие так и излучало от себя все его существо, казавшееся таким простым и несложным. Чистота душевная и телесная, целомудренное сердце, непоколебимая и горячая вера во все то, во что должен верить истинный подвижник, детская простота и полное доверие к людям – все это выявлялось из слов и жестов старца. И не было никакого сомнения, что все добродетели отца Феодосия были прочно спаяны в одно прекрасное целое одним живительным цементом, а именно любовью о Христе, соединенной с незыблемой верностью православию.
Но старец приобретал свои духовные богатства ценой нелегкой. О его неусыпном трудолюбии, непрерывной молитве, полной нестяжательности, высокой степени воздержания в пище и совершенном отсутствии честолюбия много рассказывали в разных обителях Афона.
– Батюшка Феодосий Карульский – это вода в чистом озере, – сказал мне один из святогорцев. – Чистая вода с зеркальною гладью… Вот это и есть отец Феодосий. А небеса-то Божьи в этом зеркале и отражаются… Вот и все!
Удивительно мудрые сравнения можно услышать из простодушных монашеских уст.
* * *
В то время, когда я был увлечен первой беседой с отцом Феодосией, монахи заботливо хозяйничали на крошечной площадке, где под виноградным навесом вкопан был старенький столик. А вскоре, узнав о нашем прибытии, к пустынному приюту старца подошли его соседи: отец Досифей и отец Иоиль. Добросердечный и гостеприимный отец Никодим, ученик старца, деловито суетился под нависшей скалой над закоптелым и помятым самоваром, который вскоре и закипел, к удовольствию присутствующих. И мы стали пить чай под грозно нависшей скалой на крошечной площадке, где был сооружен виноградный навес над покосившимся столиком. Закусывали сухарями – обычной пищей местных подвижников. Было больше чем скудно, но в памяти сохранилась приятная беседа, какую мы вели сообща в те часы… Время летело незаметно. И, улучив минуту, я удалился с отцом Феодосием, посвятившим мне два часа для личного собеседования.
Каруля. Келии отшельников над морем
Не забуду я этого разговора, оставившего неизгладимый след в моей душе. Он касался исключительно вопросов моей личной жизни, но как хорошо понимал старец эту мою жизнь, протекавшую от него так далеко среди мирской суеты! Какие простые и в то же время мудрые советы преподал он мне из глубины своего афонского уединения! И тогда понял я, какое великое благо представляет собой для христианского мира подлинное отшельничество и старчество во Христе, каких духовных высот могут достигнуть его истинные и достойные служители.
Затем отец Феодосий повел меня в свой крошечный «храм»-пещерку, и я простоял в нем вечерню. Церковка, прилепившаяся к скале, не превышала нескольких шагов в длину и ширину, гнездилась высоко над крутым скатом. Но чувства благоговения и высокого настроения владели сердцем во время молитвы в этом храме. Тихо мерцали восковые огарочки перед ликом закоптелых икон, проникновенно звучали слова молитв. А за спиной, за выходом из этого скромного дома молитвы простиралось бескрайное море и синели суровые горные склоны, такие далекие и чуждые всему суетному миру. И, выстаивая богослужение в церковке отца Феодосия, я совсем позабыл о своей усталости от тяжелого подъема на карульские высоты, почти валившей меня с ног еще так недавно.
Когда вечерня окончилась, я не мог удержаться, чтобы не побеспокоить старца новой просьбой еще побеседовать, что он и исполнил с прежней охотой и любовью. Мы уселись у входа в келийку старца и, глядя на море и прильнувшие к скалам каливки, стали беседовать как очень давние знакомые и друзья. Я обратился с вопросом: возможно ли спастись, живя в миру? Выслушав мой вопрос, старец немного задумался, а затем ласково сказал:
– В этом случае повторю лишь слова моего учителя, оптинского старца, который на подобный вопрос мудро ответил, что в своих решениях нужно руководствоваться здравым рассуждением, основывающимся на заповедях Господних. Но при этом нужно помнить, конечно, что и все добродетели крайне нужны тем, кто ищут Бога. Но мы знаем и то, что многие измождали свои тела, удалялись в пустыню, усердно ревновали в трудах, любили нищету и, несмотря на все это, падали, склонившись на зло, и делались достойными осуждения. Причина этому, что они не обладали добродетелью рассуждения и благоразумия, ибо эта добродетель направляет человека по прямому пути и удерживает его от уклонения. Рассуждение есть око души и ее светильник. Рассуждение есть поэтому и главная добродетель, по определению святого Антония Великого, а потому нужно руководствоваться здравым рассуждением, основывающимся на заповедях Господних и на любви к ближним. Удалившись от мира и покинув семью, человек далеко не всегда находит покой душе своей. Подвиги нищеты и самоотвержения могут только отдалить от Бога. Помогайте по усердию бедным, соблюдайте уставы Святой Церкви – и получите желанный мир душе, и будете жить во славу Божию.
Таков совет высокой и практической мудрости, преподанный святогорскому паломнику.
* * *
Время летело, а я готов был слушать отца Феодосия еще и еще. Но вот он поднялся и с ласковой улыбкой сказал:
– Теперь простите, простите меня, грешного. Вот и солнышко уже заходит…
Огненный его шар действительно уже скрылся за горами, и краски приближающейся ночи быстро покрывали морскую даль. Отец Феодосий удалился в свою келийку и, как я узнал от отца Никодима, далеко не для отдыха и сна.
– Он еще молиться будет часа два, батюшка-то наш, – с любовью сказал его преданный ученик. – Редкий подвижник!.. От него только и учиться нам, грешным монахам.
Стал накрапывать дождик, и я решился дожидаться утра при келии добрейшего отца Феодосия, выбрав себе для ложа доски около отвеса скалы под церковкой старца. Дверь оставалась открытой. Ночь была теплой и тихой, с темным небом, усеянным мириадами звезд. Я улегся, но сон долго не приходил ко мне: слишком необычны были впечатления минувшего дня, из коих самыми сильными были беседы с благостным старцем. Их приходилось не только помнить, но и подлинно переживать впоследствии.
Под конец я все же заснул, убаюканный чуть слышным шумом моря и ласкового ветерка, дувшего со стороны афонских скал. А на рассвете мы уже двигались дальше, направляясь в Кираши.
Кираши
От келийки отца Феодосия на Каруле мы направились к Кирашам, или келлии Св. Георгия, куда нас любезно согласился проводить карульский житель отец Иоиль, знавший туда всю нелегкую дорогу. Правда можно было бы избежать сухопутного движения и отправиться к намеченной цели на лодке, вдоль причудливо извилистых берегов. Но на этот раз наше плавание оказалось невозможным вследствие каприза морских вод: они были покрыты «фортуной», т. е. волнением, которое и заставило нас решиться на путешествие более утомительное, но верное.
– Фортуна может помешать нам попасть в Кираши вовремя. Иногда с волнами приходится бороться часами, – пояснил отец Иоиль. – Лучше уж пойдем по скалам. Конечно, трудновато вам будет с непривычки, но Господь поможет!
Отец Иоиль был прав. После выхода из гостеприимной келлии отца Феодосия идти в сторону Кирашей оказалось не легко, в особенности после того как южное солнце сменило свои утренние лучи на дневные. А от них не могли нас защитить нависшие над тропинкой скалы, вследствие чего приходилось идти под палящим зноем, становившемся все ожесточеннее по мере восхождения солнца к полуденной точке. Узкая тропинка вилась вдоль отвеса скал, которые, казалось, так и готовы были ежеминутно опрокинуться в темную бездну, вследствие чего путь наш представлялся не только тяжелым, но и опасным. Между тем виды, открывавшиеся перед нами, с каждой минутой становились все красивее и восхитительнее: зеленели, освещенные ярким солнцем, заросли, покрывавшие горы, светилось за ними бирюзовое море, сказочными исполинами стояли над ними громадные горы.
А мы поднимались, изнемогая, все выше и выше. И вдруг – поворот, а за ним спуск в горное ущелье, полное тишины, прохлады и ласкового журчания еще невидимых вод. Еще несколько шагов – и перед нашими глазами открылась видимая причина этой чудесной музыки: горный ручеек бежит по дну ущелья, насыщая все вокруг приятной свежестью и даря силы совсем новой буйно-зеленой растительности, поднимавшейся на его берегах. Не помню, как долго шли мы этим ущельем, вдыхая в себя его чудный воздух, насыщенный бодрящим запахом каких-то незнакомых трав и цветов.
– Здесь замечательно по холодку-то! – простодушно заметил один из монахов. – А дальше еще и лесок будет.
И действительно, вскоре мы вошли в этот «лесок», на самом же деле оказавшийся громадным вековым лесом, жутким и таинственным, тянувшемся далеко во все стороны. Мы долго шли этим лесом по чуть заметной тропинке, которую скорее угадывал своим пустынническим чутьем, а не видел отец Иоиль. Но удивительно прекрасен был этот лес, как бы самим Богом предназначенный для пустынников и отшельников. Кругом – ни человеческого жилья, ни пастбищ домашнего скота, ни окриков пахарей, ни встречных путников на узкой и извилистой тропинке. И везде только одна жуткая, таинственная тишина, лишь изредка нарушаемая грохотом отвалившегося с соседних скал камня или монотонным журчанием источника.
Не помню, сколько времени мы шли среди этого лесного векового царства, то роскошно-сказочного, то грандиозно-сурового. Помню только, что путешествие это под конец меня утомило до крайности. Дошло до того, что я уже едва передвигал ноги, делая каждый шаг с большим усилием и напряжением. А крупные дорожные камни, покрывавшие тропинку, постоянно выскальзывали из-под ног, приближая меня к падению. Вечер, между тем, уже приближался. Из лесной чащи все сильнее веяло его прохладной сыростью. Но, будучи готов каждую минуту попросту свалиться на землю от усталости, я уже начинал отчаиваться. А келлии Св. Георгия, к которой лежал наш путь, все не было и не было, несмотря на то что шедший впереди отец Иоиль неоднократно утешал меня, говоря, что она находится совсем уже близко.
– Вот, вот перевалик небольшой, а за ним и спуск к келлии. Теперь до нее, право же, рукой подать!
Но вместо этой «рукой подать» я только видел перед собой новые подъемы в густой лес, тянувшийся, казалось, на бесконечное число километров. Наконец тропинка пошла по более ровному месту, сделалась как будто более широкой и утоптанной. И спустя еще немного времени далеко внизу показалась давно желанная келлия, паломничество к которой было совершено с таким трудом.
Мы уже достигали нашей цели. Не прошло и нескольких минут, как я уже находился в обществе гостеприимного, радушного и простого старца отца Дорофея и кирашанских братий, вскоре заставивших меня совсем позабыть о всех трудностях путешествия в эту далекую обитель южного Афона.
* * *
После ужина, завершенного вечерней молитвой, я долго еще не ложился спать, любуясь из окна моей келийки чудной ночью, звездным небом и доносившимся шепотом моря. С мягкой звучностью пела ночная птица. И эти звуки в тишине чудесного вечера как-то успокаивали после утомительного дня.
Невыразимы чувства, охватывающие паломника в этой уединенной келлии у подножья вершины Афона. Так и слышится гимн хвалы и благодарения Творцу Вселенной, воспеваемый Ему самой природой Афона, заключающего среди своих лесов и скал столько дивных чудес.
Под ливнем
Дождь утих. Рассеялись тучи, и я поспешил тронуться в путь на Крестовскую келлию. Поспешил – и за это был жестоко наказан. Вышли мы из Кирашей при хорошей погоде, было лишь немного облачно. Путь наш лежал через горы, покрытые густым лесом, и меня к ним уверенно вел монах-грек, отец Яков, отлично изучивший все афонские тропы. Но уже в самом начале пути я заметил, что отец Яков несколько раз стал беспокойно оглядываться назад, пристально всматриваясь в небо, покрытое легкими облачками. Но я не придавал особого значения этому беспокойству, так как не предвидел, что афонские дожди могут грозить большими неприятностями. А эти неприятности все же заставили себя почувствовать, и очень скоро… Едва мы обогнули гору и двинулись по вьющейся тропинке ее лесистого склона, как внезапно резко захолодало и заморосил холодный дождик, усиливавшийся с каждой минутой. Отец Яков еще раз взглянул на серое небо и безнадежно махнул рукой, пробормотав что-то по-гречески. Огорчение его было вполне понятно: пройдя еще немного, мы уже всецело попали во власть проливного дождя, оказавшегося вдобавок еще и холодным.
Все вокруг нас подернулось суровым туманом, холодные дождевые струи били в лицо; пробегавшая под ногами тропинка сделалась скользкой и труднопроходимой. А идти вперед все же было лучше, чем стоять на одном месте, ибо несмотря на зеленый лесной свод, под которым мы шли, водяные струи пронизывали насквозь ветви старых деревьев. И мы всё шли вперед – промокшие до нитки, не находившие нужным теперь обмениваться друг с другом хотя бы единой фразой, ибо говорить не хотелось.
А дождь все лил и лил, все неистовствовал. Где-то в стороне – там, где синей полосой тянется обрывистый афонский берег – одна за другой проходили в тумане ливня крошечные каливки, подобно ласточкиным гнездам прилепившиеся к отвесным скалам. Промелькнул далеко внизу греческий скит Св. Анны, а дальше – дальше уже начиналось море, не имевшее теперь ничего общего с чарующим морем тихих и солнечных афонских дней. Оно в эти минуты было ужасным и жестоким: темное, свинцово-серое, до самого горизонта покрытое бушевавшими волнами. Оно все было теперь одной угрозой, одним неистовством, казавшимся бесконечным.
Жалкие и мокрые насквозь мы подошли к вратам греческого монастыря Св. Павла. Когда я взглянул на часы, то не без удивления убедился, что мы находились под беспрерывным ливнем больше двух часов. И на мгновение мелькнула мысль поискать спасения от дождя и холода в этой Павловской обители. Но сейчас же эта мысль и исчезла, так как остановка и ночлег в чужом монастыре был неудобен во всех отношениях. И поэтому я решил продолжать трудный путь, чтобы невзирая на все его невзгоды, все же к вечеру добраться до родной и гостеприимной Крестовской келлии.
От Св. Павла дорога шла все выше и выше. Все заметнее увеличивалась и ее крутизна, с каждым шагом затруднявшая наше движение. А дождь тем временем еще усилился, окончательно создавал впечатление разверзшихся небес, низвергавших настоящие водопады, сквозь холодную стихию которых то и дело прорывались ослепительные молнии, сопровождаемые громом. Положение наше осложнилось до крайности. И я удивляюсь, как удалось все же не сорваться с тропинки под порывом холодного ветра, способного сбросить тогда каждого из нас в пропасть. А давно умолкший отец Яков уже и не оглядывался: мокрый, он перескакивал с камня на камень, забираясь все выше и выше. Но вскоре нас встретила новая неожиданность: мы попали в полосу густых облаков, обволакивавших вершину горы, на которой мы находились. И в двух шагах уже нельзя было различить окрестных предметов, каковыми единственно только и были стволы вековых деревьев горного леса. Они шумели и трепетали, как былинки – эти могучие великаны афонской флоры, будучи готовы ежеминутно рухнуть нам на голову под порывами отчаянного ветра.
Начало темнеть. Мокрой и окоченевшей рукой я кое-как вынул часы и установил, что мы теперь находились в пути уже ровно четыре часа, из которых три прошли непрерывно под холодным ливнем, который, казалось, никогда не окончится. Я чувствовал, что силы меня покидают. Холод пронизывал до костей мое измученное тело, вода хлябала в тяжелых спортивных ботинках. Я начинал все чаще терять равновесие при движении по скользкой тропинке и несколько раз судорожно хватался за свисавшие откуда-то сверху ветви, чтобы не упасть. И я стал горячо молить Бога, чтобы он поскорее послал нам какое-либо человеческое жилье и не дал мне пропасть окончательно там, где всей душой преданные ему иноки стремятся к спасению. Не знаю, но весьма возможно, что эта моя молитва, вызванная необычными переживаниями под афонским ливнем, и была услышана…
Мы еще некоторое время поднимались вверх, причем я почти утратил всякую надежду на какое-либо облегчение нашего передвижения, как почувствовал, что ноги моего мулашки легко и свободно зашагали по ровной и гладкой поверхности. Это был горный хребет и перевал, за которым уже следовал спуск на восточную сторону Афона – спуск, казавшийся для меня настоящим блаженством. Но последнее предположение мало оправдалось. Как пришлось вскоре убедиться, спускаться было еще неизмеримо труднее по сравнению с подъемом. Тропинка, не изменявшая нам при последнем в наиболее тяжкие минуты, теперь бесследно исчезла, предоставив нам скользить вниз по поросшей мокрой травой целине, чередовавшейся с каменистыми склонами, в самой минимальной мере представлявшими собой опору для усталых ног, обутых в промокшую и тяжелую обувь, в то время как сучья и кусты, покрытые колючими ветвями, то и дело цеплялись за нашу одежду.
А ветер тем временем здесь задувал еще яростнее, еще упорнее, как будто бы поставив себе задачей обязательно доканать нас при конце путешествия. Но достичь этого ему все же не удалось, несмотря на все усилия. Как мы проделали последнюю часть нашего спуска – я даже не помню теперь. Но в результате все же очутились у горной подошвы мокрыми, окоченевшими, исцарапанными, но все же живыми.
Еще несколько усилий – и перед нами уже предстала порта вожделенной келлии Воздвижения Креста Господня. А спустя немного времени из всех уголков этой милой сердцу моему обители стали появляться ее насельники – все до единого радушные, отзывчивые и вместе с тем не на шутку перепуганные нашим видом. А последний действительно оставлял желать много лучшего: четыре часа непрерывного пребывания под холодным дождем и ветром превратили нас в существа, ничего не возбуждавшие, кроме сожаления и скорби.
– Пресвятая Троице! – услышал я возглас добрейшего отца Досифея. – Да как же это вы шли-то в такую непогоду, сердечные? А мы-то все думали, что вы в Лавре заночуете из-за превеликого дождя с ветром!
Как оказалось, иноки Крестовской келлии были осведомлены о моем скором прибытии, поджидали с утра, но потом решили, что я, будучи застигнут страшным ливнем, свернул на ночлег в Лавру Св. Афанасия. А мы с отцом Яковом этого не сделали, путешествовали по пустынной горной дороге вдали от Лавры и теперь стояли перед озабоченными насельниками Крестовской келлии во всем своем печальном обличьи.
– Ну, что же поделаешь, – заметил отец Досифей, – видно так судил Господь… Пожалуйте теперь, дорогой гость, в помещение. Обсушить вас надобно поскорее!
Мои друзья обошлись со мной как с человеком, потерпевшим кораблекрушение. Они поспешно ввели меня в чистенькую келейку, а затем энергично раздели, не без труда стащив с меня отяжелевшее платье, белье и утратившую всякий вид, еще так недавно совсем новую обувь.
– Принеси настойки, отец Исаия! – сказал схимонах Досифей, осторожно продвигая меня к стоявшей у стены монашеской койке. – Нельзя без настойки обойтись теперь! А у нас, афонцев, она всегда в запасе.
Этих лечебных настоек из различных целебных трав действительно у моих друзей оказалась целая аптека. И не прошло нескольких минут, как их крепкая жидкость стала усиленно втираться сноровистыми руками в мое тело, все еще насквозь пронизанное холодом и сыростью. И с какой заботливостью и неослабевающей силой производилось обоими монахами это втирание, в то время когда я совершенно беспомощным лежал на койке, покорно отдавшись власти моих замечательных и любвеобильных врачей! Закончив растирание, монахи перешли к внутреннему согреванию моего организма: дали мне выпить горячей «ракички», за которой последовала небольшая порция такого же горячего красного вина. А вслед затем, тепло укрытый и окончательно обессилевший, я быстро уснул в гостеприимной келийке, где уже пылала жарко растопленная русская печь.
– Чемоданчик-то нужно просушить, – слышал я, засыпая, хлопотливое указание отца Досифея, разбиравшегося в моем злосчастном багаже. – Только трудно будет со всеми этими вещами. Все прокисло: бумажник и записная книжка, тетрадки и листки. И чернила-то смылись…
Но грустные сообщения о печальной участи, постигшей дорогие мне дорожные заметки, долетали до меня как из другого мира. Ночью я несколько раз просыпался, не выходя окончательно из лихорадочного полузабытья, как в тумане менял белье, обливаясь испариной, и с тревогой ощущал зловещую боль в боку. И не было бы ничего удивительного, если бы я заболел воспалением легких после всего пережитого во время путешествия по горам и лесам в ненастное время и… в летнем костюмчике. И все же я избежал этого. Заботливые иноки гостеприимной русской келлии были настоящими слугами Божьими в тяжелые часы борьбы моего тела с болезнью.
Над моей койкой в течение всей ночи наклонялась то одна, то другая темная фигура, прислушивавшаяся к моему дыханию, то помогавшая мне стаскивать рубашку, промокшую от испарины, то подносившая мне к устам кружечку с холодным чаем и лимоном. Утром же я снова был подвергнут растиранию, но мои заботливые «врачи» не разрешили мне подняться с ложа. И я покинул его только избегнув опасности на четвертый день. Я не заболел воспалением легких только по милости Божьей и заботами Крестовской братии, благодарную память о которой сохраняю поднесь.
* * *
Я люблю все русские пустынные келлии на Святой Горе и чувствовал себя в каждой из них – среди простых и неискушенных насельников – как среди давних, испытанных и верных друзей. И принимают келлиоты своих гостей с каким-то особым радушием, искренней простотой и трогательной заботливостью. Поэтому я чувствовал себя среди них всегда как-то особенно радостно, покойно и родственно просто. Так хорошо мне было всегда во всех русских келлиях. Но все же должен при этом признать, что особенная радость и покой наполняли мою душу, когда я находился в келлии Воздвижения Креста, где живописная природа и чарующие виды сливаются с исключительно симпатичным характером и укладом жизни ее насельников.
А виды отсюда открываются поистине восхитительные! Глянешь направо – чудный вид на вершину Афона и зеленеющий простор окрестностей, где среди лесов и полей виднеются келлийки с виноградниками и фруктовыми садами. Посмотришь налево – по склонам, утопая в зелени, разбросались многочисленные обители; дальше – Карея, и блестят величественные купола нашего Свято-Андреевского скита. А прямо – широчайший вид на лазурное море с затуманенной далью и узкой полоской Дарданелл.
Эти виды ласкают и развлекают очарованный взор, навевая молитвенный покой.
Келлиоты, каливиты и сиромахи
Когда на Святой Горе совершалось пострижение, то большинство перешедших эту грань «удостоившихся» впоследствии довольно легко свыкалось со своим суровым положением иноческого безволия и полнейшей покорности церковной власти: «Воля твоего игумена и духовника должна быть твоею волею», – так говорили старцы, наставлявшие будущих иноков. Но случалось, что иной постриженец оказывался не подходящим для несения «креста безволия», несмотря на искреннее стремление к подобному подвигу.
Такими «неудачниками» являлись обыкновенно пожилые постриженцы, долгое время обитавшие в миру и привыкшие к полной самостоятельности. И, несмотря на глубокую веру и стремление к молитве, таким людям все же бывало трудно свыкнуться со строгими правилами монастырского устава. Обыкновенно такой монах, с благословения настоятеля и своего духовника, покидал киновию-общежитие и уходил в «неведомую даль» по зеленым просторам Афона, отыскивая себе место, где ему было бы удобнее спасаться в частичном или полном пустынническом уединении.
Лучше устраивались те, у кого имелись кое-какие сбережения. Но чаще случалось, что такой искатель уединенной монашеской жизни, заарендовывал старенькую и заброшенную келлийную усадебку, в которой и селился. Вполне естественно, что – несмотря на искреннее желание такого хозяина самолично трудиться на своем участке – одних рабочих рук самого хозяина не хватало. И тогда он приглашал на свой участок несколько бедняков-монахов, тоже стремящихся к созерцательной жизни вне оград общежительных монастырей. Вскоре новый келлиот начинал жизнь в своей келлии своеобразной жизнью афонского хозяина, не переставая, однако, быть в то же время и примерным иноком, преследующим одну главную цель: спасение своей души и неустанную молитву по всем правилам святогорского устава. А приглашенные в келлию братья поступали в подчинение своему старцу, пользуясь попечением и заботами его. Следует отметить, что, несмотря на такой самостоятельный характер возникновения подобных келлий, в их обиход автоматически проникал обязательный для всех обитателей Афона древний устав, который строго регулировал жизнь и отношения монахов-насельников. И благодаря этому хозяин келлии становился старшим над всеми собратьями иноками. При этом он именовался «старцем» и «учителем», хотя иногда бывал моложе своих собратьев и учеников. Но общему делу и полному согласию такое положение ничуть не мешало: старец и ученики всегда с охотой и рвением относились к работе, преследуя в то же время цели общего спасения и совместной молитвы.
Каждый из старцев-хозяев, приступая к деятельности на приобретенном или заарендованном земельном участке, тотчас же снабжался монастырем, от которого получал участок, особой грамотой (омология). В ней обозначались права владения старцем полученной землей или келлией. При этом в омологии означались также и имена иноков-наследников, в руки коих должна перейти келлия после смерти старца. И таких наследников в омологии упоминалось двое – первый и второй.
В довоенные времена встречались русские старцы-келлиоты, имевшие больше 120 человек братии в благоустроенных келлиях. И какой порядок был у них в хозяйстве, как согласно работали они со своими старцами для процветания обители!.. Теперь, к сожалению, таких многолюдных русских келлий уже нет на Святой Горе: тяжесть пореволюционных лет главным образом коснулась именно их. И самое большее, что имеется теперь в больших келлиях – это 8–10 человек немощных старцев.
Но есть ряд святогорских насельников, которых толкают на выход из общежительных обителей настроения, совсем не схожие с настроениями вышеописанных иноков, которые просто трудно сживались со строгостью устава больших монастырей. Это – отшельники духовного порядка, значительно высшего; отшельники, ищущие полного уединения для более глубокого молитвенного общения с Богом, которого только и желали иметь своим незримым и постоянным руководителем. И, исповедуя такие убеждения, люди эти уходили в свои пустынные становища, отыскиваемые не без труда. Дело в том, что эта категория искателей уединения являлась в большинстве настоящими бедняками, не способными на приобретение для себя даже самых необходимых вещей. Но желание уединиться и вести пустынническую жизнь по образцу древних отшельников заставляло преодолевать все препятствия.
Приспособив кое-как для своего примитивного жилья какое-либо помещение, уединившийся обитатель начинал вести образ жизни затворника, не зная никаких помощников, собратьев, сожителей и питаясь только сухарями, получаемыми из милости от ближайшего монастыря. Иногда у такого старца-отшельника находили приют и один-два ученика, тоже искавших уединения, созерцательной жизни и отшельнического подвига. Случалось, что такой подвижник забирался и в более отдаленные и глухие места Святой Горы и там устраивал себе собственными руками каливку, которая обычно была мала и убога. Но такой пустынник и не заботился вовсе об удобстве и размерах своего помещения. Было бы только укрытие от дождя и непогоды и – что самое существенное – чтобы оно находилось как можно дальше от другого жилья, людей и их голосов, мало способствующих делу спасения души и богомыслия.
Удалившись, таким образом, от мира, подобный афонский отшельник обычно в него уже более и не возвращался. Все это люди – исключительно большого характера, твердой воли и неугасимой, безграничной веры в правоту своего дела. И лишь изредка, преимущественно по праздникам, эти отшельники отправлялись в ближайший монастырь или храм келлийной обители для того, чтобы приобщиться Святых Таин и взять сухарей. Но долго там они не задерживались, избегая разговоров с монастырскими иноками, хотя вовсе не отличались мрачностью настроения и угрюмостью. Наоборот!.. Но многие из них считали даже излишним развлечением частые путешествия в монастыри для присутствия на общих церковных богослужениях. «Сходишь в обитель на единый день, а дух и мысли взволновываются на месяц…»
Рассуждая так и стремясь к неотлучному пребыванию на местах своего уединения, сторонники таких стремлений в прежние годы находили и соответствующий выход из положения. Часто они располагали свои каливки недалеко одна от другой, в виде разбросанного селения по диким горным уступам. А посередине последнего устраивали особую площадку, на которой общими усилиями воздвигали свою собственную соборную церковь. Тотчас же находился в среде пустынников священнослужитель, которому и поручалось совершение всех служб. Тогда опять получалось нечто похожее на монастырь с разбросанными самостоятельными каливками и со всеми особенностями иноческой жизни, без которых пустынникам трудно было бы придерживаться порядка при пользовании своей церковью. И нельзя уже было обходиться без особого старшего (дикея), являвшегося лицом выборным из своей же среды, на обязанности которого лежала бы забота о чистоте и благолепии соборного храма и благочиния церковных служб. А впоследствии такой дикей начинал также ведать и общими хозяйственными делами всех братьев-пустынников своей общины, заботился об их скромном продовольствии и т. д.
Таким образом, отдельные пустынники постепенно образовывали уже особый скит из разбросанных калив, впоследствии уже окончательно приобретавший все права такового. Так и образовались в прежние времена греческие скиты. Но все они далеки по своему характеру и устройству от типа скита русского, во всем походящего на большой общежительный монастырь.
Есть на Святой Горе Афонской и еще один вид отшельников, не подходящих ни к первому, ни ко второму из типов, выше представленных. Это тип отшельника-странника, вообще не имеющего никакого постоянного убежища и всю жизнь паломничающего из монастыря в монастырь, из келлии в келлию. Афонский полуостров велик для такого пешехода. Но, несмотря на это, он пересекал его пространства неисчислимое количество раз за время своего подвижничества. Он вечно двигался по этим пространствам с котомкой за плечами, никуда определенно не стремясь и ничего определенного не желая. Если встретится на пути гостеприимный монастырь или такая же келлия – переночует, отведает трапезы и бредет себе дальше по лесам и стремнинам Святой Горы. Я пытался сфотографировать таких «сиромахов», но они решительно не допускали этого.
Что же касается общего отношения монастырей к такого рода странствующим, то в большинстве случаев оно являлось милостивым и снисходительным. Подойдя обыкновенно к монастырским воротам, такой странник получал от привратника (портара) положенную милостыню, а иногда снабжался и поношенной ряской или обувью. Снабжали сиромахов монастыри, скиты и келлии также хлебом и сухарями. А в дореволюционные времена, когда по Святой Горе паломничали толпы благочестивых русских паломников, эти странники-сиромахи всегда обретали запас пропитания в особо чтимых местах полуострова, и главным образом у источника Святого Афанасия. Там на особых камнях всегда лежали целые горы хлеба, сухарей и других скромных продуктов монашеского питания, оставляемых более имущими паломниками для прохожей святогорской бедноты.
Что же касается вообще афонских сиромахов, то об их жизни можно было написать целые книги: настолько она разнообразна и полна всевозможными эпизодами, от умилительно-поэтических и до полных сурового трагизма.
Афонская живопись
До XVI века расписаны были только два соборных храма: в сербском Хиландаре, вскоре после 1198 года, и Ватопедский, в 1312 году; да еще один из параклисов в монастыре Св. Павла в 1393 году. Но первой стенописи и следов нет, т. к. Введенский собор в Хиландаре разобран был в конце XIII века и на месте его тогда же построен новый храм. А ватопедская и павловская стенописи хотя и уцелели поныне, но после появления их ни один святогорский монастырь не расписывал своих святилищ вплоть до 1526 года. И объясняется это тем, что в это время вокруг Афона города и деревни пылали, а христиане своими слезами и кровью орошали землю.
То время было грозное, ужасное, роковое: тогда Сербия пала, Болгария была сокрушена, Валахия порабощена, Молдавия пленена; Фракия, Македония и Епироалбания – заняты чадами Измаила и Агари; Грецию предал султану Баязиду тройной изменник веры, отечества и христианок в лице княгини Труделуды епископ Фокидский. Тогда в монашеских обителях на Олимпе, у города Бруссы, поселились дервиши, город Солунь пал под ударами султана Мурата II в 1430 году, и воины его попарно связывали местных и афонских монахов с монахинями. Тогда Царьград – это око вселенной – потемнело, это средоточие веры, ведения и изящных искусств – было потоптано варварами. Тогда святогорцы, грабимые каталонцами и турками, только плакали и молились.
Итак, до живописи ли им было тогда?
С XVI века, когда турки оставались еще сильны, христиане, сколько можно, успокоились и сосредоточили свои народности у алтарей Господних. С той поры афонские монахи искали и находили всякую помощь у деспотов и деспотии Сербии, у господарей Молдавии и Валахии, у царей грузинских и российских. Оттого благосостояние их улучшилось, и святилища их начали украшаться стенописью.
На Афонской Горе не существовала издревле своя школа церковной живописи до XVIII века, а все тамошние замечательные иконы принесены из разных стран и мест: Дионисиатская Богоматерь, которую Цареградский Патриарх Сергий погружал в море в 626 году, принесена из Трапезунда, Иверская Богоматерь – из Никеи, две зографские иконы святого Георгия – из Палестины и Аравии, костамонитская святого архидиакона Стефана – из Иерусалима, две ксенофские мозаичные святого Георгия и Димитрия – из Константинополя, Хиландарская Богоматерь Троеручица – из Сербии.
Что касается живописи, то и она была произведена художниками не афонскими: в Лавре Св. Афанасия – Феофаном Критянином, в Протате, Хиландаре и Старом Руссике – Фралгом Виотийцем, в Ватопеде – Панселином Солунцем, в Ивере – иеромонахом Марком из Грузии. В прочих монастырях, как видно из летописи монастыря Зографа, работали пришлые живописцы из Фессалии и Эпира, из Болгарии, Сербии, Валахии и России, из города Смирны и с острова Хиоса. И только с XVIII века афонские обители обзавелись своими художниками и мастерскими.
Православная иконопись на Афоне выражает христианские догматы, предания, обряды. Но так, что догматическая непреложность иконописания сочетается с свободой вдохновения, веры и эстетического вкуса. А в то же время эта свобода ограничивается просопографической[15] достоверностью и надобностью возбуждать и поддерживать в христианах высокие помыслы и святые чувствования.
На Афоне достойна внимания иносказательная знаменность (символика) многих предметов на иконах и стенных изображениях. Там нет таких эмблем, какие можно видеть в церквах римско-католических. Нет ни воспрещенных Седьмым Вселенским Собором агнцев, означающих Спасителя и апостолов, ни голубей, напоминающих апостолов же; нет ни бочонков с обручами, ни поблекших листьев, ни голубей с веточками в клювах, из коих первые означают крепкий союз христиан, вторые – скоротечность жизни, третьи – полет чистых душ на небо; нет венцов Христу в руках мучеников. Зато в афонской живописи есть другие знаменности и отличия. Во всех афонских храмах расположение стенной живописи не условлено общим правилом или обычаем и потому не везде одинаково. Но по большей части в небе купола видится или Господь Вседержитель (в Лавре, Ивере, Ватопеде, Пандократоре), или Богоматерь с распростертыми руками (в Зографе и Костамоните). В Лавре – ветхозаветные праотцы в кружках и под ними пророки в рост. Богоматерь над горним местом с двумя ангелами подле Нее – в церквах Протатской и Лаврской, а в Никольском приделе Лавры – Богоматерь с Младенцем у персей Ее. Она же в Ивере над средним окном алтаря в рост, но без ангелов и без младенца.
Ниже Богоматери в Протате, на правой стороне алтаря, Господь стоя преподает тело Свое благоговейно подходящим к Нему апостолам, а на левой – Он причащает их из чаши Своею Кровию. Под этими изображениями помещены святители, составлявшие и служившие литургию. В Ивере видятся эти же изображения с добавлением ангелов, совершающих великий выход с дарами. В Лавре – эти же изображения с добавлением таковых же ангелов, то же и в Никольском приделе этой обители.
В церквах афонских, в алтарном углублении их, за святым престолом на стенах пишутся составители литургии: Иаков, брат Господень, Василий Великий, Иоанн Златоустый и Григорий Двоеслов – каждый с развернутым свитком в руках, на котором начертаны начальные слова литургических молитв. Тут же, если алтарь обширен, пишутся и другие святители: Афанасий и Кирилл Александрийские, Григорий Богослов, Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунтский и др. Мученики написаны на нижних частях стен храмов, и при этом весьма живо. Нужно думать, что работавшие на Афоне иконописцы имели у себя под руками рукописные жития святых с изображениями их.
Верхние части стен в алтарях и среди храмов покрыты больше изображениями господских и богородичных праздников. На восточной стороне, выше иконостаса, помещено Благовещение, а на западной – Успение Богоматери. Места для историрования (стенописания) акафиста Богоматери, Апокалипсиса и псаломского богохваления всей твари отведены на папертях. А ктиторы монастырей обоего пола изображены на стенах среди храмов и в литийных притворах их.
Любимые цвета трудившихся на Афоне иконописцев – голубой, багряный, белый и желтый. Первый цвет небесный предпочитаем был ими зеленому, потому что его любили все православные цари греческие, поддерживавшие партию голубых, в отличие от еретиков, усвоивших себе цвет лугов и принадлежавших к партии зеленых. Притом голубой цвет напоминает сошедшего с небес и вознесшегося на небеса Господа и наше вечное житие в небесных обителях. Этот цвет виден в афонских церквях как на фоне стенной живописи, так и на одеждах Спасителя и Пресвятой Матери Его.
Цвет багряный избран для писания верхнего или нижнего одеяния Спасителя, как знаменование царского величия Его и таинства искупления рода человеческого Кровию Его. А имея в виду, что послужила этому таинству и Пресвятая Дева, происходившая из царского и первосвященнического рода, то и ее омофорион написан багряным цветом. Лица Спасителя, Богоматери и праотцев их большей частью написаны белые, так как священное писание внушает нам, что первый человек Адам был белый и алый. Цвет желтоватый издревле употребляется агиографами для писания нижней одежды святых иноков, потому что горючая сера напоминает монаху о переплавке и очищении всего существа его.
Темноватые иконы, старинные и недавние, нередки на Афоне. К разряду первых там принадлежат: в монастыре Св. Дионисия та икона Богоматери, пред которой Вселенский Патриарх Сергий с народом молился об освобождении Константинополя от осады его персами и аварами в 626 году; в Ивере икона, приплывшая по морю к этому монастырю и взятая с воды грузинским монахом Гавриилом в 829 году; в монастыре Св. Павла икона на небольшой доске, принадлежавшая Феодоре (829–842 гг.) и не сгоревшая в огне; в Лавре – так называемая «Кукузелисса». Есть несколько икон, написанных особенно необыкновенно, и лики их видны как бы в тумане, как бы тень или дух. Лик покрыт темным колоритом с отливом темно-багрового цвета. А на святопавловской иконе лицо Богоматери видно как бы в тумане, как бы дух, смотрящий на нас из глуби отдаленного неба, и все оно покрыто темным колоритом и тем же багрово-малиновым отливом. Такой способ письма особенно любили сербские и болгарские иконописцы – и он, помимо оригинальности, весьма замечателен.
На Афоне строго соблюдена догматическая непреложность иконописания. Там только в одном Ватопедском соборе насредине свода, накрывающего правый клирос, изображен в 1312 году Господь Саваоф, как ветхий денми старец, с открытым Евангелием; во всех прочих храмах нет сего лика: никто там не решался изображать Бога, о котором сказано в Евангелии от Иоанна: «Бога никтоже виде нигдеже». И Святую Троицу иконописцы на Святой Горе Афонской писали в виде трех ангелов под Мамврийским дубом, по древнейшему установлению, а не в облаках восседающего Иисуса Христа с Крестом, слева Бога Саваофа с треугольником около головы и с державой и скипетром в руке, среди Них парящего голубя в сиянии – как бывало у нас почти во всех церквах.
На Афоне приняты лишь такие изображения, какие указал и благословил Седьмой Вселенский Собор 788 года. Этот собор воспретил писать Иисуса Христа в виде агнца, вопреки римскому обычаю изображать его в таком виде. И нарушение этого воспрещения нигде не встречается на Афоне.
Из православного катехизиса известно, что Господь Иисус Христос есть царь-вседержитель, первосвященник-пастырь и пророк-учитель. Эти три догматические понятия о нем тонко отображены живописью на Афоне. Но там же с догматической непреложностью соединена и свобода священного искусства – иконописания. Самое историрование тамошних церквей, как храмин, уготовленных для Тайной Вечери Господней, в которых Господь причащает апостолов, а святые составители литургий и иерархи держат в руках своих хартии с литургическими молитвами; ангелы же, как иереи, совершают великий выход; святые мученики и преподобные мужи и жены предстоят как участники оной вечери. Такое историрование есть замечательное проявление прогрессивной свободы. Ибо в века V, VI и последующие христианские церкви исторированы были по иной, отличной от афонской идеи о церкви, как о храмине Тайной Вечери: тогда была любимая мысль мусией изображать Христа не как установителя Тайной Вечери, а как Божественного Основателя Церкви Вселенской посредством апостолов и мучеников. Поэтому и лик Его помещаем был или в небе купола, или в алтарном абсиде, так что к нему идут апостолы, мученики и иерархи и подносят ему венцы.
Такое историрование сохранилось, например, в итальянском городе Равенне – храм Св. Иоанна (425–430 г.), Св. Марии (V век); в Риме – церковь Св. Косьмы и Дамиана (526–530 г.).
Не такие, а свои собственные историрования храмов свободно воспроизвел Афон евхаристический. По художественной же свободности там святые лики изображены в разных размерах и видах, поясные и во весь рост – как бы бесплотные и живоизобразительные. А лица Господа Иисуса Христа и Пресвятой Матери Его – разнообразные, не походящие одно на другое.
Афонская живопись – не то что итальянская, или французская, или немецкая: она уступает им в колорите и выразительности, но не переступает пределов священного приличия, каковое прегрешение замечается в картинных галереях Европы. Там имеются прекрасные, дивные произведения живописной кисти, но между ними усматриваются и такие, которые заставляют улыбаться и жалеть о порче или недостаточности изящного вкуса даровитых живописцев. Неприятно бывает видеть там на некоторых иконах… даже кое-что и неприличное.
Ничего подобного нет на Афоне: здесь все иконы и стенные изображения написаны вполне благопристойно и все страстотерпцы написаны молящимися, или идущими на страдания, или торжествующими победу над мучителями и увенчанными славой небесной. Вообще, во всем тамошнем иконописании видно святое, строгое и спасительное православие.
Вселенское значение Афона
Чем объяснить, что только здесь, на небольшом полуострове Халкидике, до сих пор совершаются такие удивительные дела, каковые не имеют ничего общего с нашей материалистической жизнью текущей бурной эпохи, вообще бедной духовными подвигами?.. Чем объяснить, что только Афон с его Святой Горой неудержимо привлекал к себе до недавнего времени множество людей совсем особых настроений и особого духовного склада, стремившихся к целям далеким и чуждым миллионам обыденных жителей суетного мира, погрязших в ожесточенной и смертельной борьбе за личное благополучие, преходящие радости и наслаждения.
Нет никакого сомнения в том, что такое положение вытекает из обстоятельств вполне естественных, а не случайных. Действительно, при внимательном ознакомлении с афонским краем и бытом насельников его монашеского царства всякий вдумчивый наблюдатель поймет, почему это царство основалось и просуществовало столько веков только здесь, а не где-либо в ином пункте земного шара.
Святая Гора Афонская как бы самим Превечным Творцом Вселенной предназначена была для созерцательной жизни тех своих смертных избранников – «земных ангелов», как называли их в старину, – каким была уготовлена юдоль подвижничества в целях истинного познания Его Божественного Света. И по воле Творца сама природа пошла навстречу этим людям и в совершенстве завершила свое дело. Действительно, трудно найти на земле уголок, более пригодный для монашеских подвигов и развития духовной жизни, чем Афон. Изолированный и огражденный своими скалистыми, малоприступными берегами, весь этот полуостров является как бы громадным монастырем.
Когда-то, во тьме веков, еще задолго до того, когда над Вифлеемом загорелась лучезарная звезда Спасителя мира, пробовали на Афоне селиться и строить там свои жилища миряне – беспечные и веселые дети Эллады, чтившие Апполона и ни о чем не желавшие более думать, как только о полной наслаждений жизни земли. Но повеяло на Афон с Востока новым ветром совершившегося там Воскресения – и как-то сами собой, без реального принуждения со стороны испарились с Святогорской земли все мирские насельники. Миряне навсегда ушли на север, за высокие горы, почитая Афон непригодным для их благоденствия. Но на смену им пришли люди новые, совсем не похожие на своих предшественников: ими были первые аскеты-христиане, не стремившиеся ни к чему иному, кроме познания прямого пути к царству Бога Истинного и отрешения от всех благ и наслаждений тела. И, поселившись на Афоне исключительно для жизни уединенной, эти люди превратили неблагоприятную дотоле его почву в ряд цветущих и благодатных плантаций, созданных упорным трудом, перемежаемым молитвой.
Проходило время. Сходились к Святой Горе все новые ее поклонники – и одно за другим возрастали прочные иноческие поселения. Воздвигались храмы и жилища иноков, расцветали и ширились сады. И все это совершалось упорным трудом подвижников-мужей.
* * *
И велика была преданность этих людей православию. Умерщвлявшие неустанно свою плоть и освобождавшие свой дух, они закаляли свою волю для служения заветам православия настолько, что отдача земной своей жизни за идею его представлялась событием малозначащим. Известно, например, как горячо защищали они свои права и веру от вторжения в стены своих обителей Лионской и Флорентийской уний. Борьба эта стоила афонским инокам жестоких страданий и даже жизни: достаточно припомнить гибель двадцати шести зографских иноков, сожженных в монастырском пироге за верность православию.
Но ничто так и не могло ни в одну из эпох уничтожить полной гегемонии православия на Афоне или уменьшить стремление к Святой Горе новых подвижников. Достаточно сказать, что к концу XIV века число православных монастырей на Афоне доходило до цифры 150, а общее число иноков, подвизавшихся на всем полуострове, составляло несколько десятков тысяч. И никакие внешние потрясения и даже вторжения вражеских сил не могли сокрушить ни силы духа православной веры в этих подвижниках, ни чистоты православных обрядов и церковного благолепия древней Византии.
* * *
Немало оказывал Афон услуг и христианскому просвещению, дав миру таких ученых мужей, как митрополит Киприан, преподобный Максим Грек, Иоанн Вышинский, Афанасий Великий и другие, каковые переводами священных книг и собственными сочинениями оказали немалую услугу и России, не говоря уже о других православных странах.
Последний отъезд с Афона
Откачнулась лодка с таможенными властями, и, как легкая скорлупа, отлепившаяся от борта парохода, закачалась она на синих волнах, прыгая с гребня на гребень. А четверть часа спустя наш пароход уже покидал суровые скалы Афона. Но долго еще потом стояли перед нами кремнистые хребты Священной Горы, с едва видневшимися позади парохода серо-фиолетовыми очертаниями.
Мы обогнули залив Кассандры и круто свернули вправо, чтобы идти под углом на север. Но долго еще берег был в виду, и только упавшие на землю сумерки скрыли от нас его причудливый излом.
В рубиновом багрянце потонул почти моментально золотистый диск солнца. Но не успел еще потемнеть горизонт, как уже слабый свет полной луны протянул трепетные тени от мачт и набросал прихотливый переплет снастей и веревок на белом дощатом помосте. Тронутая серебристыми иглами, зарябила тихая гладь моря, и как будто скрытые огни замерцали вдруг в глубине, под тонким изломом прозрачной воды. Заискрились и разбежались снопами огнистых лучей, то вспыхивая, то потухая.
Только около полуночи задремал я в шезлонге, но уже проснулся с восходом солнца. В это время мы плыли по широкому Солунскому заливу, и картина была чудесная. На горизонте виднелся синеватый берег Кассандры, мимо которого мы проплыли ночью, еще дальше обозначился чуть заметный и почти слившийся с небом остроконечный пик Афона, на котором, будто флаг, стояло белое облачко. С правой стороны тянулись берега Македонского полуострова, а с левой возвышался Олимп. Средину его опоясывали белые облака, а над ними возносилась коническая вершина Оссы. Розовыми блестками горели при свете восходящего солнца его вечные снега, и я любовался этим гигантским престолом языческого громовержца.
Наслаждаясь такой прекрасной картиной, я унесся мыслью к былому классическому величию Олимпа, когда он живым воображением греков был заселен богами. Восстала предо мной и тень бессмертного Гомера. Прошлая историческая жизнь Македонии также предносилась моей мысли и предо мной поочередно восставали знаменитые представители различных эпох ее: Александр Великий, святой апостол Павел, равноапостольный Константин, святые братья Кирилл и Мефодий…
В то время как я уносился мыслью к историческому прошлому, пароход наш, круто повернувши к северо-востоку, вошел в Солунский залив, и пред нами предстал самый город во всем его внешнем величии.
Угашаемый светильник
Афон при турках и греках
С Афонской Горы уже много лет несется призыв о помощи: славянский Афон взывает не только к православному, но и ко всему христианскому – и вообще цивилизованному – миру о защите и помощи от своих же братьев… православных греков. Но помощь не приходит. Нет больше в православном мире той силы, которая могла бы защитить своих единоверцев и которая веками была опорой независимости Православной Церкви во всем мире. Нет России, и казалось, из православного мира ушло не только сознание общности интересов и ответственности – но ушла сама совесть, сознание братства во Христе, долга и чести.
Величайшая святыня Восточной Православной Церкви – вековой молитвенник, образец иноческого подвига и школа послушания – Святая Гора Афон захвачена теми, для кого ложно понятый национальный интерес закрывает правду и уничтожает достоинство самой власти, которая стала служить своекорыстным интересам. Таких страшных времен не переживало еще славянское монашество на Афоне за сложную свою историю.
Во всем мире после русской катастрофы славянство находится в зависимости от исторически-враждебных ему сил. Но силы эти инославные. Мало того – они стоят вне ограды Церкви, они охвачены гордыней своего земного успеха и величия, забывая, что царства земные в руках Божьих. Современное человечество – в его культурных кругах – потеряло веру, и мрак сгущается над землей.
Приблизились тяжелые времена, и если человечество спасется, то не прогрессом смертоносной техники, а верой…
Страх Божий начинают утрачивать и православные народы. Они тоже идут по пути принесения в жертву Божественного человеческому: Бога отдают кесарю – князю мира сего. Прекрасная Эллада, современная Греция – родина того радостного миропонимания, которое достигло в своих вершинах глубин человеческой мысли, и чья философская мысль влилась в христианскую догму. Все православное богословие, все, что было создано веками и навеки осталось достоянием и содержанием христианства до наших дней, проистекает из чистого источника греческого гения. Сам греческий язык, от которого отошла современная Греция, но который все же является основой и современного греческого языка, есть язык, наиболее приспособленный к выражению самых тонких, проникновенных и сложных понятий православного богословия. Поистине, это язык, данный для выражения всего самого значительного, глубокого и прекрасного, что дано выразить одухотворенному человеку. Греция – наследница былой славы не только эллинской, но и византийской умственной культуры. Она связана и духовно освящена той православной культурой, которая разрушена, подавлена и принижена в своих стародревних восточных центрах. Подавлена и разгромлена эта культура и в громадном центре славянского православия – в России.
Казалось бы, все это возлагает на Греческую Церковь и греческое государство историческую обязанность быть хранительницей великих достижений православия за прошедшие века. Только в этом может быть сила и слава современной Греции. Вне этого она не что иное как маленькое государство, не имеющее никакого значения в духовной жизни человечества. Мало того – напрашиваются и другие сравнения…
Отношение греков к православному славянству – что с такой убедительной силой выявилось на Афоне – заставляет вспомнить недавнее прошлое, когда весь Афон в течение многих веков был под государственной властью турок. И в этом случае поучительно остановиться на правовом уставе, который Оттоманская власть установила для Афона. Этот гуманный устав устанавливал для Святой Горы исключения из общих норм и приспособлен был к вековым условиям жизни многонародного Афона. По содержанию законов, касающихся Афона, видно, что турецкая иноверная власть понимала (к стыду единоверых греков теперь!) особый характер отношений православного мира к Афону и потому создавала условия, соответствующие потребностям жизни вековых святынь и многонародного монашества на Святой Горе[16]. «Всякое лицо, – говорит статья 8 главы 2 Устава, – отправляющееся из-за границы или из одной из оттоманских провинций на Афон с целью поступить в один из монастырей, обязан предварительно представить свой паспорт губернатору (каймакам)[17]. Лица, коих паспорт в порядке и против которых не имеется никаких подозрений, получают от каймакама разрешение свободно циркулировать по Афону и поступить в тот или другой монастырь».
Просто, ясно и справедливо. Но мало того… На Афон приходили люди всех национальностей, и в особенности славянских народностей – в том числе в большом количестве народности русской, т. е. иностранцы и притом такие, которые открыто проповедовали борьбу с турками во имя освобождения христианских народов от турецкой власти. Между тем Афон входил на особых правах в состав Турецкой империи. Но, согласно параграфу 8 статьи 12 Берлинского трактата, монахи всех национальностей сохраняли свои права и привилегии[18]. Таким образом, суверенитет Турции как бы был до известной степени ограничен. И нужно было как-то согласовать нормы международного и национального турецкого права. Выход из этих трудностей был найден достаточно разумный и свидетельствовавший об исключительной благожелательности турецкой власти к иноверному и многонародному Афону.
В той же статье 8 главы 2 Устава сказано: «Иностранцам в виде особой милости и в силу статьи 4 Закона об Оттоманской национальности даруется оттоманское подданство». Засим устанавливался упрощенный порядок регистрации послушников и монахов. Статья 10 главы 2 распространяла это правило равномерно на всех иностранцев[19], дабы не было какого-либо сомнения. Установилось в результате этого двойное подданство. Русский, серб, болгарин, румын, грузин и проч., ставший монахом и даже только послушником на Афоне, без всяких формальностей и сроков приобретал турецкое подданство. Но приобретал его, не отказываясь от подданства своего. А отправляясь с Афона за границу – по делам монастыря или своим личным – эти монахи получали у своего консула беспрепятственно свой национальный паспорт. Этим способом, по существу, нарушался лишь интерес Турции, но турецкое правительство этим создавало монашескую свободу многонародного Афона.
Разница между прежними турецкими и теперешними греческими порядками резко бросается в глаза. Мусульманская Турция давала свое подданство православным афонским монахам для удобства последних, давала после того как кто-либо, прожив некоторое время на Святой Горе, выражал желание остаться на Афоне. А единоверная Греция вперед требует подданства от всякого лица, желающего может быть в будущем стать афонским монахом. Но, требуя подданства ранее прибытия на Афон, греческое правительство не только не дает славянам своего подданства для поступления их в славянские же монастыри на Афоне, а и вообще не допускает их туда.
Таким образом, обязанность быть турецким подданным была установлена во имя свободы Афона, греческое же подданство требуется во имя порабощения Афона! К этому следует добавить, что, согласно статье 3 главы 1 Устава, «все афонские монастыри подчинены непосредственно Вселенскому Патриарху и составляют неотчуждаемую собственность Церкви» и что, согласно статье 4 главы 1 того же Устава, «внутреннее управление монастырей предоставляется самим монахам». После ознакомления с этим материалом для каждого ясно, что потерял Афон с переменой мусульманской турецкой власти на власть греческую православную.
К этому нужно еще добавить, что, турецкий губернатор (каймакам), являясь представителем турецкого правительства при монашеском управлении (Киноте) на Афоне, должен был в своей деятельности строго согласоваться с вековыми правами и законами этого оригинального монашеского царства на Святой Горе. Вообще же, его обязанности и полномочия были почти номинальные и сводились главным образом к полицейским функциям охраны безоружных обителей и их насельников. Но совершенно иные функции и полномочия нынешнего греческого губернатора, который представляет на Афоне «все и вся». Так, в 1937 году, будучи сам православным, он подверг у себя в полиции издевательствам и побоям двух православных монахов: один на следующий день умер, другого, умирающего, отвезли в салоникскую больницу!
* * *
Турки – враги всего, что противно исламу – хранили в душе своей пиетет к православной вере и ее святыням, которого очень мало у греков-христиан. Благочестивый и религиозный турецкий народ и его низшая администрация уважали всякое благочестие и религию. Для них Афон был изумительным местом подвигов, молитвы, аскезы и труда, был Святой Горой, на которую приходили все православные народы, чтобы славить единого Бога. Турки следили только за порядком и безопасностью этого исключительного места и его великих насельников и гордились тем, что в их государстве находится величайшая православная святыня.
Тысячи людей привозили пароходы на Святую Гору. Никакого специального разрешения на посещение Афона не требовалось, как равно не требовалось разрешения оставаться на Афоне. Паспорт при высадке на берег не проверяли и ограничивались пересчитыванием прибывших, добродушно похлопывая простолюдинов по плечу. Тем и кончались все формальности на афонской пристани Дафни. Турки настолько уважали это святое место, что держались в стороне управления этим иноческим полуостровом. И управление совершалось строго по вековому чину. Больше того: деликатность доходила до того, что без разрешения настоятелей монастырей не только турецкие чиновники, но и сам губернатор не входили ни в одну обитель.
Монастыри вели свое хозяйство, как считали нужным: они свободно управляли своими «метохами» – имениями вне Афона и в славянских земля х, где имели и подворья по большим городам; свободно принимали пожертвования и сами дарили, продавали плоды земли и своего труда, как считали нужным; привозили и увозили, продавали и приобретали всякие ценности: книги, утварь, иконы. Монастыри свободно распоряжались своим имуществом, ибо турецкой власти это не касалось. Афон был местом свободной научной работы и со всех стран приезжали ученые – не только православные, но даже и инославные – для работы в богатейших хранилищах рукописей и книг. Приезжали для ученого обследования афонской церковной старины, для изучения древней истории монашества в его великом центре. А турки проявляли качества, присущие народам востока, – уважение к знанию и к ученому человеку.
Словом, по сравнению с настоящим временем – это был Золотой век церковной, национальной и политической свободы на православном Афоне. И эту свободу давали ему и охраняли ее – магометане, турки… Есть над чем теперь задуматься православным людям!
Так было до 1912 года, когда ненадолго Святой Горой овладели болгары. Тогда наступили еще более светлые дни для всех насельников многонародного Афона: в полной религиозной и национальной свободе зажили тогда все народности на Святой Горе. Но в результате Бухарестского мирного договора 1913 года Афонский полуостров перешел к грекам. И почти сразу же начались систематические гонения шовинистически настроенных и грандоманией охваченных греков против всех негреческих народностей.
Мировая война 1914–1918 годов окончилась для греков незаслуженно большими приобретениями, которые совершенно не оправдывались двусмысленной политикой Греции в первую половину войны и ничтожным участием во второй ее половине. Но обстоятельства сложились благоприятно для греков, и они оказались в стане победителей. И по мирному договору в Севре греки закрепили за собой Афон. Но в этом историческом договоре была статья 13, гарантировавшая права негреческих народностей на Святой Горе. Статья эта на первый взгляд казалась как бы излишней: можно ли было думать, что православная Греция решится притеснять своих же единоверных братьев. Но… вскоре уже оказалось, что предусмотрительность союзников не только не была излишней, а оказалась даже недостаточной, ибо Греция, невзирая на торжественно данные Афону гарантии, все же уклонилась не только от своего нравственного долга, но и от исполнения принятых на себя международных обязательств.
Произошло нарушение не только божественных, но и человеческих законов. А статья 13 Севрского договора совершенно проста, ясна и изложена в таком виде: «Греция принимает на себя обязательство признавать и охранять традиционные права и свободы, которыми пользовались негреческие монашеские общины Горы Афон, согласно постановлениям статьи 62 Берлинского договора от 13 июня 1878 года». Берлинский же трактат был результатом усилий европейских держав уменьшить значение освободительной славянской Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и сохранить «больного человека» (Турцию) в Европе. В борьбе с законными правами славянских православных народностей на Балканском полуострове была оставлена за турками и величайшая православная святыня, Святая Гора Афон, против утраты которой турки ничего не имели. Правда такое разрешение вопроса в сущности не причиняло вреда монашескому Афону, при полном и неизменном уважении турок к его правам.
Единственно, кроме Турции, владеть Афоном могла бы только Россия, как самая большая и могущественная православная держава. Но Берлинский конгресс как раз своей главнейшей задачей ставил возможное сокращение и даже лишение России плодов победы от выигранной войны, т. е. сокращение возможных ее территориальных приобретений и ограничение русского влияния среди православных народов востока. Это было достигнуто почти в полной мере, и отсюда вытекли все те последствия, которые привели к мировой войне и к тому положению, в котором оказались негреческие монастыри на Афоне после великой войны. Вышеупомянутая статья 62 Берлинского договора изложена так: «Монахи Святого Афона, из какой бы страны они не происходили, сохраняют свои прежние владения и выгоды и будут пользоваться без всякого изъятия полной равноправностью в правах и преимуществах».
Нельзя не признать до некоторой степени «своеобразными» возложение на Грецию (православную страну!) тех обязанностей, которые в свое время были возложены на страну магометанскую, с той только существенной разницей, что магометане и враги христианства добросовестно и широко выполняли принятые на себя обязательства, православные же греки в основном и резко нарушили эти обязанности.
После катастрофического поражения греков Кемаль-пашой заключен был новый договор в Лозанне 6 августа 1923 года и статья 16 протокола Лозанской конференции снова и решительно подтвердила для Греции обязательства, наложенные на нее в отношении Афона Севрским (1920 г.) и Берлинским (1878 г.) договорами. Но, получив в свое владение величайшую православную святыню и сокровищницу – Святую Гору Афонскую, греческое правительство решило, что оно может ей распорядиться так же, как и всякой другой горой, которых в Греции так много. Но, правда, такое решение оно приняло, пользуясь лишь тем «хаосом умов и понятий», который – по образному выражению американского профессора доктора Х. Кампела – наступил после великой войны.
При этом следует оговориться, что Святая Гора Афон привлекла такое внимание греческого правительства не своей святостью и вековой славой, а своим богатством, созданным всеми православными народами. И соблазн оказался настолько большим, что Грецией были позабыты не только обязанности, как единоверного государства, но и обязанности, наложенные на него международными договорами. А совершила это деяние Греция, пользуясь тем, что за исполнением этих договоров никто не следил: положение славянских монастырей на Афоне не интересовало великие державы-победительницы, так легко закрепившие Святую Гору за греками.
Захватив Афон, греки ввели туда большие полицейские отряды и издали строжайшее распоряжение об обязательном принятии всеми насельниками греческого подданства. Вначале это не шло гладко, и сопротивляющиеся перенесли вопиющие насилия. Но «культурный» христианский мир, пребывавший «в хаосе умов и понятий», не удосужился обратить внимание на притесняемый Афон. Упоенным недавними победами и охладевшим к вопросам Церкви, справедливости и морали «христианам» мира было не до бедственного положения вековых святынь на Афоне!.. Но положение еще больше ухудшилось после ликвидации гражданской войны в России, закрепления там богоборческого строя и ряда потрясений в самой Греции, где король Константин вынужден был отказаться от престола и страной овладела республиканская партия Венизелоса – мегаломана греческой национальности, вообразившего, что наступила пора Эллады занять место древней Византии.
Положение славянских обителей на Афоне
Афон потерял поддержку России: многочисленные афонские обители утратили связь с благочестивым и жертвенным русским народом. К тому же в России погибли все сбережения и фонды афонских славянских монастырей; погибли и богатые подворья со всем их оборудованием. А славянские государства на Балканах только начали залечивать кровоточащие раны трех последних войн и медленно оправляться после военного разорения, с величайшими усилиями налаживая свою политическую и экономическую жизнь.
Всеми этими обстоятельствами и полной беззащитностью монахов Святой Горы широко воспользовалось республиканское греческое правительство и – вопреки своим же обязательствам по международным договорам – поспешило отобрать от афонских монастырей все их метохи (имения), которые были вне афонского полуострова, но на греческой территории. Все имущество, жертвованное в течение веков царями, императорами, князьями, боярами и массой верующих всех православных народов, затем все купленное на пожертвованные деньги паломников – все это без вознаграждения греческое правительство беззаконно отобрало.
Монастырям негреческим: русским, сербским, болгарским и румынским – этим беззаконием был нанесен сокрушительный удар. Но расчет был прост, как проста была и вся политика республиканской Греции: греческие монастыри поддержат верующие из толщи самого же греческого народа (а если не поддержат, значит они никому и не нужны), монастыри же негреческие – просто угаснут. И вообще, возникал вопрос ценности Святой Горы: монахи занимаются молитвой и постом – пустым делом по мнению материалистически настроенных правителей, вместе с тем без пользы лежат естественные богатства Афона… Вопрос стоял и просто, и сложно: монахов нужно устранить, но прежде всего чужих… не греческих. И в этом своем намерении правительство надеялось получить помощь от церковных властей Афона, состоящих на 85 % из греков, веками боровшихся с негреческим элементом на Святой Горе. Вообще же – по рассуждению правительственных властей – вопрос шел о монашеских общинах, а вовсе не о самом Афоне, как территории; следовательно, если эти негреческие общины вымрут, то Афон станет просто горой, для которой никакой международной охраны не установлено!
Так примитивно подошли современные греки к многовековой, величайшей святыне всех православных народов – к Святой Горе Афонской, неугасимому светильнику и славному месту молитвы, великих подвигов и монашеского созерцания.
Тягостно и, можно сказать, безвыходно в настоящее время положение святогорских славянских обителей. Но совсем уже трагично положение самого Афона как целого, как векового общеправославного монашеского центра. Действительно: он создан всем православным миром и является достоянием всего православия, и он же – в результате исторических событий и бедствий – стал собственностью маленького государства, ведущего в отношении этого святого места мелкую политику. Как это могло случиться?
Произошло это в результате русской катастрофы, горестного разобщения православного мира, православных церквей и полной индифферентности правительств православных народов. И это в то время, когда всем должно быть ясно, что за вопросом дальнейшего существования негреческих обителей на Афоне стоит грозный вопрос существования самого Афона, как общеправославного и многонародного монашеского центра. Поэтому нужно громко, твердо и ясно сказать, что Святая Гора Афон стечением исторических обстоятельств если и входит в государственные границы современной Греции, то все же не является греческой собственностью. Греки это должны осознать и помнить, ибо придет день возрождения крепости православного мира, и тогда во всем содеянном придется дать отчет.
Нынешняя греческая игра с Афоном ясна. Она дает временные и случайные выгоды сегодняшнего дня; но в конечном счете она будет проиграна. Политика греческого правительства совершенно ясна: она направлена на то, чтобы свести на нет и уничтожить население негреческих монастырей на Афоне, но это – только первый этап. Когда же с ними будет покончено, тогда автоматически наступит очередь за монастырями греческими, ибо без щедрой славянской поддержки, без помощи остального православного мира и они не удержатся. Сначала ликвидируются келлии и малые обители, обедневшие и заброшенные, потом наступит очередь за средними, и наконец, останется такое количество монахов, которое не помешает распорядиться Афоном окончательно.
Есть все основания верить слухам, что греческое правительство настойчиво осуществляет давнишний план обратить Афон в источник для выгодной эксплуатации. На огромном и живописном полуострове Халкидике, среди чудесной горно-лесистой природы в рамке лазурных вод имеются многочисленные и обширные здания, которые могут принять одновременно тысячи приезжих. И вот, греческое правительство серьезно носится с мыслью обратить Афон в привлекательный туристический центр, что принесло бы казне огромные прибыли…
Как бы то ни было, а первыми уже подверглись безжалостному удару монастыри негреческие, славянские: русские, сербские и болгарские. Но, защищая себя, они защищают и всю Святую Гору Афонскую – общую ценность всего православного мира. Они мешают действовать на Афоне по всей своей воле и поэтому именно их прежде всего решило греческое правительство ликвидировать.
Во время мировой войны 1914–1918 годов союзники дважды производили мобилизацию на Афоне, забрав все молодое поколение послушников на Салоникский фронт. И значительное большинство этих людей уже на Афон не вернулось. Война прекратила всякий приток паломников и лиц, ищущих иноческой жизни. А в конце войны разразилась русская революция и связь с самой большой православной страной вовсе прекратилась. Изменение условий политической и общественной жизни в России, борьба коммунистической власти с Православной Церковью и религией вообще, а также прекращение свободного выезда из СССР – все это создало такое положение, при котором всякое пополнение монашествующей братии на Афон из России совершенно прекратилось. Прекратился приток живых средств – и это имело громадное значение. Не было притока свежих сил также из Сербии, Болгарии и Румынии, потрясенных великой войной и занятых организацией народной жизни в новых условиях.
Афон стал перед лицом острого кризиса: прекратился приток паломников, материальных средств и кадров, которые пополнили бы сильно поредевшие ряды постаревших монахов, утомленных войной и непосильной работой. Произошло общее и грозное оскудение живой иноческой силы. Греческие монастыри это оскудение восполняли наемным трудом, привлечением рабочей силы извне, так как они находились в своем национальном государстве. Монастыри же негреческие этого делать не могли, ибо их свободные средства погибли в России и Царьграде; были утрачены и все подворья, которые являлись живой связью Афона с внешним миром. Эмиграция сама была нищей.
Славянские обители, особенно русские, остались без всяких доходов, но с прежними расходами: необходимо было поддерживать огромные храмы и монастырские здания, рубить лес, возделывать виноградники и масленичные плантации, огороды. Нужно было вести сложное и большое хозяйство в условиях гористого и бездорожного Афона, закупать все зерновые продукты, так как на Святой Горе они никогда не произрастали, а имения вне Афона греческое правительство отобрало. К этим осложнениям прибавилось еще два бедствия: грозные землетрясения дважды катастрофически колебали Святую Гору и вызвали большие разрушения.
Но, невзирая на все бедствия, Афон по-прежнему оставался обетованной землей для всех уставших и религиозно настроенных душ. После ужасов мировой войны и русских революционных потрясений во многих сердцах пробуждалась жажда иной жизни, подвига смирения и труда, посвященного Богу. И многие из разных православных земель (Сербии, Болгарии, Румынии, Прикарпатской Руси, Галиции, Холмщины и Волыни) готовы были уйти на Святую Гору и подкрепить собой тамошнее воинство Христово. Таково же было настроение и в Бессарабии, свободная прежняя церковная жизнь в которой стала подвергаться усиленной румынизации и модерницазии. Началась борьба со старым стилем, церковнославянским языком в богослужении, со всем привычным церковным бытом и укладом. Во всех этих тяготах наиболее духовные и крепкие люди – не связанные условиями своей личной жизни – стремились на славой овеянный Афон.
Болгары и сербы – крепкие в вере праотцев и упорные в своей церковности, с малопоказной, но глубокой религиозностью – никогда не забывали стародревних и славных обителей святогорских. А теперь, после страшных переживаний двух великих войн, они потянулись на Афон всей душой. И мягкие сердцем, тихие и скромные карпатороссы, через века инославного гнета пронесшие в полной чистоте свою веру, обратили свои сердца и мысли к Святой Горе. Туда же потянулись румыны, галичане, волынцы и многие другие. Со всех концов православного мира, от разных народов шли просьбы и заявления на Святую Гору о желании посвятить себя иноческому подвигу. Казалось, вопрос разрешался самой жизнью вполне благополучно, и снова, после тяжелых лет кризиса и оскудения, восстановится полнота жизни святогорских обителей. Начались хлопоты пред греческими властями о свободном допуске православных людей на Святую Гору. И вот, именно в это время, которое являлось поистине тяжелым, греческое правительство издало свое «историческое» и беззаконное распоряжение, что монахами на Святой Горе могут быть только греческие подданные, но… подданство это можно получить лишь на самом Афоне, прожив там продолжительное время.
Это жестокое и беззаконное распоряжение нарушало многовековую традицию многонародного Афона, по которой туда в свои обители могли свободно и беспрепятственно приезжать благочестивые сыны всех православных народов. И лишь после продолжительного пребывания там и высказанного желания принять иноческий чин, чтобы навсегда остаться на Афоне, они условно принимали турецкое подданство. Так было при иноверных турках, а единоверные греки считали, что общеправославные вселенские святыни Афона – становились как бы исключительно частной собственностью греческого государства. И славянские обители должны были стать если не по народной, то по государственной принадлежности греческими. Ликвидировались, таким образом, вековые и совершенно бесспорные права славянских монастырей – быть славянскими. А кроме того, требование принятия греческого подданства от негреков, пожелавших остаться монахами на Афоне, было равносильно полному закрытию доступа негреков в свои же собственные обители. Действительно, изобретательные греки, при полном молчании цивилизованного мира, создали поистине заколдованный круг: без греческого подданства нельзя принять монашества и остаться на Афоне, а чтобы принять греческое подданство, надо прожить в Греции не менее десяти лет.
Этим бесчеловечным распоряжением греческих властей нарушались принятые на себя ими же обязательства, нарушалась вековая традиция и свобода Афона, наносился удар всему православному миру, от которого незаконно отымалась самая большая и чтимая святыня. Наносился ущерб всей Православной Церкви, интересы которой приносились в жертву эгоизму и шовинизму греческого народа, воспользовавшегося безвременьем, «сумятицей умов» всего цивилизованного мира и… временной, полной беззащитностью Святой Горы Афона. Это противоречило христианской совести, и нарушался закон братской любви между православными народностями.
Свобода негреческих монашеских общин, установленная славным историческим прошлым, вековыми традициями и подтвержденная международными договорами, на которых значится и греческая подпись, нарушена самым бесцеремонным образом. Греция обманула своих союзников и покровителей: Афон территориально был признан за Грецией только на условиях признания со стороны греков полной свободы за негреческими монастырями. Греция эти условия приняла, но не исполнила их! Больше того: она сознательно их нарушила – и потому потеряла право на Афон.
В то время, когда греческое правительство многократно и строго подтверждало свое распоряжение не давать виз на Афон православным славянам, особенно тем, кто подозревался, что останется на Афоне, все греческие монастыри были свободны для приема своих. Но они не особенно притягивали к себе нынешних греков, которые значительно отошли от жизни духовной. Введение нового стиля и вообще атмосфера модернизма показали, что греками не особенно охраняются традиции Святой Горы, а жизнь греческих монастырей не свидетельствует о расцвете современного греческого монашества…
Итак, под властью греков нынешний Афон является совершенно особенным, «оригинальным», запретным – единственным во всем мире – местом. Действительно, по всему свету существует общий порядок: если какое-нибудь государство выдало разрешение (визу) иностранцу на въезд в это государство, то этим оно уже автоматически разрешило этому иностранцу свободно передвигаться по всей стране своей. Но это правило всех культурных народов оказалось не обязательным для греческого правительства, и оно безнаказанно выделило величайшую православную святыню Афон из общих международных норм и насмеялось над чувствами верующих людей. Оно ввело «оригинальное» ограничение, по которому все визы, выданные греческими дипломатическими представителями, пригодны лишь для въезда в Грецию, а для поездки на Афон надо иметь еще и специальное разрешение министерства иностранных дел[20]. И, таким образом, часто случается, что иностранный паломник въедет в пределы Греции, но так и не попадет на Святую Гору Афон!
Славянские же обители осуждены на вымирание: нет смены, и вековое древо молитвенного подвига должно засохнуть. Таков смысл незаконных распоряжений греческой власти, прекратившей доступ негреческих народностей на Афон: величайшие святыни православных славянских народов должны прейти в руки греков.
Недавно мы прочли в печати следующее сообщение[21]: «Нам сообщают о кончине на Афоне последнего настоятеля русской обители Св. Николая чудотворца «Белозерка» иеродиакона Иоанникия. Обитель перешла к материально обеспеченным грекам-монахам, переселившимся из Греции и купившим также и другую обитель, Св. великомученика Артемия…
Если греческое правительство не изменит своей политики и не откроет Афон для русских монахов, через несколько лет все без исключения обители перейдут за смертью старцев в руки Греческой Патриархии».
Такова поставленная задача – и этим определяется святогорская политика греческого правительства. И если – попущением церквей и правительств православных народов, а также равнодушием всего христианского и просто культурного человечества – Афон окончательно сделается греческим, то тогда он перестанет быть всеправославным и всенародным Афоном… Но все же, думается нам, до этого не дойдет и этого не допустит пробуждающееся сознание большинства негреческих православных народов.
Когда наступит активная борьба за свободу Афона, мы не знаем, но она наступит, и чем позже, тем будет ожесточеннее… Современные греки не способны быть руководителями православного мира, ибо славянство выросло в огромную религиозную силу. Правда сейчас эта сила подорвана, но все же и в настоящее время православное славянство лучше организовано и более привержено чистоте православия, чем подверженное разным течениям нового времени православие греческое. И одним из признаков упадка духа греческого православия в Элладе является его нетерпимость и узость, которые с такой силой и резкостью выявились именно в отношении Афона. Требование от негреков, желающих посвятить себя монашескому подвигу в своих же вековых монастырях на Афоне, греческого подданства является издевательством над здравым смыслом и душой верующих людей! Как можно получить это подданство, живя вне Греции?.. Этого подданства не может дать никто, кроме греческого правительства, а оно-то и не допускает негреков на Афон.
Однако тяга православных людей так велика, что чинимые препятствия все же иногда, при громадном напряжении, обходятся. Греческое правительство это знает и борется с этим явлением жестокими средствами. Но их с большим успехом греки могли бы применить к своим преступникам, а не к благочестивым единоверцам, стремящимся пробраться к святыням родным. Вместо того, чтобы радоваться притягательной силе Святой Горы Афонской, греки, случайные хранители этой вековой святыни, делают все, чтобы эту святыню отделить от верующих.
За всю вековую историю Афона свободная монашеская республика впервые подвергнута полицейскому режиму: все монахи зарегистрированы полицией, и им выданы специальные легитимации с фотографией. Средство не столько охраны порядка, сколько слежки и вымогательства. Это нарушает вековые права обителей, каноны и дисциплину, ибо таким образом в среде монашеских общин на Афоне, где так строг монашеский устав, оказываются «мирские человеки», нарушающие чин и вековой уклад жизни.
Такое кощунство никогда не допускали иноверные турки. И старые монахи на Святой Горе невольно теперь со вздохом вспоминают о днях полной веротепримости и свободы турецкой для Афона. Действительно, пребывание полицейских в форме внутри монастырей и их слежка за монахами, а равно и ревизия документов благочестивых паломников – все это нарушает общее благолепие и порядок монастырской жизни, производит гнетущее впечатление на и без того редких богомольцев и вызывает удивление иностранцев.
Но, говоря о всех этих неприятностях, мы тут же должны с радостью оговориться, что все эти оскорбительные действия исходят только от гражданских властей, от греческого правительства. Вселенская Патриархия, как равно и Элладская Церковь, в этом не принимают участия и его осуждают. Во всяком случае в результате этой деятельности греческих властей весьма выразительно и ярко обрисовывается в цифрах насильственно умерщвление негреческого монашества на Афоне. Без всяких комментариев и ярче всего говорят за себя сами эти цифры:
Таким образом, общее число монашествующей братии в негреческих обителях за последние годы упало до столь низкой цифры, что дальнейшее падение будет знаменовать не только катастрофическое угасание, но и полную гибель негреческих святынь. Особенно же пострадают русские обители. И это, по-видимому, весьма радует греков. В течение уже долгого времени маленькой Греции снятся золотые сны Византии. Она думает, что судьба огромной России решена навеки и что наследство Византии и России должно перейти к ней: Греция должна стать центром православия, не столько моральным, сколько распорядительным. Но она забывает, что авторитет создается добрыми делами и жертвенностью; насилие же, особенно характера религиозного, возбуждает только возмущение и отпор.
Греция желает быть Третьим Римом и заменить великую Россию в Вселенском Православии. Но она идет путем насилий на Афоне, вековая история которого взывает к православному миру, умоляя об освобождении Святой Горы от «опеки» Греции, которая не понимает ни значения этого святого места, ни своей скромной роли в сравнении с этим величественным памятником векового, вселенского благочестия. Еще 10–15 лет такой политики греческой власти, при равнодушии и попустительстве остального православного (и вообще христианского) мира, – и славная история русского, болгарского, сербского, румынского и грузинского монашества на Афоне будет на какой-то странице закончена.
К этому всемерно и стремится греческое правительство! Но где же Греческая Церковь! Что делает греческая иерархия? Каково ее отношение к этому величайшему насилию над свободой многовекового святого места всех православных народов – дома Пресвятой Богородицы, великой и славной Горы Афонской? Греческая Церковь сама не принимает участия в гонениях против негреческого элемента на Афоне, она их и не одобряет (имея в виду будущее). Но она безмолвствует – и этим невольно как бы благословляет дело злое, не христианское, а варварское.
Греческое правительство системой мер стремится совершенно уничтожить негреческое монашество на Афоне. Но вместе с тем оно озабочено сохранить для себя все ценности, накопленные в течение веков негреческими монастырями и доставленные из России и других православных земель, – словом, все то, что на многонародный Афон принесено, что является результатом вековых жертв всех православных народов своим монастырям и что его украшает паче всякого места на земле. Всё это греки желают сделать своим. Как нетерпеливые наследники, трепетно ждут они смерти того богатого негреческого Афона, которого права беззаконно хотят присвоить себе. Но именно греки никаких прав на славянское церковное достояние и вековые святыни на Афоне не имеют! И вот, отлично сознавая это, они нетерпеливо ждут, пока оно станет «бесхозяйственным», вымороченным, и тогда они легко им завладеют.
Греки отлично знают, что притока пожертвований у славянских (особенно русских) обителей теперь почти нет. И вот, под видом охраны афонской старины и в прямое нарушение свободы монашеских общин греческое правительство запретило негреческим монастырям вывозить с Афона изделия монашеского труда: иконы, облачения, иконостасы, богослужебные книги и проч. Обедневшие, разоренные временем и жестокими правительственными мерами малые славянские обители вынуждены были на неотложные нужды совершать займы у тех же греков, входить к ним в долги. А на покрытие этих долгов существовал только один источник – движимое имущество, т. к. недвижимое (имения вне Афона) «демократическое» греческое правительство давно уже экспроприировало! И вот, на это движимое имущество греки теперь тоже наложили незаконное запрещение. Сначала запретили продажу и вывоз современной утвари и облачений, которых на Афоне много и которые никакой исторической ценности не представляют, но являются веками накопленным богатством. А накоплено оно не греческими, а исключительно славянскими трудами и добровольными жертвами многих поколений благочестивых людей.
С 1938 года вывоз богослужебных книг и других предметов нового времени, имеющих только рыночную ценность, был запрещен. Торгашеский дух сказался в полной мере: ничего не разрешать славянам для спасения своих обителей, ибо недалек (по мнению греков!) тот вожделенный час, когда все эти ценности – живое свидетельство благочестия славянских народов – перейдет в житницы греков, т. е. тех, кто не сеял, но желает собрать жатву.
Книги, изданные в новейшее время, – это результат миссионерской работы, результат работы русских афонских монастырей. Они предназначены для религиозного просвещения православных народов, а вывоз и их с Афона греками теперь воспрещен. Греки закрыли все пути для спасения негреческих обителей на Святой Горе: нет притока средств со стороны, воспрещен массовый доступ паломников, не допускается пополнение монашеских славянских кадров, секвестрировано движимое имущество. Словом, все сделано греками для скорейшей гибели негреческих монастырей Афона, о которых все забыли, даже и те, кто вместе с греками подписали договоры о их защите… Такова действительность, созданная на Афоне православной Грецией после великой войны.
Насколько тщательно и своеобразно греческое правительство «охраняет» достояние славянских обителей на Афоне, живой иллюстрацией может послужить следующий поразительный факт. В 1937 году Афон посетил профессор, который привез от сербского Патриарха Варнавы значительные пожертвования в бедствующие русские обители. В благодарность высокому жертвователю, главе единоверной Церкви соседнего государства, монахи русского Свято-Пантелеимонова монастыря просили паломника доставить святейшему Патриарху Варнаве в благодарность подарок их обители. Старые монахи выбрали в ризнице прекрасную большую икону своей работы и на обороте ее учинили молитвенное посвящение. Затем достали специальное разрешение от церковных властей Афона (от Протата) на вывоз своего дара со Святой Горы, тщательно упаковали икону и, уплатив пошлины, доставили свой дар к отходящему пароходу. Казалось, все в порядке. Но, к большому горю старцев и удивлению паломника, икону удалось довезти только до Салоник: здесь при выходе с парохода греческие власти отобрали от паломника благочестивый дар старцев – имущество русского монастыря, и вернули на Афон, запретив вывоз иконы. Таким образом, эта икона – благодарный дар русских монахов своему благодетелю Сербскому Патриарху – осталась в монастыре и послужила памятником «свободы» русского монастыря и «уважения» греческих властей к воле дарителей и личности того высокого лица из дружественной соседней державы, которому икона предназначалась в его домовую церковь…
Греческие власти не только не разрешают вывоза собственного имущества и изделий славянских монастырей, но запрещают даже выезд монахов-славян, намеревающихся, например, отправиться «за милостыней» в славянские государства. Таким образом, снова нарушается право афонских насельников свободно посещать свои родные и родственные православные страны. А как раз путешествие афонских монахов – это одна из ярких и славных страниц многовековой жизни Святой Горы. Где только не бывали в старину святогорцы, выполняя подвиг тяжелого послушания и совершая свои путешествия в условиях чрезвычайно трудных, без железных дорог и всех современных удобств передвижения. Но всегда и везде бывали они желанными гостями, благочестивыми рассказчиками о святых местах и утешителями верующих душ. Они же устанавливали и живую связь Афона с внешним миром. Но – все это было при иноверных турках! А теперь единоверное греческое правительство, за очень редкими исключениями, не дает разрешения на выезд с Афона монахам славянских народностей. Почему? Очень просто: греки не желают выпускать в другие государства живых свидетелей своей неправды и своих вопиющих деяний на Святой Горе. Греки боятся гласности и нелицеприятного свидетельства, они стремятся заглушить самое имя Афона, вытравить его из сердца и мысли благочестивых людей негреческих народностей… Но это совершенно напрасный труд! Через все препятствия немеркнущим светом неугасимой лампады сияет Святая Гора Афонская всему православному миру; так же ярко сияет теперь, как сияла во тьме прошлых веков.
Грекам, по-видимому, и этих насилий мало. Они не только не выпускают свободно монахов с Афона, но и на Афон стремятся никого не пускать, особенно из культурных людей, которые виденное могут рассказать миру. Греки стараются окружить Святую Гору «китайской стеной» и сделать ее невидимой для других народов. Как не коммунисту трудно попасть в СССР и свободно передвигаться по стране, так иностранцу, не одобряющему политики греков в отношении славянских обителей на Афоне, почти невозможно проехать на Святую Гору. После тягостных формальностей туда легче допускаются не паломники, а туристы инословные и иноверцы, которым вообще нет дела до православного Афона. Их не возмутят безобразия властей, подавленность и растерянность насельников в славянских обителях. Но иногда все же добросовестные наблюдатели даже из иноверцев, видя на Афоне великолепное свидетельство веков и преступную афонскую политику греков, возмущенно разводят руками.
Условия получения разрешения для въезда на Афон придуманы для того, чтобы отбить охоту просить такое разрешение. В самом деле, строгости доведены до крайности, до издевательства над благочестивым паломником, над здравым смыслом и международными обычаями. Мало того, вся процедура получения разрешения для посещения Афона построена на испытании терпения просителя и рассчитана так, чтобы довести его до отказа от своего ходатайства или до невозможности воспользоваться полученным разрешением, например по истечении отпуска или действительности билета и т. д. Это особенно практикуется в отношении групповых поездок паломников и экскурсий учащихся, главным образом из славянских стран. Прямо отказать не всегда бывает удобно (хотя и это делается без особых стеснений), но затянуть ответ на ходатайство – всегда возможно. А учащиеся обычно связаны сроком и бывают свободны лишь во время праздничных и летних каникул, а ответ приходит тогда, когда каникулы прошли, и поездка состояться не может. Характерный случай произошел с русским епископом, который прибыл за тысячи миль с Дальнего Востока в Югославию на архиерейский собор Зарубежной Церкви (было это до Второй мировой войны).
Когда закончился собор и владыка собрался возвращаться на Дальний Восток, ему посоветовали посетить «по пути» Святую Гору. Это представлялось делом легким, так как путь его проходил вблизи Афона: для отплытия на Дальний Восток владыке нужно было прибыть в Афины (порт Пирей), его же поезд проходил через Салоники, от коих на Святую Гору «рукой подать»… за два доллара. Владыка задолго до выезда начал хлопоты о визе в греческом консульстве, которое заявило, что для епископа надо еще разрешение от Вселенского Патриарха, в духовном оформлении коего находится Афон. Конечно, владыка не замедлил обратиться с просьбой к Патриарху… Время проходило, а разрешение на посещение Святой Горы владыка все не получал и нервничал: консул обещал, а Патриарх молчал. Приблизился отъезд, и наш владыка поспешил послать телеграммы – в греческое министерство иностранных дел и Патриарху. Ответ не приходил, но греческий консул обнадеживал, что разрешение владыка сможет получить в Афинах, в министерстве. Владыка выехал в Грецию и продолжил хлопоты; в министерстве продолжали ему обещать… Подошел день отплытия парохода, и пришлось владыке отбыть на Дальний Восток. По дороге туда он задержался в Иерусалиме и от греческого консула получил сообщение, что прислано для него благословение Патриарха – когда в этом уже не было нужды.
Был такой же случай и с другим епископом, тоже приезжавшим с Дальнего Востока. Известны многочисленные случаи, когда паломники попадали в тяжелое положение. Малограмотные, благочестивые люди: крестьяне или мелкие горожане из соседних стран – бывало годами копили деньги, лелея в душе мечту хоть раз в жизни побывать у вековых святынь своего народа, на Афоне. С большими жертвами и трудом исхлопатывали они заграничные паспорта, ставили визы, тратились на билеты и, устремляясь в Грецию, попадали в Салоники. И вот, собираясь уже садиться на пароход для отплытия на Афон (всего несколько часов плавания!), к ужасу своему узнавали, что обычной греческой визы для этой поездки недостаточно и необходимо иметь еще специальное разрешение для въезда на Святую Гору… Не зная языка, растерявшиеся, попадали они в руки комиссионеров и адвокатов; хлопотали, посылали телеграммы и, прожив сбережения, не повидав святынь Афона, плачущие возвращались на родину. Можно представить себе, что переживали эти благочестивые души и каковы были их чувства к единоверным грекам!
Известны и еще более печальные случаи, когда паломники, не зная правил, садились на пароход и благополучно достигали цели трудного путешествия, Святой Горы. И только здесь, уже при спуске с парохода в лодку, узнавали от полицейского чиновника, что греческая виза в их паспорте недостаточна… Находясь у цели своего паломничества и видя горящие на солнце кресты родных обителей, они не получали разрешения даже для того, чтобы сойти на священный берег и хотя бы дождаться обратного парохода; их силой вынуждали на том же пароходе продолжать путь до Кавалы и, просидев там 3–4 дня, обратно рейсовым пароходом – снова на виду Афона – вернуться в Салоники. Нам пришлось наблюдать такой случай великим постом 1937 года… Известны случаи, когда в такое безвыходное положение попадали не только простые паломники, но и люди высоко интеллигентные: ученые, профессора, писатели и др. Памятны случаи высылки с Афона греческими властями даже крупных иерархов Православных Церквей. При этом бестактность властей доходила до того, что этим иерархам не разрешали даже дождаться очередного парохода и заставляли их покинуть Афон… на моторной лодке.
Все это мелочно, отвратительно, но своей цели достигает: паломников славян и румын на Афоне почти не бывает. И грекам уже кажется, что вообще все складывается как нельзя лучше, к полному благополучию греческого шовинизма и своекорыстия. Но в действительности это далеко не так: Афон все больше привлекает к себе внимание цивилизованного мира, и действия греческого правительства вызывают все больше возмущение инославных посетителей Святой Горы, не говоря уже об усилившемся раздражении среди православных народов. И будет день, когда греки пожнут плоды посеянного.
Испытав собственное терпение, использовав всяческие «протекции», затратив время и деньги, настойчивый паломник получает, наконец, разрешение для поездки на Афон. Однако этим хлопоты и неприятности не оканчиваются. При самом прибытии к афонскому берегу сразу же начинаются новые мытарства и неприятности. Проверив паспорта и убедившись в наличности специальной визы, греческая полиция все же паспорта отбирает[22]. Но и этого мало: сойдя на берег, паломник направляется в полицейское бюро. Затем прибывший паломник обязан совершить путешествие… в главное полицейское управление, которое находится в центре Святой Горы, в Карее. Это путешествие – пешком или верхом на осле, по крутым горным тропинкам – продолжается больше трех часов, весьма утомительно и лишено всякого смысла. И вот, только пройдя все мытарства карейского чистилища, измученный паломник наконец может посвятить себя тому, для чего предпринял это сложное путешествие – может поклониться святогорским святыням.
Первое, самое сильное и неизгладимое впечатление, которое ожидает паломника на современном Афоне, – это то, что Гора из удела Пресвятой Богородицы обратилась как бы в удел греческих полицейских властей, и можно подумать, что на ней находятся не прославленные вековые православные святыни, а какие-то военные укрепления, обозрение которых греческие власти допускают только при крайней необходимости.
Но особенно тяжело положение представителей интеллигентных профессий: ученых, писателей, журналистов, художников и проч. Разрешения для въезда на Афон этим лицам выдаются с еще большей неохотой, и этих возможных свидетелей афонских стеснений власти всячески стараются не допускать. Поэтому эти интеллигентные паломники должны прилагать в своих хлопотах еще больше усилий и искать ходатайства за себя со стороны своих министерств, посольств, университетов, академий, редакций и проч. Но и в этом случае греческие власти стараются допустить лишь тех, в отношении которых есть уверенность, что они ограничатся только вопросами своей специальности, закрыв глаза на остальное, а покинув Афон, позабудут то, что видели там, или запишут в свои воспоминания, которые будут опубликованы много времени спустя… Греческое правительство внимательно следит за всем, что печатается об Афоне на разных языках. При этом самолюбие и обидчивость греков обратно пропорциональны размеру их государства, и потому у них эти качества непомерно велики. Всякое правдивое слово об Афоне необычайно возбуждает греческое правительство, которое полагает что лучшее средство злоупотреблений власти – это их скрывать. И оно их скрывает, как может. Правда из этого мало что выходит.
О притеснениях негреческого элемента на Афоне хорошо знают те, кого научный интерес привлекает на Святую Гору. Но мысль, что и в будущем придется повторить эти поездки, вынуждает их скрывать правду: не говорить о том, что видели и всячески уклоняться от исполнения просьб негреческих обителей рассказать цивилизованному миру об их тяжелом положении, об обстоятельствах их грядущей в недалеком будущем гибели. Но эти посетители из личных соображений все же продолжают молчать. Те же, кто по долгу добросовестности правдиво рассказывают о том истинном положении, в котором находятся славянские обители на Святой Горе под властью греков, немедленно попадают в список врагов греческого народа – и им воспрещается въезд на Афон.
Вот почему в печати появляется так мало свидетельств об угнетении греческой властью своих же единоверцев (святогорцев негреческой национальности), о фактическом умерщвлении негреческих обителей, о нанесении громадного морального ущерба православному благочестию и вековым величайшим святыням негреческих народностей и об унижении священнейших памятников Вселенского Православия. Но такие голоса все же имеются, и они особенно убедительно звучат на фоне того молчания, которое создало греческое правительство к вящему стыду своего древнего православного народа. Так, например, немецкий ученый доктор Зоргенфрей писал: «Вероятно, пройдет совсем еще немного времени, и для изучения драгоценной старины Афона уже не понадобится совершать туда сложное путешествие. Эти старины, вероятно, окажутся по различным музеям и библиотекам далеко вне Афона, т. к. в результате гонений греков на монахов негреческих народностей закроются все их монастыри»… Честно, ясно и убедительно высказался этот ученый!
Корреспондент американской газеты Х. Смит, между прочим, писал: «Что бы ни было: нездоровый ли шовинизм, историческая вражда или злой умысел, но греческие гражданские власти проводят систематическое преследование других народностей, которые веками жили и создавали величие Афонской Горы. Есть основание думать, что запрещая негрекам поступать в монастыри Афона они (т. е. греки) добиваются того, что эти монастыри перейдут в греческие руки, ибо их коренные обитатели вымрут». И профессор Софийского университета Н. Н. Глубоковский писал: «Греки злобно навалились на беззащитных единоверцев Святой Горы, особенно на русских монахов. Если так продолжится и дальше, то от славных русских, болгарских и сербских обителей Афона скоро останутся лишь камни… Но и они всегда будут вопить о страшной неправде».
Лорд-мэр города Скопле (в Южной Сербии) инженер И. Михайлович на докладе в Ротари-клубе сказал, а после написал и в газете: «Турция уважала устав этой «монашеской республики». Греция значительно урезала ее права и некоторые монастыри лишила их имений. А это имело своим последствием обеднение их и уменьшение числа монахов. Лондонским и Лозанским договорами Греция гарантировала все права, которые имели афонские монастыри испокон веков. Этими же договорами были подтверждены и права сербского монастыря Хиландара. Между тем позже некоторые из этих вековых привилегий были уничтожены распоряжениями греческих властей, которые постановили, что не могут принимать монашество и вообще быть монахами на Афоне те лица, которые не имеют греческого подданства. Это показывает, что больше не исполняется Лондонский и Лозанский договоры».
Старик А. Плетнев писал: «Что ж будет с нашими великими святынями на Горе Афоне, когда и последние монахи там помрут? А греки торопятся и всячески стараются, чтобы поскорее там не осталось русских монахов». Чешский журналист доктор А. Рибарж добавил: «Я – мало верующий и не православный. Но и меня задела несправедливость и жестокость греков в отношении славянских монастырей на Афоне. Греки не пускают туда вовсе молодой смены, и когда старые монахи вымрут, они отберут славянские монастыри с их имениями и вековыми ценностями, добровольными жертвами благочестивых славянских людей». Писатель А. Болотов, в 30-х годах выпустивший воспоминания об Афоне, писал: «Я уехал с Афона опечаленный предчувствиями и ходом событий, да леко неблагоприятных для этой твердыни православия, ибо греки систематически добиваются обезмонашения и ослабления славянских обителей. И потому весь православный мир в лице своих властителей и Патриархов обязан охранить его исторические права и преимущества, выдающиеся памятники живописи и зодчества, старинные храмы и богатейшие церковные и книжные хранилища».
И мы писали еще в 1937 году: «Тяжела жизнь монахов, особенно славянских народностей, на Афоне. До войны из всех краев великой России стекались сюда щедрые жертвы и многие тысячи поклонников ежегодно посещали Святую Гору… А теперь? Теперь гостиницы пусты: монастырские метохи, приобретенные в годы турецкого владычества на доброхотные жертвы русских людей, отняты единоверным греческим правительством. Кроме того, греки запретили приезд славянам в их же древние обители, которые остались без смены, без молодых монахов. Близится время полного исчезновения старцев, которые уже теперь не имеют физической возможности исполнять даже самые нужные работы: рубку леса, транспорт до берега, собирание маслин и винограда, возделывание огородов и садов, ремонт зданий и другие работы… Печально, но если так продолжится и дальше, и правительства славянских государств, равно как и Православные Церкви, не изменят это ненормальное положение, то перед древними святынями славян встанет опасность полного исчезновения их монашества на Афоне и переход в греческие руки наших великих духовных ценностей. К чему греки и направляют всю свою афонскую политику…»
За эти строки греческое правительство тогда же запретило нам въезд на Святую Гору Афон.
Таково было давно согласное свидетельство разнообразных наблюдателей не только православных, но и инославных. Правда всегда сильнее лжи, каковы бы ни были успехи последней. Положение вещей на Афоне и обреченность негреческих святынь известны теперь всему православному миру. Известна незаконная политика греческих властей в отношении славянских обителей. И, казалось бы, выход из этого положения только один: как можно скорее прекратить беззаконные притеснения и дать негреческим монастырям ту свободу, которой они пользовались в течение многих веков при всех властях.
Но греческое правительство нашло другой «выход» и установило строгую цензуру переписки. Кроме того, выезжающие с Афона тщательно обыскиваются на пристани Дафни, прежде чем отплыть на лодке к пароходу, а их чемоданы осматриваются строже, нежели на границе. Но, кроме бумаги, есть еще и живые свидетели. Поэтому все те, кто свидетельствует правду об Афоне, больше туда не допускаются. А насельники Святой Горы, монахи негреческих обителей, в нарушение вековой традиции и свободы, гарантированной международными договорами, за редкими исключениями с Афона не выпускаются. При этом «охранительный контроль» греческих полицейских так велик, что они, по-видимому, Святую Гору стали рассматривать как место заключения преступников, а не боговдохновенных иноков, которые удалились сюда для непрестанной молитвы, великого подвига и созерцательной жизни во Христе. И только таким взглядом греческой власти можно объяснить потрясающую фотографию, которая в 1937 году была помещена в американском журнале: по лесной дороге на Афоне движется двое служителей Христа, изможденных и обтрепанных монахов… под стражей трех вооруженных полицейских! Эту фотографию сопровождала соответствующая надпись, полная возмущения культурного и свободолюбивого американского гражданина.
Чем объясняется нетерпимость греков?
Все то, о чем даже не думала турецкая иноверная мусульманская власть, осуществила власть греческая – единоверная и «христианская». Фанатически настроенные турки, окруженные своими вековыми врагами – славянами, подозрительно (и не без основания!) смотрели на сношения афонских монахов-славян со своими национальными государствами, особенно с далекой и могущественной Россией. И все же, несмотря на это справедливое подозрение турок, монахи-славяне свободно приходили на Афон, свободно уходили оттуда и вновь туда возвращались. И, право, невольно думается теперь: каким прекрасным временем была эта эпоха турецкой власти на Святой Горе, начиная с XV столетия и как стыдно будет потомкам современных близоруких греков-мегалломанов, создавших такую обстановку на Афоне, в сравнении с которой турецкий режим являлся идеалом права и свободы православных святынь и монахов на Святой Горе.
Невольно рождается и другой ряд мыслей. Среди всех многочисленных православных народностей, подвластных туркам, они не выносили только одной – греков. И даже на самом Афоне турки чинили именно грекам всевозможные препятствия. Славяне были честными и открытыми врагами: с ними все было ясно и решалось силой; греки были не враги и не друзья, и это выводило турок из равновесия. Грекам на Афоне было при турках хуже, нежели другим народностям, но тогда их защищали и помогали им… те славяне, которых они теперь жестоко преследуют. Но все же особую помощь всегда оказывала грекам-афонитам Россия – благочестивая, любвеобильная, богатая и могущественная. Сначала московские великие князья и государи слали свою обильную милостыню Афону, и главным образом не славянам, а греческим монастырям. Многочисленные просьбы греков о материальной помощи в те отдаленные времена шли нескончаемым потоком в Москву, и таким же потоком оттуда лилась щедрая милостыня. Потом, когда окрепло Российское государство, к тем же грекам потянулась, помимо материальной, еще и политическая помощь и защита России, с которой Турция весьма считалась… Да, всегда следует помнить, что неизменно помогала Россия единоверным грекам перед лицом грозной Турции, имевшей тогда сильных друзей в Европе, помогала она им и в эпоху греческой борьбы за освобождение. Следует вспомнить о подвигах русской эскадры у Иоаннических островов в 1803–1806 годах, героические бои у Наварина и славные дела русского десанта…
Кроме того, в различные периоды исторической жизни, своей силы и расцвета греческим монастырям Афона щедро помогали и балканские славяне (Сербия и Болгария), как равно и господари Молдавии и Валахии. Все дары и политическая помощь принимались тогда греками с подобострастными поклонами, льстивыми речами. И казалось тогда, что глубокая благодарность сохранится в греческих сердцах навеки. Действительно, все это должно было создать признательность греков к единоверным славянам, на которых только и опиралось тогда православие. Произошло же нечто совершенно непостижимое. Оказалось, что греки рассматривают своими злейшими врагами именно православных славян и Россию, пережившую глубокие потрясения.
Православие живо и крепкими корнями связано с отдельными православными народами – сербами и болгарами. Но сама Православная Церковь переживает кризис. Русская Церковь великого народа стала Церковью мучеников и исповедников: на глазах равнодушного мира христианского ведет страшную борьбу с властью Антихриста, ни откуда не получая помощи и изнемогая в этой борьбе. Славянский центр вселенского православия захвачен жестокими безбожниками, и православие вообще оказалось без центра. Вселенская Патриархия не смогла стать таким центром в это страшное время, несмотря на свои заслуги в прошлом. Она бессильна и в своем бессилии произвольными своими действиями вносит сумятицу, разложение и подрывает Церковь. Она раздает автономии и автокефалии, этим отдавая отдельные церковные области во власть инословных правительств. Так произошло с Православной Церковью в Польше, которая очутилась во власти у католического правительства, и разгромлены были не только ее святыни, но также дух свободы и независимости. То же происходит и с Православной Церковью в Финляндии, где эта Церковь благодаря произвольным действиям Вселенской Патриархии также временно очутилась в руках у инословного правительства.
Катастрофа Православной Церкви стала великим соблазном для воинствующего католицизма, который – в наше время глубокого кризиса христианства – счел подходящим, чтобы соблазнять православный мир своей пропагандой, льстивой любовью и маскарадом восточного обряда… А хранительница православной традиции и духа ее – Русская Церковь в Зарубежье – пребывает на соблазн верующих в разъединении. Самостоятельные же Церкви в Румынии и в Прибалтике, под влиянием инословной пропаганды и растущего сектантства, под разлагающим впечатлением нашей эпохи, внутри шатаются, модернизируются, отходят от той своей первоапостольской простоты и ясности, в которых сила, крепость и правда православия. Создается на инословные средства «Трудовое христианское движение» среди православных русских за рубежом, но не решающееся назвать себя православным. Создаются конфессиональные всяческие организации, в значительной мере чуждые православию и даже христианству, как например: «Вера и порядок», «Международный Союз Мира» и т. д. И над всем этим, как грозное предзнаменование, доктрина коммунизма, то растущая, то как будто угасающая. Это впечатление создается тем, что мировой коммунизм, твердо преследуя поставленную задачу разрушения христианской культуры, постоянно в зависимости от обстоятельств меняет свою тактику. Это враг упорный, завоевавший огромные позиции и массы не только в Европе, но и во всех странах мира.
В это страшное и ответственное время Православная Церковь, казалось бы, должна собрать все свои силы, быть единой во всеоружии всего векового опыта и сознания своей ответственности. Главной и непобедимой силой православия является правда Христа Спасителя, искупившего грехи мира, и ее вековые святыни – плод молитв и благочестия ушедших поколений. А среди них на одном из главных мест находится Святая Гора Афонская, уцелевшая и чудом сохраненная среди ужасов великой войны. Через 500 долгих лет она вернулась в руки православного народа греческого, отдаленными предками которого были ревностные и богоизбранные стражи Вселенского Восточного Православия. Великий долг и обязанности налагает эта милость Господня на современный греческий народ: охранить общеправославную и многонародную святыню, украсить и возвеличить это славное прибежище воинов Христовых, воинов всех языков православного мира. Ведь это – величайший и неиссякаемый источник сил и крепости всего православия.
Овеянный славой Афон создан подвигом всех православных народов и всем православным он принадлежит, как общая духовная крепость и удел Богородицы. И вот в это ответственное время – пред лицом Бога, людей и истории – греческое правительство безнаказанно творит дела насилий над негреческим монашеством Святой Горы, как бы стараясь развенчать и унизить красоту всеправославной свободы этого святого места. И уже почти уничтожило эту свободу – дар Промысла Божия. Чем дальше идет греческое правительство в своей близорукой, оскорбительной и разорительной для негреческих обителей Афона политики, тем большую ответственность оно принимает на себя и тем большей опасности в будущем себя подвергает. Маленькая – и зависимая от великих европейских государств – нынешняя Греция бессильна будет в тот исторический момент, когда соединенные православные народы станут против нее для защиты их общей святыни от насилий. И трудно будет тогда избежать праведного Божьего наказания и гнева оскорбляемых на Святой Горе негреческих народностей.
Своим несправедливым отношением к негреческим монастырям сами греки создали опасный соблазн повторения такого же отношения тех, к кому в будущем несомненно перейдет Афон из рук его безответственных теперешних распорядителей-греков, ибо истинным и единственным хозяином этого общеправославного святого места является только его Творец, создавший Афон на радость и служение всему православному стаду Господню.
Но все-таки, как же могло случиться, что греки решились на такую неправду, неблагодарность, беззаконие и забвение всего святого в отношении своих же единоверцев и щедрых всегдашних благодетелей, вековых защитников и покровителей? Для этого их соблазнительного поведения имеется много причин, но над всеми все же господствует и вызывает их тлетворный дух нашего времени – дух лжи, неправды, как бы приготовление к пришествию, во всем окружении современной техники и блеска цивилизации, князя мира сего, Антихриста. А этот дух и эта основная причина может быть расчленена на отдельные части:
1. Искусственно разжигается греческий шовинизм, переходящий в манию величия. Но греческая самонадеянность и самовлюбленность на наших глазах уж потерпела в 1923 году сокрушительный удар от возродившегося турецкого национализма. И тогда этот греческий шовинизм, потеряв всю огромную область Смирны и вызвав изгнание своих соотечественников из исторических мест их поселения в Малой Азии, со всей силой мести обрушился на беззащитных монахов Афона: для своих беженцев из Малой Азии греки отобрали от монахов Святой Горы все их земли и имения вне Афона, которые их кормили веками.
2. Высокомерие греческого национализма безмерно именно в отношении православных народов (Болгарии, Сербии и Румынии), ибо нет их вековой защитницы России, нет той великой православной силы, которая знала меру вещей и одно присутствие которой поставило бы греков на надлежащее место в вопросе соблюдения благочестия в Православной Церкви, хранителем которой были русские государи.
3. Благожелательный нейтралитет соблюдает Англиканская Церковь, столь влиятельная в Греции и этим своим замалчиванием вопиющих фактов покупающая признание англиканства в Греции. Но еще большим замалчиванием печальной деятельности греков на Святой Горе отличается высший орган «экуменического движения» – его так называемый Совет Церквей, в который, к сожалению, входят русские православные архипастыри и пастыри. И они не удосужились выступить в этом Совете Церквей в защиту славянских обителей на Афоне.
4. Мировая печать замалчивает гонения греков на Афоне: она инославна, безбожна, для нее священная ценность Афона не понятна и вся Святая Гора Афон – просто любопытный пережиток далекой старины.
5. Сохраняя свои добрые отношения с греческими властями, преступно молчат и те представители науки и знания, которые посещают Афон в целях изучения прошлого. А настоящее, по-видимому, не нарушает равновесия их исследовательного характера: черпая из сокровищницы прошлого, к охране этой сокровищницы они не чувствуют себя призванными.
6. Афон заброшен… С 1913 года его посетили только два православных Патриарха, За все это время боязливо и как-то незаметно Афон посетило несколько десятков (из многих сотен!) православных епископов, в большинстве случаев не получивших от греческих властей права совершать церковные богослужения и пребывавших на Святой Горе лишь в качестве богомольцев. И эти посещения не оставили никакого положительного следа и никак не отразились на печальной судьбе Афона. А казалось бы, что именно долг православной иерархии с большей заботой относиться к столь большому и значительному вопросу.
7. За несколько последних десятков лет на Афоне не было ни одного главы православного государства, было только три министра. Святую Гору посетили лишь греческие короли – и это высокое посещение невольно вызвало много радостных надежд у приниженного славянского монашества. Благожелательное отношение греческих монархов, испытавших на себе все непостоянство человеческой судьбы, должно было, казалось, принести благой плод. Однако ничего не изменилось; все осталось по старому… Даже, пожалуй, еще хуже, ибо и последняя надежда не оправдалась и утрачена! А между тем посещение Афона высокими православными иерархами, главами православных государств и видными государственными деятелями раскрыло бы пред их глазами нестерпимое и грозное положение величайших святынь их благочестивых народов и дало бы почувствовать греческой власти, что не только в интересах правды и справедливости, но и в интересах самой Греции – добровольно, пока не поздно! – нужно изменить недопустимые порядки в отношении негреческого монашества и возвратить Святой Горе Афон ее вековую свободу.
Афон беззащитен… А между тем он более чем когда-либо нуждается в защите и покровительстве. И потому люди, властью облеченные, обязаны поддержать эту многовековую гордость православия, эту еще неисчерпанную силу духа, этот живоносный источник великого будущего нашей Церкви. Афон в результате жестоких и бесправных распоряжений греческих властей угасает на наших глазах. А потому люди сильные и с властью, люди благонамеренные и разумные должны мужественно говорить о неправде и охранять вековые святыни Афона.
Славянство, да и весь православный мир, особенно в лице своих правителей и Патриархов, обязаны не только поддержать эту многовековую гордость православной Церкви и веру в ее великое будущее – эту еще неисчерпанную силу духа. Афон – это святая и непоколебимая сила, и необходим он именно в наш век общего шатания, безумия, безверия и порока. Афон свое историческое и духовное значение еще не завершил: он еще будет важен и произнесет свое вещее слово.
И вот, во имя этого немедля должно быть созвано совещание авторитетных представителей всех православных Церквей и правительств православных государств для объективного и всестороннего обсуждения вопроса о положении их общей святыни и создания условий нормальной жизни негреческих обителей и негреческого монашества на Афоне. Это совещание выработало бы особое Положение об управлении Афоном, которое охранило бы равные и законные права всех народностей, его испокон веков населяющих. Права греческого государства должны быть при этом строго согласованы с правами и традициями различных народностей обителей, которые ни в коем случае не являются собственностью греческого государства.
Окончательно вопрос об общеправославном Афоне, конечно, может быть решен только тогда, когда великая Россия вернется к прерванному своему историческому пути и призванию среди православного мира. А пока, до наступления этого часа, должно быть организовано общее всеми православными государствами «Положение о гражданском управлении Афоном» и которое, под беспристрастным международным контролем, обеспечило бы нарушенные и нарушаемые права негреческих народностей на Святой Горе. К этому взывают международные обязательства, принятые греками по Севрскому и Лозанскому трактатам, к этому зовет и долг православных народов по отношению к Святой Горе, которую Господь создал на утешение всему православному миру во имя святой Единосущной Троицы.
Да будет так…
* * *
В заключение следует напомнить о весьма знаменательном церковно-историческом факте. В 1965 году на Святой Горе Афонской состоялось торжественное празднование 1000-летия Афона.
Присутствовали два Патриарха и делегации православных церквей, были греческий король и престолонаследник. После официальных торжеств в древней Лавре Св. Афанасия состоялась братская беседа между Патриархами и главами православных делегаций. Свои мысли высказывали прежде всего Патриархи. И вот тогда Патриарх Болгарской Церкви святейший Кирилл, обращаясь к Вселенскому Патриарху Афиногору, сказал: «Господь взыщет с вас, а история вас осудит, если в ваше патриаршество (Святая Гора Афон находится в юрисдикции Вселенского Патриарха) угаснут славянские лампады на Святой Горе. Мне выпала исключительная честь быть переводчиком владыки Никодима, говорившего здесь от имени Московского Патриархата о русских и других славянских обителях на Святой Горе, о запустении их и желательности получить разрешение на приезд новых иноков из славянских стран, хотящих проходить свой монашеский подвиг в земном жребии Богоматери, и о необходимости создания всеправославной координационной комиссии для согласования действий святых братских поместных Церквей»[23]. Тогда же святейший Патриарх Афиногор пообещал просить греческие власти о доступе на Афон тех монахов, которые будут рекомендованы главами Церквей… Но вот с того времени прошло четыре года и никакого улучшения в этом вопросе так и не произошло!
В защиту русских обителей Афона
После второй Мировой войны, проживая в Швейцарии, я установил прерванную связь с афонскими старцами и стал получать вести о печальном положении русских обителей и их обезмонашении. А вскоре узнал из газет, что на осень того же года назначен созыв в Соединенных Штатах Америки Русского Церковного Собора. Тогда явилась у меня мысль привлечь внимание и авторитет этого Собора к вопросу о защите русских афонских обителей от притеснений со стороны греков.
Не откладывая своего намерения, составил я пространный меморандум Собору и отправил его в Америку на адрес председателя Предсоборной комиссии архиепископа Виталия. Этот мой меморандум от 28 сентября 1946 года был следующего содержания:
«Русскому Всеамериканскому Церковному Собору в Кливланде
Меморандум о спасении русских и славянских
обителей на Афоне и о спасении русских беженцев,
желающих послужить Церкви
Настоящая записка ставит своей целью обратить внимание Собора Свободной Русской Православной Церкви в Америке на опасность, угрожающую русским и вообще славянским православным обителям на Афоне: иноки вымирают, и смена им не допускается, как это имело место прежде; приток паломников и кандидатов в монашество прекратился из России и других православных стран, а также не допускается греческими властями из эмиграции. Нет надобности распространяться о причинах: войны, революции, гонения на Церковь, религиозный и политический кризис в мире, невозможность передвижения, трудности виз и разрешений достаточно это объясняют.
На Святой Горе Афонской прекрасные древние русские обители с их историческими храмами, с огромными корпусами для иноков и паломников пустуют; угодья, леса, виноградники, оливковые рощи, огороды и фруктовые сады не обрабатываются; мастерские и иконописные закрыты. Благотворительные учреждения УНРРА помогают вещами и продуктами, почитатели посылают деньги на свечи, масло и ладан. Необходимо, однако, дать себе отчет в том, что такая помощь вовсе не спасает и не обеспечивает существования векового афонского монашества. Деньги, вещи и продукты не спасают обители от умирания: необходима смена, необходимы работники, а не только материальные средства.
Создается парадоксальное положение: имеются естественные богатства цветущего Афона, полное оборудование для обработки, имеются все условия для жизни, прекрасные и обширные здания, храмы и библиотеки с замечательными историческими архивами; имеются тысячелетние традиции монастырского быта, работы, наук – и не имеется людей, чтобы пользоваться этими духовными и материальными благами и поддерживать священную традицию православия, идущую из древней Византии, через века русской церковной истории… Но еще больший парадокс состоит в том, что такие люди есть, и их много, что они жаждут духовного и физического отдыха, ищут спокойной работы и приюта, готовы идти к Церкви, которая встретила бы их с любовью, и готовы трудиться для нее.
То, что происходит сейчас в оккупированной Европе, – большое религиозное движение среди десятков тысяч русских беженцев, группирующихся вокруг свободной Зарубежной Церкви, – свидетельствует о том, что смену для афонского монашества найти очень легко, что она уже существует, необходимо лишь ее переправить на Святую Гору. И эта смена существует повсюду в Европе, во всех лагерях. И при этом вовсе не требуются одни только кандидаты в монашество: требуются вообще глубоко верующие православные люди, желающие и могущие помочь Церкви, способные работать на монастырском хозяйстве. Отбор таких людей должен производиться православными приходами: это должны быть одинокие мужчины, так как в силу вековой традиции женщины не допускаются на Афонский полуостров. Вопрос переправки, таким образом, является самым главным. В этом отношении Православная Свободная Русская Церковь в Америке может обратиться за помощью к Греческому Священному Синоду, к церкви Епископальной и Англиканской, к Вселенскому Патриарху (юрисдикция Афона) и к различным гуманитарным учреждениям, как-то: УНРРА, ООН, «Комитэ Экуменик пур ле Рефюжие» (Женева), Всемирный Совет Церквей и проч. Эти учреждения ищут теперь приюта для беженцев по всему свету и находят его с великим трудом и ограничениями в очень отдаленных странах, а на Афоне этот приют уже существует и ждет обитателей, столь ему необходимых, при этом такой приют, равного которому трудно найти в мире.
Дело идет, конечно, не только о русском Афоне, но об Афоне всех славянских православных церквей. Причем надо заметить, что каждая из славянских народностей на Святой Афонской Горе имеет свои собственные родные обители, ожидающие смены в ней своим глубоким старцам.
Христианские церкви и учреждения могут помочь добиться от соответствующих правительств – и прежде всего от греческого, на территории которого находится Афон, – облегчения в смысле разрешений виз и переправки. Необходимо лишь устранить тот странный факт, что во времена владычества Афоном иноверных турок туда было легче попасть, нежели теперь, в годы господства там православного правительства!.. Необходимо напомнить греческому правительству, что оно, в силу единства православной веры, в свое время дало благородное обещание «признавать и охранять традиционные права и свободы, которыми пользовались негреческие общины Горы Афона». И это обещание было оформлено юридически статьей Севрского договора от 18 августа 1920 года и подтверждено статьей 16 протокола Лозаннской конференции от 16 августа 1923 года. А то и другое, в свою очередь, подтверждало сохранение статьи 62 Берлинского трактата от 13 июня 1878 года, которая дословно гласит: «Монахи Святого Афона, из какой бы страны они ни происходили, сохраняют свои прежние выгоды и будут пользоваться без всякого изъятия равноправностью в правах и преимуществах».
Афон мог бы вместить несколько тысяч беженцев, принадлежащих к Русской, Сербской, Болгарской и Румынской Православным Церквам. Стоит только припомнить, что накануне Первой мировой войны, например, в русском монастыре Св. Пантелеимона было около 2000 монахов, а теперь там осталось около 70 угасающих старцев, в русском скиту Св. Андрея тогда же было до 900 монахов, а теперь осталось всего лишь 37 и т. д. Обезмонашились и многочисленные русские келлии. Быстро уменьшаются и тают еще так недавно многочисленные братства славянских обителей. А пропорционально уменьшению численности этих братств останавливаются и перестают существовать самые разнообразные трудовые иноческие начинания при наших славных обителях, поражавших ранее каждого пришельца своей плодоносностью и пользой.
Что же станется с нашими чудесными афонскими обителями в недалеком будущем, если Святому Провидению не будет угодно изменить их судеб к лучшему в самый кратчайший срок. Неужели русскому монашеству на Афоне вместе со всеми его подвигами и длинной блестящей историей вскоре суждено перейти в область преданий и перестать существовать вовсе? Но возможно ли это, допустимо ли это?.. Не требует ли такое положение вмешательства и защиты Русской Православной Церкви в Америке, за которой стоят сотни тысяч верующих?.. Не следует ли этот вопрос внести на рассмотрение предстоящего Всеамериканского Церковного Собора? При этом необходимо спешно хлопотать через американское правительство и его дипломатическое представительство в Афинах перед греческим правительством о разрешении религиозно настроенным русским беженцам из Европы переехать в свои родные обители на Святой Горе Афонской.
Это было бы духовным и физическим спасением для многих лиц. А вместе с тем это было бы и выполнением великой исторической миссии сохранения тысячелетней традиции православного русского благочестия, богословия, подвижничества, а равно древних памятников христианского искусства и письменности, сохраняющих связь православных славянских Церквей с религиозным и культурным наследием Византии.
Да поможет Пресвятая Владычица и Защитница Святой Горы Афона избежать невзгод и неизменно встречать в грядущем у подножия Ее Горы Святой наших и братских славянских служителей Духа, прославляющих Его имя вовеки веков!»
Вскоре я получил от владыки Виталия письмо, в котором он благодарил меня «за инициативу на пользу угнетаемому русскому Афону» и сообщал, что мой меморандум будет доложен Собору в первый же день.
После этого я поместил еще статью в нью-йоркской русской газете под заглавием: «Промедление смерти подобно»[24] следующего содержания:
«Можно сказать, что от древних времен Гора Афон имела свое предназначение явить миру всю красоту завета отречения от всего преходящего во имя царства Божия, которое внутри нас. На самой заре новой эры, почти две тысячи лет назад, Афон уже высился в своем молчании, ожидая обильной жертвы Богу сокрушенного человеческого духа.
Из поколения в поколение, из века в век иноческим служением светилась Гора Афон, и освятилась. Люди грешны, но земля стала святой. Таково было глубокое стремление многих из бывших там стать праведными. Пришли народы греческие со всех концов вселенского греческого мира. Свидетели благовествования евангелистов, они первыми прислали сюда и своих благочестивых потомков на подвиг аскезы и молитвы. Из далекой Иверийской страны пришли просвещенные проповедью и жертвенностью святой Нины, также услышав о месте тихом и благословенном. Пришли болгары и сербы с суровых соседних гор и благостных долин. Пришли и русы из страны гиперборейской… Пришли они все, как дети единого Отца, как посланцы пред Господом от своих народов, как молитвенники не только за своих, но и за всех людей. Шли не за богатством, не за славой, не за устройством своего земного благополучия – шли они во имя служения Богу путем тесных врат отречения от себя, от видимых радостей для постижения света Фаворского, данного немногим, но за многое…
Восточное православие есть православие греческое. Уже много позднее, когда Византия лежала под турецкой пятой, центр его переместился в Россию, в страну славянскую и стал славянским. А Гора Афон позже, в результате Балканской войны 1912–1913 годов, перешла под суверенную власть Греции. И само по себе это возлагает особую обязанность на единоверную греческую державу и ее Церковь.
Жизнь и мир остались теми же, только изменился взгляд на жизнь и на мир. Гордыня века сего обуяла и поразила разум человека. Все больше отходит он от путей Божиих и даже дерзновенно восстает против: он разоряет свои святыни и не видит, что на их святом месте вырастает знак приближения гибели всего человеческого благополучия. Духовный облик человека тускнеет, мутится его взор, и он тщетно ищет иных богов, забыв и не поверив, что нет никого иного «разве Мене».
В полосе этого временного умирания и разрушения оказался и вековой светильник православия Афон, поистине храм Бога Живого. Подорвано его материальное положение, обескровлен он духовно, ибо закрыт приток к нему новых сил. Велика жатва, но нет делателей; велик труд, и падают силы трудящихся. Святогорцы сейчас в своем подавляющем большинстве – люди старые и хилые: они едва снискивают пропитание, они не могут выполнять тяжелые работы, которые только и могут поддержать огромные обители. Вековые святыни разрушаются, замечательные книгохранилища и исторические архивы глохнут, славянские обители пустеют и разрушаются.
Афон – русский и вообще славянский – вымирает физически… А если он замрет теперь, то уже больше никогда и не восстановится.
Вместе же с ним погаснет и вековой светильник – и в неуютном мире станет еще холоднее, еще безрадостнее. А это будет одной из тех катастроф, которая ляжет тяжелым грузом на память и совесть людей.
Но этого не должно быть и да не будет!.. Православная Свободная Церковь в Америке должна и может приложить все усилия, дабы сберечь и охранить от окончательного угасания вековой Афон. Свой соборный голос она должна направить к греческому правительству с просьбой дать русским обителям на Афоне возможность свободно жить и развиваться, как это было во времена даже турок.
Что же нужно для спасения угасающих русских обителей на Афоне? Только две спасительные меры, и обе они зависят исключительно от доброй воли греческого правительства:
1. Русским обителям на Афоне должно быть возвращено право, которым они пользовались в течение тысячи лет, – право принимать кандидатов в монашеский чин. Этим откроется доступ многим работникам из эмиграции вступить на «смену» умирающим старцам. Возвращением этого скромного и векового, традицией освященного права Афон будет спасен от кризиса и умирания. Снова закипит там работа: в храмах, мастерских, в садах и огородах, и в тяжелом труде, совершаемом добровольным послушанием монашеской коммуны, вновь зацветет на нем трудовая монастырская жизнь молитвы и подвига – и возгорится великий светильник.
2. Должен быть открыт на Афон свободный доступ всем православным паломникам, как это и было в течение веков, вплоть до 1926 года. Нужно вернуть Афону благодетелей, а верующим вернуть то, что принадлежит им по праву и что отнято быть не должно, ибо Афон – святыня общеправославная.
Таким образом, первый и основной вопрос для спасения русских обителей на Афоне заключается в спешной отправке туда из эмиграции нескольких тысяч работников, желающих посвятить себя Церкви. А такие люди в изобилии имеются в беженских лагерях Европы. В то время как учреждения, их питающие (УНРРА и др.), по всему свету ищут приюта для них и находят его лишь в заокеанских странах, где русских беженцев ожидают совершенно новые условия жизни, климата, языка и проч. (при огромных затратах на транспорт и устроение), – в это же самое время на Афоне этот приют уже существует и ждет обитателей, столь ему необходимых. И при этом такой приют, равного которому теперь невозможно найти в мире.
На Афоне имеются естественные условия, полное оборудование для их обработки, имеются все условия для жизни, прекрасные и обширные здания, леса, сады и огороды, мастерские, благолепные храмы и библиотеки, имеется тысячелетняя традиция монастырского быта, работы и науки. Но нет людей, чтобы пользоваться этими духовными и материальными благами и поддерживать священную традицию, идущую из древней Византии, через века русской церковной истории.
Такое положение требует спешного вмешательства и защиты сильной и свободной Православной Церкви в Америке, за которой стоят крепкие приходы. Этот вопрос следует внести на рассмотрение предстоящего Всеамериканского Церковного Собора. При этом необходимо спешно хлопотать – через американское правительство и его дипломатических представителей в Афинах – перед единоверным греческим правительством о разрешении религиозно настроенным русским беженцам из Европы переехать в их родные обители на Святой Афонской Горе».
Вскоре в той же газете была помещена статья известного русского писателя Г. Д. Гребенщикова под заглавием «О переселении на Афон (по поводу статьи „Промедление смерти подобно“)», в которой он писал:
«Не могу не отозваться на прекрасную статью В. М. в «Новом русском слове» от 20 октября. В свою очередь, беру на себя смелость воззвать ко всем русским людям, имеющим чуткое сердце и способным мыслить логически и практически, а в особенности к тем из них, кто имеет влияние среди многочисленных церковных приходов и организаций молодежи в Америке.
Излишне описывать положение русских людей в Европе, оказавшихся между двух крайностей: либо умереть в нищете и покинутости, в унижении и изгнании без всяких человеческих прав, в лагерях Европы, либо покончить с собой перед страхом быть высланными на родину, из родной матери превратившуюся для них в жестокую мачеху. Не буду входить в политические и прочие причины положения. Наше дело проявить чувство простого человеческого милосердия и помочь хотя бы немногим из тех, кто еще молод, полон энергии для труда и надежды на справедливость Божью. Вопли, которые только частично доносятся до нас, не могут не терзать нашей совести. Мы должны что-то предпринять, и не откладывая, а немедленно. Не нужно новых организаций. Фонд им. Толстого, возглавляемый Александрой Львовной Толстой, для всех нас должен быть лучшей гарантией того, что надо сосредоточивать все силы и средства вокруг этого фонда. Но надо просить наших владык: епископов, архиепископов и главу их, митрополита Феофила, спешно организовать специальный подотдел при Толстовском фонде и – наряду с хлопотами о переселении беженцев из Европы в Америку, в Аргентину, в Бразилию, на Аляску и всюду, куда только возможно, – найти пути и меры к переселению хотя бы небольшой части русских беженцев на Афонские Горы.
Нам всем хорошо известно, как и грекам, что русские монастыри на Афоне представляют собой самые трудолюбивые, самые высокохристианские общины в Греции, что трудом и подвигом русского монашества там создано великое сокровище духовной культуры и что русское монашество там совершенно вымирает, работать некому и большинство монастырей приходит в упадок. Между тем среди русских беженцев в Европе найдутся тысячи желающих ехать на трудовой и подвижнический подвиг на Афон.
Для Русской Церкви в Америке, давно оторванной от аскетического монастырского бытия, будет полезно освежить и напитать засыхающие ветви живой и творческой благодатью подвижничества. Прямая связь и забота об афонских монастырях была бы лучшим источником такого освежения и обновления. Пусть старые и молодые русские американцы начнут паломничество на Афон. Пусть наша скромная, а еще лучше и щедрая лепта, пойдет на укрепление и восстановление чудесных афонских обителей. Но первое наше дело – немедленно использовать зло мира сего во благо. Тысячи несчастных бездомных, бесправных, обезличенных людей, оказавшихся в разоренной и затемненной Европе, будут счастливы найти прибежище на благодатных афонских высотах. Время не ждет. Надо действовать неотложно и напористо. Надо всеми способами спешить с организацией переселения хотя бы первой тысячи беженцев из Европы.
Я позволю себе сослаться на письма ко мне одного из авторитетных писателей по церковным вопросам В. А. Маевского, являющегося подлинным знатоком Афона, который он посетил четыре раза и хорошо изучил. Вот что пишет он:
„На территории нынешней Греции, в Халкидике, имеется огромный полуостров размерами 26 на 89 километров: Атос – Афон, который в течение уже почти 1400 лет является местожительством монашества всех православных национальностей. Издревле там находятся прославленные обители: греческие, русские, сербские, болгарские, румынские (были и грузинские – Ивер). Во время Византии создался и до наших дней сохранился устав самоуправления, представляющего собой своеобразную монашескую республику. Русские обители, созданные трудами и средствами русских скитников, в течение веков выросли в мощную трудовую колонию, располагая ныне огромными корпусами. Они собирали множество монахов, послушников и ежегодно принимали десятки тысяч паломников. Но с 1914 года, по политическим и военным причинам, на Афон прекратился приток паломников и кандидатов в монахи. Поэтому тамошние огромные обители с величественными храмами, ризницами, библиотеками, благоустроенными больницами, с прекрасным культурным хозяйством, мастерскими, садами, огородами, пасеками, рыбными ловлями и лесами – опустели и, благодаря отсутствию работников, приходят в полный упадок. И главное, опустошение наблюдается в русских монастырях, скитах и многочисленных келлиях. Так, например, русский Свято-Пантелеимоновский монастырь со своими цветущими скитами Фиваидой и Крумицей накануне Первой мировой войны имел в своих стенах около 2000 монахов, а теперь там обитает около 70 беспомощных старцев!.. В Свято-Андреевском скиту тогда же было до 800 монахов и послушников, а теперь осталось 37. В Свято-Ильинском скиту тоже было несколько сотен, а теперь… 34 и т. д.“
Необходимо срочно принять следующие меры для осуществления этого дела:
1. Американское духовенство и миряне должны поставить этот вопрос на разрешение Всеамериканского Церковного Собора, предстоящего в ноябре этого года.
2. Через американское правительство и его дипломатических представителей в Греции нужно добиваться в спешном порядке разрешения для группового въезда религиозно-настроенных русских беженцев из Европы в свои же родные русские обители на Афоне.
3. Просить нашего митрополита Феофила обратиться за моральной и материальной поддержкой в этом деле к Американской Епископальной Церкви, хорошо представленной в Греции, а также к греческим иерархам Америки.
4. Действуя в сотрудничестве с Толстовским фондом, организовать при нем особый подотдел об афонском переселении и направлять туда все средства и пожертвования; «обременить» греческих иерархов в Греции и в Америке просьбами, телеграммами, письмами и делегациями, как от духовенства, так равно и от организаций светских и от отдельных мирян. Главное же, нужно спешить, действовать организованно, достойно и не скупиться на жертвы. Толстовский фонд имеет уже налаженный аппарат организации, имеет авторитетные связи с правительством, и нет нужды разбиваться на части и тратить время на отдельную организацию. Ибо воистину – промедление смерти подобно.
5. Просить от имени американского духовного центра о содействии в смысле воззваний и статей в печати следующих лиц: Вл. Маевского, известного писателя Б. Зайцева и духовного писателя отца архимандрита Иоанна (Шаховского). Вл. Маевский мог бы быть и прекрасным докладчиком на Соборе, если бы была возможность его сюда выписать. И во всяком случае, он может быть представителем Америки в Европе по организации и отбору беженцев для переселения на Афон.
Особая настоятельная просьба ко всем отцам настоятелям американских православных приходов поддержать это дело путем проповедей и бесед с прихожанами, а главное – путем поддержки и голосования на Соборе.
Григорий Гребенщиков»
К сожалению, так и не удалось Русской Церкви в Зарубежье оказать помощь русским обителям на Афоне, по причинам непредвиденным. Как вскоре выяснилось, в первый же день Всеамериканского Собора хорошо сорганизовавшаяся большая группа делегатов-оппозиционеров внесла предложение о подчинении Московской Патриархии на «автономных началах». И одновременно потребовала – отложив другие вопросы – этот решить в первый же день. Это неожиданное предложение сразу же внесло большой раздор в среду делегатов и епископов. Закончилось все это прискорбным церковным разделением: большинство вынуждено было принять временно это предложение, а меньшинство – решительно его отвергло и вышло из состава прежнего церковного объединения. Таким образом, и на этот раз не удалось объединенными усилиями церковных людей оказать срочную помощь и защиту угасающим русским обителям на Афоне.
Но вопрос о сохранении и неприкосновенности русских обителей на Святой Горе, поддержание русской братии в них и о крайней необходимости пополнения ее новыми кандидатами монашества должен стать делом не только одной Церкви, а всех русских зарубежья. Этим мы, русские, в рассеянии по всему миру находящиеся, спасаем возможность воскресения и возрождения русской души в будущем.
Атеистическая власть держит под пятой русский народ и разрушила духовные центры православия, положив конец религиозному воспитанию. И поэтому мы, русские, теперь как нельзя более нуждаемся в сохранении того, что уцелело от разгрома безбожников. Русские монастыри, скиты и келлии на Афоне как раз и являются тем, что должно быть сохранено во что бы то ни стало, как один из светочей русского православия, в котором возникнет превеликая нужда, когда Россия освободится из под власти атеистического коммунизма и станет восстанавливать разрушенное.
Безуспешность предыдущих попыток помощи и защиты афонских обителей ни в коем случае не должна ослаблять энергии их почитателей. Вопрос о сохранении в целости и неприкосновенности находящихся на Афоне русских (и вообще славянских) обителей, поддержание там русских монахов, глубоких старцев, и пополнение их новой сменой – должен стать делом не только одной Церкви а всех русских зарубежья. Этим мы, в рассеянии по всему миру находящиеся, спасем возможность воскресения и возрождения русской души в будущем.
Задача эта – великая и ответственная. И чем больше людей будет привлечено к этому делу, тем лучше: тем оно скорее окажется настоятельным делом большинства русской эмиграции.
* * *
Прошло еще 15 лет, и в защиту русских обителей на Афоне выступил известный американский адвокат И. М. Цап, который обратился с «Меморандумом православным иерархам о Горе Афоне». Он писал 17 января 1961 года:
«Ваши Преосвященства, я признателен за предоставленную мне возможность обратиться с настоящим воззванием к епископам Святой Православной Кафолической Церкви, собравшимся на совещание в Сайоссете, Нью-Йорк. Я не вижу необходимости подчеркивать ни огромное значение Горы Афон для всего православия, ни ее историчность, ни тот факт, что она является фактически „сокровищницей православия“.
Вашим Преосвященствам известно, что немногие в наши дни ищут монашеской жизни. Те же, которые ищут, не должны быть отталкиваемы, особенно если таковые стремятся к далекому Афону. Напротив, следует таковых поддерживать и вдохновлять. В действительности все положение на Афоне полностью нуждается в нашей поддержке. Это в равной степени относится как к монастырям и скитам, стремящимся получить послушников из греческих православных общин, так и к тем монашеским обителям, к которым стремятся люди негреческого происхождения.
Все мы, несомненно, сходимся в мнении, что в данном случае нет места никакой дискриминации по национальному признаку. И все же дискриминация против лиц русского или славянского происхождения имела и имеет место. Я говорю об американцах, бельгийцах, французах и других, предками которых были славяне, или о тех, кто уже давно поселились вдали от своей родины. Святая Православная Церковь рискует унаследовать угасание Афона из-за дискриминации по отношению к лицам негреческого происхождения, как и из-за полного отсутствия поощрения по отношению к паломникам и кандидатам монашества.
В настоящее время нет смысла просто порицать тех, кто действовал против интересов Православной Церкви и Афона путем применения дискриминации. Единственно необходимым в настоящее время является внимание со стороны всех верующих и их участие в данном вопросе.
Если бы нам нужно было доказать, что Гора Афон не просто «греческий полуостров», мы просто могли бы указать на его долгое историческое прошлое, столь прекрасно известное Вашим Преосвященствам. На этой Святой Горе всегда были монахи, представляющие почти любую национальность, при единственном условии, что все они всегда должны быть православными. И даже сверх этого – международные договоры гарантировали неприкосновенность традиционных прав монастырей. […]
Эти торжественные заверения не могут быть обойдены только потому, что некоторые из наций, для которых предполагалась справедливость и традиционные права, больше не являются „мировыми державами“. Греческое правительство в православной стране приняло на себя эти гарантии, и греческие чиновники в настоящее время делают заверения, что они заинтересованы в сохранении афонских традиций. И, однако, они разрешают, даже поощряют, приезд большого числа туристов приезжать и беспокоить монахов, но не предпринимают никаких положительных шагов, чтобы заинтересовать новых послушников или помочь просителям поступить на Афон. Тысячи людей в Греции совершают паломничества на Афон, но только совсем незначительное число людей может приезжать на Афон в качестве паломников из негреческого мира. Правительство и Церковь должны искать поддержку для программы помощи паломникам.
Несомненным долгом правительства и административных возглавителей наших Православных Церквей Америки, представленных в Постоянном комитете, является (вне зависимости от созданных людьми договоров) необходимость принять положительные меры для гарантирования прав всех тех, кто являются православными, греками или не греками, и помочь сохранить Афон для паломников и монахов, приходящих туда из любого места.
Там, где монастыри стали просто привлекательными местами для туристов, монашеская жизнь разлагается. Мы не хотим, чтобы то же случилось и с Афоном, но я уже описал эти опасности в моем очерке „Огонь, динамит и трагедия“, экземпляр которого был получен Вашими Преосвященствами лично, задолго до настоящего доклада.
Все мы должны разделять те же интересы. Все должно происходить по указанному в декрете византийских императоров, в котором утверждались привилегии и права монахов и монастырей, „так что никто не должен нарушать покой этих православных монахов или входить во внутренние места на Афонской Горе“ (хрисовулл Василия I).
Если бы я смог присутствовать на совещании в Сайоссете, я мог бы представить, если потребуется, больше подробностей о том, чему мне удалось быть свидетелем во время моих паломничеств на Афон в течение последних десяти лет, как и некоторые детали, которые были доведены до моего сведения другими паломниками и многими монахами. Только на прошлой неделе, к примеру, я получил информацию относительно еще одного прошения, поданного американским резидентом русского происхождения, пролежавшее во Вселенском Патриархате без ответа с 1959 года! Его прошение было „принято“ одним из афонских скитов в порядке обычной монастырской традиции в начале 1959 года, и все его документы были оформлены к тому же времени. А визы все еще нет. Нет официального разрешения на въезд, хотя почти два года прошло с тех пор.
Не представляется ли совершенно ясным, что такое бездействие приводит к разочарованию? И к разочарованию не только этого просителя, который должен просто искать прибежища, но и других, кто слышит об этих длительных и расхолаживающих проволочках? Не обескураживает ли это также и афонских монахов, знающих о этих длительных процедурах, часто не приводящих ни к каким положительным результатам? И в то же время с сентября 1959 года туристам разрешался свободный доступ на Афон, а греческие подданные, как правило, допускаются туда без какого бы то ни было разрешения Министерства иностранных дел.
В качестве мирянина я дерзаю надеяться, что те, кто облечен авторитетом в нашей Церкви, примут срочные меры для улучшения положения на Афоне. Тогда мы сможем надеяться, что в грядущие столетия на этом святом месте будут монахи, продолжающие традицию молитвы и служения и предстательства за всех нас перед Престолом Божьим.
Испрашивая Вашего благословения, остаюсь Ваших Преосвященств
смиренный слуга Иван Михайлович Цап»
* * *Прошло шесть лет. Группа русских людей, возглавляемая архиепископом Леонтием, подала следующую петицию в Объединенные Нации:
«В наши дни, когда мир Объединенных Наций переполнен заботами о свободе вообще, о свободе вероисповедания, о соединении церквей, об Африке и Азии, о сохранении тех или иных исторических памятников, – об Афоне забыли. Об этом маленьком полуострове, вернее последнем таинственном острове XX века с величайшей в мире духовной вершиной, Святой Горой, забыли. О многовековом хранилище и сокровищнице с неоценимыми рукописями, бесчисленными реликвиями, старинными иконами неповторимого письма забыли. О первом и последнем на земле оплоте православия, строгих обрядов и абсолютной и поэтической религиозной чистоты – забыли.
Даже „Большая советская энциклопедия“ пишет: „В Афонских монастырях собрано более десяти тысяч греческих, славянских и других рукописей, большое количество грамот византийских императоров, сербских и русских монархов и т. д. Среди рукописей есть относящиеся к дохристианскому периоду, а также много редких рукописей более позднего периода. Собрания эти до сих пор мало обследованы и еще не описаны“.
Забыт Афон, и больше всего на Афоне забыты и покинуты русские монастыри, скиты и келлии, а с ними и сербские, и болгарские, и другие славянские, и не оттого ли в упадке и греческие монастыри?
Во всяком случае после Лозаннской конференции 1923 год об Афоне ни разу соборно – официально и международно – не вспомнили.
И на глазах всего мира пустеет и разрушается единственная и неповторимая за всю историю человечества монашеская республика. Еще византийский император Константин Пагонат (668–685) отдал полуостров в исключительное владение монахам. И это владение, с разрушительными перерывами (турецкие опустошения или погромы крестоносцев), длилось до Первой мировой войны.
Потом государственная эллинская печать была наложена на весь Афон, но особенно беззаконно – на негреческие монастыри.
Попробуем разобраться, кто же виноват в этом: весь мир Объединенных Наций или правительство Греции, между прочим единственной православной страны на Западе?
В Лозанне было постановлено: „Греция обязуется признать и сохранить в силе традиционные права и ту свободу, которой пользуются негреческие монастыри общины Святой Горы Афонской“.
В том же духе были и решения других конференций: в Сан Стефано, 19.02.1878; Берлинский трактат, 13.08.1878; по Бухарестскому международному статуту, все заинтересованные в Афоне славянские страны должны были учредить на полуострове свою полицию. Первая война помешала этому. О второй и говорить нечего. Но в промежутке между ними, в 1926 году, греческое правительство, не считаясь ни с какими договорами и статутами, „огречило“ всех монахов-негреков и объявило Святую Гору с ее веками свободной монашеской республикой – греческой территорией. В этом ставшая на ноги Греция пошла по еще не остывшим следам турок, которые отуречивали всех без разбора. Но они, держа всех в страхе, сами имели страх Божий, мистическое уважение к чужой вере, к монастырям и монахам, конечно за исключением тех случаев, когда подавляли греческие восстания, тогда сметались и монастыри.
Огречили и русских монахов. Что их спрашивать, когда за ними нет России – заступницы?
Сделав первый беззаконный и безнаказанный шаг, Греция пошла дальше. Она закрыла доступ на Афон русским монахам. Афонские монахи старели, вымирали, их хоронили по восточному обряду и забывали, а имущество их переходило к греческим монастырям.
Вот целый монашеский город-порт, русский (с XIII века) Пантелеимоновский монастырь. Огромное здание смотрит на туристов мертвыми окнами. Это бывшая гостиница. Она сгорела по неосторожности самих полицейских. Святые ворота, все в трещинах и облуплинах, похожи на сломанную сургучовую печать – печать несправедливости и ущерба. Монашеский город с двадцатью церквами кажется мертвым. И только высокая колокольня, с самым большим во всей Греции колоколом, царит надо всем этим миром заброшенности и печали.
Монастырь еще стоит, как вековой дуб. Рубит его время, спадают со старческих плеч драгоценные одежды. И настоятель, отец архимандрит Илия, повелитель сорока монахов (а когда-то их было около двух тысяч), еще показывает редким посетителям библиотеку с пятнадцатью тысячами томов, да госпиталь для последних могикан-монахов.
А в другом монастыре, Свято-Андреевском, двадцать пять тысяч книг сгорели. Покрыты пылью и паутиной станки и наборные кассы большой, в свое время оборудованной по последнему слову техники типографии. А теперь будто некому за нее замолвить словечко. Греки называют этот гигантский собор „сераем“, т. е. дворцом.
А в третьем монастыре, Свято-Ильинском, теперь „осталось всего лишь четыре старца под восемьдесят лет и старше, – как пишет в письме к писателю А. Дарову настоятель архимандрит Николай. – В таком положении мы не можем долго просуществовать…“
Три богатыря-монастыря покин у ты Россией и всем миром, а ведь каждый из них мог бы быть украшением любой столицы мира…
Над административным центром Афона Кареей сияют куполки русских обителей. Но когда к ним приблизишься, от их трогательной красоты веет могильным запустением. К иным подворьям даже не знаешь, как подойти, с какой стороны войти, и есть ли там хоть один живой человек. Правда есть: четыре монаха на три обители. Это они возделывают грядки и виноградники. Они же денно и нощно молятся за весь мир, о них забывший.
Для удобства туристов в подземных галереях Колизея и римских катакомбах установлено центральное отопление. А монахи Афона мерзнут сырыми зимами, купола церквей протекают, и плесневеет роспись „плачущих“ стен. Колонны, подпирающие величественные своды, потрескались и крошатся у оснований. Все здания протекают, крошатся, рушатся – и кажется, никому до этого нет никакого дела.
Десятки гранитно-мраморных соборов, полных бесценных музейных и духовных богатств, стоят в глуши, в отрешенном от мира одиночестве-иночестве, даже колесных дорог к ним нет, только ослиные тропы.
Это наземные катакомбы равнодушного нашего XX века!
Но есть Божий суд, возможен и справедливый суд людской.
И напрасно греческое правительство так самоуверенно в своих действиях: если в предвидении их были конференции, то вполне возможна еще одна конференция – по причине нарушения постановлений предыдущих.
Правда какое-то безбожно запоздалое движение произошло: недавно, после тридцатилетнего запрета, врата Афона приоткрылись для монахов-негреков. Но сколько поставлено рогаток… Пройти их не смогли бы даже такие отцы церкви, как Василий Великий, как не православный от рождения, и апостол Павел.
Теперь монашеская республика признается только в одном отношении: попасть на Афон даже простым туристом не так просто – нужна отдельная виза от Министерства иностранных дел. Православные ждут ее месяцами, а священнослужители никак не могут добиться. Так случилось с архиепископом Чилийским Леонтием. Ему пришлось нанимать моторную лодку и высаживаться тайно на берегу одного из греческих монастырей.
Вообще все туристы обязаны сходить только в одном порту – в Дафни, и встречают их прежде всего жандармы. Потом их встречают ослики, бездорожье, нищета и разоренье.
Весь мир облетело сообщение о том, что четыре монаха из СССР приехали жить на Афон. Им – разрешили. Какое чудо. Но это чудо не спасет Афон.
Что же делать? Неужели и дальше спокойно взирать на то, как рушатся монастырские стены, горят дома и книги, падают и калечатся на прогнивших ступенях беспомощные старики-монахи?
Не может быть, чтобы у них не нашлось заступников на земле! Для всех верующих православных Афон есть земной жребий Божьей Матери, о котором Она Сама благоизволила изречь, что он будет существовать „до скончания века“…
Кто бы и как бы ни относился к этому, но, казалось бы, скорбь и упадок Афона, его беззащитность и сама молитвенная тишина могут тронуть любое, даже самое черствое сердце.
Мы понимаем, что Греция – бедная страна, ей, может быть, не до Афона, – вот и пусть займется им Организация Объединенных Наций, ей это будет вполне под силу.
Афон должен быть под опекой и защитой международной организации.
Иначе это хорошо не кончится. Уже глядят на нас пустыми глазницами афонские окна и чернеют обгоревшие воздетые к небу развалины.
Леонтий, архиепископ Чилийский и Перуанский, А. Даров, И. Елагин, И. Ланской, Г. Месняев»
В заключение нельзя обойти молчанием интересную статью «Греки и мы» С. Ивановского, который со скорбью описывал трагическое положение русских обителей на Афоне, где он побывал всего три года тому назад (в 1966 году). В своей статье он, между прочим, писал: «Через 5–7 лет русский Афон исчезнет. Останутся только единицы… Из 87 келлий, в которых до революции проживало иногда больше ста человек, осталось только девять. […] Прежде всего сказывается дух времени. Однако на Афоне к этому прибавляются искусственные трудности, созданные греческим правительством. Хотя по международным договорам это правительство обязалось не чинить препятствий к поступлению на Афон инокам других национальностей, на самом деле создаются непреодолимые препятствия. Одной из причин является также недооценка, непонимание, а может быть, умышленное нежелание пустить русских на Афон со стороны Вселенского Патриарха. И, наконец, причиной мешающей пополнению Афона является недооценка его со стороны наших русских зарубежных юрисдикций. Хочется надеяться, что наши зарубежные юрисдикции наконец поймут нужды и значение Афона. Нужна также организованная акция зарубежной общественности в отношении греческого правительства и Вселенского Патриарха. Надо предпринять решительные шаги перед Объединенными Нациями и прочими международными организациями и перед самим греческим правительством, дабы были отменены нецерковные предписания. Чтобы доступ иноков на Афон был облегчен»[25].
ПРИЛОЖЕНИЯ[26]
Чудесное предание
Сотворилось это чудесное событие тогда, как гласит предание, когда вознесшийся во славе с горы Елеонской Спаситель мира уже занимал Свое место одесную Отца Бога… Только Пречистая Богородица оставалась на земле, окруженная святыми апостолами, продолжавшими жить в Иудее.
И пронеслось первое лето, наступившее вслед за всем тем (Великим и Светлым, что совершилось и на Голгофе, и в Иерусалиме). Подошла осень. И задумались двенадцать апостолов, видя, как стремительно протекает земное время.
– Возможно, ли нам медлить дальше? – говорили они. – Неугасим огонь Христова учения в сердцах наших. Но для того ли Иисус, распятый, и учил нас, и страдал на Кресте, чтобы мы оставались без дела в Иудее, а не шли бы во все стороны проповедовать Слово Божье?
И сказав это, направились святые апостолы к самой Богоматери и, поклонившись до земли, просили Ее принять участие в общем совете.
– Прости нас, Владычица! – сказал Матери Божьей апостол Петр. – Но нужно всем нам спешить в путь, дабы не оставлять в неведении людей иных стран, еще не ведающих ничего о твоем Пресвятом Сыне! Благослови нас на дальнюю и трудную дорогу… Мы пойдем во все страны земли, дабы просвещать мир силой нашего слова.
Поклонилась в свою очередь Богоматерь апостолам и сказала:
– Истину говоришь, Петр! Пора нам всем идти по свету, оповещая людей о Слове Моего Сына… Нельзя и Мне оставаться здесь. А потому и я пойду туда, куда укажет воля Того, Чье учение мы понесем с собою.
В ответ Богородице опять поклонились апостолы и вместе с Ней решили бросить жребий: кому и куда идти для Божественной проповеди.
Понаделали дощечек с надписями и, накрыв их хитоном апостола Петра, стали брать из-под него дощечки одну за другой… Протянула руку Богоматерь и вынула свой жребий.
«Иверия», – прочли на дощечке апостолы.
– Дальний путь предстоит Тебе, Пречистая Матерь! Земля эта лежит среди трудно проходимых гор и стремительных горных потоков, и люди, ее населяющее, живут набегами и войной… Трудно будет Тебе, Владычица, проповедовать среди них учение Твоего Сына и Господа нашего!
– Таков мой жребий – сказала Богородица. – Так, видимо, желает Он, Мой Пресветлый Сын, вознесшийся на Небеса… И не взойдет два раза солнце, как я уйду в Иверию!
Но не пришлось Владычице отправиться в далекие Кавказские горы. В ту же ночь снова явился к Матери Божьей Архангел Гавриил, более тридцати лет назад впервые представший перед скромнейшей Пречистой Девой с великой и благой вестью.
– Будь благословенна, Божественная Матерь! – произнес Архангел. – Но не трудись направлять Свои стопы туда, куда указал Тебе вынутый жребий… Далекая Иверия просветится Словом Божьим в свое время и без Твоих забот. А Тебе, Пречистая, будет дана другая страна и удел… Так желает Твой возлюбленный Сын на Небе… Такова Его воля!
– Какая же это страна? – спросила Архангела Богородица.
– Неведома она и мне, Владычица! Познаешь ее, когда Твоя нога ступит на берег ее.
И улетел Архангел от Божьей Матери в селения небесные.
Жил в эти времена на острове Кипре благочестивый епископ Лазарь, впоследствии причисленный к лику Божьих святых. И весь народ, населявший Кипр, хорошо знал, что был не простым человеком этот епископ, а таким, подобного которому нельзя было найти и среди миллионов смертных, населявших землю. Ибо не было среди них такого смертного человека, какой успел бы познать смерть после жизни и после смерти вновь возвратиться в жизнь. А епископ Лазарь из Вифании был именно таким человеком, ибо в прошлом его воскресил из мертвых Сам Господь Иисус Христос после четырехдневного пребывания в гробу.
И редкий из жителей Кипра не уверовал в учение Спасителя мира, преподанное впоследствии воскресшим Лазарем, который был высокопочитаем на острове, и как епископ и как удивительный подвижник Божий.
Неизменно была наполнена тихим светом любви и благодарности к своему Великому Учителю душа епископа Лазаря. Хорошо и радостно жилось ему на острове Кипре.
Но была у епископа одна великая забота, одна тоскливая мысль, не дававшая ему покоя, несмотря на все молитвы. Этой заботой являлось стремление хотя бы еще только один раз в жизни повидаться и побеседовать с Пречистой Матерью его Пресветлого Учителя, давшей епископу обещание посетить его на Кипре, если это окажется возможным.
– Кипр отделен от Палестины морем, – сказала Лазарю при прощании Владычица. – Будет корабль, приплыву к тебе, Лазарь!
И пришло время, когда смог епископ, пользовавшийся любовью своих учеников, послать от Кипра к палестинским берегам новый, крепкий корабль за Богоматерью! И узнала о его прибытии к палестинскому берегу Богородица на следующее утро после метания жребия и явления Ей Архангела Гавриила… Вместе со святым апостолом Иоанном села Она на присланный корабль и двинулась в дальний путь по морским просторам.
Но когда корабль с Богородицей вышел в открытое море, поднялась сильная буря. И хрупкое деревянное судно со снастями, поломанными ветром, долгое время носилось по суровым волнам, готовое ежеминутно погибнуть.
Но такой конец не был сужден слабой ладье, принявшей на свой борт Пречистую Матерь Сына Божьего… При свете восходящего солнца буйные волны прибили полуразбитый корабль к какой-то неизвестной стране, с первых же мгновений поразившей взор усталых морских путников своей необыкновенной красотой.
Высокая, упиравшаяся своей вершиной в облака невиданная гора уходила к голубому, южному небу. А вся поверхность этой горы: ее склоны и долины – были покрыты прекрасными вековыми деревьями самой различной и причудливой формы. Густолиственные, поднимавшиеся до небес кедры, украшенные вьющимися по их стволам цветами омелы, капризные певги, стройные кипарисы, тенистые платаны, черные тополи, плакучие ивы, громадные каштаны, маслины, миртовые, миндальные, апельсиновые и лимонные деревья – все это чудесно благоухало и как бы радовалось своему существованию под солнцем, сотворенным Богом.
Посмотрела Божья Матерь на всю эту прелесть, залюбовалась ее красотой и обратилась к апостолу Иоанну:
– Что это за великолепный край перед нами и что за люди обитают среди этих роскошных рощ и цветов омелы?
– Не знаю, Владычица! – ответил апостол, пытливо всматриваясь вдаль. – Но вижу, что живущие здесь люди еще бродят среди адской тьмы и обольщены злыми учениями, мешающими им приблизиться к царству Вечного Света…
И протянув руку, святой апостол указал Богородице на ряды каких-то каменных изваяний, расставленных среди прибрежных кипарисовых рощ. Это были идолы служителей Аполлона, в числе многих тысяч населявших прекрасный уголок этой южной земли.
Низко опустила свою голову опечаленная Мать Сына Божьего.
– Что делать? – с грустью сказала она. – Нелегкий удел достался нам… Но что бы ни ожидало нас в этих местах, мы должны оставить корабль и идти к заблудшим, дабы поведать обо всем – скорбном и чудесном, – что совершилось на Голгофе.
И смело сойдя с полуразбитого судна, Пресвятая Дева легко ступила на золотой песок неведомого берега.
Но едва ступила Она на берег, совершилось неслыханное и невиданное чудо, наполнившее трепетом даже сердца старых матросов корабля Богородицы, упавших в ужасе у ног Ее. Нежданным грозным гулом неслыханных голосов наполнился воздух чудесного полуострова. И ясно видели тогда сбегавшиеся со всех сторон жители, как открывались и закрывались уста каменных идолов, чудесно оживших и испускавших вопль:
– Люди, обольщенные Аполлоном! – возглашали изваяния. – Идите на Климентову пристань и примите Марию, Матерь Великого Бога Иисуса!
И народ все бежал и бежал на этот каменный зов…
Кроткая, тихая и прекрасная, как вечная жизнь праведника, стояла на береговом песке Богоматерь… И весь народ благоухающего полуострова пал перед Ней на колени и поклонился Ей и уверовал в Иисуса Христа Распятого и Воскресшего.
И благословила Богоматерь всех, склонившихся перед Ней язычников.
– Благодать Сына Моего да пребудет на месте сем! – сказала Она. – И не оскудеет милость Сына Моего на месте сем до скончания века!.. А я буду горячей ходатайницей о месте сем пред Сыном Моим…
И утвердилась с тех пор на полуострове том истинная Христова вера – вера православная. И один за другим вырастали на нем храмы православных подвижников и молитвенников Божьих.
Далеко понеслась по свету тихая слава о чудесном крае, просвещенном Христовой Истиной Самою Ею – Пречистой Матерью… И познал весь мир, что имя тому краю Афон, или, по-гречески, Athos.
А Матерь Божья, оставив афонскому народу апостольского мужа для укрепления и наставления в вере, вскоре уплыла на Кипр для встречи и беседы с Лазарем Четырехдневным, с великой радостью встретившим Пречистую гостью.
Святая гора Афон
В числе святых мест Ближнего Востока, привлекающих к себе взоры всего христианского мира и до недавнего времени служивших целью благочестивого паломничества, Святая Гора занимает особое исключительное положение. Больше тысячи лет она является главным приютом православного греко-славянского монашества. А последнее во все время своего здесь существования стояло на высоте иноческих идеалов и служило образцом истинной религиозно-созерцательной жизни.
Здесь находили себе тихое пристанище все те, кои стремились путем молитвы и поста вдали от мира и его прелестей достигнуть высокого нравственного совершенства. Здесь успокаивались мирские страсти, забывались невзгоды и бедствия бурной политической и общественной жизни. Здесь царило полное духовное довольство при скудости внешней обстановки, непрерывно совершались высокие аскетические подвиги, возгревалась истинная любовь к Богу и ближним.
Оставаясь всегда верными заветам и преданиям древних христианских аскетов и пустынножителей, афонские иноки были строгими ревнителями учения православной церкви и просвещенными его защитниками. Их принципом при этом было строгое соблюдение христианских догматов и канонов.
Всякий раз, когда церкви угрожали ложные и гибельные учения, афонские монахи смело выступали на борьбу с ними и энергично защищали чистоту церковных истин. И свой обличительный голос они поднимали даже против византийских императоров.
Затем, Афон всегда был очагом просвещения… Многие из святогорских монахов достигали замечательных успехов в научных своих занятиях и ознаменовали себя выдающимися учено-литературными трудами в различных областях знания. У них в обычае было учреждать при монастырях школы для приготовления клириков из среды иноков, а также устраивать библиотеки.
И ныне на Афоне сохранились богатейшие собрания греческих и славянских рукописей и книг, привлекающие к себе внимание ученых всего мира. Эти библиотеки собирались в течение веков трудами самих иноков, которые считали переписку рукописей делом благочестивым.
Афонские библиотеки имели громадное просветительное значение не только для греков, но и для славян, в частности и для нас русских. Отсюда именно, чрез посредство славянских обителей, наши предки черпали свои познания по вопросам религиозно-нравственным, историческим, философским. Здесь именно скрывался тот кладезь духовной мудрости, которую наше отечество получило в наследие от византийских греков.
Далее, Афон всегда был строгим хранителем церковно-богослужебного устава и ревностным его исполнителем. И здесь, в обителях греческих и русских, ныне церковный устав является главным основоположением всей жизни, которая всецело и регулируется, в зависимости от литургических и обрядовых его предписаний.
Кроме того, единством духовных целей Афон издревле роднил все племена и соединял в одну общину представителей разных народностей. Все стремились на Святой Горе к одной лишь цели – вечному спасению. Для всех Афон был самой высшей школой православно-христианского подвижничества. Это был монашеский рай, место святое, дом Божий и Врата Небесные.
Чудесны и храмы в святогорских обителях!.. Чудесны не только как вековые святыни, но весьма интересны они в архитектурном и художественно-иконописном отношениях. Афонская живопись, иконы, фрески, мозаика, древняя утварь и проч. служат предметом весьма тщательного исследования со стороны не только православных, но и многочисленных инославных ученых. На Святую Гору Афон предпринимаются целые экспедиции и командируются ученые комиссии для тщательного изучения афонской живописи, исторически выработавшейся в особый стиль и вылившейся в своеобразные формы (Панселин).
Наконец, афонские монахи всегда чутко прислушивались и к несчастиям внешнего мира: всякий раз, когда Православному Востоку угрожали те или иные бедствия, они шли к нему на помощь. Щедро благотворили бедным и неимущим во время голода или после нашествия врагов, снабжали греков деньгами на устройство школ, церквей, благотворительных учреждений и т. п.
Таким образом, с полным правом можно сказать, что Святая Гора Афон в течение ряда веков является центральным очагом религиозно-созерцательной жизни Православного Востока, главной школой аскетических подвигов для всего православного мира. Она является ревностным хранителем церковного предания и христианского просвещения, необоримой твердыней православия и замечательным культурно-историческим памятником – Горой Святой, по преимуществу.
Таково историческое значение Афона.
Тихий небесный свет
Многие сотни лет обитали на Афоне тысячи православных иноков-отшельников. Продолжают они там обитать и поныне, несмотря на многие внешние причины, в значительной степени ухудшившие положение этого многовекового монашеского царства.
За продолжительное время существования этого царства радости Божией сложился и особый, весьма выразительный и в то же время истинно достойный тип афонского монаха. И этот тип заметно отличается от православных иноков всех других, внеафонских обитателей, хотя бы и самых безупречных в своем благочестии.
Прежде всего, всем афонским монахам присуща какая-то необыкновенная жизнерадостность, соединенная с неизменным радушием и любезностью. И когда мне пришлось ознакомиться с длинным рядом этих милых и навсегда оставшихся в моей памяти людей, то я под конец задумался над вопросом: каким способом учатся они на Афоне радушию и любезности, откуда черпают они свою неизменную жизнерадостность, столь дорогую для каждого их собеседника-мирянина, приходящего весьма часто к ним с усталой и разбитой душой?
И совсем случайно на этот тайно промелькнувший в моей голове вопрос просто и открыто ответил один из старых афонских иноков, беседовавший со мной в Андреевском скиту. «Весь Афон – царствие радости Божией! – сказал он. – Сама Богоматерь разбросала по нему эту радость с высоты небесной. Вот она и цветет теперь повсюду вечным цветом… Радость Божья здесь кругом: и в горах, и в ущельях, и на прекрасных полях, возделываемых братией. Куда не направишь взор, всё вечно цветет, красуется и радуется… Как же не стать здесь и самому человеку вечно радостным, если он живет праведно?.. Пробудет монах на Афоне год, два, десять лет и впитает в себя Божью радость от природы, а потом уже и ходит всю жизнь с ней в сердце. Иначе и быть не может!.. А у кого Божья радость в сердце, разве может он быть злобным и неприветливым с другим человеком?.. Вот и вся наша афонская школа для общения с людьми».
Этого объяснения, простодушно данного старым иноком, было для меня вполне достаточно, чтобы уразуметь причину замечательной жизнерадостности афонских насельников.
Но нельзя, по справедливости не отметить и еще одной положительной черты, свойственной афонитам. Все они отличаются исключительной ясностью ума и высокой духовной настроенностью. Хотя серьезно занимающихся науками, ученых монахов и немного на Афоне, зато под конец жизни почти каждый отшельник-старец может быть почтен за настоящего мудреца, снабженного целой сокровищницей самых удивительных знаний.
Мы живем в такие времена, когда большинству культурных людей самое определение «святой» или «подвижник Божий» не только кажется ненужным и странным, но иногда попросту и смешным, не заслуживающим серьезного внимания. Тем не менее, несмотря на всю жестокость нашего материалистического времени, среди множества мирских людей все же найдутся такие, которых вполне определенно заинтересует вопрос: существуют ли на современном Афоне настоящие, выдающиеся подвижники Божии, существуют ли там люди, действительно дошедшие до грани настоящей христианской святости, одна встреча с которыми могла бы изменить к лучшему все течение жизни погрязшего в мирской суете человека? Существуют ли там такие иноки, от которых уже определенно излучается тихий небесный свет и сила Божья? На такие вопросы с чистой совестью можно ответить только утвердительно.
Да, конечно, такие люди на Афоне существуют! Только найти их и приблизиться к ним для беседы и наставления не так легко, как это могло бы иметь место при встрече с другими людьми, тоже носящими монашеское платье и попадающимися на нашем пути при житейской обстановке в разных частях света. Истинные святогорские подвижники очень скромны, уединенны и очень далеки от мира вместе со своими подвигами. Они старательно скрываются от того же мира по своим келлиям и пустынькам, заброшенным каливам и уединенным пещерам. А потому духовные достижения их остаются зачастую неизвестными даже ближайшим обитателям и другим монахам.
Отличающихся особо строгой жизнью старцев на Афоне достаточно и теперь. Существуют и поныне в уединенных уголках Святой Горы великие подвижники, большую часть суток проводящие в молитве и крайне редко выходящие из своих отдаленных убежищ. Они покидают их только для того, чтобы повидать своего духовника и приобщиться Святых Таинств.
Такие афонские пустынники и теперь целыми годами ведут строго аскетический образ жизни. Даже сухари и хлеб для таких отшельников являются пищей непостоянной, которую могут они получать только во время своих посещений ближайших монастырей, когда отправляются для причастия. Кроме того, такого рода «хлебные запасы» у обитателей отдельных калив не могут, конечно, быть и обильными, уже по одной той причине, что нести на своих старческих плечах в горы большие тяжести одинокому отшельнику представляется просто непосильным.
Но вопросы питания своего тела меньше всего интересуют не только отшельников, но и вообще всех афонских иноков. Уже с первых дней своего пребывания на Святой Горе каждый ее монах твердо усваивает главную афонскую заповедь: все – для возвышения духа и молитвы, и ничего – для услаждения и укрепления своего телесного естества…
Пандократор
Стояло раннее утро и облака, белые, как молоко, залегли между курчавых гряд святогорских предгорий. Они шевелились там, ползли и теснились, как проснувшиеся стада овец, раздвигали и задвигали свои туманные завесы, в прорези которых сверкали алмазы и выглядывала таинственная голова далекого и седого великана – вершины Афона.
В это чудное утро в обществе благостного иеромонаха отца Николая спускался я по крутой тропинке к морю. Круто, зигзагами среди густых зарослей сбегала она все ниже и ниже. Но вот и оно – лазурное море, пенящимися волнами забегающее в узкий рукав залива, над которым замер древний и с виду совершенно пустынный греческий монастырь Пандократор… Высокий утес, омываемый с двух сторон морем, и четырехугольная стена с высокими бойницами, выросшими здесь еще в глубине веков.
Воздвигали эти стены и башни в XIII и XIV веках блестящие царьградские сановники и воины, Алексей и Иоанн Комнены – стратопедарх и примикирий. Алексей Комнен был горячим и самоотверженным защитником византийской независимости и во главе своих солдат освободил в XIII веке Константинополь от власти латинян. В память этой победы он и постановил основать греческий монастырь-крепость на Афоне, дав ему при закладе наименование «Пандократор», что значит по-гречески «Вседержитель». Было время, когда греческий Пандократор сиял своим благолепием на весь Афон и славился богатством украшения своих храмов далеко за пределами этого славного монашеского царства. Но исторические осложнения и столкновения народов неоднократно заставляли Пандократор переживать самые жестокие невзгоды и лишаться своих ценнейших богатств и украшений. А одной из таких замечательных драгоценностей монастыря является и поныне знаменитая чудотворная икона Матери Божьей «Геронтиссы», с которой связано множество трогательных преданий и чудесных легенд.
«Геронтисса» по-гречески значит «старица», женщина, прожившая свой век и окруженная, благодаря своей старости, особым почитанием людей юных и неопытных.
Нам известно, что Матерь Божья после Голгофского чуда и последовавшего за ним Вознесения Своего Божественного Сына прожила на земле еще длинный ряд лет. Следовательно, перед своим успением она достигла подлинного возраста старицы в отношении своего вида внешнего, физического. Вот такой старицей, или геронтиссой, и изобразил в глубине веков Богоматерь неизвестный греческий художник, принадлежавший, несомненно, к наиболее выдающимся представителям византийского искусства своего времени.
Матерь Божья «Старица» изображена во весь рост без младенца в руках.
– От этой иконы силою Самой Царицы Небесной не раз совершались чудесные события! – благоговейным шепотом сообщил мне русский проводник-монах, когда я прикладывался в исполненном тишины храме к знаменитому чудотворному образу. – А сама икона-то, почитай, сто лет пролежала в колодце, в воде и ничего: все краски целы… Об этом немало и в книгах написано.
Мой инок-проводник не ошибался.
В истории Святой Горы и ее насельников неоднократно упоминается о чудесных проявлениях силы и власти Божьей, отмечавших исключительную святость иконы Богаматери «Геронтиссы». Когда опустошавшие Византию сарацины напали на Пандократорский монастырь и стали его грабить, то, прельщенные богатством ризы иконы «Геронтиссы», они сорвали эту ризу, а саму икону бросили в колодец. Совершив это святотатство, разбойники двинулись в дальнейший путь по греческим землям для новых грабежей и разбоев. Но последних им совершить уже не удалось: все мусульмане-сарацины, принимавшие участие в кощунственном поступке над христианской святыней, были поражены в дороге слепотой. В этом они сами признали кару Божью за свои богопротивные действия.
И в рубищах слепцов-нищих, отстав от своего войска, побрели злосчастные сарацины-святотатцы в свои края, повсюду по пути среди христиан Византии распространяя весть о случившемся. А когда прошли времена жестоких войн и пандократорские иноки снова возвратились в свой разрушенный монастырь, они нашли чудотворную икону в колодце невредимой, несмотря на долгие годы ее пребывания в воде.
Икона Богоматери «Геронтиссы» – икона благочестивых старцев. И в особенности, благочестивых старцев больных, немощных, умирающих. В течение столетий она неоднократно изъявляла свою особенную попечительность о таковых. А потому не один старый инок Афона, готовясь к переходу через заветный смертный рубеж, обращал свои мысли к небесному покровительству пандократорской Владычицы.
– Однажды было так, что Матерь Божья Сама явилась очередному монаху во время литургии, – рассказывал мне проводник. – Монах был самый обыкновенный, служил в порядке монастырского послушания, и вдруг видит: засияло все в храме и сходит с иконы Сама Богоматерь Старица… «Поспеши с окончанием Службы и иди с дарами к старцу, что готов испустить душу в братском корпусе. Торопись!» – молвит Богоматерь. Поразился смиренный иеромонах, закончил обедню, но старца успел все же причастить перед смертью…
И много раз проявлялись подобные случаи.
* * *
Солнце уже склонилось к закату, когда я очутился на одном из высоких балконов монастыря, откуда хотел сфотографировать наиболее живописные уголки монастыря. И вдруг передо мной предстал несколько робкий и невзрачный на вид молодой монах, с трудом изложивший свою просьбу моему спутнику.
– Просит, чтобы вы зашли с вашей фотографией к его старцу… Он келейник. А старец-эпитроп готовится к смерти. Последнего издыхания, так сказать, ожидает… И вот, значит, просит вас сделать с него и келейника фотографию…
Я, конечно, с охотой, но не без смущения отправился исполнять просимое.
Старый эпитроп, тихо угасавший от неизлечимого недуга, лежал на своем скромном монашеском одре, в довольно мрачной келии, находившейся внутри старинного корпуса. Это была одна из многочисленных келий, расположенных в стенах древнего Пандократора и устроенных в глубине веков. А умирающий насельник ее уже представлял собой нечто среднее между еще живым старым человеком и полувысохшими мощами, состоявшими из костей и кожи, прикрытыми складками черной монашеской ряски.
При помощи спутника моего, отца Николая, келейник облек в схиму умирающего старца и стал рядом с одром его. А я, сделав снимок, пообещал успокоительно, что фотографии будут присланы немедленно же после их обработки и напечатания.
– Пожалуйста! – тихо по-гречески сказал умирающий. – Да хранит вас Господь Пандократор на всех путях ваших… Исполать вам, добрый господин!
И я покинул келью отходившего в вечность инока, унося с собой в суетный мир фильм с его снимком, которого самому эпитропу уже увидеть не удалось, так как моя посылка не застала его в живых…
Был трогательно тихий, меланхолический час, когда мы медленно всходили обратно по крутой тропинке холма, извивавшейся между кустами и деревьями. День умирал во всем своем роскошном уборе… Тихо колыхалось море своим безбрежным, радостно волнующимся простором. Высилось над нами неподвижной синевой чистое, южное небо.
Примечания
1
См. ниже библиографию работ В.А. Маевского, исправленную и дополненную для настоящего издания.
(обратно)2
См. Косик В. И. Русская Церковь в Югославии (20–40-е гг. XX в.) М.: ПСТ-БИ. 2000. С. 244; Фостер Л. Библиография русской эмигрантской литературы. Т. II. С. 731; Геринг А. А. Материалы к библиографии русской военной печати за рубежом. С. 53; Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре: 1921–1972 / Составитель Н. М. Зернов. Boston: G. K. Hall & Co., 1973; Незабытые могилы. Т. IV. Л – М. М.: Пашков дом, 2004; Полански П. Русская печать в Китае, Японии и Корее. М.: Пашков дом, 2002. С. 106; A Commemorative List of the Departed Servants of Orthodoxy in North America («Dip-tychs») // Syosset: Department of History and Archives (Калифорния, США), 1992
(обратно)3
Иверская Богоматерь на Афоне. Белград: Русская типография С. Ф. Филонова, 1932. 64 с.
(обратно)4
Святая гора. Сремски Карловцы, 1937. 87 с.
(обратно)5
Крестовые походы и борьба на Востоке. Дрезден, 1935
(обратно)6
Лавра Хилендар. Новый Сад, 1941
(обратно)7
См. библиографию за 1931–1941 гг.
(обратно)8
Эти четыре рассказа приводятся в приложении к настоящему изданию.
(обратно)9
Гостинник, заведующий помещением для гостей.
(обратно)10
В настоящее время наши ревнители православия иерархи, следуя за желаниями благочестивых людей, восстановили обряд Панагии и в некоторых зарубежных обителях (Полачевская лавра).
(обратно)11
Помещение для почетных гостей.
(обратно)12
Арсана – пристань.
(обратно)13
Скит Фиваида принадлежит святому Пантелеимонову монастырю.
(обратно)14
Наемные работники в греческих монастырях.
(обратно)15
Просопографией называется сказание о внешнем виде Богочеловека, Его Матери и многих святых.
(обратно)16
Законы о Святой Горе Афонской из Свода оттоманских законов. Константинополь, 1911. Т. 2.
(обратно)17
Этот паспорт надлежало представить уже на самом Афоне, т. е. все приезжали туда без специального разрешения, без визы!
(обратно)18
Привилегии Афона получили международную санкцию благодаря параграфу 8 статьи 12 Берлинского договора.
(обратно)19
Статья 10 главы 2 Устава так гласит: «Иностранцы, желающие остаться на Афоне в качестве монахов, обязаны сообразоваться со статьей 8, касающейся паспортов, и статьей 4 Закона об оттоманской национальности».
(обратно)20
Выдает эти «специальные» визы и губернатор в Салониках.
(обратно)21
Новое русское слово. Нью-Йорк. 03.08.1968.
(обратно)22
Паспорта возвращают при отъезде при посадке на пароход.
(обратно)23
Журнал Московской Патриархии. 1965. № 8. С. 76.
(обратно)24
Новое русское слово. 20.10.1946.
(обратно)25
Новое русское слово. 18.11.1966.
(обратно)26
В раздел вошли четыре очерка из сборника «Афонские рассказы» (Париж, 1950), не вошедшие в книгу «Афон и его судьба».
(обратно)
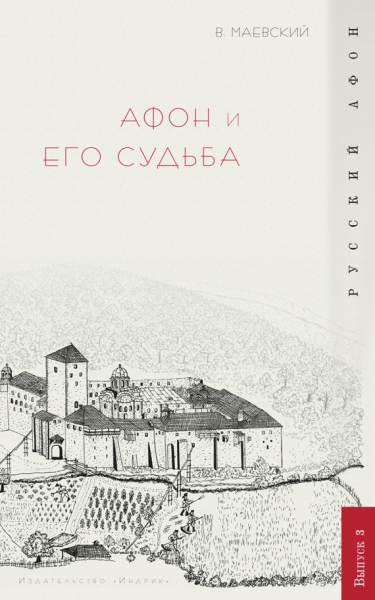
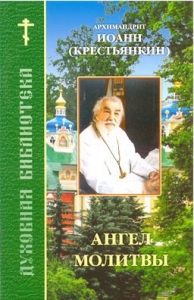
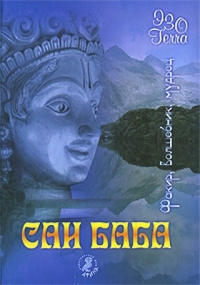
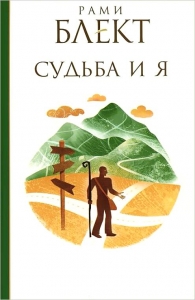

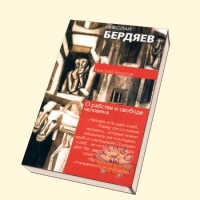

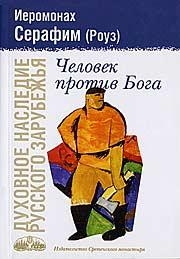
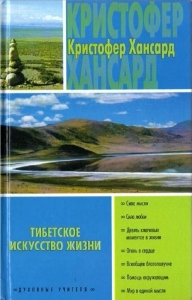



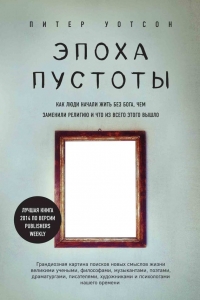
Комментарии к книге «Афон и его судьба», Владислав Альбинович Маевский
Всего 0 комментариев