Богословие красоты Под редакцией Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко
Предисловие
Понятие красоты не сводится к суммированию всех известных определений красоты, хотя так или иначе содержит их в себе. Красота все время ускользает от прямого ее захватывания, но в имплицитном виде присутствует и является критерием истинности свершаемого. Не случайно, что понятие красоты используется как один из критериев истинности в науке: красивая теория, красивая формула, красивое решение задачи.
В библейской картине творения понятие красоты фигурирует как сущностная характеристика самого творения. Акты творения Богом мира завершаются оценкой, подразумевающей идею прекрасного: «И увидел Бог, что это хорошо» и даже «хорошо весьма».
Богословие красоты – это вопрос о красоте и ее присутствии в мире, о способах ее обнаружения и смысле. Христианская мысль воспринимает красоту не просто эстетически, но личностно: творение прекрасно, потому что прекрасен сам Творец. Человек есть образ Творца, поэтому вопрос о красоте – это также антропологический вопрос.
Богословие красоты так или иначе соотносится с несколькими основными типами ее присутствия в бытии: (а) пространство телесности (пространственно-временной аспект мира), (б) пространство культуры (человек и его творческая деятельность), (в) пространство трансцендентного (красота как откровение, знак присутствия Божественного). Последний тип предполагает выход за пределы эстетики в область мистического переживания красоты. Это непосредственно и есть область богословского осмысления красоты.
В основу настоящего сборника легли избранные доклады, представленные на международной конференции «Богословие красоты», проведенной 19–22 октября 2011 г. Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея и монастырем Бозе (Италия). Помимо этого, в книгу включены статьи известных современных богословов, таких как Ганс Урс фон Бальтазар, Карл Барт и Каллист Уэр.
Александр Закуренко
Ганс Урс фон Бальтазар
Богословие и эстетика[1]
Только христиане – это «третий пол», этот по-другому невозможный синтез всякой «религиозной литературы».
Присуждение мне степени почетного доктора гуманитарных наук Католическим университетом Америки – большая честь для меня. Прошу вас принять мою сердечную благодарность за это. Тем не менее, я не удивлюсь, если вы окажетесь незнакомы с моими, увы, обширными по количеству, трудами. Их английские и американские переводы представляют более-менее случайную подборку. А из моей основной работы, в которой я предпринимаю попытку некоего синтеза, еще не переведено ничего.
Поэтому, выбирая тему моего доклада, я взял на себя смелость познакомить вас с причинами, по которым я оставил гуманитарные науки и переключился на богословие. Я не собираюсь предлагать вам автобиографический этюд, но попытаюсь очертить важную проблему, которая представляет собой, по моему мнению, центральный вопрос, если и не для филологии, то уж точно для богословия.
В течение десяти семестров я изучал немецкую филологию и литературу, после чего получил докторскую степень. Я никогда не становился доктором богословия. Пока я работал над диссертацией, основным вопросом, занимавшим меня, был следующий: «Есть множество хороших произведений литературы, музыки, изобразительного искусства и иной духовной деятельности. Каким образом можем мы распознать шедевр, который, хотя и принадлежит к определенной категории, превосходит ее и становится уникальным? Тысячи стихотворений написаны о ночи. Почему Nachtlied[2] Гете превосходит их все? Существуют сотни венских «мюзиклов»; почему «Волшебная флейта» Моцарта настолько выше их? Множество ранних работ Моцарта были сознательно написаны однотипно, в стиле современной им итальянской музыки или музыки сыновей Баха. Как можем мы объяснить тогда качественный скачок в «Идоменее» или «Женитьбе Фигаро»? Откуда разница между «Гамлетом» Кида и Шекспира? Отчего Платон занимает такое высокое место среди философов, так что современный историк философии мог бы сказать, что все последующие философы были лишь комментаторами?»
Я прошу понять, что я не противопоставляю частное общему. Конечно, у каждого частного есть свои особенные характеристики. Я говорю о работах, которые становятся несравненными в своем собственном жанре. Но обычно несравненное происходит из длинной череды трудоемких усилий. Шекспир бы не стал тем, кем он стал, если бы не вся история театра, предшествовавшая ему. Однако можно сделать тысячи сравнений, так и не поняв уникальное с их помощью.
Тем не менее, знаток должен обладать неким аппаратом, некой способностью производить такие различения, как правило, в результате длительной практики. Как правило, человек с улицы не обладает такой способностью; все, что он может сообщить – свое субъективное впечатление, как например: «мне нравится эта музыка» или «это мне не нравится». Способность знатока чувствовать носит объективный характер. Он понимает уникальность произведения. Мне достаточно повезло, что у меня были учителя, которые развивали это чувство в своих учениках, подводя нас к радостным открытиям в литературе, искусстве, истории и музыке.
Именно в это время я обнаружил ключевую идею, которая стала затем центральной темой всего моего богословия как Gestalt – сложное для перевода выражение, которое можно передать как форма, фигура, вид. Хопкинс (Hopkins) в свое время ввел понятие inscape[3].
Наш разум постигает организованное целое со всей детализацией, необходимой для понимания основной идеи, проявленной в своей полноте. Великое произведение искусства строится не из уже готовых слов, но создает из запечатляемого в момент рождения языка совершенно новый лексикон, неслыханные слова, которые, будучи произнесены, самопонятны тем, у кого есть глаза и уши для этого. Каждый ребенок радуется арии Папагено, тогда как ария отчаяния Памины или прощальный терцет[4] потрясают даже искушенного знатока. Невозможно наслушаться такими музыкальными произведениями, как фуги Баха. Каждый раз они сообщают, даже «умелым сердцам» одаренных слушателей, бульшую глубину, более глубокое удовлетворение.
Философы искусства, как Шеллинг или Гегель, попытаются объяснить, почему тот или иной период истории оказался готов к восприятию Софокла, Данте или Шопена, но все равно необъяснимо, почему произведение искусства именно тогда обретает свою форму. Его необходимость обусловлена не внешними, но внутренними причинами.
Этому есть параллель в открытии, сделанном персоналистической философией, с которым я познакомился сначала благодаря Р. Аллерсу, а затем благодаря Ясперсу и Буберу. Эта параллель заключается в любви, которая возвышается над Эросом. Истинная любовь может различить и удержать уникальность любимого среди подобных ему в своем роде, даже когда эротическое влечение угасло. Объекты этого мира участвуют в уникальности Бога не только в качестве представителей своего рода, но, в особенной мере, и индивидуально. Чем они духовнее, тем они уникальнее. Святые, например, образуют семью – communio sanctorum, общение святых, но каждый из них несравненен. В них выражается тем самым, снова и снова, уникальность Бога.
Теперь вы видите, как происходит переход от искусства к богословию. Это увлечение не происходит из религиозного чувства, которое существует субъективно в каждом человеке. Поскольку мы все – творение божье, мы обладаем desiderium visionis bonae absolutis (желанием видеть абсолютное благо). Это может привести человека к изучению философии религии или истории религии; но ни то, ни другое меня никогда сильно не интересовало.
Нас влечет именно Иисус Христос – если видеть Христа так, как он говорит о себе – с той его уникальностью, которая не может быть сравнима ни с чем в человеческой истории. Отцы церкви называли такую способность видеть – «взгляд веры». Если мы видим Христа, то мы видим Слово Божье в его существенной органичной целостности. Для этого видения, в первую очередь, нам необходим Ветхий Завет, заранее создавший тот лексикон, с помощью которого мог выражаться Христос: завет, великие пророчества об избавлении и разрушении; мессианское и священническое; этика, подчиненная власти Бога через повиновение заповедям; освобождение человечества; свидетельство, которое будет возвещено народам; страдание праведных; жестоковыйность народа, противящегося слову Божьему, – все это (иногда несовместимые) элементы, которые объединены в лице Христа. К ним же относится идея плодовитости бесплодной женщины: ряд таких событий тянется напрямую из Ветхого Завета, от Сары через Анну к Елизавете, к непорочному зачатию Христа Марией.
Но вернемся к более важному – к фигуре Иисуса, ибо он есть единственный образ Бога (Ин 1:8), который бесконечно богат и при этом обладает парадоксальной простотой, вбирающей в себя все элементы. Он есть абсолютная власть и абсолютное смирение; он бесконечно досягаем, к нему может приступить каждый, и он же бесконечно недоступен, за пределами достижимого.
Всякий может понять слова Иисуса, но только в свете его свидетельства о своем Богосыновстве эти слова становятся вполне ясными. Более того, только в связи с его смертью и воскресением его слова обретают полноту своего смысла: все существо Иисуса есть одно-единственное Слово. Это совершенное существо становится явным только по свидетельствам веры: свидетельства Павла здесь столь же важны как свидетельства Деяний Апостольских; Иоанн столь же авторитетен, как и синоптики. Все они вместе образуют мощную полифонию – но не «плюрализм» в современном смысле слова. Их можно сравнить с видами на статую, поставленную на открытой местности, которую нужно обозреть со всех направлений, чтобы полностью оценить ее выразительность. Чем больше граней мы видим, тем лучше понимаем мы церковь, чьим изначальным призванием было составить Новый Завет и утвердить его канон. Только ее взгляд веры, водимый Духом Святым, мог увидеть феномен Иисуса Христа.
Отсюда проистекает фундаментальный принцип, что экзегеза – действительно весьма ценная богословская наука – может практиковаться только в пределах, охватываемых взглядом церкви. Тот, кто находится вне этого круга, неизбежно начнет разрушать неделимое единство образа Христа, заменяя правильные слова на более модные, которые, скорее всего, означают что-то другое, или на слова, которые можно найти и в других религиях, так что хотя и слышатся знакомые выражения, они общи для разных религий и не являются чем-то уникально-индивидуальными для христианства. Такие манипуляции столь же разрушительны, как если бы кто изъял каждый пятый или десятый такт из музыкальной фразы в какой-нибудь симфонии Моцарта.
Пожалуйста поймите, что, утверждая это, я защищаю не некий фундаментализм или библейский буквализм, но боговдохновенный духовный феномен – активную и единую полноту, которую можно обрести из Нового Завета. Дело не в литературной форме, а в содержании. Например, уже в допавловой традиции, и затем еще сильнее, у самого Павла, у Иоанна и в некоторых словах синоптиков, значение Страстей понимается как заместительное страдание Христа за нас (qui propter nos homines et propter nostram salutem…)[5]. Если эти утверждения релятивизировать и сделать плоскими, вся кафолическая вера рухнет; Евхаристия потеряет свое значение; плоть, отданная за нас, и кровь, пролитая за нас, не имеют смысла. Также божественность Христа тогда не необходима, ведь только через нее он мог понести грехи мира в своем воплощении. Соответственно, Троица также отменяется– так же, как и центральный постулат Нового Завета – что Бог есть Любовь, – ибо доказательство этого, согласно Иоанну, в том, что Отец отдал Сына в преизобиловавшей любви к нашему миру.
Если мы отрицаем крестное pro nobis, мы скатываемся к превращению в одну из исторических религий, в которых спасительная роль Бога в мировой истории либо ограничивается мифологией (например, как в богословии процесса), либо парит как платоновское солнце блага над всем страданием мира.
Более того, если упустить из виду целостность образа Христа, невозможно потребовать, чтобы верные отождествляли свою жизнь с ним, а при некоторых обстоятельствах – и претерпевали мученичество. Все, что заслуживает имя церковной святости, происходит из этой целостной картины. Независимо от того, какая индивидуальная грань образа Христа отразилась в данном конкретном святом, он или она всегда указывает на целое. Тереза Авильская показывает нам не только любовь к Богу, но и любовь к ближнему. Тереза Калькуттская производит всю свою любовь к ближнему из любви к Богу.
Моим намерением в первой части моей трилогии «Эстетика» было не только научить наши глаза видеть Христа так, как он сам видит себя, но и, более того, доказать, что всякое выдающееся и эпохальное богословие всегда следовало этому методу. Естественно, очевидно, что Бог не может быть ограничен никакой системой, что к одной и той же центральной тайне существуют многообразные подходы.
Поэтому, я решил представить во втором томе «Эстетики» двенадцать подходов, которые казались мне первичными и боговдохновенными. Все они ведут к поражающему весу, силе и свету, kavod, doxa-gloria Бога, открывающего себя во Христе, и в конце концов, в его Кресте и Воскресении.
И сколь же отличен логический путь Иринея – который следует гностической философии истории ad absurdum и тем самым показывает, как logos приспосабливается к человеческой истории и постепенно обращает ее к Богу изнутри: «Gloria Dei vivens homo»[6] – от пути Ансельма, который видит некий род необходимости даже в свободных решениях Бога – Воплощении, Кресте, девственном Рождестве, – свободную необходимость, такую, как в совершенном произведении искусства. Этот путь отличается в свою очередь от паломничества Данте, который, будучи гоним Эросом через Ад и Чистилище, очищается через покаяние и исповедь и достигает божественной agape; или от пути Паскаля, который, столкнувшись с законами физики и всех современных ему естественных наук, признает парадокс человечества, который не может быть сведен ни к одной из этих наук, но может быть разрешен лишь с помощью еще большего парадокса распятой любви.
Я не хочу перечислять остальные подходы. Названного достаточно для вас, чтобы признать вместе со мной, что все эти пути сходятся концентрически к одной и той же тайне, которую Гете назвал «священная общая тайна», но что они, несмотря на все различия, никогда не противоречат друг другу.
Близорукостью части современного богословия является уверенность его сторонников в том, что они говорят что-то новое своим лозунгом о богословском плюрализме, или что они начали новую эпоху в богословской мысли. Эта уверенность является всего лишь следствием богословского рационализма, предполагающего, что тайны христианства можно ужать до маленького учебника, который можно изучить мигом. Такие фантазии лопаются как воздушные шарики перед бесконечностью Бога и его само-откровением. Пока и поскольку все многообразные подходы ведут к неизмеримой тайне Бога, который открыл себя во Христе, все они открыты и дозволительны для меня. Ведут ли они к центру или нет – зависит от выполнения условия, что они пребывают в пределах Sancta Catholica, ибо все дороги за пределами ее теряют тот или иной аспект совершенного целого.
Увы, мы зрим славу Божью только гадательно, как бы чрез мутное стекло, даже до величайшего парадокса – богооставленности Христа на кресте. Но именно христианская вера уникальна тем, что она в самом деле видит, что Бог, который превосходит всякое понимание, не исчезает в сумерках невыразимого – как это свойственно богам в иной мистике, – где человеку остается лишь лишиться дара речи и в итоге замолчать, но что этот все превосходящий Бог снисходит к нам, приближается ближе и ближе, становясь все более щедрым и все более требовательным одновременно, до тех пор, пока то, что человек может понимать, не станет таким сияющим, таким ослепляющим, что оно переполняет его. Только таким образом может негативное богословие быть христианским, и представлять собой вершину позитивного богословия.
Именно это хотел я показать в первой части моей трилогии, которую я назвал «Gloria: богословская эстетика»[7].
Но Бог являет себя не только для того, чтобы им восхищались. Поэтому вторая часть моей трилогии показывает драматическую борьбу Бога за любовь грешного человека – пафос неразрушимого завета, заключенного Богом с человеком – через учащающееся отвержение человеком призыва Бога. Чем больше Бог предлагает себя, тем больше человек отворачивается от него. (Атеизм есть постхристианское явление.) Какой будет конец у этой трагедии? До чего может дойти действие? Я еще не написал последнего акта этой драмы.
Только в конце, когда мы уже увидели pulchrum, и испытали bonum, может завершиться трилогия таким образом, который мы все примем за verum. Это и есть «теологическая» проблема – вопрос о возможности выразить тайну человеческим и ответственным языком. Завершить этой, третьей, части, видимо мне не будет дано[8]. Если это не будет слишком дерзко, я хотел бы процитировать стихотворение Рильке из начала его «Часослова»
Круги моей жизни все шире и шире — надвещные – вещие суть. Сомкну ли последний? Но, видя в мире суть, я хочу рискнуть.[9]В заключении я хотел бы затронуть два связанных вопроса, которые имеют важные последствия: христианство и мировые религии и христианство и апологетика.
Можно смело сказать вместе с Карлом Ранером, что все религии «ищут христологии», что человеческая религиозная предрасположенность и желание заставляют его стремиться к конечному союзу с Богом, который есть дар Бога нам, именуемый Иисусом Христом. Далее, можно утверждать о благой вести о Христе, что Бог не отнимет свой превышающий всякое естество христоцентричный дар ни от кого, даже от нехристиан. Человек создан Богом, чтобы быть богоискателем. Павел сказал это в Афинах, но не сказал, может ли человек найти Бога совсем сам по себе. Бог создал человека богоискателем, чтобы Он мог свободно проявить себя как нашедший человека.
Вплоть до этого момента я не против того, чтобы следовать современному направлению мысли и видеть во всех религиях отблески христианства, logoi spermatikoi, как говорили отцы. Но существует неодолимое препятствие, которое, пожалуй, лучше всего можно отождествить с ветхозаветным запретом: «Не делай себе никакого резного изображения Бога». Следует оставить это место свободным и пустым, чтобы Бог мог наполнить его, как он того желает. Идолы, однако, бывают не только резными. Идолами, которые заслоняют Бога, могут быть практики вроде буддийской медитации, теории о том, как испытать божественное присутствие, спекуляции об абсолюте на манер Гегеля – все, что заполняет собой то пространство, которое Бог намеревается занять, чтобы воздвигнуть образ, вид которого нельзя предугадать.
Здесь предел трансцендентального христианского богословия. Тот, кто этого не понимает, не сможет оценить уникальность места христианства в истории: он не захочет этого видеть ради достижения некоей гармонии между выражениями общерелигиозных чувств.
Я хотел бы разъяснить немного больше по моему второму тезису, о христианстве и апологетике. Если мы рассмотрим сделанные в человеческой истории попытки подойти поближе к абсолюту из относительности мира и «укоренить» бытие человека в абсолюте, то, как кажется, найдется только два способа. Первый можно определить как религиозное язычество: сердце и ум пытаются превзойти временное и тленное, чтобы взойти к абсолюту, который есть не «становление», но «бытие» – бесконечное, неделимое, за пределами всякой видимости и иллюзии. Таков путь desiderium naturale, поднимающийся вертикально вверх или падающий прямо вниз, в то время как история бежит горизонтально во времени. Таков путь всех азиатских религий, и он же – путь досократиков, платоников, стоиков, неоплатоников, а также исламских суфиев, хотя ислам и представляет из себя смесь языческих и библейских элементов. Все они стремятся укорениться в абсолюте, в его physis, идее или логосе и преодолеть оттуда судьбу мира. Следует еще сильнее подчеркнуть сходство всех естественных религий в их конечной релевантной форме. Все они ищут свой источник, первоначало, Альфу.
Динамика, которую вводит Ветхий Завет, полностью отлична: в начале есть завет, инициированный Богом, который, однако, существенно указывает на историческое будущее, удаленную точку, Омегу, в которой этот вечнонесовершенный, вечнонарушаемый союз становится исполненным, в которой наступает мессианское время, в которой пересекаются траектории Бога и человека в финальном событии.
Огромен пафос иудейства; он пронизывает собой всю мировую историю. Иудейские ожидания приняли секуляризированную форму – не только в марксизме, который забывает про исходный завет и признает лишь пророческие революции, но также и в идеологии технического прогресса, которая захватила все – и первый, и второй, и третий миры.
Мое мнение относительно этих двух религиозных идеологий, языческой и иудейской, состоит в том, что они полностью непримиримы, как вертикаль и горизонталь. Невозможно быть дзен-буддистом и коммунистом одновременно. Невозможно посвятить жизнь продвижению мирового прогресса и одновременно удалиться от мира. Но непримиримое в мире – вертикаль и горизонталь – образуют крест, пустой крест, который предназначен не для всякого. Только Иисус Христос может заполнить собой это пустое пространство, ибо он есть исполнение как человеческих языческих устремлений, так и надеющейся иудейской веры. Поэтому только христиане суть – это «третий пол», этот по-другому невозможный синтез «религиозной литературы». Показать это с той степенью ясности, какая приличествует этому сюжету, было бы слишком большой новой темой, которую я не смею начать здесь. Придется ограничиться несколькими замечаниями.
В языческом благочестии глубоко заложено сознание того, что человек – это образ, а не первообраз, и поэтому человек чувствует, что первообраз должен своей собственной силой проявить себя, чтобы сердце человека могло упокоиться в Боге. Этот первообраз есть Иисус Христос, только он один, ибо он есть полностью Бог и полностью Человек. Человек не желает быть поглощенным божеством, но желает и обрести Бога, и сохранить свою собственную личность. Воскресение Иисуса есть спасение, сбережение всего человеческого в Боге.
В иудейской вере и надежде присутствует неудовлетворенное желание, беспокойство, которое преследуемо сознанием собственного изгнания и отверженности Богом до тех пор, пока не придет Мессия. Язычество начинает с радикальной критики человеческой ограниченности и пытается подняться к божественному, тогда как иудейство начинает с критики всех существующих взаимоотношений и требует срочного изменения во всех общественных и культурных структурах, чтобы привести к наступлению Царства Божия. И только одно христианство не начинает с критики.
Иисус Христос принес благословение покоя иудейской критике и беспокойству: мир примирен с Богом в нем, нет более болезненного изгнания детей Божьих. Последнее пришествие Мессии еще в будущем; в «уже сейчас» все еще пребывает «еще нет»; с нами все еще томление и вера, но также и все превозмогающая уверенность в Божьей победе над безбожным миром и грехом.
Не было ничего более сложного для юной церкви, как воспринять одновременно язычников и иудеев. Тем не менее, она есть именно такой синтез, основанный на существовании Иисуса Христа. И с этим она стала фигурой мировой истории, формой, живым свидетельством единства и единственности фигуры Христа. В ее единстве покоится ее достоверность. Ее внутреннее и внешнее единство, к которому также относится и единство церковного служения, есть единственная апологетика, которую имел в виду Иисус Христос, когда оставлял нам слова: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:35). В сегодняшнем богослужении мы произносили молитву, которая в точности суммирует все мои соображения: «Deus cuius ineffabilis sapientia in scandalo crucis mirabiliter declaratur, concede nobis, ita passionis filii tui gloriam contineri, ut in cruce ipsius numquam cessemus fiducialiter gloriam.»
Перевод с немецкого Андрея Заякина
Карл Барт
Красота Бога[10]
Понятие, которое находится тут в непосредственной близости, и которое может быть легитимным и полезным для обозначения недостающего нам аспекта понятия величия (Herrlichkeit) – это понятие красоты. Мы можем и должны сказать, что Бог красив, и этим самым мы говорим как раз то, как он просвещает, преобразует, убеждает. Мы отмечаем тогда не просто голый факт его откровения и не просто его могущество как таковое, но форму и вид, в которых проявляются факт и могущество. Мы говорим тогда: Бог обладает таким говорящим самим за себя, таким побеждающим и преодолевающим превосходством и силой притяжения именно благодаря тому, что он красив – божественен, красив ему и только ему одному присущим образом, красив как недостижимая изначальная красота, но действительно красив и именно поэтому красив не просто как данность и не просто как сила. Или вернее: он красив как данность и сила в том смысле, что он осуществляет себя как тот, кто вызывает благоволение, пробуждает вожделение и вознаграждает блаженством, и это при том, что он благосклонен, достоин вожделения и блаженен: благосклонный, достойный вожделения и блаженный, первый и, в конечном счете, единственный благосклонный, достойный вожделения и блаженный. Бог любит нас как тех, кто достойны любви как сам Бог. Вот, что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог красив.
<…>
Прежде всего, с чисто лингвистической точки зрения нужно указать на то, что смысловое содержание как немецкого слова Herr-lichkeit так и его еврейского, греческого и латинского эквивалентов, непременно включает в себя и выражает то, что мы называем красотой. Везде, где встречается понятие величия Бога, можно указать и на то, что оно ни в коем случае не может быть понято в качестве нейтрального или даже исключающего понятия благоволения, достойности вожделения и блаженности и, таким образом, красоты. Мы сказали, что величие Бога есть преисполняющая и сообщающая себя Божья радость. Величие по самому своему существу порождает радость. И то, что оно может вызывать также трепет и ужас, вовсе не противоречит этому. Так, на лишенного этого величия человека оно оказывает контрастное влияние, подобно яркому свету, который поначалу может лишь ослепить непривыкший к нему глаз. Это, таким образом, субъективно обусловлено. Объективный же смысл величия Бога заключается в его действенной благодати, милосердии и терпении, его любви. Оно в себе и как таковое достойно любви. В этом качестве оно говорит и побеждает, преобразует и убеждает. И оно не просто перенимает это качество, но обладает им. И там, где его узнают, там оно в этом качестве, в его особенной силе и своеобразии вызывает благоволение, пробуждает вожделение и дарует блаженство.
Средневековое богословие знало и употребляло понятие frui, или fruitio Dei[11]. Под этим оно понимало лишь одному из всех сотворенных существ, человеку, возможное и подобающее вожделение, которое, осуществленное или же еще не осуществленное, нацелено на то, что ко всем другим желаемым вещам относится как цель к средству, чьим истинным объектом как finis ultimus hominis[12] может быть только сам Бог. Пришлось бы вычеркнуть слишком многое из того, что в Библии сказано совершенно определенно, если бы из-за какого-то сверхпуританского отношения к греху кому-то захотелось бы опровергнуть легитимность этого понятия. Это правда, что помышление сердца человеческого зло от юности его (Быт 8:21), что существует греховное и смертельное желание, и что именно оно является естественным желанием человека, но эта правда занимает свое место и ничего не меняет в том, что именно Бог, который в своем правосудии и милости убийственно и живительно склоняется к людям и особым непосредственным образом является объектом удовольствия, радости, благоволения, вожделения и блаженства их сердец. Если бы кто-то захотел опровергнуть это, то ему пришлось бы отвергнуть радикальный евангельский характер библейской вести, поскольку это содержится в ней: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» (Лк 1:46–47), и «Радуйтесь всегда в Господе!» (Флп 4:4), и то, что верный и добрый раб войдет в радость своего господина (Мф 25:21), и то, что Павел желает выйти из тела и водвориться у Господа (2 Кор 5:8). Согласно Пс 1:2; 111:1; Рим 7:22, существует необходимое и легитимное удовольствие от Закона Божия, а согласно Пс 118:4 (и дальше) – утешение, веселие и услада о его заповедях и законоположениях. Это не то, что строки Иоахима Неандера (Neander): «Не чувствовал ли ты, что он заботится о тебе так, как это тебе самому нравится?», составляют pudendum[13] нашей книги богослужебных песней, как полагают некоторые чересчур рьяные, но напротив нас призывает Пс 36:4: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» и Притч 23:26: «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои» и Пс 5:12: «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать» и Пс 144:16: «Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению». «Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс 16:11). «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи» (Ис 9:3). Мы приглашены вкусить и увидеть, как благ Господь (Пс 33:9). И все это не имеет ничего общего с тем, чтобы оптимистически упускать из виду нужду и порочность человеческого бытия. Напротив, они не могут ничего изменить в том, что Бог есть предмет необходимой радости, и именно ей эта нужда и порочность низлагаются и превосходятся. «Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и препоясал меня веселием» (Пс 29:12). «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя; к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде» (Ис 26:8–9). Радость согласно Ис и Сир 1:11 есть также страх Господень. Именно страждущие будут согласно Ис 29:19 «радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля» и поэтому при любых обстоятельствах «благо приближаться к Богу» (Пс 72:28). Поэтому нужно служить Господу с радостью и ходить перед лицом Его с восклицанием (Пс 99:2). Если Бог, о котором свидетельствует Священное Писание, на самом деле (как можно было бы доказать как прямым, так и косвенным образом на основании еще сотен других мест) есть излучающий радость о себе самом Бог, если он без этого не может быть понят в своей божественности, если без этого он не был бы тем, кто он есть, тогда у нас нет причины избегать этого средневекового понятия (например, из-за злоупотреблений, которые с ним совершала мистика). Встает лишь вопрос, в какой степени можно сказать по отношению к Богу то, что он может быть объектом такого frui, такого осуществленного или же еще не осуществленного благоволения, вожделения и блаженства?
<…>
Если мы будем должны тут на самом деле продолжить это наше размышление, то необходимо поставить вопрос: что же есть та красота Бога, которая делает его тем, кто он есть, и в его величии, в полноте и в самодостаточности его сущности, в силе его самооткровения делает его предметом именно радости?
<…>
Мы должны задаться вопросом о самом Боге, о содержании и природе его откровения, а также и о его откровенной божественной сущности. Именно она как таковая красива. Именно на основании ее как таковой можно распознать, что есть красота. Именно в ней могут отразиться или же не отразиться, наши тварные и ориентированные на творение понятия красоты: если они отразятся, то наверняка лишь в единичном употреблении, поскольку они, так сказать, опосредованно указывают и на его сущность.
<…>
Мы позволим себе указать на факт, что богословие как целое, в своих частях и в их взаимосвязи, в своем содержании и методе, не принимая во внимание все другое, – если только его задача будет правильно понята и осуществлена, – есть исконно красивая наука, можно даже с уверенностью сказать: прекраснейшая среди всех наук. Это всегда варварство, когда наука кому-то кажется или становится безразличной. Каким же сверхварварством было бы, если бы богословие могло показаться или стать кому-то безразличным? Богословом можно быть лишь охотно, с радостью, в противоположном же случае, им, по существу, стать вообще невозможно. Мрачные лица, угрюмые мысли, скучные и пустые фразы не могут быть терпимы именно в этой науке. Да сохранит нас Бог от того, что в Католической церкви причисляют к одному из семи монашеских грехов: от taedium[14] от великих духовных истин, с которыми связано богословие! Но нам следует помнить, что лишь Бог может сохранить нас от этого!
<…>
Совершенно естественно, что непосредственное обоснование нашего утверждения, что Бог красив, не может быть выражено ни в малом, ни в большом количестве слов об этой красоте, оно может быть дано только через саму эту красоту. Сама божественная сущность говорит в своем откровении о своей красоте. С нашей же стороны остается возможным при помощи некоторых примеров лишь указать на то, что так оно и есть, и, более того, на основании некоторых важнейших черт христианского богопознания задать вопрос: является ли познаваемое здесь, не упуская из внимания и все другие его качества, просто красивым? Это познаваемое само дает позитивный ответ. И единственное, что мы можем тут сказать с недвусмысленной определенностью – это то, что оно дает этот ответ. Но только оно само может его дать. И то, что мы можем говорить обо всем лишь с этой оговоркой, имеет решающий характер для всего нашего размышления.
Прежде всего, мы назовем тот аспект Бога, отталкиваясь от которого, мы и пришли сюда: Божья во всех своих свойствах раскрывающаяся и в них всех единая сущность. Все эти свойства есть совершенства, поскольку и благодаря тому, что они свойства Бога, поскольку и благодаря тому, что все они вместе и каждое из них по отдельности есть не что иное, как сам Бог, совершенство его сущности и сама эта совершенная сущность. Совершенство божественной сущности состоит в том, что Бог есть все, что он есть как Бог, и, таким образом, он изначальный и поэтому неповторимый и непревзойденный в подлинности, полноте и реальности. В этом совершенстве в самом себе и в своих действиях Бог есть тот, кто он есть. В любом взаимоотношении со своим творением он совершенен, он говорит и действует в своем совершенстве и он, этот неисчерпаемо, непостижимо, неприступно совершенный Бог есть источник и смысл всех этих взаимоотношений. Но не правда ли, что более того, в последующем (но в последствии не подавляющем) восхищении мы должны заметить, что и форма, манера, в которой Бог совершенен, сама совершенна, что она есть совершенная форма? Форма совершенной сущности Бога, как мы могли в этом убедиться, есть чудесное, всегда загадочное и всегда в себе ясное единство идентичности и неидентичности, простоты и множественности, внутреннего и внешнего, самого Бога и полноты того, чем он является как Бог. Как бы мы могли упустить из виду то или иное, как могли бы мы преуменьшить то или иное, как могли бы мы отречься от одного в пользу другого? Мы всегда должны помнить о том, что мы имеем дело не с каким-то постижимым и имеющимся в нашем распоряжении объектом, но с самим Богом, однако при этом мы должны всегда помнить также о том, что именно сам Бог в полноте откровения своей сущности вступил в поле нашего зрения и разума. Нам всегда следует в замешательстве, ничего не зная о Боге и не будучи в состоянии что-либо сказать о нем, некоторым образом прибегать к нему самому, чтобы тогда каждый раз возвращаться от него, как те, кому позволено знать нечто о нем и кто имеет, что сказать. И снова дело обстоит так, что то, что нам позволено знать о нем, и то, о чем мы можем сказать, всегда одновременно одно и многое, одновременно наивное предложение и новое представление безграничного богатства, в котором мы никогда не сможем так потеряться, чтобы то единство, в котором существует Бог, которое он есть, не было бы зримо нами. Так мы смогли обозреть свободу и любовь Бога как основные определения его сущности во всей их необозримости: их идентичность и неидентичность, движение и покой, в которых они вместе так составляют жизнь Бога, что в каждый момент его бытия и жизни он не лишен ни одной из них: так что оба его собственных определения, которыми он является сам, и, тем не менее, в обоих он есть и остается одним. Это единство движения и покоя сопровождало нас на протяжении рассмотрения целого ряда божественных совершенств. Мы с неизбежностью вынуждены снова и снова обращать внимание на то, что каждое из них как Божье совершенство именно им и является и действительно отличается от всех других совершенств, мы вынуждены указать и на то, как все они не просто связаны друг с другом, но, взрывая любую систему, с самого начала релятивируя также и этот предложенный нами обзор, каждое с каждым по отдельности и с суммой всех других являются одним. Но при этом, это не значит, что нам было бы не разрешено, осознавая и относительность, и необходимость, предпринять попытку пойти определенным путем от одной к другой, а также и в частном предпринять определенные шаги, без высокомерия, как если бы это были абсолютные пути, как если бы наши пути, были путями Бога, но и без всякого страха, что мы, на наших путях в их относительности лишенные абсолютного, должны были бы быть покинутыми Богом.
Именно в форме совершенная сущность Бога раскрывает себя в откровении. Очевидно, что если Бог нас не обманывает, но действительно есть тот, кто он есть, то это есть его собственная форма. Тогда, – учитывая то, что эта форма как таковая стала нам зрима и выразительна, – мы не можем избежать следующего вопроса: не совершенна ли в себе и эта форма совершенной сущности Бога? Красива ли эта совершенная сущность Бога сама по себе и как таковая или нет? При этом мы должны быть правильно поняты. Не может идти и речи о том, чтобы проводить различие между содержанием и формой божественной сущности и, таким образом, абстрактно искать красоту Бога в форме его бытия для нас и в самом себе. Красота Бога заключается не в единстве идентичности и неидентичности, движения и покоя как таковых. Мы не можем тут не прибегнуть к самому Богу. Он есть совершенное содержание божественной сущности, которое делает совершенной и его форму. Или: совершенство его формы есть лишь отблеск совершенства ее содержания и, таким образом, самого Бога. Но именно содержание делает эту форму – по всей видимости потому, что она ему необходима, потому, что она его собственная – действительно совершенной. И именно в этой форме сияет это совершенное содержание, сияет сам Бог. Эта слава, самооткровение Бога, по существу, заключается в том, что в ней он сам осуществляет свою жизнь как вовне, так и внутри. Возникает вопрос, а нет ли других примеров такого единства и разности, разносности и единства? Как может этого не быть? Но где же эта форма того одеяния, в котором укрывается сам Бог? Где она, потому такая совершенная и потому такая действительно несравненно красивая, что она есть форма этого содержания? Где она является формой сущности того, чьи совершенства были бы совершенствами Господа, Творца, Миротворца и Спасителя? Где излучает она всяческое совершенство? Там, где больше одного несовершенного? Где, поэтому, не окажется ли и она сама при ближайшем рассмотрении в высшей степени несовершенной? Божественная красота имеет лишь форму божественной сущности. Но как форма божественной сущности она является божественной красотой. И там, где она будет узнана в качестве формы божественной сущности, разве не должна быть она воспринята и как красота? Как же может быть иначе, как же может совершенная божественная сущность, сама сообщая о себе, в достоинстве и силе своей божественности не излучать также и радость, всяческое благоволение, всяческое вожделение, не вызывать всяческое блаженство и, таким образом, через посредство этой формы, не быть преобразующей и убеждающей? И как же тогда может эта преобразующая и движущая форма не быть названа красотой Бога?
В качестве второго примера мы приведем Триединство Бога. Совершенная сущность Бога есть сущность Отца, Сына и Святого Духа. Только в этом качестве она имеет совершенство. И она имеет его как таковая. Само по себе оно не существует. Свобода Бога есть не какое-то абстрактное состояние независимости носителя верховной власти, а любовь Бога есть не абстрактный поиск и обнаружение общности. И, таким образом, все совершенства божественной свободы и любви не есть сущие в себе истины, действительности и силы, бытие Бога не есть сущее в себе и находящееся в своей чистоте божественное бытие. Но то, что оно есть бытие Отца, Сына и Святого Духа, делает его божественным, действительным бытием, оно существует в этой триединой, в своей единой и различной сущности, в которой заключается его свобода и его любовь, и все его божественные совершенства. Таким образом, и форма его сущности, о которой мы тут размышляем, не является формой в себе, но конкретной формой триединой сущности Бога: сущности, которая есть Бог Отец, Сын и Святой Дух. По сути, все, что можно сказать о ее бытии (Sein), вот-бытии (Dasein) и так-бытии (Sosein), в буквальном смысле не может быть понято и описано иначе, как ни на один момент не отличное от бытия, вот-бытия и так-бытия именно Отца, Сына и Святого Духа. Как раз в триединстве Бога своеобразная форма божественной сущности имеет свою необходимость и смысл. Прежде всего здесь и самым подлинным образом здесь мы имеем дело с единством идентичности и неидентичности. Здесь Бог осуществляет свою божественную жизнь, которая не может быть сведена ни к знаменателю единственности, ни к знаменателю множественности, но, скорее, к обеим одновременно: единственность и множественность замыкаются друг в друге. Здесь действительно трое в Боге, в определенных неповторимых и незаменимых отношениях друг к другу, определяются как множество божественных образов бытия. Здесь Бог реально различается в себе: Бог, и еще раз по-другому Бог, и он же в третий раз. Здесь нет простой точности. Не подходят сюда и аналогии круга или треугольника. Здесь существует божественное пространство и божественное время, а поэтому протяжение, и в этом протяжении – последовательность и порядок. Но здесь нет и никакого несоответствия и распада, нет никакого противоречия. Здесь есть одна для них всех общая божественная сущность в трех образах бытия. Также эти образы бытия в себе – так близки и сильны их взаимоотношения – не существуют друг без друга; в ничем неограниченном и несдерживаемом перихорезисе один образ бытия существует как через другой, так и в другом, и поэтому он никогда не действует и не распознается без другого. Следует заметить, что божественная сущность обладает не только своим внутренним совершенством: его великая истина и сила, а также его действия в качестве истины и силы Отца, Сына и Святого Духа, с самого начала есть также и внешнее совершенство его формы, сплошной определенности единства идентичности и неидентичности, движения и покоя, простоты и множественности. Если Бог есть Троица, то разве могло бы это быть иначе? Из триединства Бога следует не то, что его сущность была бы тройственной в том смысле, что его совершенства состояли бы из трех частей и были бы, как будто, видны и познаваемы в трех частях. Его сущность цельна и неделима и, таким образом, все его совершенства есть в равной мере сущность всех трех образов бытия Бога. Но из триединства Бога следует то, что именно сама эта цельная сущность Бога как Отца, Сына и Святого Духа, чьей сущностью она и является, одновременно идентична и неидентична себе самой, одновременно проста и множественна, должна быть одновременно жизнью в движении и покое. Что повторяется и раскрывается во всей божественной сущности как таковой в ее отношении и в ее форме и в каждом божественном совершенстве в отдельности, так это отношение и форма бытия Отца и Сына в единстве Духа, поскольку эти три различаются в Боге и поскольку они едины в Боге: без первенства и без субординации, но и не без последовательности и порядка, без угрозы и распада реальной жизни Божества. Мы можем сказать еще более определенно о том, что здесь играет решающую роль: именно содержание божественной сущности создает ему присущую форму. Она ему действительно присуща. Она основана не на какой-то всеобщей необходимости, но на необходимости триединого бытия и жизни Бога. Это триединое бытие и жизнь – и при этом мы говорим в строжайшем и точнейшем смысле: сам Бог – учреждает силу и достоинство божественной сущности как таковой и при этом силу и достоинство его самооткровения, его величия, иначе говоря, это триединое бытие и жизнь (и в этом строгом и точном смысле: сам Бог) есть то, что делает эти силу и достоинство побеждающими, преобразующими и убеждающими. Это и есть непосредственная функция этой формы. Она сияет и то, что она излучает, есть радость. Она восхищает и тем самым она побеждает. Она, стало быть, красива. Но как мы должны будем сейчас указать, она такова потому, что она отражает триединую сущность Бога: не материально, то есть не так, чтобы в ней можно было бы обнаружить какую-то троичность, но – как это может быть принято в соображение только в нашем контексте – формально: поскольку в ней повторяется и открывается единство и разность божественной сущности, которая присуща ему как сущность Триединого. Поэтому триединство Бога есть тайна его красоты. Если отвергнуть это, то тотчас получится какой-то тусклый и безрадостный (и лишенный чувства юмора!), какой-то некрасивый Бог. На фоне достоинства и силы истинного Божества затерялось то, что он красив. Все христианское богопознание и все христианское богословие происходило в осознании предпосылки, что единый Бог есть Отец, Сын и Святой Дух, – и как в таком случае мы можем, как в общем, так и в частном, упустить из вида утверждение, что Бог, помимо всего прочего, еще и красив?
В качестве третьего примера мы приведем воплощение. Мы полагаем, что мы имеем тут дело с центром и с целью и, таким образом, и с сокровенным началом всех дел Божьих. Более того, мы полагаем, что указанное событие этого божественного действия имеет соответствие в самой сущности Бога, что Сын составляет центр Троицы и что в его деле как таковом, в имени и личности Иисуса Христа находится и раскрывается, так сказать, сущность божественной сущности. Именно это дело Сына как таковое особенным, в некотором смысле, потенциальным образом раскрывает красоту Бога.
Что бы мы знали о красоте и троичности сущности Бога, которая обращается к нам, откуда бы мы взяли видение и понятие единства идентичности и неидентичности, простоты и множественности, движения и покоя в Боге, как бы мы могли прийти в восторг при виде внутренней жизни Бога, если бы эта жизнь не была бы нам современна в ее исконной, вызывающей радость форме, в самооткровении Бога, которое состоит в том, что он в своем вечном Слове стал плотью, что он в Иисусе Христе стал единым с нами, людьми, и принял нас в единство с собой, будучи истинным Богом, он стал и продолжает быть истинным человеком в Иисусе Христе? Он стал и продолжает им быть без того, чтобы лишиться хоть в малой степени своей божественности. Его божественность преизобилует в своем величии именно в том, чудо всех чудес его божества заключается именно в том, что истинный Бог в Иисусе Христе стал истинным человеком. В чем могла бы любовь и свобода Бога проявиться больше, чем в воплощении? Как могут эти любовь и свобода не быть узнаны и признаны во всей их божественности именно в этом событии? Однако, известно единство с самим собой: недостаточно явно отмечено высочайшее осуществление и подтверждение единства, в котором Бог действует в Иисусе Христе, также недостаточно, как и глубина, в которой он отличается сам от себя, как он сам себя открывает, делает себя доступным и отдает себя совсем другому, дарует другому высочайшую степень общности с самим собой, в определенной степени расширяет свою экзистенцию до коэкзистенции с этим другим, оставаясь истинным Богом, живя именно как истинный Бог, становится истинным человеком. Только задумаемся: становится человеком – то есть не просто творит людей, сохраняет их и управляет ими; но дело творения, которое в этом большем деле, конечно, подразумевается, несмотря на то, что уже оно непостижимо для нас, в дальнейшем, тем не менее, неслыханным образом становится превзойденным.
То, что сам Бог в Иисусе Христе стал и продолжает быть человеком – это нечто гораздо большее, чем творение, сохранение и управление, это само нисхождение Бога. Это означает, что сам Бог делает бытие этого другого, человека, своим собственным, он позволяет стать своему божественному бытию человеческим, а человеческому бытию божественным. Какое различие в единстве Бога мы видим тут! Итак, Бог един и находится в мире с самим собой в такой степени, что он способен на это нисхождение, что ему естественно это само-отчуждение (это значит, что ему не чуждо единство с кем-то чужим), и более того, как раз оно и есть непосредственное утверждение и подтверждение его единства, дело единства Отца с Сыном, Сына с Отцом, и, таким образом, то, что он стал человеком, есть дело единой божественной сущности. Продолжим наше размышление: становится человеком, не мнимым, а истинным человеком. И истинный человек не означает: человек в величии своего изначального предназначения, в котором он, хотя и как сотворенный, по крайней мере, мог претендовать на то, чтобы быть венцом остального творения. Но человек, с которым Бог становится единым, потерял это величие. Это величие должно быть снова даровано человеку лишь в результате единения с Богом. Оно есть terminus ad quem, но не terminus a quo[15] воплощения божественного Слова. Человек, с которым объединяется Бог, есть обремененный проклятием потомок Адама, плод рода впадавшего из одной неверности в другую и привлекаемого от одного суда к другому, рода Авраама и Давида. Избранный тут сосуд есть не благородный, не делающий честь Богу, но исполненный всяческими приметами отверженности сосуд. Тот, кто его принимает, есть воистину вечно святой Бог. Но тот, кого принимают, есть заблудший человек. Бог не просто терпит и поддерживает его, несмотря на то, как человек осуществил свое вот-бытие (Dasein) перед ним; он не просто издалека любит его; он не просто руководит им и воспитывает его; он не просто дает ему обещания и заповеди; он дарует ему не просто какие-то крохи своей благости; он не просто заключает с ним союз (насколько вообще таковой может быть заключен между очень неравными партнерами); он дарует ему ни как не меньшее и не что иное, как самого себя. С ним он вступает в общение, причем в такое полное общение, что он сам, Бог, заступает на его место, чтобы принять на себя страдания, предназначенные человеку, и чтобы на этом месте для него, человека, сделать благим то, что человек сделал злым, и чтобы, наоборот, человек вступил бы на место Бога, чтобы он, грешник, был облачен в божественную святость и праведность и смог поистине стать святым и праведным. Именно этот обмен и замена мест и предикатов есть совершенное общение между Богом и человеком, как оно осуществилось в воплощении, в личности Иисуса Христа, в крестной смерти Сына Божьего и в его воскресении из мертвых. Это умаление Бог допускает по отношению к самому себе, а этому другому, человеку, он позволяет быть частью возвышения. Именно этим самым он утверждает и подтверждает свое единство с самим собой, свое Божество. Этим самым образом он приходит к самооткровению, он открывает свое величие. Так глубоко Бог различается сам от себя. Еще раз: не в отказе, не в утрате своей божественности. Бог не мог бы быть как Бог более велик, чем в этом непостижимом умалении самого себя до человека, в этом непостижимом возвышении человека до самого себя. Именно в этом различии, именно в этом отказе от себя самого он и велик. И именно это высочайшее дело Бога вовне есть зеркало и образ его внутренней божественной сущности. Именно в этом зеркале и образе видим мы его, как он есть сам в себе: единый и, тем не менее, не вынужденный и не связанный необходимостью быть только единым, идентичный сам с собой и, тем не менее, свободный быть и кем-то другим, простой и, тем не менее, множественный, находящийся в самом себе в покое и, тем не менее, живой. Как может не быть всем этим одновременно тот, кто является тем и совершает то, что мы видим совершающимся и сущим через Бога в Иисусе Христе? Не в напряжении, диалектике, парадоксе и противоречии – если мы это себе так представляем, то в этом виноват не Бог, но ошибочность нашего мышления о Боге, – но в реальном единстве божественной сущности, которая – и сейчас мы повторяемся: которая имеет эту красивую, вызывающую радость форму. Красивое и вызывающее радость в сущности Бога есть именно то, что он так неистощим, так необходимо (и одновременно совершенно не принужден какой-то внешней необходимостью, но всецело движим лишь своей собственной необходимостью) един и, тем не менее, другой, и как этот другой, тем не менее, един: неслиянно и неизменно, но и нераздельно и неразлучно. В этом определении отношений божественной и человеческой природ в Иисусе Христе отражается форма, красивая форма божественной сущности. Так, в этом покое и движении Бог есть триединый, он обладает и является божественной сущностью в единстве и полноте всех ее обозначений. Поскольку это так, он есть не только источник всякой истины и всякого блага, но еще и всякой красоты. И поскольку о том, что это так, мы узнаем в Иисусе Христе, поэтому именно в Иисусе Христе мы и должны узнать эту красоту Бога.
Не какая-то красота, но красота Бога есть красота Иисуса Христа. Или конкретнее: красота того, что есть Бог и что он совершает в нем. Разве возможно не заметить представленное здесь единство величия и умаления Бога, его абсолютное величие и святость, и абсолютное милосердие и терпение, в котором именно это величие и святость не просто обращается к людям, но само нисходит к ним, единство верности себе и верности своему творению, в котором он действует? Разве возможно не заметить ту любовь, в которой Бог обладает свободой, и ту свободу, в которой Бог любит? Но как может увидеть форму этого события, образ сущности Бога в Иисусе Христе, тот, кому это не было открыто, тот, кто в это не верит, тот, кто это не пережил, и как может такой человек увидеть, что этот образ красив? Разве может Бог и в этом отношении быть познан иначе, чем через Бога?
Ис 53:2–3 говорит нам о том, как человек может заблуждаться именно в этом отношении, в отношении Иисуса Христа, и как он нуждается здесь в поучении: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Именно Иисус Христос предлагает нам и этот аспект, и более того, прежде всего именно его. То, что он и в этом аспекте, да, именно в нем, обладает видом и красотой, то, что красота Бога сияет именно в этом состоянии, то, что существует откровение и познание распятого Христа как воскресшего, – все это не является чем-то самим собой разумеющимся, все это человек не может вместить, это может быть лишь дано ему. Если кто-то ищет красоту Христа в его славе, которая не есть красота распятого, тот ищет ее напрасно. Но кто ищет ее в чем-то другом? И кто находит ее? Кто же не находит противоположного? Кто видит и верит в то, что именно этот умаленный и возвышенный, именно он есть истинный человек и истинный Бог? В этом единстве и разности сверкает величие, сверкает красота Бога. В этом единстве и разности она преобразует, убеждает и побеждает. Это единство и разность есть καλόν[16] Бога, которая как таковая имеет силу καλειν[17]. Это красота, которой не имел Соломон, но всей славой своей мог лишь предвещать ее, не имели ее – так мы должны будем сейчас сказать – и Афины со всем своим красивым гуманизмом, и, думая, что в отличие от Иерусалима они имеют ее, они не могли даже предвещать ее. Красивый гуманизм есть зеркало сущности Бога, в котором через Иисуса Христа отразилось человеколюбие (Тит 3:4). Но в этом самооткровении красота Бога объемлет собой как смерть, так и жизнь, как ужас, так и радость, как то, что мы хотели бы назвать отвратительным, так и то, что мы хотели бы назвать красивым. Она раскрывается на пути от одного к другому, в переходе от самоумаления Бога ради человека, к возвышению человека через Бога и до Бога, и она хочет быть узнанной. Этот переход есть тайна имени Иисуса Христа и величия, открытого в его имени. Кто познает это величие как не тот, кому оно само дало познать себя? И как оно может быть познано иначе, чем в лице того, кто сам дает нам его познать? Нет второго такого лица. Никакое другое лицо не является самооткровением божественного человеколюбия. Никакое другое лицо не может одновременно поведать о человеческом страдании истинного Бога и о божественной славе истинного человека. Это роль единственно лишь лица Иисуса Христа.
Перевод с немецкого Станислава Павлова
Каллист Уэр
Красота спасет мир[18]
«Страшная и таинственная»
«Красота спасет мир» – эта загадочная фраза Достоевского часто цитируется. Гораздо реже упоминается о том, что эти слова принадлежат одному из героев романа «Идиот» – князю Мышкину[19]. Автор не обязательно соглашается со взглядами, приписываемыми различным персонажам его литературных произведений. Хотя в этом случае князь Мышкин, по-видимому, действительно озвучивает собственные убеждения Достоевского, в других романах, скажем, в «Братьях Карамазовых», выражается гораздо более настороженное отношение к красоте. «Красота – это страшная и ужасная вещь, – говорит Дмитрий Карамазов. – Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречья вместе живут». Дмитрий добавляет, что в поисках красоты человек «начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским». И приходит к такому заключению: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»[20].
Возможно, что правы оба – и князь Мышкин, и Дмитрий Карамазов. В падшем мире красота носит опасный, двойственный характер: она не только спасительна, но и может ввести в глубокий соблазн. «Скажи, откуда ты приходишь, Красота? Твой взор – лазурь небес иль порожденье ада?» – вопрошает Бодлер. Еву прельстила именно красота плода, предложенного ей змием: она увидела, что он приятен для глаз (ср. Быт 3:6).
Эту двойственность подчеркивает автор Книги Премудрости Соломона. Красота сотворенных вещей, говорит он, ведет нас к Богу, «Виновнику красоты»,
ибо от величия красоты созданий (…) познается Виновник бытия их.Однако, продолжает он, это происходит не всегда. Красота может также сбить нас с пути, так что мы довольствуемся «видимыми совершенствами» временных вещей и уже не ищем их Творца (Прем 13:1–7). Само очарование красотой может оказаться западней, которая изображает мир как нечто не понятное, а не ясное, превращая красоту из таинства в идол. Красота перестает быть источником очищения, когда стано вится самоцелью вместо того, чтобы направлять ввысь.
Лорд Байрон был не совсем неправ, говоря о «даре пагубном чудесной красоты». Однако он не был и полностью прав. Ни на мгновение не забывая о двойственной природе красоты, нам лучше сосредоточиться на ее жизнетворящей силе, чем на ее соблазнах. Интереснее смотреть на свет, чем на тень. На первый взгляд, утверждение о том, что «красота спасет мир», может действительно показаться сентиментальным и далеким от жизни. Есть ли вообще смысл говорить о спасении через красоту перед лицом бесчисленных трагедий, с которыми мы сталкиваемся: болезней, голода, терроризма, этнических чисток, жестокого обращения с детьми? Тем не менее, слова Достоевского, возможно, предлагают нам очень важный ключ к разгадке, указывая на то, что страдания и скорби падшего создания могут быть искуплены и преображены. В надежде на это рассмотрим два уровня красоты: первый – божественную несотворенную красоту, а второй – сотворенную красоту при роды и людей.
Бог как красота
«Бог добр; Он – Сам Доброта. Бог правдив; Он – Сам Правда. Бог прославлен, и Его слава – сама Красота»[21]. Эти слова протоиерея Сергия Булгакова (1871–1944), возможно, величайшего православного мыслителя двадцатого столетия, дают нам подходящую отправную точку. Он работал над известной триадой греческой философии: добро, истина и красота. Эти три качества достигают у Бога совершенного совпадения, образуя единую и нераздельную реальность, но в то же время каждое из них выражает конкретную сторону божественного бытия. Тогда что означает божественная красота, если рассматривать ее отдельно от Его доброты и Его истины?
Ответ дает греческое слово kalos, что значит «красивый». Это слово можно также перевести как «добрый», но в упомянутой выше триаде для обозначения «доброго» используется другое слово – agathos. Тогда, воспринимая kalos в значении «красивый», мы можем, следуя Платону, отметить, что этимологи чески оно связано с глаголом kaleo, означающего «я зову» или «призываю», «я молю» или «взываю»[22]. В этом случае налицо особое качество красоты: она призывает, манит и притягивает нас. Она выводит нас за пределы самих себя и приводит к отношениям с Другим. Она пробуждает в нас eros, ощущение сильного желания и томления, которые К. С. Льюис в своей автобиографии называет «радостью»[23]. В каждом из нас живет тоска по красоте, жажда чего-то, запрятанного глубоко в нашем подсознании, того, что было известно нам в далеком прошлом, однако сейчас почему-то нам не подвластно.
Тем самым красота как объект или субъект нашего eros’а непосредственно влечет и тревожит нас своим магнетизмом и очарованием, так что не нуждается в оправе добродетели и истины. Одним словом, божественная красота выражает притягательную силу Бога. Сразу же становится очевидным, что существует неотъемлемая связь между красотой и любовью. Когда святой Августин (354–430) начал писать свою «Исповедь», то более всего его терзало то, что он не любил божественную красоту: «Слишком поздно я возлюбил Тебя, о Божественная Красота, столь древняя и столь юная!»[24]
Эта красота Царства Божьего является лейтмотивом Псалтири. Единственным желанием Давида является созерцание красоты Бога:
Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню (Пс 27/26:4).Обращаясь к мессианскому царю, Давид утверждает: «Ты прекраснее сынов человеческих» (Пс 45/44:3).
Если Бог сам красив, то так же красиво Его святилище, Его храм: «…сила и великолепие во святилище Его» (Пс 96/95:6). Таким образом, красота ассоциируется с богослужением: «…поклонитесь Гос поду в благолепном святилище Его» (Пс 29/28:2).
Бог являет себя в красоте: «С Сиона, который есть верх красоты, является Бог» (Пс 50/49:2).
Если красота, таким образом, имеет теофаническую при роду, то Христос – высшее самопроявление Бога – познается не только как добро (Мк 10:18) и истина (Ин 14:6), но в равной степени как красота. При преображении Христа на горе Фавор, где в высшей степени раскрылась божественная красота Богочеловека, святой Петр многозначительно говорит: «Хорошо (kalon) нам здесь быть» (Мф 17:4). Здесь надо вспомнить о двойном значении прилагательного kalos. Петр не только утверждает сущностное благо небесного видения, но и провозглашает: это место красоты. Тем самым слова Иисуса: «Я есмь пастырь добрый (kalos)» (Ин 10:11) можно с такой же, если не с большей точностью истолковать так: «Я есмь пастырь красивый (ho poemen ho kalos)». Этой версии придерживался архимандрит Лев Жилле (1893–1980), чьи размышления над Священным Писанием, часто публиковавшиеся под псевдонимом «монах Восточной церкви», столь высоко оцениваются членами нашего братства.
Двойное наследие Священного Писания и платонизма давало возможность греческим отцам церкви говорить о божественной красоте как о всеобъемлющей точке притяжения. Для святого Дионисия Ареопагита (ок. 500 г. от Р. Х.) красота Бога – это первопричина и одновременно цель всех сотворенных существ. Он пишет: «Из этой красоты ис ходит все существующее… Красота объединяет все вещи и является источником всех вещей. Это великая созидающая первопричина, которая пробуждает мир и хранит бытие всех вещей посредством присущей им жажды красоты»[25]. По словам Фомы Аквинского (около 1225–1274), «omnia… ex divina pulchritudine procedunt» – «все вещи возникают из Божественной Красоты»[26].
Будучи, согласно Дионисию, источником бытия и «созидающей первопричиной», красота в то же время является целью и «конечным пределом» всех вещей, их «конечной причиной». Отправная точка одновременно является конечной точкой. Жажда (eros) несотворенной красоты объединяет все сотворенные существа и соединяет их в одном прочном и гармоничном целом. Рассматривая связь между kalos и kaleo, Дионисий пишет: «Красота “призывает” все вещи к себе (по этой причине она называется “красотой”), и собирает все в себе»[27].
Божественная красота является, таким образом, первоисточником и осуществлением как формирующего начала, так и объединяющей цели. Хотя в Послании к Колоссянам святой апостол Павел не пользуется словом «красота», то, что он говорит, касаясь космического значения Христа, точно соответствует божественной красоте: «Им создано все… все Им и для Него создано…и все им стоит» (Кол 1:16–17).
Ищите Христа повсюду
Если таков всеобъемлющий масштаб божественной красоты, то что сказать о красоте сотворенной? Она существует, главным образом, на трех уровнях: вещей, людей и священнодействий, иными словами – это красота природы, красота ангелов и святых, а также красота литургического богослужения.
Красота природы особенно подчеркивается в завершении рассказа о сотворении мира в Книге Бытия: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1:31). В греческой версии Ветхого Завета (Септуагинте) выражение «очень хороший» передается словами kala lian, поэтому в силу двойного значения прилагательного kalos слова Книги Бытия могут быть переведены не только как «хорошо весьма», но и как «весьма красиво». Несомненно, есть веский довод для того, чтобы воспользоваться вторым толкованием: для современной светской культуры основным средством, благодаря которому большинство наших западных современников достигают от даленного представления о трансцендентном, является именно красота природы, так же как и поэзии, живописи и музыки. Для русского писателя Андрея Синявского (Абрама Терца), далекого от сентиментального ухода от жизни, поскольку пять лет он провел в советских лагерях, «природа – леса, горы, небеса – это бесконечность, данная нам в самом доступном, осязаемом виде»[28].
Духовная ценность природной красоты проявляется в суточном круге богослужения Православной церкви. В литургическом времени новый день начинается не в полночь и не на рассвете, а на закате солнца. Так понимается время в иудаизме, что проясняет история сотворения мира в Книге Бытия: «И был вечер, и было утро: день один» (Быт 1:5) – вечер наступает перед утром. Этот древнееврейский подход сохранился в христианстве. Значит, вечерня – это не завершение дня, а вступление в новый день, который только начинается. Это первая служба в суточном круге богослужения. Как же тогда начинается вечерня в Православной церкви? Она всегда начинается одинаково, за исключением пасхальной седмицы. Мы читаем или поем псалом, который является гимном восхваления красоты творения: «Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием… Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал ты премудро» (Пс 104/103: 1, 24).
Начиная новый день, мы прежде всего думаем о том, что окружающий нас сотворенный мир – это четкое отражение несотворенной красоты Бога. Вот что говорит о вечерне отец Александр Шмеман (1921–1983):
«Она начинается с начала, это значит, в переоткрытии, в благоволении и в благодарении мира, сотворенного Богом. Церковь словно приводит нас к первому вечеру, в который человек, призванный Богом к жизни, открыл глаза и увидел то, что Бог в Своей любви давал ему, увидел всю красоту, все великолепие храма, в котором он стоял, и вознес благодарение Богу. И, воздавая благодарение, он стал самим собой… И если Церковь – во Христе, то первое, что она делает – воздает благодарение, возвращает мир Богу»[29].
Ценность сотворенной красоты в равной степени подтверждается троичным построением христианской жизни, о чем неоднократно говорили духовные авторы христианского Востока, начиная с Оригена (ок. 185–254) и Евагрия Понтийского (346–399). Сокровенный путь различает три стадии или уровня: practici («активная жизнь»), physiki («созерцание природы») и theologia (созерцание Бога). Путь начинается с активных аскетических усилий, с борьбы за то, чтобы избегать греховных поступков, искоренять порочные мысли или страсти и таким образом достичь духовной свободы. Путь завершается «богословием», в этом контексте означающим видение Бога, единение в любви с Пресвятой Троицей. Но между двумя эти ми уровнями находится промежуточная стадия – «природное созерцание», или «созерцание природы».
«Созерцание природы» имеет два аспекта: отрицательный и положительный. Отрицательная сторона – это познание того, что вещи в падшем мире обманчивы и преходящи, и поэтому необходимо выйти за их пределы и обратиться к Создателю. Однако с положительной стороны это означает видеть Бога во всех вещах и все вещи в Боге. Еще раз процитируем Андрея Синявского: «Природа прекрасна, потому что на нее смотрит Бог. Молча, издалека Он смотрит на леса, и этого достаточно»[30]. То есть природное созерцание – это видение мира природы как тайны божественного присутствия. До того как мы сможем созерцать Бога таким, каков Он есть, мы учимся открывать Его в Его творениях. В теперешней жизни созерцать Бога таким, каков Он есть, может очень мало людей, но открывать Его в Его творениях может каждый из нас без исключения. Бог гораздо более досягаем, гораздо ближе к нам, чем мы обычно представляем. Каждый из нас может взойти к Богу через Его творение. По словам Александра Шмемана, «христианином является тот, кто, куда бы он ни смотрел, везде найдет Христа и возрадуется с Ним»[31]. Разве каждый из нас не может быть христианином в этом смысле?
Одним из мест, где особенно легко практиковать «созерцание природы», является святая гора Афон, что может подтвердить любой паломник. Русский пустынник Никон Карульский (1875–1963) говорил: «Здесь каждый камень дышит молитвами». Рассказывают, что другой афонский отшельник, грек, чья келья находилась на вершине скалы, обращенной на запад, к морю, каждый вечер сидел на выступе скалы, наблюдая за закатом солнца. Затем он шел в свою часовню для совершения ночного бдения. Однажды у него поселился ученик, молодой, практически настроенный монах с энергичным характером. Старец велел ему каждый вечер сидеть рядом с ним, пока он наблюдает за закатом. Через какое-то время ученик стал проявлять нетерпение. «Это прекрасный вид, – сказал он, – но мы любовались им вчера и за день до этого. В чем смысл ежевечернего наблюдения? Что вы делаете, пока сидите здесь, наблюдая за тем, как садится солнце?» И старец ответил: «Я собираю топливо».
Что он имел в виду? Несомненно, вот это: внешняя красота видимого создания помогала ему готовиться к ночной молитве, во время которой он стремился к внутренней красоте Царства Небесного. Обнаруживая присутствие Бога в природе, он мог потом без труда найти Бога в глубинах собственного сердца. Наблюдая за закатом, он «собирал топливо», материал, который будет придавать ему силы в предстоящем вскоре тайном богопознании. Такой была картина его духовного пути: через создание к Создателю, от «физики» к «богословию», от «созерцания природы» к созерцанию Бога.
Есть такая греческая поговорка: «Если хочешь узнать правду, спроси глупца или ребенка». Действительно, часто юродивые и дети чувствительны к красоте природы. Раз речь зашла о детях, западный читатель должен вспомнить примеры Томаса Траэрна и Уильяма Вордсворта, Эдвина Мюира и Кэтлин Райн. Замечательным представителем христианского Востока является священник Павел Флоренский (1882–1937), который погиб как мученик за веру в одном из сталинских концлагерей.
«Признаваясь, как сильно он любил природу в детстве, отец Павел далее поясняет, что для него все царство природы делится на две категории феноменов: “пленительно благодатных” и “крайне особенных”. Обе категории привлекали и восхищали его, одни – своей утонченной красотой и духовностью, другие – загадочной необычностью. “Благодать, поразившая великолепием, была светла и чрезвычайно близка. Я любил ее со всей полнотой нежности, восхищался ею до судорог, до острого сострадания, спрашивая, почему я не могу полностью слиться с нею и, наконец, почему я не могу навсегда вобрать ее в себя или поглотиться в ней”. Это острое, пронзительное стремление детского сознания, всего существа ребенка полностью слиться с прекрасным предметом должно было с тех пор сохраниться у Флоренского, приобретая завершенность, выражающуюся в традиционно православном стремлении души слиться с Богом»[32].
Красота святых
«Созерцать природу» означает не только находить Бога в каждой сотворенной вещи, но также, что гораздо глубже, обнаруживать Его в каждом человеке. Благодаря тому что люди созданы по образу и подобию Бога, все они причастны божественной красоте. И хотя это относится к каждому чело веку без исключения, несмотря на его внешнюю деградацию и греховность, изначально и в высшей степени это истинно по отношению к святым. Аскетизм, согласно Флоренскому, создает не столько «доброго», сколько «красивого» человека»[33].
Это подводит нас ко второму из трех уровней сотворенной красоты: красоте сонма святых. Они красивы не чувственной или физической красотой, не красотой, которая оценивается светскими «эстетическими» критериями, а абстрактной, духовной красотой. Эта духовная красота прежде всего проявляется у Марии, Матери Божьей. По словам преподобного Ефрема Сирина (ок. 306–373), она является наивысшим выражением сотворенной красоты:
«Ты един, о Иисус, с Твоей Матерью прекрасны во всех отношениях. Нет в Тебе ни одного недостатка, Господь мой, нет ни единого пятна на Матери Твоей»[34].
После Пресвятой Девы Марии олицетворением красоты являются святые ангелы. В своих строгих иерархиях они, по словам святого Дионисия Ареопагита, представляются «сим волом Божественной Красоты»[35]. Вот что сказано об Архангеле Михаиле: «Твой лик сияет, о Михаил, первый среди ангелов, а красота твоя полна чудес»[36].
Красота святых подчеркивается словами из книги пророка Исаии: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир» (Ис 52:7; Рим 10:15). Она ярко акцентируется также в описании святого преподобного Серафима Саровско го, данном паломницей Н. Аксаковой:
«Все мы, бедные и богатые, ждали его, столпившись у входа в храм. Когда он появился в дверях церкви, взоры всех присутствующих устремились на него. Он медленно спустился по ступенькам, и, невзирая на легкую хромоту и горб, он казался и действительно был чрезвычайно красив»[37].
Несомненно, нет ничего случайного в том, что знаменитое собрание духовных текстов XVIII века под редакцией святого Макария Коринфского и святого Никодима Святогорца, где канонически описывается путь к святости, названо «Philokalia» – «Любовь к красоте».
Литургическая красота
Именно красота божественной литургии, проходившей в великом храме Святой Премудрости в Константинополе, обратила русских в христианскую веру. «Мы не знали, где находимся – на небесах или на земле, – отчитывались посланники князя Владимира по возвращении в Киев, – «…поэтому мы не в силах забыть эту красоту»[38]. Эта литургическая красота выражается в нашем богослужении посредством четырех основных форм:
«Годовая последовательность постов и праздников – это время, представляемое красивым.
Архитектура церковных зданий – это пространство, представляемое красивым.
Святые иконы – это образы, представляемые красивыми. По словам отца Сергия Булгакова, «человек призван быть творцом не для того только, чтобы созерцать красоту мира, но и для того, чтобы выражать ее»; иконография – это «участие человека в преображении мира»[39].
Церковное пение с различными напевами, построенными на восьми нотах, – это звук, представляемый красивым: по словам святого Амвросия Медиоланского (ок. 339–397), «в псалме наставление соперничает с красотой… мы заставляем землю откликаться на музыку небес»[40].
Все эти формы сотворенной красоты – красоты природы, святых, божественной литургии – обладают двумя общими качествами: сотворенная красота является диафаничной и теофаничной. В обоих случая красота делает вещи и людей ясными. Прежде всего, красота делает вещи и людей диафаничными в том смысле, что она мотивирует особую правду каждой вещи, ее неотъемлемую суть, чтобы светиться сквозь нее. Как говорит Булгаков, «вещи преображаются и светятся красотой; они раскрывают свою абстрактную суть»[41]. Однако здесь было бы точнее опустить слово «абстрактный», поскольку красота не является неопределенной и обобщенной; наоборот, она «крайне особенная», что очень ценил молодой Флоренский. Во-вторых, красота делает вещи и людей теофаничными, так что через них светится Бог. По словам того же Булгакова, «красота – это объективный закон мира, открывающий нам Божественную Славу»[42].
Таким образом, красивые люди и красивые вещи указывают на то, что лежит за их пределами, – на Бога. Через видимое они свидетельствуют о присутствии невидимого. Красота – это трансцендентное, ставшее имманентным; по словам Дитриха Бонхеффера, она «и запредельна, и пребывает среди нас»[43]. Примечательно, что Булгаков называет красоту «объективным законом». Способность постигать красоту, как божественную, так и сотворенную, подразумевает нечто гораздо большее, чем наши субъективные «эстетические» предпочтения. На уровне духа красота сосуществует с истиной.
С теофанической точки зрения, красоту как проявление присутствия и силы Бога можно назвать «символической» в полном и буквальном смысле этого слова. Symbolon, от глагола symballo – «свожу вместе» или «соединяю», – это то, что при водит в правильное соотношение и объединяет два различных уровня реальности. Таким образом, святые дары в евхаристии греческие отцы церкви называют «символами», но не в слабом смысле, как если бы они были просто знаками или визуальным напоминанием, а в сильном смысле: они непосредственно и действенно представляют истинное присутствие тела и крови Христа. С другой стороны, святые иконы также являются символами: они передают молящимся ощущение присутствия изображенных на них святых. Это относится и к любому про явлению красоты в сотворенных вещах: такая красота является символической в том смысле, что она олицетворяет божественное. Таким путем красота приводит Бога к нам, а нас – к Богу; это двусторонняя входная дверь. Поэтому красота наделяется священной силой, выступая проводником Божьей благодати, действенным средством очищения от грехов и исцеления. Вот почему можно просто провозгласить, что красота спасет мир.
Кенотическая (умаляющаяся) и жертвенная красота
Однако мы до сих пор не ответили на вопрос, выдвинутый в начале. Разве афоризм Достоевского не сентиментален и не да лек от жизни? Какое решение может быть предложено посредством призывания красоты перед лицом угнетения, страданий невинных людей, мучений и отчаяния современного мира?
Вернемся к словам Христа: «Я есмь пастырь добрый» (Ин 10:11). Сразу же после этого Он продолжает: «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Миссия Спасителя как пастыря облечена не только красотой, но мученическим крестом. Божественная красота, олицетворенная в Богочеловеке, – спасительная красота именно потому, что это жертвенная и умаляющаяся красота, красота, которая достигается через самоопустошение и уничижение, через добровольные страдания и смерть. Такая красота, красота страдающего Раба, сокрыта от мира, поэтому о нем говорится: «Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему» (Ис 53:2). Тем не менее для верующих божественная красота, хотя она и сокрыта от взора, все динамически присутствует в распятом Христе.
Мы можем без всякой сентиментальности и бегства от жизни сказать, что «красота спасет мир», исходя из крайней важности того, что преображение Христа, Его распятие и Его воскресение по существу связаны друг с другом, как аспекты одной трагедии, нераздельной тайны. Преображение как проявление несотворенной красоты тесно связано с крестом (см. Лк 9:31)[44]. Крест, в свою очередь, никогда не должен отделяться от воскресения. Крест выявляет красоту боли и смерти, воскресение – красоту за пределами смерти. Итак, в служении Христа красота объемлет и тьму, и свет, и уничижение, и славу. Красота, воплощенная Христом Спасителем и переданная Им членам тела Его, – это, прежде всего, сложная и ранимая красота, и именно по этой причине это красота, которая действительно может спасти мир. Божественная красота, так же как и красота сотворенная, которой Бог наделил свой мир, не предлагает нам путь в обход страданий. На самом деле она предлагает путь, проходящий через страдания и, таким образом, за пределами страданий.
Несмотря на последствия грехопадения и невзирая на нашу глубокую греховность, мир остается созданием Божьим. Он не перестал быть «совершенно красивым». Несмотря на отчуждение и страдания людей, среди нас все еще присутствует божественная красота, по-прежнему действенная, постоянно исцеляющая и преображающая. Даже сейчас красота спасает мир, и она всегда будет продолжать делать это. Но это красота Бога, который полностью объемлет боль сотворенного Им мира, красота Бога, который умер на кресте и на третий день победоносно воскрес из мертвых.
Перевод с английского Татьяны Чикиной
Дэвид Харт
Красота бесконечного[45]
Случилось так, что красота попала в заслуживающую внимания немилость в современном философском дискурсе, едва не исчезнув как термин в философской эстетике[46]. Отчасти это можно приписать слепому увлечению восемнадцатого века различением Псевдо-Лонгина между прекрасным и возвышенным – одним из злосчастных последствий этого явилось сведeние сферы прекрасного к привлекательному, просто декоративному или безобидно приятному; в климате постмодернистской мысли, чей дух приближается к возвышенному, но большей частью разлагающе действует на пре красное, статус красоты понизился до чего-то попросту фиктивно го, до спазма иллюзорного покоя среди величественности бытия, его «бесконечной скорости». Кроме того, в красоте есть несомненный этический вред: не только в своей истории, как некое привилегированное занятие, особый интерес экономически и социально свободной элиты, но в самой безвозмездности, с какой она предлагает себя. Есть в красоте выбивающая из колеи расточительность, есть что-то распутное в том, как она раздает себя даже в самой гнусной среде, ее успокаивающая сладость, кажется, часто превращает самые невыносимые обстоятельства во вполне сносные: деревня, опустошенная чумой, может лежать в тени велико лепного горного хребта; мраморная неподвижность ребенка, толь ко что умершего от менингита, может выглядеть как потрясающе обворожительная картина; камбоджийские поля, на которых убивали людей, часто покрывались сочными цветами; нацистские начальники, бывало, засыпали под музыку Баха, исполняемую ансамблем евреев-заключенных; и, вне сомнения, лагеря смерти каждый день окрашивались в тончайшие тона закатного неба. По-видимому, красота обещает примирение за пределами противоречий момента, как бы помещая трагедии времени в более широкую перспективу гармонии и смысла, в равновесие вежду светом и тьмой; красота кажется оправданием своего же насилия. Но в эпоху, когда в общем и целом было достигнуто – и по справедливости – решение, что насилие опыта нельзя помещать в контекст трансцендентного примирения, а следует просто принимать с серьезной и осторожной этической бдительностью со стороны рефлектирующего ума, красота – постигаемая как благодатный покой, искусственно помещенный на поверхность изначального онтологического хаоса, – смеется над стремлением к справедливости; если красота в действительности была бы всего лишь уклонением от зрелища мировых страданий, то философия оказалась бы невыносимо беспомощной в своих усилиях не стать похожей на что-то типа брехтовского театра, нетерпимого к чарам бытия и к мистифицирующей силе красоты. И, по правде говоря, в языке красоты, со строго теоретической точки зрения, есть некая выводящая нас из себя неопределенность (хотя можно было бы предпочесть слово «богатство»); современное разочарование в прекрасном как понятии отчасти отражает то чувство, что, хотя красота есть нечто, о чем можно сделать высказывание – и так, что оно покажется имеющим смысл, – само слово «красота» ни на что не указывает: ни на конкретное качество, ни на свойство, ни на функцию, ни даже на субъективную реакцию на объект или событие; оно не предлагает никакого феноменологического приобретения у эстетического опыта. И все-таки ничто другое не влияет на наше внимание одно временно с такой силой и с такой вызывающей непосредственностью. Красота пребывает повсюду, в самом порядке вещей, вновь и вновь являя себя так, словно бросает с одинаковой дерзостью вызов и описанию, и отрицанию.
Еще более важно то, что красота – это категория, необходимая христианскому мышлению; все, что богословие говорит о триединой жизни Бога, даровании творения, воплощении Слова и спасении мира, дает место мышлению – да и поистине от него зависит – и повествованию (narrative) о прекрасном. Ганс Урс фон Бальтазар заявляет, что существует «христианский принцип», явленный во Христе – неотделимый от божественного «содержания» Его личности, – который уникальным образом не противопоставляет форму бесконечному; «это, – пишет он, – делает христианский принцип преизобилующим и непревосходимым принципом всякой эстетики; христианство становится эстетической религией par excellence[47].
Можно было бы добавить, что эстетический характер христианской мысли заставляет также осмыслить несводимую историчность содержания христианской веры: керигма, возвещение того, что Христос заповедал своим ученикам проповедь, – это не какая-то вневременная мудрость, этическое или духовное кредо, подкрепляемое назидательным примером своего провозвестника, Wesen des Christentums[48], но конкретная история, конкретный иудей, конкретная форма. Однако невозможно предложить дефиницию красоты – ни в абстрактном, ни в христианском мышлении; то, что здесь можно предпринять, – дать описание общей «тематики» пре красного, пространное резюме тем, управляющих значением «красоты» в том, что последует ниже. Как станет ясно, расположение этих тем отчасти произвольно; они неразрывно вплетены одна в другую, и можно было бы расположить их в совершенно ином порядке и с иными акцентами. И, так как есть нечто экспериментальное и хрупкое в этом наборе тем, каждую из них можно представить лишь как обобщение, которое конкретизируется ниже. Определенная степень (будем надеяться, плодотворной) неточности неизбежна, так как эти дефиниции – отправные пункты, не что, скорее зачаточное, кумулятивное, нежели дедуктивное, пред лагаемое ex convenientia[49], скорее ради первоначальной ясности, чем ради конечного синтеза.
1. Красота объективна. Это утверждается не с точки зрения какой-либо догмы или «науки» о прекрасном; в многообразии опыта нет такой объективной вещи, которая была бы выделена из общего ряда, описана и охарактеризована и чье название – «красота». Тем не менее красота обладает феноменальным преимуществом, безупречным первенством по отношению к какой бы то ни было реакции, которую она вызывает; она обнаруживается в рамках широчайшей и в то же время подробнейшей шкалы градаций, одновременно знакомая и чуждая, близкая и далекая; попытки сделать ее послушной отдельной семантике неизбежно терпят крах и неуправляемо уводят во все более неточное многословие. Прекрасное не есть вымысел желания, его собственная природа не исчерпывается феноменологией удовольствия; его (прекрасное) можно признавать вопреки желанию или как то, желанию чего следует способствовать. В прекрасном есть некая переполняющая данность, и обнаруживается оно в изумлении, во встрече с чем-то неожиданным, случайным, по сути неописуемым; оно опознается лишь в момент отклика на него, с позиции человека, к которому оно уже обращено и который может теперь лишь откликнуться. Это преимущество и эта случайность позволяют богословию услышать, в миг пришествия красоты, возвещение благости и славы Бога и увидеть, в притягательности прекрасного, что творение приглашено разделить эти благость и славу. Так говорится в Псалмах: «Вкусите и увидите, как благ Господь» (33:8)[50]. Таким образом, красота определяет богословское понимание божественной славы: красота показывает, что эта слава не только святая, властная, грандиозная и праведная, но и благая и желанная, благодатный дар Бога; может быть, она также показывает, что творение привлекательно – и притягательно – для Бога. В прекрасном слава Божья проявляется как нечто воспринимаемое, что может передано другому, и по самой своей сути восхитительное, как то, что включает творение в разных его аспектах и вполне заслуживает любви; красота показывает как благодатное и приглашающее то, что Божья слава являет как необходимое и принуждающее; слава взывает не только к трепету и покаянию, но и к радости; сияние Господне, так сказать, явлено в деянии. В признании Божьей славы под видом красоты есть и моральный элемент: прекрасное стимулирует привязанность, которая оказывается также и отчужденностью, обладанием в не-обладании, так как его (прекрасное) можно принять лишь на расстоянии, лишь в позволении ему просто быть – в качестве дара; там, где красота дарит себя как красота, она освящает инаковость (otherness) как благо – и благо Божье. Но, при всем сказанном, объективность красоты все же не делает красоту от дельным объектом. Христианское понимание красоты – аналогическое, в двух смыслах: в простом аналитическом смысле – что бы красота ни означала, это улавливается только по аналогии, через постоянную открытость неисчислимым мгновениям пришествия красоты и через постоянную и последовательную «проверку» (по скольку в богословских терминах Бог есть тот «изначальный источник аналогии (analogate)», которому и приписывается красота); а в более радикальном онтологическом смысле – красота не есть некое свойство, присущее разным отдельным объектам, но она пребывает в аналогической взаимосвязанности всех вещей в их отношении одна к другой как мера динамизма их сопричастности друг другу. Христианское применение слова «красота» наиболее сущностным образом отсылает к взаимосвязи дарения и преображения, передачи и возврата богатств бытия.
2. Красота есть истинная форма расстояния. Красота обитает в расстоянии, принадлежит ему и обладает им, но вдобавок ко всему этому она дает расстояние. Если сфера сотворенных различий существует для Божьей радости (Откр 4:11), то удаленность творения от Бога и всякая отдаленность внутри творения изначально принадлежат интервалу между оценкой и одобрением, дистанции обаяния и восхищения. Наслаждение Бога – та красота, которой обладает в его глазах творение, – лежит в основе отдельного бытия творения, и потому красота – это первое и самое истинное слово, касающееся всего того, что возникает в рамках бытия; красота – это показ того, что есть; Бог посмотрел на то, что Он создал, и увидел, что это хорошо. В мире красота не просто украшает внешнее пространство или пересекает протяженные дистанции как некий странник, но она сама есть истинная форма этих протяженностей-дистанций, образующая их как грамматика различия. Это присутствие дистанции внутри прекрасного, как изначальный эффект красоты, обеспечивает сущностную логику богословской эстетики: ту, которая не истолковывает всякую дистанцию как первоначальное отсутствие или как дистанцию гетерогенных и принуждающих сил дифференциации, но видит в дистанции – и во всех интервалах, ее составляющих, – возможность мирных аналогий и репрезентаций, которые никогда не искажают и не принуждают объект рассмотрения. Если «метафизикой» и впрямь именуется тот вид дискурса, который стремится к отрицанию различия и преодолению дистанции, то надлежащее понимание мес та красоты в богословии может показать, как христианская мысль избегает метафизических амбиций, не жертвуя (вопреки распространенному философскому предрассудку) языком аналогии, примирением или истиной. Ибо первая мысль – более изначальная, нежели различие между тем же и другим, трансцендентным и имманентным или даже Бытием и сущим (Being and beings) – это мысль о том расстоянии, которое открывает все различия, о промежутке между их границами, о событии их возникновения; и, утверждая, что расстояние есть изначальный дар прекрасного – а не безликая величественность воли или силы, или différance[51], или онтологическое Ничто, – богословие интерпретирует природу и возможность всякого интервала в бытии. На уровне обычного опыта дистанция внутри прекрасного обретается в пространстве между Я и объектом, который Я держит в поле своего зрения, также и дистанция между этим объектом и бесконечным горизонтом; под этим последним я не подразумеваю вид ноэтического «предсхватывания», направленность к бесформенному «бесконечному абсолютному», которое превосходит эстетическое, при том что оно и открывает его, а лишь имею в виду, что объект внимания, любви или трепетного преклонения никогда не помещен окончательно, определенно, но всегда – рядоположенно и последова тельно и открыто для бесконечности перспектив. Таким образом, бесконечное, к которому красота ведет рефлексию и которое открывает то пространство, где в каждом отдельном примере сияет красота, и есть сама красота. А так как избыток «смысла» в пре красном состоит во внимании и побуждает внимание к этому бесконечному содержанию расстояния-дистанции, он делает возможным непрестанное пополнение: он всегда готов пуститься в путь, всегда может нарушать стабильные иерархии интерпретации, вдохновлять бесконечные уходы и возвращения и призывать к повторению и варьированию; он высвобождает непрерывное распределение смысла сквозь расстояния. Ни один пример прекрасного (скажем, форма Христа) не может быть удержан в рамках диалектической структуры истины или узнан вне своего эстетического ряда; он всегда расположен в точках зрения, позициях, отправных пунктах, но никогда не фиксирован, не замкнут, не исчерпан, не управляем. Притягательность – риторика – прекрасного, его превосходство над любой формой единичности или изолированности всегда, таким образом, создает и воссоздает дистанцию. Ибо эта дистанция, которая предусматривает бесконечный исход из и возвращение к объекту внимания, принадлежит красоте, вопросы, которые должна обдумывать богословская эстетика, суть вопросы о том, какова форма этой дистанции, каково ее подлинное содержание, как в ней истинно пребывать и как ее обнаружить; для христианского мышления в любом случае ответом должен быть мир (peace).
3. Красота вызывает желание. Это следует подчеркнуть по двум причинам. Во-первых, красота – это не просто вымысел плодовитого, беспредпосылочного, спонтанного избытка воли, желание, которое предсуществует по отношению к объекту своего притязания и аппетита и предрасполагает его (как считают некоторые современные школы мысли), но она предваряет и выявляет желание, просит о нем и требует его (часто впустую) и формирует ту волю, которая его принимает. Во-вторых, красота нуждается имен но в искреннем желании (которому и отвечает), а не в каком-то идеально бескорыстном и унылом состоянии созерцания: хотя ей нужно не грубое, обедненное желание поглощать и располагать, а желание, достигающее своей полноты в дистанции, пребывающее рядом с тем, что оно любит и чем обладает в интимности необладания. В то время как, например, Кант считал «корыстное» желание отрицанием как эстетического, так и этического – как несовместимое с созерцательной бесстрастностью в случае эстетики и с категорическим императивом в случае этики, для христианской мысли желание – которое включает интерес – должно быть неотъемлемым в обоих случаях. Именно приятность инаковости другого (other’s otherness), благость, которую Бог видит в творении, пробуждают желание того, чтo оно (желание) должно утверждать и по отношению к чему оно не должно быть насилием, и являют любовь как меру снисходительной отстраненности, которая должна умерять восторги желания; только в желании познается прекрасное и слышится его приглашающий зов. Тут христианская мысль, быть может, познает что-то из того, каким образом тринитарная любовь Бога – и любовь, в которой Бог нуждается со стороны творений, – есть эрос и агапэ одновременно: желание, обращенное к другому (other), наслаждающееся им «на расстоянии» его инаковости (other ness). Но желанию нужно и содействовать; прекрасное не всегда непосредственно предоставляет себя любому вкусу; красота Христа, подобно красоте страдающего раба, о котором говорит пророк Исайя, не выражается в праздной миловидности или в чарующем блеске, лишенном всякой тени, но требует любви, которая милосердна, которую не ужасает расстояние тайны и которая не сожалеет о том, что ей не удается увидеть красоты; это значит – достигать того, что Августин называет склонностью к красоте Бога (Soliloquia 1.3-14). Как только научишься этой склонности, божественная красота, как говорит Григорий Нисский, воспламеняет желание, вовлекая тебя в бесконечный epektasis, простирание ко все большему охвату божественной сла вы. И, как еще отмечает Августин, то, что любишь – чего желаешь, – как раз и определяет, к какому граду ты принадлежишь (Enarrationes in Psalmos 2.64.2).
4. Красота пересекает границы. Среди трансценденталий красота всегда была самой неспокойной на своем возвышенном месте; идея прекрасного – которая так или иначе требует осуществить его «идеальную» природу – никогда не была реально отделена от красоты, которая имеется вблизи, «под рукой». (В мысли Плотина, например, нет простого разграничения между красотой как идеей и красотой как эстетическим опытом.)[52] Красота движется, забывая о границах, отделяющих идеальное от реального, транс цендентное от имманентного, сверхъестественное от естественно го, внешне привлекательное от глубинного – даже, быть может, природы от благодати; «столь забывчивое пересечение этих границ, – замечает Бальтазар, – принадлежит сущности прекрасного и эстетики почти как необходимость»[53]. Красота манкирует наши ми разграничениями, ставит их под вопрос и демонстрирует то, что само себя являет вопреки им: Божью славу. Для христианской мысли безразличие красоты к должному порядку дальнего и близ кого, великого и малого, отсутствующего и присутствующего, духовного и материального должно указывать на преемственность между славой божественной и славой сотворенной, на то, как слава неба и земли действительно провозглашает себя и как она при надлежит славе бесконечного Бога. Как особое выражение грамматики славы, препоручающее ее восторгу творения, красота являет природу как музыку благодати, а творение – как исполненное божественного великолепия. Есть, кроме того, чудесная наивность в том отклике, который непосредственно вызывает прекрасное: ни в Библии, ни в патристическом богословии благость, истинность или господство Бога не отделяются от Его славы, Его притягательности или Его внушающей трепет святости; то, что Бог благ, можно увидеть и вкусить; а это означает, что богословие красоты должно, не колеблясь, выражать себя временами как онтология, эпистемология или этика. Что касается последней, богословию следует продумать то, как красота может морально принуждать силой своей избыточности: именно восхищенное узрение того, что является иным, чем ты сам, – различие (difference), создаваемое Богом, Который различает (differentiates), то, что в глазах Бога приносит наслаждение и чем Он наслаждается, – именно это побуждает нас утверждать инаковость иного, лелеять ее и откликаться на нее; в этическом есть начальный эстетический момент пробуждения желания, который христианская мысль может уловить в свете того, что она говорит о троичности Бога и о Его действии в творении. Богословию, в конечном счете, следует не только не тревожиться из-за расточительности красоты, из-за ее пренебрежения столь многими установленными границами, но вдохновляться всем этим: прекрасное исключительным образом отображает динамическое вовлечение бесконечного в конечное, неуправляемый избыток, заключенный в объекте красоты, радушие бесконечного по отношению к конечному; и уникальным образом христианская мысль должна думать о прекрасном и о бесконечном одновременно. Красота пересекает любые границы и тем самым являет Бога, превосходящего всякое разделение, включая опять же разделение между трансцендентным и имманентным.
5. Власть красоты предохраняет богословие от всякой тенденции к гностицизму – и по двум причинам: с одной стороны, красота мира (world) представляет творение как настоящий театр божественной славы – как благое, благодатное, привлекательное и желанное, причастное к Божьему величию, – а с другой, она показывает, что мир (world) не является необходимым, что он – выражение божественной славы, свободное, созданное для Божьего наслаждения, и потому мир – это не какой-то ограничивающий момент в сознании Бога и не следствие какого-то изъяна или падения внутри божественного. Частной озаренности «духовного человека» (пнэуматикос) и унылой отдаленности зова, исходящего от чуждого бога, противостоит творение как открытое и ошеломляющее возвещение Божьей славы, красота, которая наполняет и поддерживает небеса и землю, божественная доброта, которая выражает себя в свете, плоти и форме. В то время как «знание», предлагаемое любым гностицизмом, диалектично без остатка (то есть его содержание фактически исчерпано отрицанием мира, оставляя место лишь для фантастических мифологий самости), обращенность красоты безудержно риторична, она ничего не отрицает, а просто развертывает себя во все большем разнообразии и сложности, охватывая всю целостность явленного творения и сопротивляясь всякой редукции. Божья слава и благость творения возвещаются с одинаковым красноречием и с одинаковой истинностью каждый миг, в каждом промежутке бытия, в бесконечной череде избыточных утверждений этих славы и благости. Гностический дуализм мог бы показаться до некоторой степени анахроническим интересом, но гностический импульс принадлежит не только Античности: как тайный соблазн, он веками настойчиво преследовал богословие. Где бы ни пыталось богословие утешить тех, кто оскорблен реальной конкретностью Христа, или где бы оно ни прилагало усилий, чтобы извлечь универсально значимую мудрость из локальной ограниченности Евангелий, там гносис начинает обретать форму за счет христианской керигмы.
Богословие Рудольфа Бультмана есть, возможно, наиболее поразительный пример в последнем богословском поколении, показывающий, как все еще глубока эта склонность и как она всецело связана с недостаточной эстетикой творения. Вообще говоря, бультмановская мысль, конечно, запаздывает по отношению к «либерально-протестантскому» проекту, который в течение двух веков стремился извлечь из упрямой историчности керигмы некое более универсально значимое содержание – религиозное, этическое, социальное, – с тем чтобы «переправить» Христа через лессинговский поток к его более приемлемому берегу; цели этого проекта были, возможно с самого начала, и недостижимы, и нежелательны. А особенно бультмановская попытка – в тех случаях, когда она вписывается в указанную традицию, – раскрыть более глубокий «смысл» или «сущность» внутри христианского «мифа» рискованно уводит далеко в те миазматические сферы «экзистенциального», где с неодолимостью сорной травы разрастаются бессмысленные слова – такие как «смысл» – и слова с сомнительной родословной – такие как «аутентичность». Но настоящая опасность, которую несет бультмановская мысль, – это гностическое обеднение и затемнение Евангелия, его превращение в сказку души, истинный смысл которой – мудрость и мир (peace), удостаивающие душу своим нисхождением в нее, в неосязаемые глубины самости. Его богословие демонстрирует с необычайной ясностью, что демифологизировать – не значит демистифицировать; конечное действие этого богословия – не обоснование веры в истории или мирском бытии творения, а деисторизация, отнятие у души этого мирского бытия, превращение веры в опыт мистического эсхатона в его бесконечном пришествии, в сокровенной сердцевине настоящего, опыт, сообщаемый самости в ее неприкосновенно-нерушимой субъективности. Церковь как общество во времени (и общество, стало быть, как потенциальная церковь) вытесняется из центра веры повестью о самости как о бездомном страннике, стремящемся убежать от истории. Нигде это не обретает более четкого выражения, чем в работе Бультмана Иисус Христос и мифология, кратком бультмановском размышлении о природе истории, мифа и веры, на протяжении которого он трактует историю как закрытый каузальный континуум (выказывая весьма малую осведомленность о том, насколько зыбка и метафорична такая концепция), континуум, вторжение в который «сверхъестественного» может быть только «помехой» или «вторжением»[54]; и, отправляясь из столь прямолинейно некритической позиции, он неизбежно определяет как «миф» все, что только может быть узнаваемо имманентного в рамках этой подробно представленной цепи следствий. Подобная схема не способна допустить никаких настоящих различий; все, что не подходит – будь то нечто столь сказочное, как рассказ об Эдеме, или столь сложное, как рассказ о воплощении[55], – игнорируется с одинаковой нетерпимостью, так что позади не остается ничего конкретного, кроме этого замкнутого континуума причинности – а причинность явно не спасает. Но Бультман, и это очевидно, не может просто «натурализовать» спасительное Божье действие, да и природа и история для него одинаково закрыты для всякой трансценденции. А поэтому для него христианский рассказ о спасении реально больше не взаимодействует с миром (world), но отгораживается от него в заповедных глубинах самости. В данном случае оказывается, что безапелляционное принижение мифа перед историей лишает саму историю со всеми ее подробностями ка кой-либо ценности; изучение истории должно теперь стать метафизическим дискурсом о сущностях, копающимся в прошлом ради «истины относительно человеческой жизни»[56].
Разумеется, это хорошо – признавать, что геоцентрический взгляд на вселенную неправилен или что небесные сферы не отделяют физически царство Всевышнего от мира внизу, но Бультман идет дальше; его богословие переносит центр тяжести веры на трансцендентальную глубину внутреннего мира, уничтожая вся кую эстетическую преемственность между Богом и творением, и поэтому необходимым образом замыкается в гностицизме, который извлекает из болота сотворенной случайности чисто духовную, бесформенную, сокровенную и невыразимую мудрость, освобожденную от иллюзий. С точки зрения этого внутреннего «просветления» красота мира (world) – ничто. Процитируем самого Бультмана:
Понятие прекрасного не имеет никакого значения для формирования жизни христианской веры, которая видит в прекрасном искушение ложного преображения мира, отвлекающее взор от «потустороннего». (…) Если прекрасное – это образ, в котором запутывающее и запутанное движение жизни в известном смысле останавливается и становится доступным взгляду, находящемуся на расстоянии от него, таким образом раскрывая ему (то есть чело веку) более глубокое значение, то для христианской веры истин но, что она не является искусством, раскрывающим глубины реальности, и что она постигается не в дистанцированном акте видения, но, скорее, в страдании. Ответ на вопрос, поставленный в человеческой судьбе, никогда не может воплотиться в деянии искусства, но его всегда следует обретать в самом претерпевании страдания. Прекрасное (…), следовательно, насколько оно касается христианской веры, всегда есть нечто, что находится за пре делами этой жизни[57].
Трудно не увидеть здесь своего рода варварства – не только в восприятии, но и в смысле богословской проницательности. Если на миг проигнорировать представляющие трудность допущения, что красота всего лишь утихомиривает суматоху существования и что божественная истина есть нечто находящееся в «потустороннем», от которого материальная красота может отвлечь душу, то окажется весьма непонятным тот факт, что Бультман-богослов так озабочен скорее измерением «глубин реальности», нежели стремлением собственно постигнуть ее поверхность как ту ткань, которая придает Божьей славе чудесное, разнообразное и подвижное выражение; и удивляет то, как явно мистицизм личного страдания затмевает здесь реальность расстояния, потребность созерцания, дистанцию между откровением и инаковостью. А что касается истины искусства (красоту которого не следует отличать от красоты творения), нужно задаться вопросом: может ли не «воплощенное» в человеческом искусстве – будь то фантазии, повествования, картины, изделия ремесла – знание вообще быть знанием чего-то. По правде говоря, для Бультмана все, что обладает значением, погружено в сумрак зарождения, помещено внутри лишен ной мира (worldless) субъективности, во внутреннем откровении и божественном призвании – возвышенных и в то же время сообразующихся с измерениями самости. Эту акосмическую и непосредственную границу (или ее пересечение) между божественной обращенностью вовне и экзистенциальной обращенностью вовнутрь можно сравнить с тем знанием рациональной и моральной свободы, которое предоставляет опыт третьей кантовской критики, или даже с теми двумя моментами возвышенного, которые вызывают у Канта благоговейный трепет: звездным небом над головой и нравственным законом внутри, хотя для Бультмана это небо едва ли не сделалось немым. Как только богословие отказывается от библейского понятия славы, оно немедленно поддается той освященной веками гностической меланхолии, для которой сфера неподвижных звезд, stellatum, – уже не сияющий покров Бога, облачающий небеса, а просто последний барьер, через который должна пройти изгнанная πνέυμα[58] или Fünklein[59], чтобы вернуться к πλήρωμα[60] или Abgrund Gottes[61]. Это и есть гносис – с его болезненно-легким прыжком через пропасть Лессинга, а следова тельно, и через мир (world), – сопротивлением которому в основ ном и занимается богословская эстетика; богословие должно начинать свой путь от «неаутентичности» красоты и ее «поверхностности», ее исключительного пребывания в напряженности поверхностей, конкретности формы и великолепия сотворенных вещей.
6. Красота сопротивляется сведeнию к «символическому». Существуют, конечно, символические практики, присущие искусствам, и некоторые богословски допустимые значения слова «символ» необходимы и прекрасны; но красота (чисто эстетически) обретается в непосредственности определенного блеска, сияния, таинственности или обаяния; она играет на постоянной притягательности пластической, лирической, органической или метафорической поверхности. «Символ», который действительно составляет единое и «вдохновенное» схватывание этой красоты и подлинно являет ее в ее конкретности и в ее способности отражать большее, нежели эту конкретность, есть нечто желанное и даже вызывающее благоговение. Но, теоретически, символ, который я здесь имею в виду, – нечто иное: скорее он всегда есть некое последующее раздумье, спекулятивное усвоение эстетического момента, служащее предположительно более жизненному и сущностному значению; символ есть то, что задерживает силу эстетического, непрерывность поверхности, чтобы раскрыть «глубины»; он временно отстраняет эстетическое ради гносеологического, чтобы обнаружить что-то более фундаментальное, чем все то, что могла бы явить какая бы то ни было просто «случайная» форма. Символический порядок – это неизбежно таксономическая иерархия, метафизика знака и дискурс, касающийся внутренних истин; в центре того динамизма, которым является красота в своей взаимосвязанности, многообразии, различии и дистанцированности, символическое возникает как то, что стабилизирует индивидуальный эстетический момент, как фиксированное свойство, значение и как своего рода обменный капитал или валюту, которая заступает место материального богатства. Слишком свободный разговор о символах – это разговор гностический и филистерский, отчуждение эстетического момента от его контекста дополнительности, метафорической отсылки, ритма и переклички[62]; это имитация того высокомернейшего жеста, которым идеализм переводит частное в сферу несущественного, обращая взгляд вверх, чтобы найти там ту яркую молнийную вспышку, которая сделает семейя[63] мира (world) одновременно прозрачными и неразличимыми. Но пре красное существует прежде всякой схематизации изолируемых значений: оно всегда избыток, но никогда не бесформенность, всегда расплескивание, ликующее, возвещающее славу, не объясняя ее. Как раз по этой причине оно фиксирует рефлексию о несводимо конкретном, мгновенном, преходяще-хрупком и случайном. В прекрасном, когда оно освобождено от «символического», предполагается исключительно периодическая бесконечность, подобная той, что наводила ужас на Гегеля, и она противостоит круговой бесконечности синтеза и трансцендентального примирения, наподобие той, какую возвещал Гегель. Красота выстраивает мир не в соответствии с логическим синтаксисом или гипотакси сом, подчиняясь жесткой иерархии акцидентального и сущностного, формы и значения, но в соответствии с безграничным и «по верхностным» паратаксисом, смысл которого – в его безостановочных следованиях дополнения, присоединения, вариации, отбытия и возвращения: эллиптические дивергенции, непредвиденные конвергенции, имеющие музыкальный, а не диалектический эффект. В миг прекрасного нужно внимать лишь той славе, которую оно открыто провозглашает, и сопротивляться искушению выискивать какой-либо тайно сообщаемый им гносис.
Язык символа, к несчастью, причинил большой ущерб современному богословию, особенно (все еще маргинально влиятельной) мысли Пауля Тиллиха; процитирую его памятную – несколько загадочную – формулу: «В то время как знак не соотносится необходимым образом с тем, на что он указывает, символ участвует в той реальности, которая стоит за ним»[64]. Эта цитата могла бы показаться вполне здравой, но собственная практика Тиллиха слишком явно показывает, что ему совершенно не удалось понять, в каком смысле его слова были истинны. Конечно, преимущество нечеткого язы ка в применении к «символу» позволяет богословию отвлекаться от трудных деталей отдельных нарративов и переходить в сферу более управляемых абстракций, но часто цена этого – вера, лишенная естественности, своего рода докетизм, облаченный в видимость теоретической категории: это уже не конкретные детали евангельских нарративов, а простые категории универсального или «духовного» смысла, которые извлекаются из них, образуя керигматическую сущность веры. Неизбежным образом всякая попытка замысловато-изощренного «символического» переопределения «сущности» веры не может не затемнять многих по необходимости тонких (и решающих) различений; такая попытка слишком механистична для того, чтобы приспособить многообразие и сложность множества нарративных потоков, протекающих через дискурс веры. Рассмотрим защиту Тиллихом проекта демифологизации:
Примитивное мифологическое сознание сопротивляется попыткам истолковать мифичность мифа. Оно страшится любого акта демифологизации. Оно думает, что разрушаемый миф лишается своей истины и своей убеждающей силы. Те, кто живет в нерушимом интеллектуальном мире (world), чувствуют себя надежно и уверенно. Они сопротивляются, часто фанатично, любой попытке внести элемент «неопределенности» через «разрушение мифа», то есть через осознание его символического характера. Подобное сопротивление поддерживается авторитарными системами, религиозными либо политическими, с тем чтобы дать чувство надежности людям, которыми они управляют, и неоспоримую власть тем, кто осуществляет это управление. Сопротивление демифологизации выражается в «буквализме». Символы и мифы понимаются в своем непосредственном значении. Материал, взятый из природы и истории, используется в своем узко-буквальном смысле. Функция символа – указывать за пределы себя на что-то еще – игнорируется. Творение понимается как магический акт, случившийся когда-то во времени. Падение Адама локализуется в особой географической точке и приписывается человеческому индивиду. Девственное рождение Мессии истолковывается в биологических терминах, воскресение и вознесение – как физические события, второе пришествие Христа – как земная или космическая катастрофа. Предпосылка такого буквализма состоит в том, что Бог есть существо, действующее во времени и пространстве, пребывающее в определенном месте, воздействующее на ход событий и затрагиваемое ими, подобно всякому другому существу во вселенной. Буквализм лишает Бога Его предельной ультимативности и, говоря религиозно, Его величия. Это низводит Его на уровень того, что неокончательно, что конечно и обусловлено. В последнем анализе решающим оказывается не рациональный критицизм по отношению к мифу, а внутренне-религиозный критицизм. Вера, если она принимает свои символы буквально, становится идолопоклонством! Она взывает к какому-то такому окончательному, которое меньше, чем окончательное. Но вера, сознающая символичность своих символов, воздает Богу ту честь, которая Ему подобает[65].
Если оставить за скобками печальный (хотя и характерный) намек на нетерпимость в этом пассаже (озабоченность Тиллиха такими абстракциями, как «окончательное», конечно, не менее «идолопоклонническая», чем вера в то, что благодатные акты Бога в истории суть действительно случающиеся время от времени акты) и если оставить за скобками чудовищные сверхупрощения, проблема с подходом Тиллиха в том, что он фактически не проясняет дела, а попросту редуцирует. Эта жестко поставленная альтернатива между бескомпромиссной демифологизацией и бескомпромиссным буквализмом слишком походит на простую критическую вялость; нужно хоть немного чувствовать разницу между таким откровенно легендарным – помещенным in illo tempore[66] – рассказом, как рассказ об Эдеме, и таким конкретным рассказом, как рассказ о Христовом воскресении, заявляющем дезориентирующее (и скандальное) притязание на историческую реальность со всеми ее реверберациями, которые могут быть описаны в терминах времен и мест. Методу Тиллиха недостает интерпретаторской остроты, которая позволяла бы делать это абсолютно необходимое разграничение. Сведeние столь многих отличных друг от друга контуров христианской веры к одной и той же плоскости и к лишенной характера ткани символического (служащее, конечно, скорее со хранению «нерушимого интеллектуального мира», чем его разрушению) требует подчинения каждой конкретной формы «системе», которая сопротивляется эстетическому как раз потому, что покоится на предположении, будто была уловлена какая-то истина, более глубокая, нежели форма; но содержание христианской веры богато особенностями, конкретными фигурами, момента ми – такими, как распятие на кресте, которые невозможно просто растворить в универсальных истинах человеческого опыта и которые стоят особняком по отношению к своей исторической и эстетической специфичности. Говорить о кресте Христа или даже о пустой гробнице как о символе означает просто задерживать силу выражения – эстетический прорыв, лингвистическое излучение, – которые «высвобождают» эти явления, чтобы сделать их применимыми к контексту нейтральной рациональности; это опресняет то невыразимое богатство, одновременно историческое и эстетическое, которое принадлежит обоим явлениям. Но распятие и воскресение Иисуса не сообщают нам ничего абстрактного о человеческой заброшенности или о человеческом уповании – они не являются ни лейтмотивами трагической мудрости, ни стимулами к экзистенциальной решимости, но прежде всего касаются того, что произошло с Иисусом из Назарета, к отдельной и особенной истине и сиянию Которого должны отсылать общие «истины» человеческого опыта. «Символ», извлеченный из запутанности множества своих контекстов, – это чистая прозрачность, полное бессилие красоты, пасующей перед безликим блеском абстракции. Все то несводимое, что остается в символе, так же совершенно беспомощно, заморожено в великом море «беззначности», в своем бесконечном дрейфе по направлению к идеальности. Однако «эстетическое» богословие действительно помогает сохранять целостность исторической специфики христианства. И хотя богословие красоты может дать место разговору о «символе» во многих отношениях – в терминах таинства, иконы или реально го присутствия, – оно должно любой ценой противостоять стран ному слиянию возвышенного и мимолетного, образующему «символическое». А если так, то с самого своего начала данная книга будет уходить прочь от «символического» и идти против него, против его минорного Aufhebung[67] и против его раскрытия глубин внутри глубин. Богословие всегда должно оставаться на поверхности (эстетической, риторической, метафорической), где, в конце концов, все и происходит.
Если же богословие красоты согласуется с конкретным и особенным, пренебрегая всяким мышлением, которое полагало бы свою веру в абстракциях и обобщениях, то оно по необходимости противоборствует практикам, которые просто распределяют нарративы по раздельным категориям повествования и метафизики, мифа и значения, символа и реальности – и на этом успокаиваются; более трудная практика подхода к нарративам, заранее готовая оказаться в проигрыше по отношению к уникальному, не вмещающемуся в категории и не сводимому, куда более плодотворна (и терпима). Красота, когда она не подчинена символической структуре, обращает внимание на те детали поверхности, те нюансы и упрямые особенности, которые отличают одну историю от другой, один нарративный момент от другого, а потому препятствует пустой болтовне о «природе» религиозного языка или религиозной истины. Если христианство и впрямь содержит в себе «эстетический принцип par excellence»[68], то абстракция – это вещь наиболее противоположная той истине, которую оно предлагает, и смертельная для нее. Этим, возможно, обеспечивается наилучшее определение метафизики, в оскорбительном для нее смысле: непреклонная воля к абстрактному. Так понятая «метафизика» не располагает настоящим именем для красоты и если вообще может считаться с ней, то лишь в терминах бесформенной идеальности, которая, говоря эстетически, есть единственно истинное безобразие: лишенность формы. Тем не менее слава Божья не эфирна и не отдаленна, но она есть красота, величина, изобилие, кавод: она имеет вес, плотность и присутствие. Кроме того, она была увидена в форме раба, явлена в особенной форме, чье место во времени и пространстве определяет всякую истинность, всякую иную красоту. Наконец, то в христианстве, что привлекает к нему людей, – есть конкретная и особенная красота, потому что конкретная и особенная красота есть его глубочайшая истина.
Перевод с английского Андрея Лукьянова
Ансельм Грюн
Богословие красоты[69]
Для философии Платона, которая в средневековье была перенята Фомой Аквинским и школой францисканцев, красота есть выражение сущего. Все сущее истинно, благо и красиво. Истина, благо и красота образуют неделимую триаду. Все сотворенное Богом является благим. Так нам говорит Библия, когда в конце процесса творения Бог увидел, что «все, что Он создал хорошо весьма» (Быт 1:31). В греческом переводе Библии (Септуагинте) это древнееврейское слово[70] переведено как kalos[71]: «все, что Он создал красиво весьма». Творение, таким образом, изначально красиво. Оно же и истинно. Оно такое, какое оно есть. В нем сияет божественная Истина и угадывается Божий Лик. Но это означает и следующее: все, что истинно, в тоже время, благо и красиво. Это относится как к Богу, так и к творению, и к людям.
В Новое время красота была субъективирована. То, что красиво, стало решать эстетическое чувство человека. Красота нравится, дразнит и привлекает людей. Но при этом появляются все новые течения в моде, которые всякий раз предлагают новые идеалы красоты. Поэтому остается вопрос, что же действительно красиво?
Как на основании платонической философии, так и на основании богословия, можно, пожалуй, заключить: творение в своей исконности красиво. Искусство пытается изобразить красоту. Так, из истории живописи мы знаем множество картин красивой Мадонны. На них Мария изображена, прежде всего, как красивая женщина, чтобы свидетельствовать: в ней сияет божественная красота. Музыка тоже стремится быть привлекательной, она хочет быть красивой. Моцарт полагает, что даже зло должно быть изображено красиво, поэтому он позволяет и мавру Моностатосу, воплощению злого и коварного раба, петь красивую мелодию. Некоторые композиторы изображают даже страдание в форме красивой музыки, как например, Иоганн Себастьян Бах в своих «Страстях» или Йозеф Гайдн в «Семи словах Спасителя нашего Иисуса Христа, сказанных Им на кресте». Гайдн позволяет этим словам звучать вместе с красивой музыкой, которая проникает в сердце и там раскрывает человеку их суть. Красота этой музыки претворяет страдание в выражение любви.
У многих людей складывается впечатление, что они некрасивы. Они не соответствуют идеальному образу красоты, маячащему перед глазами благодаря современной моде. Но эта красота, навязываемая нам модой, зачастую лишь внешняя красота. Любой человек красив тогда, когда он открыт Богу и своей внутренней правде. Когда человек естественен, тогда он излучает некую красоту. Тут и обнаруживается истинность платонического утверждения, что все сущее благо, истинно и красиво. Когда человек не хочет изображать из себя кого-то, но, напротив, истинен и благ, тогда он и красив. Когда он позволяет излучаться своей собственной правдивости, тогда он воздействует на все его окружающее как красота и отражает свой изначальный образ, созданный Богом. Тогда человек не загораживает образ своим тщеславием, желая быть кем-то особенным. Этот изначальный образ, который Бог создал для каждого из нас, является в тоже время благим. Бог создал нас благими и наша сокровенная сердцевина блага. Грех ее не разъел. Таким образом, речь идет о том, чтобы позволить сиять в себе этому изначальному, истинному и благому образу. Тогда мы и будем излучать красоту, поскольку Бог создал людей красивыми.
Я хотел бы на основании моего опыта духовного руководства затронуть лишь две сферы, связанные с красотой: христианский образ красивого человека и значение красоты в литургии.
1. Христианский образ красивого человека
Часто я слышу жалобы людей на то, что они не могут принять себя. Когда же я начинаю расспрашивать, почему это происходит, то наталкиваюсь на один и тот же факт: созданный ими образ самих себя не соответствует реальности. Или они сами создали идеальный образ самих себя и страдают от того, что не соответствуют ему, или же они позволили другим людям навязать им такой образ, который они не могут воплотить в жизнь. Этот создаваемый людьми образ, как правило, связан и с идеалом красоты. Они чувствуют себя некрасивыми, поскольку они не соответствуют идеальному образу, постоянно навязываемому рекламой. Они, таким образом, понимают красоту как нечто внешнее.
Но для христианского понимания человека красота – это то, что присуще душе человека. Именно поэтому мы можем говорить о красивой душе. Если душа освещает тело, тогда и тело красиво, и неважно, какой идеал красоты сейчас восхваляет мода. Неоплатоник Плотин восхищался красотой. Для него нечто красиво тогда, «когда единство одолевает чрезмерно рассеянное множество»[72]. То есть, человек красив тогда, когда он протягивает Богу все, что в нем есть, позволяет божественному свету коснуться всего этого и благодарно принимает все это обратно. Но, по мнению Плотина, в красоте заключается также и этический компонент: человеческая душа «красива, тогда, когда она чиста от страстей и живет светло, легко и свободно от страха смерти. Еще красивее и целостнее лишь мыслящий сам себя Нус, который непомрачен и ясно соединяется лишь с самим собой. Но наикрасивейшим является единство в себе»[73]. Если мы отнесем это мнение Плотина лично к себе, то эти слова будут означить следующее: действительно красив только тот человек, который готов собрать все, что в нем есть, соединить это воедино и сделать проницаемым для изначального в своей душе.
И к этой красоте относится также и свобода от страстей. Человек, который позволяет страстям овладеть собой, некрасив. Только тот, кто и в сфере страстей прозрачен для Божьей любви, красив и своим телом.
Немецкий язык обладает способностью выразить фразу «собрать все в себе» с помощью слова кротость („Sanftmut“). Слово „Sanft“ связано со словом собирать („sammeln“). Кто обладает мужеством собрать все, чем наполнена его жизнь и поднести это к божественному свету, тот кроток, у того большое сердце. Он не станет судить других. Он покоен и красив. И, в конечном счете, красота связана с любовью. И это совсем не значит, что только красивая женщина возбуждает в нас любовные чувства. Для Платона взаимосвязь между красотой и любовью гораздо глубже. Красота ведет нас к любви, в красоте сияет любовь. И, в конце концов, это является решающим моментом и в христианском представлении о человеке. Красивый человек – это всегда человек, полный любви. В нем сияет любовь и через него любовь проникает в его окружение.
У греков был идеальный образ красивого и благого человека – kaloskagathos. Этот идеальный образ мы находим и в Евангелии от Луки. Лука был евангелистом, который лучше других знал и чувствовал греческую философию. Согласно преданию, он был также и художником, что имеет символическое значение. Лука – превосходный писатель. Он записывает прекрасные истории, и в его повествовании особенно заметна красота человека. В истории об исцелении согбенной женщины (Лк 13:10–13) Лука показывает, что при исцелении больных для Иисуса всегда важно вернуть изначальную красоту согбенным, лишенным этой красоты людям. Именно поэтому важнейшие истории об исцелении, согласно Луке, происходят в субботу. Человек должен достигнуть первозданного состояния, в котором Бог сотворил его красивым. И сам Иисус описан в Евангелии от Луки как красивый человек, как праведный человек, который соответствует истинному образу человека (ср. Лк 23:47). Глядя на Праведника, который остается праведным даже во время мучительного умирания на кресте, мы становимся соучастниками в Его праведности, обращаемся к нашему изначальному образу и приобщаемся к Его чистой красоте, которая побеждает зло.
Начиная с Климента Александрийского, отцы церкви описывают Иисуса как истинно красивого человека. Он и есть прототип красивого человека. Христос воистину красив. Но для того, чтобы воспринять красоту Сына, мы нуждаемся в Святом Духе. Августин называет Иисуса Христа «совершенным Словом и, так сказать, произведением искусства всемогущего и мудрого Бога[74]. Он отражает для нас, людей, красоту Бога. Бонавентура, который жил в средневековье, высоко ценил богословие красоты и полагал, что Иисус даже во время своих страданий сохранил внутреннюю красоту. Поэтому он увещевает своего читателя: «Давайте же будем обезображены в наших внешних телах вместе с обезображенным Иисусом, чтобы мы внутренне были преображены вместе с красивым Иисусом»[75]. Красота Иисуса сияет сквозь Его страдания, и она будет сиять и в нас, если мы готовы, вместе с Иисусом принять страдания. Существует красота, которую не может затмить даже внешнее страдание. Радостная весть Иисуса заключается в том, что Его красота и красота христиан не может быть уничтожена ничем, даже обезображенным в болезни телом.
2. Красота Бога в литургии
Во времена средневековья люди пытались отобразить божественную красоту в красоте искусства. И то место, где божественное величие являет себя с особой силой – это литургия. В ней нашли свое место все виды искусства: музыка, например, в церковном пении, в игре на органе и в праздничном звучании хора. Живопись превращает церковь в места присутствия святых; роспись церквей делает красоту Бога зримой для людей; скульптура в статуях возвеличивает святость Бога; архитектура в строениях церквей отражает красоту Бога, хотя при этом каждый стиль в архитектуре развивает особое представление о красоте. Искусство в средневековье всегда было церковным искусством. Климент Александрийский понимал искусство как дело Святого Духа. Любой вид художественной деятельности, в конечном счете, исходит от Бога, Бог сам проявляет свою красоту в предметах искусства. Именно поэтому литургия всегда была плодом всех человеческих искусств.
Псалмы, которые используются во время литургии, вновь и вновь прославляют красоту Бога: «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего» (Пс 144:5). Псалмопевец знает, что Бог окружен красотой: «Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его» (Пс 95:6). Все это образы божественной красоты, и Библия без конца говорит о величии Бога. Это величие Бога должно выражаться в красоте совершения литургии, в красоте ритуалов, в красоте облачений, в красоте музыки и росписи, которая украшает церковь.
Климент Александрийский видит сияние божественной красоты, прежде всего, в Иисусе Христе. В этом смысле Климент интерпретирует Ин 1:9: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Христос красив сам по себе. Тот, кто стремится к истинной красоте, должен, поэтому, любить Христа. Литургия изображает красоту Христа, проповедуя Его слово, в том числе, и посредством красоты пения и картин. Показывая нам красивого Христа, литургия стремится воспламенить нашу любовь к нему. Поскольку красота всегда стремится – так говорил еще Платон – к любви. Она хочет разжечь в нас огонь любви.
Литургия и, прежде всего, совершение Евхаристии все больше и больше претворяет нас по образу Иисуса Христа. Мы предаем нашу жизнь (во всем ее уродстве, если мы позволяем страстям одолеть нас), Богу, чтобы Его Дух преобразил нас. И мы принимаем в причастии Тело и Кровь Иисуса, чтобы Он все глубже и глубже пронизывал нас своей красотой. Таким образом, мы соучаствуем в красоте Иисуса Христа, чья красота сияет также и в творении. Но, как считает Августин, мы должны все больше и больше обращаться от земных вещей к Богу, «Красоте всех красивых вещей», и все больше любить эту «такую старую и такую новую Красоту».
Ганс Урс фон Бальтазар начинает свою богословскую эстетику, свое учение о великолепии Бога, словами Иисуса из Евангелия от Иоанна: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин 12:32). Жест Иисуса на кресте – это жест объятия. Своей все в нас пронизывающей любовью Он обнимает нас, несмотря на все наше несовершенство. Это не просто жест любви, но и жест величия, красоты. В этом жесте человек Иисус проявляет свой истинный образ, поскольку по самой своей природе человек есть образ креста, который объемлет высоту, глубину, долготу и широту. На кресте Иисус представляет изначальный образ человека и показывает его красоту. В то же время, это и жест любви. По мнению Платона, красота и любовь по своей природе связаны друг с другом.
Во время Евхаристии под знаком креста мы празднуем этот жест любви, заключающей все в свои объятия. Евхаристия начинается с крестного знамения, с помощью которого мы изображаем на своем собственном теле всеобъемлющую любовь Иисуса. В чинопоследовании Евхаристии эта всеобъемлющая любовь изображается многократно и всякий раз по-новому, например, когда поднимают красиво украшенное Евангелие и несут его через всю церковь, или когда мы перед чтением Евангелия осеняем себя крестом. Через провозглашаемое слово Евангелия любовь Иисуса хочет проникнуть в наш разум, речь и чувства и преобразить их. Тайна величия, которая в Евангелии от Иоанна предстает во всей ясности, и любовь на кресте, находит свое выражение в последовании приготовления Даров. Священник поднимает хлеб и чашу с вином вверх, по направлению к Богу. Как Иисус был вознесен на кресте, чтобы величие и любовь Бога осветила всех, так и священник в хлебе протягивает Богу повседневность и разорванную реальность человеческого существования, чтобы она приобрела в Боге свой истинный облик. И в чаше он протягивает Богу страдания и горечь мира, чтобы они наполнились Его любовью и преобразились ею. Чаша горечи должна стать чашей утешения. И в вине, которым наполнена чаша, священник протягивает Богу нашу любовь, которая из-за ревности, зависти и агрессии часто смешана с недопониманием и замутнена нашими ошибками. Эту любовь мы отдаем величию Божьему, чтобы она соучаствовала в божественном величии, в чистой и красивой любви Бога. Другая часть богослужения – в конце канона – представляет великолепие воскресения. В виде круглой облатки мы держим солнце воскресения над чашей, над безмерным страданием человечества, чтобы все страдание было озарено и преображено великолепием Бога. Эта всеобъемлющая любовь находит свое наивысшее выражение в преломлении хлеба. Мы преломляем тело Иисуса Христа, чтобы становиться все более открытыми для Его любви и Его красоты. Хрупкость нашей жизни, ее раздробленность, которая, согласно Плотину, безобразна, погружаются в чашу, чтобы наполниться любовью Христа и преобразиться в изначальную красоту.
Но красота литургии выражается не только в чинопоследовании совершения Евхаристии. Она находит свое выражение и в музыке. Именно поэтому христианская традиция с самого начала стремилась к тому, чтобы использовать красивые песнопения.
Это началось с Амвросия, который вдохновлял людей с помощью песен и гимнов и, тем самым, открывал их сердца навстречу Христу. Это же происходит и в григорианском хорале, который так выражает библейские слова с помощью музыки, что они достигают человеческих сердец и преображают их. Красота песнопений больше не представляет собой угрозу, как это было для Августина, который предостерегал от опасности концентрации внимания лишь на музыкальной красоте. Она, скорее, является путем, по которому Слово Божье проникает в человеческую душу и приводит ее в соприкосновение с глубинными стремлениями: с ее стремлением ко спасению и искуплению, к красоте и великолепию.
Красота литургии выражается и в красоте драматургии, особо отличающей святую мессу, в которой все взаимосвязано друг с другом. Это драматически разыгранное действие трогает людей. Евангелист Лука не только изображает жизнь Иисуса Христа в виде драмы, но и понимает литургию как драматическое действие, которое, по словам Аристотеля, ведет к катарсису, к очищению души, к ее внутреннему блеску, к ее истинной красоте. Так Лука описывает таинство крестной смерти Иисуса как священное действие, зрелище: «И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь» (Лк 23:48). Хотя драма смерти Иисуса закончилась на кресте, она привела к тому, что зрители пришли в соприкосновение с самими собой, с их божественной сущностью. И эта разыгранная драма изменила их таким образом, что люди смогли вернуться домой уже преображенными. В конце концов, в этом действии просияло что-то от божественной красоты. Эта красота проводит зрителей через всю хрупкость их тела и души в соприкосновение с их внутренней красотой, с изначальным образом, сотворенным для них Богом.
Христианская литургия претворяет священное действие, который так драматически изображает Лука в своем Евангелии, в красоту. Красота Иисуса Христа должна выражаться через красоту богослужения. К этой красоте относится и красота литургических облачений, которые должны приводить людей в соприкосновение с их собственной внутренней красотой. Таким же образом и красота литургических сосудов должна указывать на красоту Иисуса Христа. Чтобы соответствовать красоте Иисуса Христа и Его божественному сиянию, во время литургии должны использоваться только золотые сосуды. Но эти золотые сосуды используются для того, чтобы привести нас в соприкосновение с внутренним золотом нашей души. Литургия полна жестов, поскольку и жесты выражают красоту человека. Они стремятся выразить широту, свободу и внутренний блеск. Многие священники забыли, что жесты должны выражать божественное сияние, которому через Христа стали причастными и мы. Жесты таких священников выражают, скорее, их собственную рассеянность, чем красоту Иисуса Христа. Совершающим богослужение необходимо внутреннее чувство красоты, чтобы то, что они представляют в жестах и обрядах, соответствовало идеалу красоты и красоте самого Иисуса Христа.
Красота не дана просто сама по себе, она требует труда. Художник, который хочет изобразить нечто красивое, должен упражняться, чтобы красота засияла в его работе. Таким же образом совершающие литургию нуждаются в духовных упражнениях, чтобы их жесты и обряды делали видимыми и доступными опыту красоту Иисуса Христа. Они должны принять близко к сердцу предупреждение Иисуса: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф 7:6). Святыня всегда является и красотой. Эту идею Иисус выражает в образе жемчуга. Красота жемчуга христианской литургии не должна быть брошена свиньям, которые полагают, что это нечто съедобное, что они могут без труда проглотить. Красота всегда бесцельна, безотносительна к каким-то побочным назначениям. Жемчуг блестит, потому что он блестит. Литургия нуждается в кажущейся бесполезности, чтобы в ней могла сиять красота. Но это не значит, что литургия представляет собой искусство ради искусства. Литургия нуждается в этой кажущейся бесполезности, чтобы раскрыть свою красоту, только тогда она может производить свое исцеляющее действие на людей. Так русский писатель Достоевский с полным правом говорит: «Красота спасет мир». Достоевский противопоставляет красоту утилитарности. Если все будет подчинено целесообразности, человеческое достоинство будет унижено. И, как полагает русский писатель, без красоты человек впадает в уныние: «А так как Христос в Себе и в Слове Своем нес идеал Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал Красоты; имея его в душе все станут один другому братьями». Таким образом, красота для Достоевского есть путь, следуя по которому человек спасается и исцеляется. Красивая литургия спасительна для душ людей, поскольку в ней они открывают свою собственную внутреннюю красоту, которая, хотя и затемнена грехом, но не уничтожена. Христос приводит людей в соприкосновение с их внутренней красотой, захватывая их красотой литургии. Для Достоевского это другое выражение спасения. Спасение и исцеление заключается в том, чтобы привести людей к их изначальной красоте. Красивая литургия – это благой путь, на котором свершается спасение искаженного в своей красоте человека.
Заключение
Мысль, которая вытекает из христианской традиции, показывает нам, что красота не является второстепенной темой в христианском богословии спасения. Красота приводит нас к центральным темам христианского богословия, к богословию образа, которым Бог неповторимо наделил каждого человека, к богословию спасения, сотериологии, которая показывает нам, что истинное спасение и восстановление человека состоит в том, что он соприкасается со своей изначальной красотой. Красота Иисуса Христа, при этом, является путем, на котором человек открывает свою собственную красоту, искаженную грехами, но которую он начинает восстанавливать. Я желаю, чтобы эта конференция о богословии красоты помогла современным людям заново открыть красоту в творении и искусстве как путь, на котором каждый сможет придти в соприкосновение со своей собственной внутренней красотой, и через это исцелиться и восполниться.
Перевод с немецкого Станислава Павлова
Пол Фидс
Внимая возвышенному и прекрасному: богословские размышления об Эммануэле Левинасе и Айрис Мердок[76]
Для начала позвольте рассказать историю. Движение феноменологии было принесено на французскую почву, где ему предстояло расцвести, преимущественно философом Эммануэлем Левинасом. Говорят, что Жан-Поль Сартр, узнав о выходе ранней работы Левинаса об Эдмунде Гуссерле, выскочил на улицу, купил ее и стал читать прямо на ходу; Сартр в нетерпении листал еще не разрезанные страницы, ухитряясь тем не менее понимать рассуждения Левинаса о Гуссерле[77]. После Гуссерля появилось множество феноменологий – в том числе феноменология самого Сартра, – и среди них имелась версия, обращенная к богословской и духовной проблематике, открывающая феноменологический метод для трансцендентного.
Такой уклон вызвал гнев другого французского философа, Доминика Жанико, резко восставшего против «богословского поворота» в феноменологии и призвавшего вернуться к ортодоксальным методам Гуссерля. Он протестовал против усмирения «гуссерлевского потрясения» посредством таких понятий, как «открытость для незримого, для Другого, для чистой “данности” и “праоткровения”»[78].
Как ни странно, особенно пренебрежительно Жанико относился к Эммануэлю Левинасу, которого обвинял в том, что тот, подчеркивая бесконечного Другого, разрушающего сознание интенционального субъекта, отбросил феноменологию ради богословия.
Левинас, со своей стороны, утверждает, что он начал именно с феноменологического метода и, верно следуя ему, открыл содержащиеся в нем ограничения; можно сказать, что метод деконструирует сам себя. В этой статье я хочу начать с рассмотрения левинасовской необычной – можно сказать, своеобразной – версии феноменологии, однако собираюсь сделать это с не совсем обычной точки зрения, а именно исходя из той роли, которую возвышенное и прекрасное играют в нашем осознании мира. Мне кажется, что эта тема во многом проясняет тот путь, по которому Левинас шел вместе с феноменологией и против нее, и что такой подход может помочь и нам в нашем поиске духовности, которая находится внутри мира, а не за его пределами.
1. Левинас и феноменология красоты
Итак, начнем с феноменологии красоты. Левинас считает, что эстетика, как правило, сосредоточена на процессе смотрения или видения, и дает в связи с этим аккуратное феноменологическое описание. «Смотреть – это способность описывать», – говорит он[79]. Множество вещей в мире являются в свете сознания и, таким образом, видятся в своих формах. В отличие от Канта, Левинас не ставит вопроса о первичных чувственных впечатлениях, к которым разум на следующем этапе применяет свои внутренние категории. Левинас согласен с Гуссерлем, что сознание всегда есть сознание чего-то, сознание мира. «Вещи обладают формой, их можно наблюдать – видеть в свете их профиль, силуэт, – пишет он. – Лицо же само себя обозначает. Вещь как силуэт и профиль сохраняет свой характер перспективы, помещаясь относительно определенной точки зрения»[80]. Объекты являются, поскольку о них мыслят, на них надеются, их желают. Значение (придаваемое разумом) и бытие (объект в мире) всегда подразумевают друг друга, так что вопрос о том, как преодолеть пропасть между субъектом и объектом, между миром «в сознании» и «миром снаружи», или, в картезианских терминах, между res cogitans и res extensa, – это псевдопроблема.
Как полагает Левинас, комментируя Гуссерля, нет такой объективности, которая была бы «безразлична к самому существованию субъективности»[81]. Мир всегда и заранее дан субъекту. Восприятие не изолирует субъект от мира, но погружает Я в мир. При этом действительное существование объектов в мире вне сознания не отрицается, но, согласно Гуссерлю, «заключается в скобки». Однако далее мы увидим, что Левинас модифицирует это «заключение в скобки» в одном существенном отношении – в том, что касается других личностей.
Итак, принимая эти основные положения феноменологии, Левинас утверждает, что когда мы находим мир прекрасным, наша интенциональность направлена на наслаждение им, а не есть стремление к использованию объектов с целью извлечения выгоды для себя или даже превращения их в деньги. «Эстетическая окраска, которую человек придает своему миру в целом, означает в самом высоком смысле возвращение к наслаждению». Вещи «купаются в красоте, где каждый миг пережитого наслаждения вновь ведет к наслаждению»[82].
Искусство, отвечающее этому смыслу красоты, Левинас называет «блаженной красотой классического искусства»[83], когда искусство дает образ объекта, а не сам объект. Это акцентирование наслаждения напоминает кантовское понимание чувства прекрасного, в котором воображение свободно гармонирует с рассудком, производя чувство удовольствия, при этом не приводя объект ни к каким определенным понятиям[84]. По мнению Канта, это означает, что когда мы выносим суждение о чем-то как о прекрасном, мы считаем это только вопросом «формы». Такое суждение «независимо» от каких бы то ни было эмоций[85], а также не относится к области нравственности[86]. И хотя мы заявляем, что каждый должен согласиться с данным суждением, невозможно сформулировать правила, доказывающего его справедливость[87]. Прекрасное может представляться нам целесообразным, но нельзя назвать его конкретной цели[88]. Все это кажется довольно близким к замечанию Левинаса, что искусство привносит в мир «безответственность, пленяющую легкостью и милостью. Оно освобождает… Не говори, не думай, безмолвно и спокойно восхищайся – таковы советы мудрости, наслаждающейся красотой»[89].
Тем не менее Левинас усматривает в искусстве некоторое раскрытие истины. Он считает, что до наступления модернизма (под которым он подразумевает период с 1900 г.) даже не реалистическое искусство оставалось репрезентативным и потому полагало между наблюдателем и объектом образ. Его цель – выделить изображаемые объекты из мира, подчеркнуть их инаковость в отношении субъекта, который иначе легко мог поглотить их своим Я. Искусство делает повседневные вещи присутствующими, «вырывая вещи из перспективы мира»[90], то есть мира в перспективе наблюдателя. Таким образом, искусство служит истине, раскрывая объекты, представляя их в их «наготе». Это и есть, по Левинасу, та «незаинтересованность» искусства, которую так восхвалял Кант.
В этом смысле, однако, искусство приоткрывает опасность, таящуюся в интенциональности Я. Хотя Левинас и признавал основное положение феноменологии, что между субъектом и объектом нет пропасти, поскольку субъект уже погружен в мир, он находил рискованным выражать это в терминах видения мира. Всматривание наблюдателя может достичь некой тотальности, которая будет не чем иным, как всего лишь самостью, может сконструировать на основе Я целый мир, подводя все под тождественность Я. Видение мира может оказаться панорамным, тотализирующим всматриванием, старающимся создать завершенный мир, который будет попросту расширением Я. Искусство же, создавая свои образы, позволяет «частному встать в наготе своего бытия»[91].
2. Левинас и феноменология возвышенного
Хотя искусство до модернизма и сдерживало тотализирующие тенденции видения мира, Левинас относит его (искусства) образы, как и представляемые им объекты мира, к области света. Другими словами, они принадлежат к тому, что Левинас называл визуальным опытом, к которому западная цивилизация в конечном счете сводит всю умственную жизнь. Этот опыт включает идеи; он есть свет, он ищет ясности самоочевидного. Он завершается раскрытым, феноменом[92].
Однако в модернизме в последнее время появилась новая эстетика, подрывающая прежнюю с ее акцентом на видении вещей в мире. В то же время новая эстетика показывает границы феноменологии. Она предварительно приоткрывает потребность в трансценденции Я, которую может удовлетворить скорее этика, чем эстетика. Мы еще вернемся к этому. Но остановимся ненадолго на этой новой эстетике. Левинас считает, что современное искусство, «вырывая» вещи из мира как он видится наблюдателю (что свойственно всякому искусству), идет гораздо дальше. Модернистское искусство уже не просто представляет вещи, но материализует их, так что мир в нем оголяется «особенно поразительно». Образ не просто стоит между субъектом и объектом в мире, но материализует бытие вообще без мира, являя действительность так, словно, как говорит Левинас, настал «конец мира»[93]. Он пишет: «В нем материальность – это плотность, грубость, массивность, убожество. Плотное, весомое, абсурдное, брутальное, но и невозмутимое присутствие; а также униженность, нагота, уродство»[94].
Модернистское искусство являет разрыв целостности и порядка мира. Если «смотреть – это способность описывать изгибы, рисовать ансамбли с вписанными в них элементами», то в современном искусстве, напротив, «презрение к перспективе возвещают бунт против непрерывности кривой». В современной живописи «вещи больше не имеют значения как элементы мирового порядка… Континуальность мира трещит по всем швам.»[95]. Чистая материальность объекта искусства изымает его из мира света, из мира, в котором формы просветлены взглядом интенционального субъекта; материальный объект становится теперь «событием помрачения бытия»[96], так что мы не находим в них того, что Хайдеггер называл «просекой» или просветом (Lichtung) бытия, открытого пространства, в котором бытие являет себя[97]. Левинас подытоживает: «за сиянием форм, посредством которых люди обращаются к нашему “внутреннему”, материя – это сам факт безличного il y a [имеется]»[98].
Материальность современного искусства дает нам знание Бытия без мира, Существования без существующего. Это бытие просто имеется – Il y a. Переживание искусства есть своего рода «переживание границ», когда сознающее Я обнаруживает, что есть область субъективности, которая не вмещается в рамки интенционального подхода к миру. Начав с феноменологии, с исследования сознания, в котором даны вещи, мы столкнулись с таким положением дел, при котором нет ничего помимо голого Бытия как такового, Il y a. Сознание «задерживается на своих путях» образом; «мыслишь без ведома того, чту мыслишь»[99]. Так Левинас обнаруживает, что вводится «бесчеловечный или чудовищный» entre-temps, промежуток, который подобен смерти[100], который есть незавершенность, отсутствие завершенности[101]. «Эта печальная ценность, – заявляет Левинас, – и есть красота современного искусства, противоположная блаженной красоте классического искусства». Как метко заметил Джеральд Брунс, эта ужасная красота сходна с переживанием того, что Кант в своей Третьей Критике называет «Возвышенным»[102].
По Канту, идея возвышенного возникает из столкновения воображения и разума, тогда как чувство прекрасного подразумевает согласие воображения и рассудка. Чувство возвышенного вызывается чем-то огромным, безграничным и бесформенным в природе, или же чем-то необыкновенно сильным. Разум требует поместить видимое нами в мире в рамки совокупности или упорядоченной целостности. Разум устанавливает закон, согласно которому вещи должны составлять единое целое. Однако воображение, созерцая высокие горы, звездное небо, огромный водопад или бушующее море, всеми силами стремится исполнить требование разума достичь целостности, но терпит поражение[103]. С одной стороны, это вызывает трепет и ужас; однако, по Канту, мы испытываем также «негативное удовольствие»[104], мы восхищаемся безусловным требованием разума и через потрясение приходим к осознанию того, что мы не ограничены чувствами, что мы обладаем «сверхчувственной способностью» и сверхчувственным предназначением[105].
Хотя Кант противопоставлял возвышенное и прекрасное, чтобы возвеличить разум, в особенности нравственный разум, целый ряд мыслителей впоследствии обращались к кантовскому понятию возвышенного не только для того, чтобы поставить под сомнение порядок и красоту в мире, но и чтобы поставить под сомнение сам разум. Понятие «возвышенного», восходящее к Канту и романтикам, в современную эпоху стало шифром для обозначения внутреннего противоречия в искусстве; с его помощью подвергают сомнению мышление, разум или красоту. Оно выступает под разными именами – «пустота» (Лакан), «различие/дифферанс» (Жак Деррида), «хаос» (Жиль Делез), бесконечность, смерть (Фрейд) – и, в данном случае, «инаковость» у Левинаса. «Возвышенное» в современной мысли – это захватывающее событие ничто и отсутствия, ниспровергающее царство репрезентации, присутствия и стабильности, так что Жан-Франсуа Лиотар повсюду в современной философии обнаруживает «нарративы непрезентабельного»[106].
Левинас использует потрясение возвышенным, однако это тоже подрывает познание. Нет и речи о кантовском чувстве удовольствия от превосходства разума. Сюда нас приводит не только современное искусство, но и другие переживания, например опыт бессонницы, когда всю ночь лежишь, не смыкая глаз, в ожидании «шороха бытия», как называет это Левинас. Он вспоминает также впечатление от просмотра шекспировской трагедии, которая показывает «невозможность избежать анонимного … существования» и «фатальность неотпускающего бытия»[107]. Левинас убежден, что здесь, в «ужасе ночи “безвыходности” существования»[108], нет никакой трансцендентности субъекта – совсем наоборот.
В своей книге От существования к существующему Левинас обыгрывает слово existere, возводя корень слова sistere к stare, «стоять»; таким образом, первый момент Я – это «вставание» или «занятие позиции». Существующее Я или ипостась встает, выступает из бытия, поэтому динамика здесь – от Бытия к существующему (как в заглавии книги). Каждое мгновение Я «рождается» из Бытия или «пробуждается», чтобы вступить в отношения с Бытием. Но в самый момент вставания мы обнаруживаем, что прикованы к Бытию, что мы все еще в рабстве, привязаны к Я и нуждаемся в искуплении. Можно сказать, что мы, подобно неоконченным статуям Рабов Микеланджело, вырываемся из камня, из которого появляемся, но все еще сращены с ним[109]. В самом своем стоянии существующий «склоняется назад к себе». Во «сне» мы тщимся убежать от Бытия, тогда как бессонница, при которой мы ворочаемся и мечемся между сном и бодрствованием, все снова напоминает о нашем положении привязанных к темной массе Бытия вдали от мира света.
Так феноменологический анализ эстетического возвышенного показывает границы феноменологии. Переживание прекрасного как возвышенного предупреждает нас о бремени Бытия, в плену у которого мы находимся. Однако открытости трансцендентному, освобождения Я мы еще не достигаем. Для этого необходимо этическое возвышенное, на которое указывает эстетическое.
3. Левинас и этическое возвышенное
Прикованные к Бытию в темной ночи бессонницы или в тягостной пустыне образов современного искусства, мы ищем надежду – и открываем, что есть нечто предшествующее бытию. По мысли Левинаса, уже где-то там, в глубинах сознания, мы находим понятие бесконечности, и это прежде всего обращенное к нам бесконечное требование со стороны другой личности. Наша ответственность по отношению к нашим ближним, – которая для Левинаса, как для всякого еврея, установлена в Торе, – предшествует всякому понятию Бытия. Как пишет Левинас, вопрос о смысле Бытия (хайдеггеровская Seinsfrage) «находит свой ответ в описании того, каким образом Израиль получает Тору»[110]. Иметь ответственность по отношению к другому – вот что значит для вселенной «быть». И далее он пишет, что «откровение может быть только отношением с личностью, с другим. Тора дана в Свете лица … прямая оптика – без посредничества какой бы то ни было идеи – может быть осуществлена только как этика»[111].
Преданность другому, которая является исполнением закона, есть безусловное «да». Подобно Кантовскому возвышенному, вторжение Другого ниспровергает любые формы в мире, которые являются объектами наблюдения. Поэтому феноменология должна быть внимательна к «изначальному ответу», к первичной ответственности, создающей контекст для свободы и самотрансцендирования: свободный субъект начинается с ответственности по отношению к другому, всегда предшествующей. Но это означает, что быть свободным – это уже быть заложником по отношению к другому, и Левинас даже готов назвать это требование другого к нам «обвинением» и «преследованием», выселяющим Я из дому и отправляющим в изгнание[112]. Оно призывает нас полностью вытеснить себя ради другого. Для Левинаса отношение к другому оказывается, таким образом, «безотносительным»: это не обоюдность или взаимность, которые Мартин Бубер выявляет в своей концепции «Я и Ты». Для Левинаса подобное подорвало бы нашу ответственность по отношению к абсолютному требованию Другого и превратило бы ее в комфортабельный компромисс. Великодушие к другому, утверждает Левинас, определенно «требует неблагодарности Другого»[113]: нам не следует ожидать и желать чего-либо взамен. Он предпочитает думать об отношении как о «соседстве» нашего ближнего, а не как об эмпатической вовлеченности. Это отсутствие сочувствия в отношениях с другим вызвало насмешку, особенно со стороны феминистских критиков, таких как Люс Иригаре, замечающей:
Ему незнакомо общение в наслаждении. Кажется, Левинас никогда не переживал опыта трансцендирования другого, которое становится мгновенным экстазом (extase instante) во мне и с ним – или с ней. Для Левинаса в любви всегда сохраняется дистанция по отношению к другому[114].
Я еще вернусь к этой острой критике, но сейчас я просто хочу отметить преемственность и разрыв с феноменологией в концепции самотрансцендирования у Левинаса. С одной стороны, мы наблюдаем постоянное возвращение к данности жизненного опыта, но с другой – Левинас стремится также исследовать те стороны человеческого опыта, которые не вмещаются в рамки феноменологической редукции. Событие другой личности – это этическое пробуждение, предшествующее субъекту, хотя оно открывается лишь «после события» субъективности. Левинас, таким образом, отходит от Гуссерля, во-первых, вытесняя Я ради другого, а во-вторых, стремясь преодолеть «чисто интенциональный смысл понятия горизонта».
Левинас с подозрением относится к доминированию, которое кроется в «видении» мира, вовлекающем все в горизонт интенционального взгляда наблюдателя. Он считает, что этическое отношение к другому может быть лучше понято как речь или беседа, достигающая другого посредством сказанным слов. «Говорить, – пишет он, – означает приостановить свое существования в качестве субъекта, хозяина»[115]. Это есть «проговаривание» отношения к другому, а не «сказанное» в суждении или понятии. Поскольку вторжение Другого есть своего рода этическое возвышенное, потрясающее сознание, Левинас готов предположить, что среди всех искусств имеется одна практика, относящаяся к сфере личностного иного – это поэзия, опирающаяся на звук, а не на видение. Как поэзия, так и этическое представляют собой формы «говорения» (Le Dire). В противоположность зрению, пытающемуся сконструировать мир, звук есть способ трансцендирования. Он пишет:
В звуке – и в сознании, понимаемом как слушание, – разбивается всегда завершенный мир видения и искусства. Звук – это сплошное эхо, взрыв, скандал. Если в видении форма удерживает содержание и усмиряет его, то звук – словно ощутимое качество, разливающееся за свои границы, неспособность формы вместить свое содержание…[116]
Изобразив возвышенное как нарушение упорядоченности форм в мире при приближении Другого, Левинас находит затруднительным восстановить красоту в данной точке трансценденции, возвратиться к прекрасным формам в мире. Звук – это этическое событие, вызывающее присутствие других, однако даже искусство поэзии освобождает форму от своего содержания.
4. Левинас и удаляющийся Бог
Упоминание Торы напоминает о том, кто дал Тору, о Боге. По Левинасу, идея бесконечности в нас предшествует мысли. До этого момента он следует Декарту (Третье размышление), однако для Левинаса бесконечность не может быть постигнута или представлена, но лишь узнана по избытку мысли. Бесконечность другой личности указывает на Бога, однако это Бог, который никогда не присутствует, а всегда «проходит мимо», подобно тому как Моисей в ветхозаветном рассказе лишь мельком видит удаляющегося Бога сзади[117]. Отношения с Богом вплетены в нашу ответственность за другого человека и в ту справедливость, ради достижения которой мы трудимся совместно другими, но Бог уходит со сцены, чтобы дать место ответственности взрослого человека. Левинас заявляет, что этика «есть само… видение [Бога]. Этика – это оптика»[118]. Вопрос о Боге находит ответ не в теоретической области (теизме), но в практической – как называет это в одном месте Левинас, «любить Тору больше чем Бога». Бог непостижим и недостижим потому, что он совершенно трансцендентен, но также и для того, чтобы творение смогло исполнить свое предназначение, то есть прийти к осуществлению этического человечества.
В этом представлении об удаляющемся Боге, всегда стоящем за инаковостью нашего ближнего, можно уловить отголосок иудейской каббалистической идеи цимцум, «отступления», «сжатия» Бога ради творения[119]. Эта средневековая мистическая идея состоит в том, что поскольку Бог заполняет все пространство, он должен отступить в самого себя, чтобы предоставить пустое пространство для творения. Ничто, из которого творение происходит ex nihilo, невозможно, если Бог не отступит, чтобы создать ничто. Левинас придает этой метафизической концепции этический смысл. Бог отходит, помещает себя на расстоянии, чтобы создать пространство, в котором возможно ответственное человеческое действие. Как пишет Левинас, «Бог конкретен не через воплощение, а через Закон»[120]. Бог скрывает свой лик в Варшавском гетто, чтобы его народ «более возлюбил Закон, чем Бога». В псалмах плача человек, чтобы обрести смысл, вынужден полагаться только на самого себя; именно в плаче мы узнаем об ответственности, которую может взять на себя только Я и в которой одной мы можем увидеть «возвращение» Бога.
Начав с анализа человеческого сознания, мы затем пришли к духовности, в основе которой лежит умение заметить другого или уделить внимание другому – как ближнему, так и Богу. От рассмотрения красоты мы перешли к эстетическому возвышенному, ниспровергающему прекрасные формы, и далее к этическому возвышенному. Но встает вопрос, возможно ли вообще подлинное внимание к другому без некоторого элемента взаимности. Действительно ли мы принимаем других за тех, кто они есть, если не позволяем им самим внести что-то в отношения, как-то углубить или дополнить наше собственное бытие? Именно в этом направлении критикует Левинаса богослов Дэвид Бентли Харт в своей книге Красота бесконечного[121]. Он восстает против возвышенного насилия инаковости у Левинаса, выражающегося в следующем. Любовь к Богу или благу есть, по Левинасу, любовь без какого бы то ни было желания[122], поскольку эрос так или иначе означал бы обретение полноты благодаря другой личности. Бог, как в наивысшей степени Другой, не «является» в сознании субъекта. Более того, даже в случае человека лицо «другого» также едва ли появляется, несмотря на обращение к феноменологии, ведь по Левинасу другой должен быть свободен от каких-либо конкретных черт: в случае этического отношения мы не должны даже замечать, какого цвета глаза у другого[123], чтобы своим взглядом не превратить его в продолжение своего Я, в повторение того же самого. Коротко говоря, приближение другого, понимаемое как возвышенное, делает все формы красоты ненастоящими. Как пишет Левинас, «тотальная инаковость … не проступает в форме вещей, через которую они открываются нам»[124]. Это отрицание какой бы то ни было аналогии между сотворенной красотой и бесконечным Богом. Источником блага может быть только Бог, который не открывается в великолепии мира. Левинас пишет:
Говоря, что Бог не может удовлетворить наше желание, следует добавить, что неудовлетворенность сама возвышенна! … В порядке бесконечного – отсутствие Бога лучше, чем его присутствие[125].
Таким образом, этика и эстетика представляется исключающими друг друга; возвышенное пробуждение навстречу другому, являющееся благом, безразлично к признанию красоты формы. Оказывается, красота вовсе не есть предельная ценность, она принадлежит к иллюзорной области репрезентации – за исключением разве что поэтической формы искусства, которая опирается на звук, а не на видение. Поэтому, по мнению Бентли Харта, такое постмодернистское возвышенное должно быть отвергнуто во имя красоты, желания, чистого блага сияющих поверхностей мира и, прежде всего, во имя Бога, который присутствует в них.
На мой взгляд, не стоит столь решительно пренебрегать опытом возвышенного, на который указывает Левинас. Феноменологический анализ того, как мир является сознанию, может привести нас к опыту диссонанса, нарушающего порядок и гармонию, вызывающего чувство ужаса и панику. Это вполне может быть одним из аспектов Бытия, как утверждает Левинас. Однако я хочу сказать, что не следует отделять возвышенное от прекрасного и что возвышенное не обязательно приводит нас к богословию отсутствующего Бога.
5. Айрис Мердок и возвышенность прекрасного
Философ и писательница из Оксфорда Айрис Мердок (1919–1999) – мыслитель, который может помочь нам связать воедино прекрасное, эстетически возвышенное и этически возвышенное. Хотя она не занималась Левинасом, но она дала свою оценку феноменологии. В представленной в ее работах критике Гуссерля она идет даже дальше, чем Левинас, считая само представление об «интенциональных объектах» в сознании бегством от истины о многообразии явлений как они существуют сами по себе в мире. Именно они, настаивает Мердок, и должны быть предметом нашего внимания, а вовсе не сущность и «глубинная структура» нашей собственной умственной деятельности[126]. Поэтому она не противопоставляет возвышенное прекрасному или одну форму красоты – другой, но находит возвышенное в прекрасном.
Согласно Канту, чувство возвышенного отмечено безграничностью, бесконечностью, отсутствием пределов, перед чем мы испытываем благоговение и даже ужас. Мердок утверждает, что именно такое чувство вызывается бесчисленностью форм в мире, множеством случайных вещей и разнообразием людей, наполняющих мир. Возвышенное потрясает и изумляет нас, однако, как она говорит, «к осознанию своего сверхчувственного призвания нас приводит ошеломление не бесформенностью природы, как полагал Кант, но скорее ее невыразимым своеобразием»[127]. Кант, по ее мнению, боялся того нагромождения мельчайших подробностей, которое свойственно миру и всем телам в нем. Познать мир как отличную от нас действительность значит полюбить его. И эта любовь подлинно этическая, поскольку для Мердок, как и для Левинаса, добродетель означает признать существование других личностей и позволить им быть другими. Именно благодаря великому множеству наполняющих мир случайных подробностей, которым прежде всего и озабочено художественное творчество, хотя и не только оно, наше Я обращено к Благу, и мы можем вырваться из искусственного мира, которым себя окружили. Согласно Мердок, Я, уделяя внимание множественности форм, пребывающих в своей целостности, обращается к Благу и освобождается от сосредоточенности на себе. Эти формы несут потрясение от негативного возвышенного, но это должно привести к любви к другим и в конечном счете к «сверхчувственному призванию» Блага.
Иллюстрацию отношения между прекрасным, возвышенным, любовью и благом можно увидеть в романе Мердок Колокол. Действие происходит в деревенском доме Имбер-Корт, где располагается община мирян. Неподалеку, на другой стороне озера, находится закрытая община, монастырь англиканских бенедиктинок. Оба дома соединены дамбой, пролегающей по озеру. Где-то в глубинах озера покоится некогда принадлежавший монастырской церкви средневековый колокол, на котором сделана надпись Vox ego sum Amoris («Я – голос любви»), тогда как на стенах Имбер-Корт красуется более практичный девиз Amor via mea («Мой путь – любовь»). Идея романа в том, что имеется путь от земной любви к божественной, от низкого эроса к высокому. Этот путь – увидеть других такими, как они есть, и мир таким, как он есть. Однако духовные поиски представителей общины мирян не выводят их на этот путь. Один из их руководителей, Майкл, не в состоянии увидеть неуравновешенного молодого человека по имени Ник таким, каков тот в реальности, с его настоящими проблемами – отчасти по причине имевшей когда-то место пагубной сексуальной связи между ними, за которую Майкл все еще винит себя. Искусствовед Пол не может увидеть свою жену Дору такой, какая она есть, с ее талантами и недостатками, и попросту изводит ее своими собственными представлениями о жизни. В начале романа Дора, перед тем как покорно отправиться в постель к Полу, смотрит на себя в зеркало: «Дора удивленно рассматривала стоявшую перед ней особу. … Дора стояла и смотрела на особу, которая была абсолютно незнакома Полу. Как явственно все-таки она существует»[128].
Согласно Мердок, сила искусства в том, что оно позволяет нам обратить внимание на случайность (contingency) мира, поскольку (знаменательная параллель с точкой зрения Левинаса) оно есть обладающий собственной реальностью объект, явным образом существующий наряду с нами. Оно есть «вот это», и своей резкой «инаковостью» оно позволяет нам отвлечься от самих себя и побуждает нас к поиску истины и Блага. Дора, находясь на верном пути обнаружения своего собственного существования, может тем не менее попасть в ловушку самопоглощения; и вот она рассматривает свои любимые картины в Национальной Галерее и видит, что они есть «нечто реальное, существующее помимо ее сознания, они говорят ей благосклонно, хоть и свысока», разрушая «мрачный, близкий к трансу, солипсизм»[129]. Мердок предполагает, что размышление над искусством сродни религиозному опыту, поскольку искусство в наш нерелигиозный век, лишенный молитвы и таинств, может дать многим людям наиболее чистый опыт чего-то такого, что постигается как особенное, драгоценное и целительное и что спокойно и без притязаний удерживает наше внимание. Хорошее искусство, которое так дорого нам, может казаться чем-то святым, и внимание ему можно уподобить молитве[130].
В центре повествования – старый монастырский колокол, столетия пролежавший на дне озера и найденный Дорой и другим гостем общины, Тоби. Они тайно поднимают его ночью со дна, чтобы, по плану Доры, заменить им новый колокол, который вскоре должны установить в монастыре. Глядя на него, Дора испытывает благоговение, подобное тому, которое она ощущала, глядя на портреты в галерее. Евангельская история жизни Христа, изображенная на колоколе средневековым художником, оказалась способной пробудить в зрителе внимание к реальности:
С наклонной поверхности бронзы глянули на нее коленопреклоненные фигурки – крепкие, простые, прекрасные, нелепые, исполненные того, что не было для художника предметом праздных размышлений или фантазий. Сцены эти были для него более реальными и знакомыми, чем собственное детство. И он передал их правдиво[131].
Однако остается под вопросом, действительно ли Дора, созерцая этот прекрасный предмет, отвлекается от сосредоточенности на самой себе. Она хочет поменять колокола местами, чтобы привлечь внимание к себе, чтобы заставить других перестать все время игнорировать ее и наконец заметить ее; она хочет, выражаясь ее словами, «сыграть роль ведьмы». Ей приходится испытать потрясение опытом возвышенного, который также несет красота. И Мердок при описании поднятия колокола прибегает к лексике возвышенного: он вызывает «панику», он «ужасен», «громаден», «страшен», «чудовищен», у него «черный зев» и он – «существо из иного мира»[132]. Поддавшись этому чувству, Дора звонит в колокол, чтобы созвать всех посмотреть на него, а не на саму себя, как она намеревалась вначале. И снова мы встречаем терминологию возвышенного: «Язык ударился о бок с ревом, от которого она закричала – так он был близок и ужасен … Он [колокол] возвращался, громадные очертания его были едва видны – чудовищный, движущийся кусок тьмы … Поднялся звон – особенный, пронзительный, удивительный…»[133].
Эта история проясняет, в каком смысле, по мнению Мердок, искусство и этика по сути тождественны, будучи любовью или уважением к другому, подлинным вниманием к другому. В своем эссе о «Возвышенном и Благе» она пишет: «Любовь, а значит искусство и нравственность, есть раскрытие реальности»[134]. Любовь может вести к подлинной аскезе, к избавлению от Я ради Блага. Но для Мердок это не эмпатический эрос: речь не идет об ответном отклике со стороны Блага, которое, как и Бог Левинаса, является ускользающим, «выше бытия, безличным, неконтингентным, не есть определенная вещь среди других вещей»[135]. Мердок убеждена, что «традиционный» Бог, которого она понимает как «отвечающий-судящий-воздающий Разум и утешающий поток любви», не существует[136]. Мы не можем встретиться с Благом как таковым или вступить с ним в непосредственные отношения, но знаки трансцендентного Блага «рассеяны» по миру, и красота – это «путеводная нить», ведущая к этому Благу, поэтому «по мере очищения нашего понимания красоты мы открываем благо»[137]. Итак, внимая другому, мы связали воедино прекрасное, возвышенное и благо; возможно ли теперь, двигаясь дальше и Левинаса, и Мердок, стать причастным этому Высшему Благу, или Богу?
6. Эстетическое богословие причастности Богу
Теперь, наконец, я хотел бы вернуться к Левинасовской концепции удаляющегося Бога, которая, по моему мнению, отсылает к мистической идее цимцум. Проблема в том, что эта концепция подразумевает Бога, занимающего пространство, от части которого Бог может отказаться. Она представляет Бога находящимся в пространстве как в некоем вместилище: сначала Он заполняет его целиком, а затем сжимается, оставляя в нем для нас что-то вроде полости или пустоты – места, в котором Бог отсутствует. Даже если Бог создал пространство внутри себя, это пространство теперь «вне» Бога, поскольку Бог не присутствует в этой пустоте ничто[138].
Однако возможно и другое понимание божественного самоограничения: Бог создает внутри самого себя место для творения, чтобы то пребывало в постоянном взаимодействии с Богом.
В таком случае всю сотворенную реальность можно понимать как существующую в Боге и потому – в отношении с Ним. Я хочу воспользоваться здесь символом из христианской богословской традиции, а именно образом Бога как Троицы. Мы можем представить мир как существующий в пространстве, созданном сплетением божественных Лиц, которые, как указывали Августин и Фома Аквинский, суть не что иное, как движения отношений. Пространство – это то, что создается самими отношениями. В таком случае Бог не существует в пространстве, но создает пространство в Себе посредством отношений. Поэтому мы можем сказать, что конечные существа участвуют в происходящих в Боге движениях любви и справедливости, подобных движениям отношений между отцом и сыном, открытых новым глубинам и новому будущему благодаря Духу любви[139]. И поскольку это движения дарования и принятия в любви, то также уместно будет сказать, что они подобны отношениям между матерью и дочерью, углубляющимся и раскрывающимся через ритм совместной любви. Мы можем думать о Боге только в категориях нашего участия в движениях любви и справедливости, поэтому это пространство не может быть объективировано или понято как высший субъект, тем более как три субъекта. Идея Бога как сплетения отношений, разумеется, катафатична, но в то же время и апофатична, поскольку мы думаем не о личностных субъектах, имеющих отношения, но только о самих движениях отношений, препятствующих всякой попытке наблюдения и объективации. Это мышление в категориях сопричастности, а не субъект-объектных отношений. Левинас и Мердок, а до них Кант, правы в том, что Бога невозможно постичь или присвоить как один из объектов в мире. Левинас прав, что Бог познается только в межличностных актах любви и справедливости, но это не отсутствие Бога или Его уход со сцены. Наоборот, это сокрытость всегда присутствующего Бога, поскольку мы живем в Нем. Бог, которого невозможно познать ни в качестве объекта, ни в качестве субъекта, будет сокрыт от нас, и все же, поскольку мы причастны Его жизни, «скрывающий свой лик» Бог никогда не может отсутствовать.
Подведем итог.
Вместе с Левинасом мы начинаем с мира как он является в нашем сознании. Мы начинаем со случайных прекрасных вещей, попадающих в поле нашего зрения. Затем некоторые проявления красоты вызывают чувство возвышенного, которое мы можем переживать как диссонанс, ужас и благоговение перед бытием мира как таковым. Это в свою очередь может привести к другого вида возвышенному – этическому возвышенному, когда мы внимаем другому человеку, вещам в мире и Богу. Вслед за Мердок мы можем сказать, что это не устраняет, но включает в себя красоту как указание на Благо; при этом наш взгляд не является собственническим или доминирующим, чего так опасается Левинас. Наконец, идя еще дальше, чем оба наши мыслителя, мы обнаруживаем, через случайность прекрасного и потрясение возвышенным, что мы участвуем в жизни Бога, скрытого, но присутствующего, в котором мы «живем и движемся и существуем». Это означает, что наше внимание к другим принимает форму взаимных и эмпатических отношений, потому что только в таких отношениях мы вообще существуем.
Перевод с английского Кирилла Войцеля под редакцией Михаила Толстолуженко
Ромило Кнежевич
Спасительная красота обычных предметов
Чтобы дать христианское определение красоты, сначала нужно определить differentia specifica христианства. Достаточно ли сказать, что главная особенность христианства – Бог-Троица? Или христианство – религия Бога-Троицы и Богочеловека?[140] Если движение от Бога к человеку и от человека к Богу – первичный религиозный феномен; более того, если человек есть микрокосм и микротеос, что это означает для христианской концепции красоты?
В первой части статьи мы рассмотрим, как на христианскую концепцию красоты влияет тот факт, что красота – не чисто человеческий продукт, а потому любое автономное определение красоты неадекватно. Вторая посвящена значению учения о человеке как микрокосме и микротеосе для христианской концепции красоты.
Джеральд Мэнли Хопкинс, один из величайших поэтов викторианской эпохи, написал следующие строки:
Мир сей без сырости и сорняков Был бы не мир, а мечта дураков. Пусть же струится во веки веков Пиршество сырости и сорняков.Другой великий мастер, Андрей Тарковский, также понимал важность вещей, которые, с обыденной точки зрения, красивыми не назовешь. В его фильме «Жертвоприношение» главный герой, по имени Александр, рассказывает, как гостил у своей матери. Мать болела, и он хотел помочь ей, выразить свою любовь. Увидев, что сад возле дома запущен, он решил все расчистить и прополоть. Александр трудился долго и тяжело. Закончив работу, сел отдохнуть и обозреть дело рук своих. Но когда он выглянул в окно, его охватило разочарование. Разочарование было двойным. Он не только не создал желаемой красоты, но и разрушил ту красоту, которая существовала раньше.
Даже такие обыденные действия, как уход за садом, сопряжены с философским или богословским подходом. Какие же философские и богословские воззрения присутствуют в случае с героем фильма?
По мнению Александра, мир не создан «из ничего»; мир и человек не имеют абсолютного начала. Если бы мир и человек были бы созданы из небытия, они бы непрестанно черпали свои качества, свою жизнь, истину и красоту как дар от Творца. Существовать – это одно, а жить – совершенно другое. Человек сотворен и существует, но живет он лишь тогда, когда причастен божественной Жизни. Существование преходяще, ибо всякий человек смертен. Жизнь – вечна. Каждый человек, даже когда умирает, может жить в Боге и через Бога, если пожелает. Красота в соответствии с мерками мира сего мимолетна. Божественная Красота – вечна. Человек может лучиться этой красотой даже в восьмидесятилетнем возрасте, и даже если не удовлетворяет таким человеческим меркам красоты как стройность и пропорциональность.
Если бы Александр верил в создание мира из небытия, он знал бы, что красота творения (и жизнь творения) неустойчива и зависит от любви Божией. Он знал бы, что человек – не источник жизни и не источник красоты, но должен приобщиться к Жизни Божией, чтобы быть живым и прекрасным. И что важнее молиться о явлении в растениях нетварного присутствия Божия и красоты Божией, чем полоть сорняки. И что материя не чужда Богу, Бог же не обязан был использовать ее при создании мира (как если бы она всегда сосуществовала с Богом). Если материя не имеет абсолютного начала, она не может быть красива сама по себе. Она лишь тень красоты вечного мира идей. Материя сама по себе не имеет цели существования. Она лишь лестница, по которой можно взойти к пониманию красоты вечного мира[141].
Вспомним слова Филипа Шерарда:
Мы еще можем говорить, что знамения или указания на Бога – Его авторский росчерк – видны в зримых явлениях или что зримый мир есть божественная криптограмма, которую надо разгадать. Но при таком взгляде на вещи нам трудно выйти за пределы этого, уйти от дуалистической ментальности, при которой инаковость Бога проецируется на инаковость физической или материальной природы зримого мира, из-за чего между ними всегда есть дистанция, разрыв, яснее всего выраженный в отсутствии – deusabsconditus – и делающий невозможным представить брачный союз между ними[142].
Однако, если Бог создал материю из ничего, получается, что материя – целиком и полностью творение Божие, и по самой природе своей несет на себе печать Бога Логоса, печать Христа. Она логосична.
А вот как понимал творение Дж. М. Хопкинс:
Следствием хопкинсовской эмфазы на ценность чувств и чувственного восприятия является ценность самой тварной реальности. Если творение, особенно в своем своеобразии, христично и потенциально несет откровение, это должно влиять на подход человечества к природе. За это «благочестивое» уважение к творению Хопкинса называли «поэтом природы»[143].
Человек, который знает о логосе материи, не станет вести себя с ней как насильник и самодур, пытаясь создать красоту по своему усмотрению. Возделывая свой сад, он узрит логос в каждой травинке. Он не сорвет и стебелька. Обтесывая один-единственный камень, чтобы построить дом или храм, он будет следовать логосу Божьему в нем. Он попытается проследить то, что Хопкинс называл «инскейпом», а Джойс – «чтойностью» (quidditas)[144], что Пруст считал общей сущностью вещей[145]. Он будет искать структуру и строй камня. Он попытается понять, каким способом камень позволяет себя обтесать. Он не навяжет камню свою волю.
Если мир и человек созданы из ничего, в любой момент своего существования они окружены возможностью несуществования, небытия[146]. А точка зрения, что человек не был создан из небытия неизбежно приводит к выводу, что человек самодостаточен. Платон даже считал, что человеческая душа сама по себе вечна, а Ориген – что Бог не был бы всемогущ, если бы не имел на Своей стороне мир, где Он мог бы явить свою силу от вечности. И это логично приводит к выводу, что душа внутренне вечна.
Теория, что человек не создан из ничего и возвращается в небытие, приводит к декартовскому cogito, коперниковской революции Канта и «сверхчеловеку» Ницше. Учение о том, что человек не создан из праха земного (т. е. из небытия) приводит к мысли, что человек есть бог. Учение о том, что существование человека не окружено постоянно небытием, отрицает обожение и признает лишь самообожествление. Оно не знает, что человек может стать богом, богом по благодати, а полагает, что он может стать богом лишь собственными усилиями и твердой решимостью. На каждом новом витке развития философии мы видим: если люди начинают с теории, что материя и пространство всегда сосуществовали с Богом, в какой-то момент появляется ницшеанский «сверхчеловек» со своей жаждой власти, ибо Бог, с Которым нечто сосуществовало с вечности, не всемогущ. Бог, Который важен для жизни человека, в конечном счете низвергается, и низвергается человеком, который не имеет абсолютного начала.
Бог, который не всемогущ, рано или поздно передает свои черты человеку. Такой Бог уже не есть Жизнь, не есть Истина и не есть Красота. Всем этим отныне становится человек. Декартовское определение существования (cogito, ergo sum) – логические плоды трагически ошибочного тезиса о том, что творения из ничего не бывает, – тезиса, который дорого заплатил за верность человеческому разуму. Однако были ли эти великие люди – Декарт, Кант и Ницше – незыблемо убеждены в абсолютной истинности исходной гипотезы? Декартовское cogito утверждает, что человек самодостаточен. Однако вот другие слова Декарта: «Бог создал три чуда: создание из ничего, свободную волю и богочеловека»[147].
Ницше проводил грань между существованием и жизнью:
Я, может быть, еще имею право сказать о себе самом: cogito, ergo sum, но не vivo, ergo cogito. За мной обеспечено право на пустое «бытие», а не на полную и цветущую «жизнь»; мое первоначальное ощущение служит мне лишь порукой в том, что я являюсь мыслящим, но не в том, что я являюсь живым существом, порукою в том, что я – не animal, а разве только в крайнем случае – cogital.[148]
Астрономическая революция Коперника привела к коперниковской революции Канта независимо от того, сколь наивной может показаться подобная дедукция. Как сказал Бертран Рассел[149], если Земля не центр вселенной, то человек, как житель Земли, не цель, с которой Бог создал мир:
Другое важное следствие, вытекавшее из развития науки, – это глубокое изменение в представлении о месте человека в мироздании. В средние века Земля считалась центром небес и все имело целью служение человеку. В ньютоновском мире Земля была второстепенной планетой, не очень-то выделяющейся звездой; астрономические расстояния были так огромны, что в сравнении с ними Земля была просто булавочной головкой. Казалось невероятным, чтобы весь этот громадный механизм был устроен для блага каких-то жалких тварей, обитающих на этой булавочной головке[150].
Если человек не цель, с которой создан мир, то мир, скорее всего, и вовсе не имеет цели. Если человек не самое важное из созданий, почему бы не считать, что его когнитивные способности не созданы с прицелом на понимание истины, которая кроется в мире. Существование человека – дело случая. Чисто случайно возник он на задворках бесконечной вселенной. Основания мирового логоцентризма оказались подорваны. Такие категории человеческой мысли, как время и пространство, не соответствуют реальности окружающего мира.
Тем не менее, словно усомнившись в ценности собственной философии, Кант написал «Критику способности суждения» (быть может, краеугольный камень всей его системы). В этой работе он делает попытку выявить общий критерий для суждений о красоте. Если мир – следствие случая, и если реальность вокруг человека – вне его досягаемости (поскольку он прикован к своим категориям мысли, категориям, в соответствии с которыми мир не был создан), то общий критерий истины следует искать в самом человеке. Подчеркнем, что именно делает Кант: он пытается найти в человеке когнитивную силу, которая была бы в гармонии со структурой мира. Он пытается воссоединить онтологию и гносеологию, опровергнуть собственную коперниковскую революцию. Кант хочет, чтобы человек увидел реальность свободной от всего эгоистически человеческого, от всего, что применимо только к человеку, но не к реальности. Поэтому он вводит понятие «незаинтересованности». Однако незаинтересованность у Канта не означает отсутствие интереса. Кант лишь пытается снять всевозможные предубеждения: расовые, этнические, социальные, идеологические, гендерные и т. д., как бы достичь точки, где человек выходит за пределы себя и воспринимает мир, словно он уже не человек. Но каким человеком он тогда перестает быть? Человеком, который стал богом лишь вследствие собственных автономных усилий. Однако парадоксальным образом, Кант хочет, чтобы человек оставил себя и взглянул на мир как Бог. А когда Бог создал мир, Он сказал, что мир «хорош»[151]. Значит, мир был красив: неслучайно ведь Септуагинта переводит еврейское слово «тов» в русле греческого представления о красоте мира.
У Канта не получается целостной системы. В ней нет базового когнитивного орудия, которым человек может познавать мир с точки зрения Создателя, т. е. видеть в творении то, что хотел сделать из него Бог, и смысл, который заложил в него Бог. Известно, что греческое слово «логос» означает «внутренний смысл»[152]. Стало быть, логос творения должен быть наблюдаем в нем. Однако Бог создал траву не затем, чтобы ее косили на сено, а заснеженные горные вершины – не затем, чтобы на них строили отели и катались на лыжах. А зачем Ему понадобились комары, вши и слизни? С человеческой точки зрения, без комаров мир был бы поприятнее. Пожалуй, с этим согласятся все. Но откуда мы знаем, какими были комары до Грехопадения? Мы знаем, что на Адама животные не нападали (даже змей). До падения змей и не ползал по земле, а скорее напоминал нынешних птиц. Никто не заставлял Бога создавать мир: Он создал его по собственной свободной воле, из радости, желая создать красоту. Он создал мир из любви.
Итак, у Канта нет базового когнитивного орудия, которое позволило бы человеку взглянуть на мир глазами Творца. Бог создал мир как красоту и из любви. Канту (и каждому из нас) недостает когнитивного орудия любви. А ведь именно оно позволило бы увидеть мир как красоту.
Любовь – величайшая возможность выйти за пределы себя. Лишь через любовь человек может убрать себя из центра мироздания. Лишь через любовь может он перестать быть падшим человеком и лжебогом. Богом же он становится по благодати. Становясь богом по благодати, он обретает способность воспринимать мир с божественной точки зрения. Он делается способным понимать цель, с которой существует творение, ибо отныне восседает на троне, – единственном месте, откуда можно увидеть смысл. И это трон любви. С трона любви мир созидается как красота, красота обильная и богатая. Бог дал наряды более дивные, чем у Соломона, даже цветам, чья краса увядает в один день. В творческом порыве Бог действовал как щедрый художник. Вспомним, что некоторые святые отцы как раз и называли Бога величайшим Художником.[153] Бог верит, что необузданное великолепие творения заключает в себе смысл.
Архимандрит Иустин Попович однажды сказал: «А без бесконечности может ли человек вообще существовать?»
Изобилие бесконечного многообразия – вот определение жизни. Обрести его можно лишь в Боге. Создавая мир, Бог дал человеку образ этого бесконечного изобилия. Выпалывая же сорняки из материнского сада, Александр уничтожал великолепие пышности. Уничтожал Жизнь. Уничтожал Красоту. В этом и крылась причина его тоски и разочарования. Красота, созданная им, не вела его к Истине. А красота, которая не ведет к Истине, есть красота зловещая, ибо не дает человеку Жизнь. Это красота, которую Томас Манн описал в «Смерти в Венеции» и «Волшебной горе», красота польского мальчика Тадзио и мадам Шоши. Мы же ищем Красоту, которая дает жизнь. Ищем Красоту, которая спасает.
А что насчет определения Красоты? Здесь стоит возвратиться к Канту и привести важное наблюдение Элизабет Преттеджон:[154] из «незаинтересованности» логически вытекает, что все сущее имеет одну и ту же важность. Прекрасным может быть все. Преттеджон даже говорит, что полотна Жака-Луи Давида не прекраснее, чем обыденная жизнь у Шардена. В плане красоты, изображение исторического события не обязательно значимее, чем изображение чего-то повседневного. Высказывалось даже мнение, что обыденные предметы намного важнее, чем некоторые исторические события. И что обыденные предметы несут спасительную Красоту.
Джеймс Джойс сказал своему брату:
Тем нескольким бедолагам, которым может попасться моя книга, я хочу передать именно свое представление о важности обыденных вещей[155].
Следует отметить, что спасительная Красота ведет к Истине, Благости и Жизни. Она ведет нас ко Христу. Может ли красота изношенных башмаков приводить ко Христу? Может ли красота старой табуретки приводить ко Христу? А красота камешка, цветка или облака? А красота неба? (Ведь что может быть «обыденнее» неба: оно настолько примелькалось, что мы его уже и не замечаем…) А сорняки, лужи или дикая природа? У Достоевского князь Мышкин говорит, что «мир спасет красота». Лично я склонен верить князю Мышкину, верить Достоевскому. Хопкинс и Элиот знали, что воплощение Христа есть онтологическая основа красоты творения.
«Думаю, следует считать, – писал Хопкинс, – что с обыденностью жизни покончило… невероятное умаление Боговоплощения». У Элиота «миг счастья… внезапное озарение» снова описывается (как некогда у Августина) как «точка пересечения времени // И вневременного». И этот «намек полуразгаданный, дар полупонятый есть Воплощение»[156].
Хопкинс и Элиот знали, что Воплощение придает смысл всему человеческому телу. Оно придает смысл человеческим чувствам.
Для Хопкинса, Великая Жертва, или ensarkosis, Слова запечатывала его теорию «инскейпа», одухотворяла эстетическую философию, отчасти унаследованную от Джона Раскина, «интеллектуально санкционировала освящение чувственного опыта» и оправдывала его сакраментальное понимание поэтического языка. В этой концепции вечного Воплощения, где Слово «евхаристически» присутствует в материи, Хопкинс считал, что Бог, человечество, природа и язык участвуют друг в друге и связаны друг с другом. В этом смысле…Евхаристия стала своего рода архетипом для Хопкинса, где тварные вещи приобщаются к божественной реальности, на которую указывают[157].
Христос воплотился и воскрес, – все творение стало Его Телом. Его можно ощутить, в том числе, и на вкус (например, во вкусе пирожного). А еще – обонять в запахе, быть может, даже в запахе плесени (вспомним Пруста: «в самый настоящий восторг приводит меня не какая-нибудь глубокая мысль, а всего лишь запах плесени»[158]). И у того же Пруста запахи – «неисчерпаемый кладезь поэзии»[159].
Как мы уже сказали, незаинтересованность у Канта не означает отсутствие интереса. Она находится лишь в шаге от любви, от величайшего шага человека за пределы себя, от шага, который делает его богом по благодати и позволяет ему увидеть мир глазами Бога. По словам св. Максима Исповедника, сам Бог совершил Воплощение из любви. Из любви Бог воспринял человеческую плоть и понес все, что может выпасть на долю человека, кроме греха. А согласно Достоевскому, сатана не воплотился потому, что в нем нет любви: он как бы абсолютный отшельник. Когда мы любим, мы воплощаемся в любимом, становимся им, видим мир его глазами; его сердце бьется в нас. Иного способа узнать другого не существует.
Кант находился лишь в одном шаге от понимания Красоты как Истины, Красоты как Бытия. Православие понимает Красоту как проявление Истины в творении, проявление Бытия в творении, проявление Христа в творении.
Мы искали определение Истины. Пожалуй, стоит сказать о православном определении Красоты. Красота – это апофатическое проявление Истины в творении. Можно сформулировать и иначе. Если Истина, Христос, проявляется в творении, значит, творение, все сущее, участвует в Жизни Христовой и Красоте Христовой. Поэтому Красота есть участие в Красоте Христовой. Вспомним, как на православных иконах все освещает Нетварный Свет, – этот Не-тварный Свет есть любовь Бога Отца к Сыну и творению, которое возникло через Сына.
Тем не менее, пожалуй, можно еще сказать, что Красота – это апофатическая эпифания Истины в творении. Эпифания подразумевает, что нечто желает открыться нам по своей собственной воле[160]. Свободная воля характерна только для личности. Христианство понимает Бога как союз трех Личностей. Как мы уже говорили, для Жизни характерно изобилие бесконечного многообразия. Изобилие бесконечного многообразия не существует вне Личности. Вселенная, как будто бескрайняя, стала бы бесконечно тесной темницей для человека, если бы в творении не явилось присутствие Бога Личности. И если молитва не приносит нам такое восприятие жизни, значит, мы молимся ложному богу, богу, который не есть личность. Все, что созидает Бог Личность, Он созидает личностным образом. Бог Личность «не знает», как творить иначе, чем личностным образом. Значит, Бог Личность созидает все уникальным и неповторимым. Нет даже двух во всем одинаковых травинок, муравьев, комаров и мошек. Разве правильно было бы, если бы из всех творений лишь человек был создан как вечное создание? И разве справедливо – если бы мышь существовала в вечности лишь в форме своей природы, как вид, а не как партикулярность?
Как, согласно митрополиту Иоанну Зизиуласу, этот вопрос трактовал св. Максим Исповедник?
Использование Максимом «природы» в вышеупомянутом положительном смысле всегда следует рассматривать наряду с его выражением λόγος φύσεος. «Логос природы» является для Максима выражением, указывающим не на природу как она есть, а на природу в соответствии с ее целью (σκοπὸς) или завершением (τέλος), то есть как она существует в ипостаси божественного Логоса. Существовать «согласно природе» (κατὰ φύσιν) означает существовать «согласно логосу природы» (κατὰ τὸν λόγον τῆς φύσεως), а это, в свою очередь, означает существовать в соответствии с божественным намерением, согласно которому природа должна быть воспринята в ипостась Логоса… «Логос природы» означает для Максима не природу как таковую, а природу персонализированную…Иными словами, существовать «согласно логосу природы» означает ипостасировать нашу природу в истинной и подлинной личностности, заставить общее (природу) вечно существовать в состоянии инаковости и своеобразия. «Логос природы» должен не «натурализовать» личность, а «персонализировать» природу, превратив ее из общего в особенное, введя инаковость в само ее «бытие»»[161].
По учению святых отцов, вечное существование возможно только личностным образом. Бытие, которое в вечности не сохраняет свою инаковость и ипостасное своеобразие, не существует подлинным образом.
Насколько подлинно бытие конкретного сущего, если однажды это сущее перестанет существовать в качестве конкретного, особенного? Как может «мышь» быть в подлинном смысле «личностью», если личностность означает своеобразие (idion) и если своеобразие этого животного обречено на исчезновение? Личностность или ипостась имеет целью сохранение, приснобытие (ἀεὶεἷναι) собственного своеобразия; только существо, избавленное от смерти, может быть онтологически подлинным своеобразием, то есть подлинной личностью или ипостасью[162].
В биографии старца Силуана Афонского, написанной архимандритом Софронием (Сахаровым), мы читаем, как однажды Силуан без особой нужды убил муху. Силуан говорит, что два дня плакал после этого. Он был недоволен, когда его ученик, о. Софроний, без необходимости ударил палкой по травинке возле дороги, по которой они шли. Патология ли это – два дня плакать об убитой мухе и сокрушаться о сорняке? Или что-то другое? Может быть, через любовь мы начинаем видеть мир глазами Бога? Бог всегда смотрит на мир из вечности и видит его таким, каким он будет в вечности. Каждая травинка чувствует, что конец ее должен быть в вечности и взывает к Богу о явлении Его сынов, которые помогут ей достичь этого состояния[163].
Невозможно описать силу любви, с которой Бог создал мир, и изобилие любви, с которой Он создал каждую малозначимую (с человеческой точки зрения) деталь. Он не создавал мошек целыми роями, серийно. Каждой из них Он уделил особое внимание, в каждую вложил особую любовь. Иначе Бог и не может творить, оставаясь Богом-Любовью. У Него не может быть иного взгляда на творение. Осмелюсь сказать, что Он созидает каждую деталь, каждую мошку и каждую травинку как личность. А личность абсолютно неповторима. Вот почему старец Силуан оплакивал пришибленную муху.
Всякое другое отношение к творению приводит к его трансформации в бесформенное месиво. Адорно и Хоркхаймер писали в «Диалектике Просвещения», что материя стала грязью, поскольку
… Просвещение относится к вещам точно так же, как диктатор к людям. Они известны ему в той степени, в какой он способен манипулировать ими … Тем самым их в-себе становится их для-него. В этом превращении сущность вещей всегда раскрывается как та же самая в каждом случае, как субстрат властвования[164].
У Хайдеггера же мы встречаем мысль, что «существование замкнулось в себе». Дело в том, что творение жаждет существования личностного, а значит, и вечного. Но когда человек относится к нему как к грязи, оно скрывает от него свою глубинную тайну. Оно скрывает, что оно личностно, живо и бесконечно в каждой своей детали, и что оно несет в себе образ Творца. Оно открывает свое сердце человеку, лишь когда он испытывает любовь, как и человек не может познать Бога, если Бог его сначала не познал[165].
Вглядимся в историю искусства: человек все более замыкался в себе и все более чувствовал одиночество. Он бежал от Бога. Он перестал изображать события из Ветхого и Нового Заветов. От библейских событий он обратился к природе. Однако потом он бежал и от природы, ибо чувствовал, что она есть дело Божие. Человек хочет жить в окружении продуктов своего труда, в окружении вещей, не несущих на себе печати Божией. Человек изображает свою жизнь в современных городах. Он изображает и описывает созданные им вещи. А если какое-нибудь дерево и попадает в поле его внимания, оно оказывается у него обезбоженным, очеловеченным. Тем самым человек живет в ложной надежде, что где-то можно спрятаться от Божьей любви. Что ж, такое место и впрямь существует. Когда мы говорим Христу, что не желаем единства с Ним, мы в этом месте и находимся.
Представим, однако, что в бесконечной глубине сердца человек не может вымолвить: «Мне это не нужно». Даже если так говорит его разум, и даже если в клетке, в которой он находится, осталось совсем мало места, и даже если он нерешительно говорит Христу: «Не надо». Бог не нарушает человеческую свободу, но Его изобильная любовь использует и наши колебания с последним «нет», чтобы спасти нас от вечного проклятия. Человек сам запер себя в одинокой клетке. Он создал мир, состоящий исключительно из дел рук его. «Улисс» Джойса описывает двадцать четыре часа в Дублине. И тем не менее, эпифания была и остается одним из ключевых понятий джойсовской поэтики. А ведь, как мы уже сказали, Джойс всегда соотносил эпифанию с вещами обыденными и малозначимыми[166].
Возвратимся к вопросу, который уже ставили: может ли красота повседневных вещей приводить ко Христу? Скажем, красота табуретки? И если да, то какие богословские моменты делают это возможным? Здесь мы подходим ко второй части наших размышлений и рассмотрим, как на концепцию красоты влияет учение о человеке как микрокосме и микротеосе.
Ван Гога взволновал стул, когда-то принадлежавший Диккенсу. А может ли приводить ко Христу очарование истоптанных башмаков? В самоубийственном угаре человек обособляется, захлопывает все врата, ведущие ко спасению. Может ли красота старых башмаков спасти его? Мы уже сказали, что все творение жаждет вечной формы существования, то есть личностной формы существования. Творение жаждет человека, который есть личность. Бог дал человеку удивительную и важную роль. Человек несет ответственность за спасение творения.
Если ипостась означает idion, то есть своеобразие, – а именно это она и означает для греческих отцов, – тогда единственное подлинное, с онтологической точки зрения, своеобразие, должно в конечном счете обнаруживаться в божественной личностности и – что касается творения – в ипостаси воплотившегося Сына, в которой творение призвано в конечном итоге быть ипостасировано. Именно таким своеобразием или ипостасью человек, как образ Божий, и призван быть, то есть своеобразием, которое через преодоление смертности было бы онтологически подлинным и в то же время способным ипостасировать остальное творение, чтобы оно также могло быть спасено через собирание в человеке.[167]
В человеке в миниатюре представлена вся вселенная: он есть микрокосм. Вся вселенная с тревогой вслушивается в биение человеческого сердца. Вся вселенная ждет, куда устремится человеческая мысль. Архимандрит Иустин Попович сказал: «Творение с фотографической точностью фиксирует даже мельчайшие движения человеческой души». Окружающая среда – молчаливый судья человека. Творение жаждет человека, который есть личность. Из всех тварей лишь человек обладает даром свободы устанавливать и отвергать союз с Богом. Человек становится личностью, когда пребывает в общении с Богом Личностью. Отношения человека с Богом не сводятся к формальному благочестию, формальной ортодоксии и рациональным постулатам благочестия. Человек может быть благочестивым даже в том случае, если себя благочестивым не считает. Т. С. Элиот заметил, что католическое благочестие наложило отпечаток даже на поздние работы Джойса[168]. Не сразу, далеко не сразу рациональные неверующие взгляды истребляют глубинный опыт встречи с Богом Живым. Мало ли чем человек себя называет или чем себя считает: главное, что в его сердце, что он чувствует ко Христу. Однако трагическая подмена случается, когда человек променивает живую личность Христа на проповедь или проповедников Христа.
Архимандрит Иустин Попович говорил, что мерой истины является Личность Христа, а не учение Христа. Однако пути к этой встрече могут быть разными. С Личностью Христа можно соприкоснуться и в Его творении. Человек встречает Христа в творении даже тогда, когда не сознает этого, С Личностью Христа можно соприкоснуться в Красоте. Мы уже сказали, что Красота – это апофатическое проявление Истины в творении. Красота – это воплощенный Христос.
В 1888 году Ницше был в Неаполе. Он только что закончил работу над «Антихристом». Однако небо над южным городом было столь дивным, что он написал Мете фон Салис: «Старый Бог все еще жив»[169]. Глядя на небо, философ, ранее сказавший, что «Бог умер», воскликнул, что «Бог все еще жив»!
И все же вернемся к башмакам. Может ли красота обыденного предмета быть спасительной? Нашу жизнь с фотографической точностью фиксирует не только природа, но и дело рук человеческих. Если в неисследимых глубинах сердца человек сохранил чувство Христа (наподобие того, о котором говорит Ницше), такой человек все еще личность. Человек как микротеос не обитает во времени и пространстве, но они пребывают в нем, ибо сформированы в соответствии с движениями его внутреннего бытия. Все вокруг него, даже обыденные предметы, становится прежде всего портретом человека. Самые тривиальные вещи обретают свободу. И если человек становится личностью даже через неосознанную жизнь со Христом, они становятся портретом человека. Становятся портретом Христа.
Свою книгу «Исток художественного творения» Хайдеггер написал, основываясь на картине Ван Гога «Башмаки». Хайдеггер считает, что это башмаки неизвестной крестьянки. Мейер Шапиро думает, что это башмаки самого Ван Гога. Однако и Хайдеггер, и Шапиро, согласны, что эти старые башмаки – в определенном смысле портрет человека, который их носил[170]. Шапиро сравнивает эту картину с описанием башмаков в романе Гамсуна «Голод»:
Думаю, мы ближе подходим к восприятию этих башмаков Ван Гогом через слова Кнута Гамсуна в романе «Голод» (1880-е годы) о его собственных башмаках: «… Некая частица моего существа перешла в эти башмаки, от них на меня веяло чем-то близким, словно то было собственное мое дыхание…»[171]
А вот какие впечатления от этой картины были у Хайдеггера:
На картине Ван Гога мы не можем даже сказать, где стоят эти башмаки. Вокруг них нет ничего, к чему они могли бы относиться, есть только неопределенное пространство. Нет даже земли, налипшей на них в поле или по дороге с поля, а эта приставшая к башмакам земля могла бы по крайней мере указать на их применение. Просто стоят крестьянские башмаки, и, кроме них, нет ничего. И все же.
Из темного истоптанного нутра этих башмаков неподвижно глядят на нас упорный труд тяжело ступающих во время работы в поле ног. Тяжелая и грубая прочность башмаков собрала в себе все упорство неспешных шагов вдоль широко раскинувшихся и всегда одинаковых борозд, над которыми дует пронизывающий резкий ветер. На этой коже осталась сытая сырость почвы. Одиночество забилось под подошвы этих башмаков, одинокий путь с поля домой вечернею порою. Немотствующий зов земли отдается в этих башмаках, земли, щедро дарящей зрелость зерна, земли с необъяснимой самоотверженностью ее залежных полей в глухое зимнее время. Тревожная забота о будущем хлебе насущном сквозит в этих башмаках, забота, не знающая жалоб, и радость, не ищущая слов, когда пережиты тяжелые дни, трепетный страх в ожидании родов и дрожь предчувствия близящейся смерти. Земле принадлежат эти башмаки, эта дельность, в мире крестьянки – хранящий их кров. И из этой хранимой принадлежности земле изделие восстает для того, чтобы покоиться в себе самом.
Но мы, наверное, только видим все это в башмаках, нарисованных на картине. А крестьянка просто носит их. Если бы только это было так просто – просто носить их[172]. Когда крестьянка поздним вечером, чувствуя крепкую, хотя и здоровую усталость, отставляет в сторону свои башмаки, а в предрассветных сумерках снова берется за них или же в праздник проходит мимо них, она всегда, и притом без всякого наблюдения и разглядывания, уже знает все сказанное[173].
Рильке оплакивал исчезновение таких предметов, исчезновение красоты обыденных предметов которая спасает. Взирая на современное человечество, он понимал: люди бегут от Бога, а затем и от творения Божьего. Он понимал, что такое бегство сделало человека безличностным. И он видел, что безличностное существо порождает безликие предметы; оно создает слишком уж человеческую красоту, от которой остается чувство пустоты, неудовлетворенности и разочарования. Рильке – один из немногих современных мастеров, разработавших почти целостную философскую систему смыслов обыденных предметов. В письме к Витольду фон Гулевичу, его переводчику на польский язык, Рильке замечает:
И эта деятельность [поэтическая трансформация ощутимых и зримых вещей в незримые – Р.К.] своеобразно поддерживается и стимулируется все более быстрым исчезновением такого количества видимого, которое уже не может быть восстановлено. «Еще для наших дедов был “дом”, был “колодец”, знакомая им башня, да просто их собственное платье, их пальто; все это было бесконечно бо́льшим, бесконечно более близким; почти каждая вещь была сосудом, из которого они черпали нечто человеческое и в который складывали нечто человеческое про запас. И вот из Америки к нам вторгаются пустые равнодушные вещи, вещи-призраки, суррогаты жизни…Дом, в американском понимании, американское яблоко или тамошняя виноградная лоза не имеют ничего общего в домом, плодом, виноградом, которые впитали в себя надежды и думы наших предков… Одухотворенные, вошедшие в нашу жизнь, соучаствующие нам вещи сходят на нет и уже ничем не могут быть заменены. Мы, может быть, последние, кто еще знали такие вещи. На нас лежит ответственность не только за сохранение памяти о них…[174]
Подводя итоги, можно сказать, что красота есть участие в Божественной красоте. Все, что причастно Божественной красоте, независимо от своих внешних особенностей (например, пропорциональности и стройности), красиво. Тем не менее, как мы видели из письма Рильке, человек не исключен из процесса создания красоты. Ведь красота, о которой мы говорим, не есть лишь красота Божественная или человеческая, но красота Богочеловечества. Однако чтобы создать красоту, человек сначала должен научиться жить прекрасно. Это подразумевает, что он будет видеть «каждую вещь» как сосуд, из которого можно «черпать нечто человеческое и в который складывать нечто человеческое про запас». Человек создает красоту, живя как личность, исполненная красоты. Тем самым, поскольку он есть микротеос, его красота будет преображать все вокруг него, и окружающее будет воскрешено его «надеждами и думами»[175].
В эпоху, когда самоизолировавшийся человек пытается искоренить из творения все намеки на Божественную красоту, нам следует помнить о важности спасительной красоты «одухотворенных, вошедших в нашу жизнь, соучаствующих нам вещей». Слишком часто только эти вещи и остаются сакраментальными знаками возле дороги, выводящей ко Христу из уродства безликого и слишком человеческого мира. Может быть, мы и в самом деле последние, кто знает эти вещи. И на нас лежит ответственность помнить о них.
Перевод с английского Глеба Ястребова
Михель Ремери
Красота как связующее звено между литургией и архитектурой[176]
Введение
Между такими областями, как литургия и архитектура, можно заметить тесное взаимодействие. Очевидно, обе они самодостаточны. Однако, когда каждая из этих двух «дисциплин» исполнена по-настоящему хорошо, то в своем сочетании они взаимно дополняют друг друга, расширяя границы области применения каждой из них. Гармонично спроектированное здание церкви помогает верующим достичь возвышенного состояния души в таинстве встречи с Богом, которое лежит в основе литургии. В то же время, должным образом проводимая литургия, с соответствующими словами, жестами и облачениями, «довершает» архитектуру здания, сконструированного для того, чтобы им пользовались, а не для того, чтобы оно существовало само по себе, как, например, памятник. Что же делает такой важной эту связь между литургией и архитектурой? Можно ли выделить некоторые элементы, позволяющие объяснить такое взаимоотношение между этими двумя сферами?
В данной работе доказывается, что эта важная связь между литургией и архитектурой – красота. Обе эти сферы на практике в очень большой степени зависят от красоты. Поскольку основная причина существования обоих – функциональная, то теоретически исполнение роли каждой из них могло бы ограничиться исключительно функциональной стороной. Однако в таком случае возникает ряд вопросов относительно самой сущности как литургии, так и архитектуры, поскольку в каждой из этих сфер вклад красоты никоим образом не может сводиться лишь к чисто функциональной роли.
Говоря о красоте, необходимо, прежде всего, ответить на два вопроса. Во-первых, «Что такое красота?», и, во-вторых, «Каким образом она достигается?». Ответ на эти вопросы выходит далеко за рамки возможностей этой работы. Рассуждая о том, «что такое красота», можно было бы сослаться на какого-нибудь древнего философа вроде Пифагора, который признавал существование прямой связи между математикой и красотой, и именно по этой причине древние греки считали симметрию и пропорцию основами добротной и прекрасной архитектуры. Можно было бы упомянуть также Аристотеля, который усматривал существование родства между красотой и нравственностью, говоря, что добродетель связана с красотой[177]. Святой Августин считал красоту Божьим даром, который дается каждому человеку – хорошему или плохому[178]. Второй Ватиканский собор учит, что по природе своей церковное искусство предназначено для того, чтобы в творениях человека выразить какую-то часть безграничной красоты, присущей Богу[179].
Этого, возможно, достаточно для данной работы: красота – это отражение божественности, которая может быть выражена – ограниченным образом – в человеческом творчестве.
Наверное, практически все согласились бы с тем, что красота – это ключевое качество хорошей архитектуры, однако нам вряд ли удастся прийти к согласию по поводу того, как достигается красота, поскольку за всю историю человечества она проявлялась в большом разнообразии стилей. Однако, как бы ни был интересен вопрос о том, каким же образом получается красота, формулировка ответа на него лежит далеко за рамками данной работы. Здесь следует ограничиться замечанием, что красота отчасти объективна, например, в пределах, определенных пропорциями, соответствующими «человеческим размерам». В то же время, красота отчасти субъективна, поскольку ее восприятие и оценка определяются образованием, опытом и другими аспектами, которые не поддаются точным измерениям. Оставляя в стороне эстетику как таковую, эта работа сфокусируется на роли красоты в самом важном отношении между литургией и архитектурой.
Необходимость красоты
Что остается, если из литургии убрать красоту? Конечно, церковь гарантирует отправление таинств Христовых ‘ex opera opera-tum’. С позиций минимализма, для этого требуются только молитвы рукоположенного по всем правилам священника, немного хлеба, вина, воды или масла. Однако это касается, строго говоря, только таинств и подразумевает исключительно минималистическое видение происходящего. Какое богатство возможностей теряется, когда красота не занимает центрального места в литургии! Кроме того, поскольку литургия – это и представление, и участие в божественном ритуале, то как же она может совершаться без красоты? Человеку – несовершенному по сравнению с Богом – эта красота абсолютно необходима для того, чтобы позволить литургическому посланию проникнуть в самую глубину его существа. Если литургия не взывает к чувству прекрасного у верующего, как в своем замысле, так и в исполнении, то и ее воздействие на человека сократится до минимального. Эту мысль, например, подтвердил Ратцингер, говоря, что литургия – это центр Церкви, это самый центр христианской жизни «во всей своей красоте, скрытом богатстве и выходящем за границы времени великолепии»[180]. Именно в красоте литургии скрытое богатство и великолепие становятся видимыми и действенными.
Если архитектура лишена красоты, тогда ее роль ограничивается лишь предложением физической защиты. Оставляя в стороне (интересный сам по себе) вопрос, можно ли считать чисто функциональное сооружение архитектурным, у этого замечания есть прямые следствия, касающиеся литургии. Если архитектура церковного здания не отвечает идеалу красоты, она не может внести должного вклада в литургию, кроме как в качестве средства функциональной защиты. В таком случае не приходится говорить о взаимодействии между литургией и архитектурой. Разумеется, для совершения литургии здание церкви не является обязательным атрибутом. Это можно доказать, например, тем, что мессы, проводимые Папой Римским под открытым небом, могут быть очень красивыми и без использования здания церкви. Таким образом, понятно, что архитектура – не единственный элемент, придающий определенный вид литургии. В то же время, архитектура – это не только стены и крыша, и прекрасный пример тому – Площадь Святого Петра в Риме, спроектированная Бернини. Во время месс, проводимых там под открытым небом, должное внимание уделяется красоте всех элементов: артефактов, слов, пения и движений, которые, дополняя друг друга, вместе формируют литургию. Красота архитектурных сооружений, окружающих место проведения богослужения, не только усиливает его воздействие на верующих, но и становится одним из связующих звеньев между материальным миром и таинством, совершаемым во время литургии. Таким образом, красота – это ключевое слово, которое связывает литургию с материальным зданием и предметами, используемыми во время ее проведения.
Из предшествующего краткого анализа как литургии, так и архитектуры становится ясно, что когда материальные объекты используются в богослужении чисто функционально, когда им не хватает красоты, тогда их роль сводится лишь к тому, что они являются носителями тела и крови Христовых или местом, обеспечивающим физическую защиту верующих. В то же время, если этим материальным действиям придается определенная красота, они могут внести свой вклад в нематериальную цель литургии – общение с Богом.
Без красоты все строительство бесполезно
Прекрасным примером ученого, который исследовал, в чем состоит суть связи между литургией и архитектурой, можно считать голландского монаха и архитектора Ханса ван дер Лаана (1904–1991). И хотя он никогда не говорил об этом явно, его теория заложила основу для главного вывода о том, что связь между литургией и архитектурой – в красоте. Выходец из семьи архитекторов, он вступил в Бенедиктинскую Конгрегацию Солемского аббатства лишь после того, как в течение нескольких лет изучал архитектуру. Он не только проектировал и строил аббатства и церкви, но также развил обширную теорию, объясняющую связь между таинством литургии и материальными объектами архитектуры, а также предметами, использующимися при совершении богослужений. Его работа демонстрирует замечательный отбор источников, в которых этот вопрос рассматривается в очень широкой перспективе. В своем исследовании он комбинирует такие разные источники, как работы Плотина, Витрувия, Псевдо-Дионисия Ареопагита и дона Проспера Геранже[181]. Ван дер Лаан начал научную деятельность во времена литургического движения 1920-х годов. Однако он не проявлял никаких свидетельств интереса к работам предшественников и спокойно следовал своим собственным путем[182].
Оригинальность его суждений, а также то, что он установил связь между архитектурой и литургией как в теории, так и в реальных проектах, гарантирует, что его работа может быть очень полезной в изучении данного вопроса.
Ван дер Лаан развил всестороннюю теорию архитектуры, которую неукоснительно применял, как проектируя различные сооружения и церкви, так и создавая все другие предметы, используемые человеком, особенно такие, которые должны исполнять какую-то роль во время литургии. Его желанием было разрабатывать вещи, хорошие и красивые в самой своей основе[183]. Одним словом, он хотел применить на практике ряд пропорций, которые, как он утверждал, были найдены им во время изучения архитектуры древнего мира. В результате он установил восемь особых видов таких пропорций, которые легли в основу всей его работы. Он утверждал, с оттенком платонизма, что следование учению о пропорциях, применявшихся во времена античности, автоматически ведет к тому, что здания получаются красивыми, потому что, как в музыке, эти пропорции «служат вехами на пути возвращения к единству, которое несет в себе сияние красоты»[184]. Он даже заявил, что без соблюдения этих правил невозможно создать хорошее архитектурное сооружение.
В своей теоретической работе Ван дер Лаан признал, что существует особая связь между литургией и архитектурой, конкретным воплощением которой являются здания, одеяния для литургии и священные сосуды, выполненные по его эскизам. В своем подходе к этому вопросу, как в теории, так и в реальных проектах, он проявлял твердую веру в то, что необходимо обладать видением, выходящим за пределы конкретных зданий и артефактов, чтобы понять глубочайшую предысторию человеческой жизни на земле. Изучив математические и архитектурные следствия своей системы пропорций, он отошел от этой темы, для того чтобы изучить место и роль всей сферы архитектуры внутри совокупности мира форм как творений Бога. Он рассматривал законы архитектуры как составную часть законов, управляющих вселенной. Это привело его к литургии, через которую человек может обратиться к своему Создателю. Следовательно, все материальные элементы, которые используются в литургии, должны быть доведены до совершенства: «Эта материальная целостность – нечто очень важное для красоты нашего богослужения»[185].
Литургию он определяет следующим образом, используя слова дона Геранже: «Если рассматривать литургию в общем, то она представляет собой единое целое, состоящее из символов, гимнов и действий, с помощью которых Церковь проявляет и выражает свое поклонение Богу»[186]. В этом определении Геранже придерживается позиции, что роль архитектуры и других объектов, созданных человеком, подчинена роли литургии. Материальное, созданное Богом, не может быть важнее, чем контакт человека с Создателем – главной цели литургии. В то же время, Геранже, а вместе с ним и Ван дер Лаан, подчеркивают фундаментальную роль, которую различные материальные объекты играют в литургии, приравнивая ее к единству «символов, гимнов и действий» церковного богослужения. Таким образом, это определение явным образом выделяет важность этих материальных объектов и, в то же время, помещает их в еще более замечательную перспективу взаимоотношения между небесами и землей.
Согласно Ван дер Лаану, самые чистые формы и пропорции лучше всего подходят для того, чтобы служить естественным символом сверхъестественного порядка[187]. Говоря, например, о помещениях кухни и мастерских в монастыре, он замечает, что здания, целевое предназначение которых состоит в их материальном использовании, имеют наиболее характерные, отличающиеся от других помещений, формы[188]. Когда функция какого-то места имеет более возвышенную природу, отмечает он, его форма становится более универсальной. Иначе говоря: чем меньше внимания необходимо уделять специфическим материальным нуждам при конструировании здания, тем больше это здание может соответствовать универсальным законам природы. Ван дер Лаан ссылается на Правило святого Бенедикта, который сказал, что «молельня должна быть тем, что соответствует ее названию»[189]. Из всего этого он делает вывод, что церковь для верующего должна быть domus ora-tionis[190], т. е. тем, что подразумевает под собой слово oratorium[191], отражая «идею» молитвы, opus Dei[192]. Он говорил, что нужно «не искать прямую связь между литургическими особенностями и литургическими формами, а признать, что существует параллель между основополагающей идеей литургии и архитектурной идеей»[193].
Затем Ван дер Лаан задался вопросом: «Тогда какими должны быть формы у здания, которое служит исключительно целям молитвы и собрания верующих?»[194] «Функция», которую выполняет церковь, не подразумевает, по его словам, никакой четко определенной формы здания, и правила проведения литургии не являются специфическими в отношении формы церкви. Именно по этой причине он заявляет, что в здании церкви законы архитектуры находят свое самое замечательное выражение. Как воплощение Бога во Христе произошло в определенное время и в определенном месте, оставаясь истиной во все времена и для всех людей, так, по твердому убеждению Ван дер Лаана, истинные основы архитектуры верны в универсальном смысле, в том числе и для церквей. На основе этого он сделал заключение, что «церковная архитектура» не существует как отдельный вид архитектуры. Следовательно, он мог рассматривать сооружение церквей как вершину архитектуры в целом. Это нашло свое выражение в том факте, что Ван дер Лаан ушел от вопроса «Что такое церковь?» и задался другим: «Что такое здание по своей сути?»[195] Этот вопрос занимал его на протяжении всей жизни, заставляя искать наиболее универсальные законы, самые чистые архитектурные элементы и самый лучший способ объединить их в архитектурное целое.
Богу не нужно, чтобы дом удовлетворял функциональным требованиям, – говорил он, заключая из этого, что необходимое условие при строительстве церквей состоит в надлежащем применении всех законов архитектуры: «Именно Его Имя должно прославляться в здании церкви, и если это воздаяние почестей не находит отражения во внешних формах, тогда все сооружение, предназначенное для прославления Бога, построено напрасно»[196]. Другими словами, без красоты церковное сооружение не может вносить свой вклад в конечную цель литургии и выполняет лишь функции укрытия. Как одеяния и церковная утварь играют роль в литургии, точно так же и здание становится пригодным для совершения литургии, именно благодаря своей красоте[197]. В литургии все элементы представляют свои самые лучшие качества, и они могут этого достичь только благодаря своей необычайной красоте. Архитектура служит литургии, которая, в свою очередь, содействует архитектуре. На основе этого положения Ван дер Лаан сумел дать объединенное видение литургии и архитектуры. Для него красота – это не самоцель, а средство, помогающее человеку достичь Бога: «Церковь предписывает определенные формы, чтобы возвысить наши души для общения с Богом. В этом отношении любая иная форма красоты должна быть похожа на красоту литургии»[198].
Даже несмотря на то что литургия в своей конечной цели выходит за рамки пространства и времени, она все же совершается во времени и в пространстве. Как сказал Ван дер Лаан, «то, что святость воскресного дня значит для времени, – то же самое церкви и святые места значат для пространства»[199]. Дизайн здания и церковной утвари, использующейся во время литургии, ограничен пространством, литургические действия совершаются во времени и в пространстве, а песнопения – во времени[200]. Связь между замкнутостью литургии в пространстве и во времени и материей, которая играет в ней свою роль, ограниченную временем и пространством, можно найти в идее красоты. Действительно, именно эту мысль выразил Ван дер Лаан, говоря, что поклонение Богу должно отражаться во внешней форме здания, т. е. оно должно быть красивым. Только через свою красоту «символы, гимны и действия», из которых состоит литургия, переходят пространственно-временные границы. Например, именно благодаря своей красоте, потир может выйти за пределы своей собственной функции. Он занимает определенное место в пространстве, но этого нельзя сказать о его дизайне. Если внешний вид потира разработан должным образом, то он несет в себе послание красоты человеческому разуму. Таким образом, роль потира – не просто функциональная (сосуд, содержащий Кровь Христову), но он также служит выражением связи с божественной литургией, благодаря красоте своего облика. Именно через хороший дизайн, который можно назвать красивым, архитектура церковного сооружения и предметы, использующиеся во время богослужений, играют важную роль в качестве промежуточного звена, не просто выражающего связь между небесной и земной литургией, но и делающего эту связь реальной. Такой подход оказывает важное влияние на внешнюю форму как литургии, так и архитектуры.
Ван дер Лаан подтверждает сделанное выше заключение, что для совершения литургии требуется совсем немного материальных элементов. И именно благодаря своему небольшому количеству, они должны как можно лучше соответствовать той роли, которую они играют в литургии. Например, одеяния вносят свой вклад в красоту литургии и выражают достоинство того, кто их носит, но они не представляют собой ценности в качестве одежды как таковой, поскольку надеваются поверх повседневной одежды священника. Таким образом, они должны выполнять не функциональную, а экспрессивную роль. Аналогично, материальные требования, предъявляемые к зданию церкви, минимальны: оно должно защищать собравшихся от неблагоприятных погодных условий и позволять им принимать необходимое участие в литургии. Чаши, используемые во время литургии, должны содержать только некоторое количество хлеба и немного жидкости. Следовательно, размышление о материальных предметах как таковых, используемых в литургии, не имеет прямой связи с ней, кроме чисто функциональной. Такую связь можно найти лишь в дизайне этих предметов, в той мере, в какой их замысел позволяет материальным вещам выражать красоту. Только красивые церкви и предметы, используемые во время богослужения, могут способствовать поклонению Богу – главной цели литургии. Как было сказано, для Ван дер Лаана возведение церкви, какой бы она ни была, не имеет смысла, если она не построена во славу Бога.
Заключение
Именно создание красивого дизайна вносит вклад в прославление Бога. Хотя Ван дер Лаан никогда не делал явно такого вывода, однако на основе его идей можно заключить, что связь между литургией и архитектурой – это красота. Настоящая архитектура – это намного больше, чем просто конструкция, отвечающая законам физики. Аналогично, литургия – это больше, чем набор предписанных текстов и ритуалов.
Большинство людей могут подтвердить, что ключевое слово, характеризующее хорошую архитектуру – это красота, несмотря на то что они могут лишь указать на условия, которым должен отвечать красивый дизайн: например, ритм, пропорции, выбор формы, материала и цвета. Главное условие существования здания – это его физическая конструкция, которая должна быть достаточно мощной, чтобы служить опорой для материала, составляющего его замысел. Остальное зависит от его красоты.
Аналогично, красота – это ключевое слово для литургии. Основное условие ее существования заложено в правилах проведения литургии. В то же время, в них содержится много информации, позволяющей судить о литургии по ее красоте. Именно через красоту литургия имеет возможность выйти за пределы нашего мира к миру небесному и служить средством передачи Божьей благодати.
Возвращаясь к определению литургии, предложенному Геранже, который рассматривал ее как «единое целое, состоящее из символов, гимнов и действий, которыми Церковь проявляет и выражает свое поклонение Богу», следует спросить, в какой мере внешняя форма литургии, архитектуры и предметов служит тому, что заключено в этом определении. В конечном счете, это их красота, потому что без красоты их роль становится чисто функциональной и дает лишь минимум для того, чтобы предоставить Божью благодать ‘ex opera operatum’. В последнем случае «символы, гимны и действия» не выполняют должной роли, потому что не достойны занять места в этом определении литургии. С этой точки зрения, данное определение подтверждает, что без красоты невозможно говорить о литургии или об архитектуре в истинном значении этих слов. И причина этого кроется в том, что для самого существования как литургии, так и архитектуры необходима красота.
И в наши дни красота как центральный элемент должна играть важную роль в богослужении. Существует опасность того, что представление о связи между литургией и архитектурой может носить слишком функциональный и упрощенный характер, что ведет к чисто функциональному дизайну, не обязательно красивому. Выражение ‘nobilis simplicitas’ (благородная простота) часто используется для того, чтобы защитить подобный функциональный подход к внешнему облику зданий и предметов, используемых во время литургии. Этот термин применялся и в Sacrosanctum Concilium по отношению к правилам проведения литургии, а позже был использован в установлении чина таинств Римско-католической церкви – Римском Миссале[201]. Однако Sacrosanctum Concilium[202] также указывает, что когда речь идет о проекте здания церкви, нужно стараться найти форму, выражающую благородную красоту[203]. Римский Миссал добавляет: «Убранство церкви должно скорее способствовать ее nobilis simplicitas, чем показному богатству»[204]. Можно сделать вывод, что во внешней форме самой литургии, а также в разработке облика зданий и предметов, играющих в ней роль, всегда следует стремиться к благородству и красоте. Как сказал Ван дер Лаан, все, что используется в богослужении, должно представлять собой «облагороженные формы искусства»[205].
На небесах нет ни материи, ни времени, ни пространства, а есть лишь вечная литургия и бесконечная красота. Из этого можно заключить, что общее у земной и небесной литургии – это красота их «формы», единственной целью которой должно быть прославление Бога. Его благородство невозможно должным образом выразить в простых человеческих творениях иначе как через стремление к красоте. Итак, в архитектурном замысле церквей и дизайне предметов, используемых в литургии, необходимо стремиться только к красоте. Уделяя большее внимание красоте литургии во всех ее аспектах, сегодня тоже можно построить церковные здания так, что о них можно будет сказать, что они поистине возведены во славу Господа.
Хорошо исполненная литургия, включающая в себя церемонию богослужения, слова, жесты, предметы и здание церкви – дает намного больше, чем просто укрытие для верующих или канал священной благодати ‘ex opera operatum’. Когда все эти элементы объединены своей красотой, литургия способна на мгновение «перенести» всех участвующих в ней туда, где небесная и земная литургия сливаются воедино в хвалебный гимн во славу Бога.
Перевод с английского Елены Смирновой
Григорий Гутнер
Красота – между истиной и благом[206]
В этих кратких заметках я попытаюсь немного прояснить понятие красоты (или прекрасного) с философской точки зрения. Для этого я попытаюсь ответить на вопрос: что мы имеем в виду, называя какой-либо предмет прекрасным? В своем рассмотрении я буду ориентироваться на понятие «целесообразность без цели», с помощью которого описывал прекрасное Кант в «Критике способности суждения».
Чтобы понять приведенное определение, нам нужно прояснить обе использованные в нем категории. Начнем с категории цели.
Цель, в самом общем определении, есть понятие, под которое подводится предмет. Нам, однако, потребуется уточнить это понятие, различив два его разных значения. Первое значение состоит в том, что предмет определяется посредством некоторого желания или нужды. Это означает, что предмет рассматривается как нечто полезное. Например, садовник имеет понятие о цветке, который он намерен вырастить. Иметь такое понятие означает иметь определенную цель, которая, в свою очередь, связана с некоторым желанием или нуждой. Возможно, садовник предполагает заработать себе на жизнь, продавая выращенные цветы. Возможно, он лишь намерен доставить удовольствие гостям, посещающим его сад. В любом случае он заинтересован в существовании цветка. При этом все его знания о цветке: о его свойствах, особенностях роста, внешнем виде и т. д. включены в понятие о цели, которую требуется достичь. Эта цель, в свою очередь, определяет необходимые средства. Понятие о цветке, таким образом, с одной стороны, содержит знание, а с другой стороны, включает представление о цели и средствах. Здесь нужно отметить два существенных обстоятельства. Во-первых, предмет рассматриваемого понятия представляет собой пространственно-временной объект. Во-вторых, этот объект подчинен причинно-следственным отношениям. Именно знание о причинах и следствиях позволяет правильно подобрать средства для достижения желаемой цели.
Здесь мы видим связь двух понятий: познаваемости и прагматической заинтересованности. Всякий предмет прагматического интереса (предмет желания, предмет, от которого ожидается некоторая польза, предмет, необходимый для поддержания жизни) неизбежно оказывается предметом познания. Без познания, т. е. без достижения истины о предмете, невозможно использование. Менее очевидно обратное: является ли всякий предмет познания также и предметом прагматического интереса? Думаю, что с некоторыми оговорками можно допустить и это. Даже если речь не идет о непосредственном удовлетворении желаний или потребностей, всякий познаваемый предмет доступен для использования. Все, что существует в пространстве и времени и подчинено закону причинности, может в определенной перспективе оказаться полезно, войти в круг человеческих практик.
В другом своем значении понятие цели не имеет отношения ни к какому пространственно-временному объекту. Имеется в виду понятие о моральной цели. Она заключается в исполнении морального закона или долга. Иными словами, моральная цель есть нечто должное, а не сущее. Поэтому предмет моральной цели не является пространственно-временным объектом. Долг состоит в свободном следовании моральному закону. Будучи свободным действием, такое следование не подчинено закону причинности.
Чтобы разъяснить это, нужно сказать несколько слов о природе должного. Оно всегда остается за пределами знания, поскольку мы никогда не может удостовериться в его существовании. Проще говоря, нет возможности точно знать, является ли поступок моральным и свободным. Я никогда не могу сказать этого о другом, поскольку не существует внешних отличий в поведении «по закону» или «сообразно закону». Первое означает поступок, совершенный исключительно из уважения к моральному закону. Второе же представляет собой поступок, внешне сообразный с законом, но совершенный из внеморальных побуждений. Кант приводит в пример торговца, который при всех обстоятельствах поступает честно со своими клиентами и партнерами. Невозможно, исходя из его поведения, понять, действительно ли он честен, следуя моральному закону, или избрал такую стратегию поведения, чтобы, снискав доверие других, сделать свое предприятие максимально выгодным. При внешней неразличимости разница принципиальна: во втором случае честность есть лишь средство для достижения внеморальной цели. Интересно, что и о собственных мотивациях я не могу вынести определенного суждения, поскольку вполне возможно, что вовсе не моральные мотивации побуждают меня быть моральным, а тайные желания (например, тщеславие или страх) незаметно для меня самого руководят моими действиями. Исследование человеческой природы может раскрыть нам такие желания и объяснить механизм их действия. Но моральная мотивация остается за пределом этого механизма. Она недоступна познанию, лежит вне пространства и времени и причинно-следственных отношений.
Итак, человек, как разумное существо, может ставить два рода целей, имеющих существенно разную природу. Каждый из этих родов соотносится с разными типами понятий: понятие о природном (т. е. пространственно-временном) объекте или умопостигаемое понятие морального разума. Первое из них выражает истину, поскольку выражает существующее положение дел. Второе же можно назвать благом, составляющим нечто морально должное. Однако, ни первое, ни второе не может быть названо прекрасным. Тот факт, что прекрасное есть целесообразность без цели, и означает, что оно не подчинено ни одному из двух рассмотренных понятий. Далее, чтобы понять смысл красоты, нам нужно прояснить понятие о целесообразности.
Красота эпистемологически и этически нейтральна. Ее необходимо отличить как от истины, так и от блага. Однако, отличаясь от того и от другого, она имеет, с другой стороны, сходство с обоими. В этом сходстве и раскрывается смысл целесообразности.
Эпистимическая истина подразумевает пространственно-временно́й объект. Красота также характеризует такой объект. Красивым называют нечто (что бы это ни было: цветок, восход солнца, симфония, поэма), воспринимаемое чувствами и пребывающее в пространстве и времени. Попробуем точнее понять, что значит воспринимать нечто как объект познания и что значит воспринимать нечто как красивое.
Возьмем уже использованный нами пример. Знание цветка означает, помимо прочего, знание его внутренней структуры. Мы должны знать, из каких частей он состоит, как эти части связаны друг с другом, каково назначение каждой из них в пределах целого. Другой аспект знания состоит в знании внешних причинных связей, определяющих свойства цветка, характер его роста и увядания. Это знание также может быть выражено в терминах частей и целого, поскольку предполагает рассмотрение цветка в пределах объемлющей его целостности: почвы, атмосферы, окружающих растений и т. д. Иными словами, знание означает приведение в единство некоторого многообразия чувственных данных. Понятие выражает это единство, т. е. некоторую целостность, охватывающую многообразие частей. Существование каждой части определяется целым и понимается сообразно целому. Эта целостность определяет человеческое действие, направленное к цели. Если речь идет о действии, то предполагается не только схватывание многообразия в единстве, но и собирание единства, приведение множества частей к целому.
Целесообразность без цели есть целостность без понятия. Нам не нужно понятие цветка, чтобы увидеть, что он красив. Мы видим нечто целое, видим единство частей, однако это ви́дение не представляет собой знания. При этом цветок не рассматривается как нечто полезное, как нечто удовлетворяющее наши желания. Созерцание красоты в гармоническом сочетании частей, в единстве многообразного не есть постижение истины, хотя и имеет с таким постижением нечто общее. В обоих случаях требуется приведение многообразия к единству. Однако красоту, в отличие от истины, достаточно «просто видеть». Она невыразима в понятии. Впрочем, эта простота требует серьезного усилия. Она предполагает схватывание внутренней структуры предмета, т. е. мысленное приведение к единству множественности чувственного восприятия. Без такого усилия нам предстанет лишь нечто бесформенное. Единство предмета не дается само по себе. Оно создается познавательными способностями субъекта. Активность познающего субъекта позволяет оформить множественность ощущений. Эстетическое удовольствие возникает в результате того, что Кант называет «свободной игрой способностей».
Рассмотрим теперь сходство между красотой и благом. Состоит это сходство в том, что эстетическое суждение, как и моральный закон, имеет универсальное значение. Универсальность морального закона определяется формой категорического императива, о котором нам еще потребуется сказать несколько слов. Универсальность эстетического суждения, как определяет ее Кант в «Критике способности суждения», означает, что это суждение универсально сообщаемо. Если я нахожу нечто прекрасным (цветок, стихотворение, картину), то я уверен, что любой другой человек может разделить мое удовольствие от созерцания этого предмета и согласиться с моим суждением. Однако я не могу привести какие-либо рациональные аргументы в пользу такой уверенности, поскольку созерцание прекрасного не предполагает подведение его под какое-либо понятие. В этом, собственно, состоит различие между моральным и эстетическим суждением. Первое должно быть рационально обосновано. Я могу доказать, что то или иное правило поведения является или не является моральным, выяснив, соответствует ли оно форме категорического императива. Вернемся, однако, к универсальности эстетического суждения. Я рассматриваю красоту, как нечто объективное, т. е. не зависящее от какого-либо субъективного произвола, от склонностей, страстей, желаний и пр. В этом состоит принципиальная разница между прекрасным и приятным. Если кому-то не нравятся блюда или напитки, которые я нахожу приятными, я легко приму это, признав, что у каждого свой вкус. Если же некто сочтет некрасивым или неинтересным то, что я нахожу прекрасным, я сочту, что у этого человека плохой вкус и он не может оценить настоящую красоту.
Я не буду излагать всю аргументацию, которую разворачивает Кант в пользу универсальности эстетического суждения. Приведу лишь один аргумент. Эстетическое удовольствие, связанное с суждением вкуса, свободно от интереса. Предмет, о котором выносят такое суждение, не рассматривается в связи с желаниями, потребностями, пользой и пр. Красота открывается лишь при незаинтересованном, т. е. бескорыстном созерцании. Садовник, который выращивает цветы для продажи, не наслаждается их красотой, когда подсчитывает возможную прибыль. Юноша, покупающий цветы для девушки, также не получает эстетического удовольствия, поскольку думает о девушке, а не о цветах. Хотя в обоих случаях цветы могут быть признаны красивыми, их красота рассматривается лишь как средство для достижения какой-то иной цели. Цель эта связана с субъективным настроением, желанием и т. п. Однако, нужды, желания, потребности весьма разнообразны и зависят от частных обстоятельств, в которых находится субъект. Разные люди в разных ситуациях будут считать разные вещи полезными,
приятными, нужными. Созерцание красоты, напротив, не зависит от желаний и нужд. Оно свободно от интереса. Поэтому оно не зависит и от частных условий, и мы имеем основания считать его универсально сообщаемым. Заметим, что универсальность морального закона обосновывается почти так же. Моральный закон универсален, поскольку не зависит от субъективного произвола, от человеческого интереса, обусловленного частными обстоятельствами. Таким образом, моральное благо и красота коррелированы с идеей человечности.
Чтобы несколько прояснить, в чем состоит эта идея, необходимо кратко коснуться некоторых особенностей кантовской этики. Мораль коррелирована с идеей человечности через форму категорического императива. Он, как известно, требует следовать лишь такой максиме поведения, которая могла бы стать всеобщим законом. Иными словами, ту максиму, которую я выбираю для себя, я мог бы рекомендовать любому человеку. Это значит, что в момент такого выбора я рассматриваю себя, как представителя всего человечества. Сказанное можно интерпретировать достаточно просто: моральное действие не может быть основано на этнических, культурных, конфессиональных, социальных или каких-либо еще частных стандартах. Выбор морального правила требует лишь одного условия: быть человеком. Всякий человек, как свободное и разумное существо, имеет возможность пользоваться своим разумом и, таким образом, действовать согласно с моральным законом.
Моральность составляет наиболее существенный аспект человечности. Но это – не единственный ее аспект. Помимо моральности человечность коррелирована с эстетическим вкусом. Последний также представляет собой универсальное свойство человека. Человеческая природа с необходимостью включает способность воспринимать прекрасное. Моральность и эстетический вкус составляют, следовательно, принципы единства человечества. Однако это единство нельзя рассматривать как актуально существующую общность, как завершенное социальное целое. Никакое существующее или существовавшее ранее сообщество не было основано на моральном законе и не разделяло единого эстетического вкуса. Единое человечество, как сообщество свободных и разумных существ, есть лишь регулятивная идея. Иными словами, оно представляет собой скорее потенциальное, идеальное сообщество, а не человеческий род, существующий реально в истории.
Гуннар Иннердал
Прекрасная логика. Некоторые аспекты мыслей Ганса Урса фон Бальтазара о взаимопроникновении (перихорезисе) трансценденталий[207]
Ганс Урс фон Бальтазар хорошо известен своими работами по богословской эстетике, в особенности влиятельной 7-томной первой частью – «Сияние славы: Богословская эстетика» (Herrlichkeit – Eine theologische Дsthetik) – трилогии, а которую входят также «Теодраматика» (Theodramatik, 5 томов) и «Теологика» (Theologik, 3 тома)[208]. Она организована в соответствии с классическими философско-богословскими трансценденталиями прекрасное, благое и истинное, являясь подлинным и, по всей вероятности, наиболее значительным, вкладом в христианское понимание красоты и единства трансценденталий за последнее время. Поскольку единство трансценденталий может считаться основной темой всего многотомного богословия и философии Бальтазара, мы должны несколько сузить тему (отсюда подзаголовок «некоторые аспекты»)[209]. Специальной темой этой статьи, по причинам в том числе и прагматического характера, связанным с моей диссертационной работой[210], будет только один аспект этого единства в нескольких наиболее значительных работах Бальтазара[211], а именно, отношение и единство прекрасного и истинного, красоты и логики. Эта статья попытается ответить на следующие вопросы: каково отношение красоты к истине; зачем нам нужна «прекрасная логика»; что вообще означает это понятие. Благо также будет обсуждаться, однако из практических соображений ему будет отведено меньше места, чем его «сестрам»[212]. Хотя эта статья не претендует на исчерпывающую трактовку затрагиваемых здесь тем ни как работа о Бальтазаре, ни как систематическое рассмотрение вышеперечисленных вопросов, тем не менее, я надеюсь, она пробудит интерес и даст направление будущим размышлениям об этих предметах.
Заголовок «Прекрасная логика» может показаться немного режущим слух, поскольку истина зачастую преподносится в сухих и формальных теоретических терминах и имеет мало общего с красотой, в то время как прекрасное считается делом вкуса и в меньшей степени ассоциируется с мыслью и логикой. Для Бальтазара, однако же, истина симфонична[213] – подобно прекрасному музыкальному произведению, со всем множеством напряжений между различными голосами инструментов в оркестре, с их живой зависимостью друг от друга и взаимным обогащением, а красота есть объективное явление славы Божией в мире через творение и спасение. Создание прекрасной логики может поэтому потребовать переосмысления наших понятий о природе как истины, так и красоты.
Статья построена по следующему плану: я начну с обсуждения спорного места – что именно в работах Бальтазара является «первым словом», красота или истина, – как по порядку появления в его работах, так и принципиально, с учетом содержания. Затем я приступлю к обсуждению отношения богословия и философии в связи с этими же вопросами, тем самым подготавливая почву для обсуждения взаимопроникновения трансценденталий, сначала вкратце и в общих чертах, а затем с особенным вниманием к таким темам, как красота истины и истинность красоты. Далее я перейду к обсуждению того, что для Бальтазара является трансценденталией по премуществу – тринитарной любви. В заключение, я попытаюсь дополнить картину, ссылаясь на Д. Б. Харта, современного толкователя Бальтазара, чье богословие красоты Бога как любви также ведет нас в направлении прекрасной логики.
Что является «первым словом»?
«Нашим первым словом должна быть красота», – пишет Бальтазар в начале 1-го тома ССл 1 («Видение образа»), потому что красота «танцует, как безграничное сияние, вокруг двойного созвездия истины и блага в их неразлучности»[214]. Это заявление выдвигается в качестве ответа на вопрос, с чего должна начинаться мысль, как философски, так и богословски. Здесь, однако, нельзя не заметить противоречий, и в собственном контексте этого утверждения, и в свете библиографии Бальтазара и постороения самой трилогии. Отношения между трансценденталиями, в конце концов, не могут быть построены просто постулированием, что есть первое, второе или третье. Противоречие, в контексте ССл 1, можно видеть уже из замечания, что первое слово выбрано «для того, чтобы снова вынести всеобщую истину в центр внимания». В этом качестве «первое слово», по всей вероятности, используется как вспомогательное для более высокой цели: как подход ко всеобщей истине. Следующее противоречие видно из того факта, что Бальтазар уже в 1947 году опубликовал свою работу Wahrheit. Ein Versuch. Erstes Buch. Wahrheit der Welt[215]. Этой работой он хотел (как позже говорил сам) «открыть философский доступ к специфически христианскому пониманию истины»[216]. Истинное, таким образом, было в некотором смысле первой трансценденталией, которую Бальтазар до известной степени рассмотрел еще за несколько лет до начала публикации «Сияния славы» в 1961 году. Объявленный богословский том об истине Бога, следующий за «Истиной» (Wahrheit), вначале так и не был опубликован, и только позже вошел в новую, более сложную картину, когда Бальтазар в 1985 году переиздал Wahrheit в качестве 1-ого тома «Теологики» («Истина мира»), сохранив исходный текст, но с новым общим вступлением ко всей «Теологике», в котором Бальтазар защищает также структуру всей трилогии, в то время как давно обещанный трактат об истине Бога расширился до двух томов «Истина Бога» (ТЛ 2) и «Дух истины» (ТЛ 3). Впрочем, в отношении трилогии эта книга одновременно является и чем-то вроде подготовительной работы, и частью заключения. Она также отличается от остальных томов трилогии по форме; книга содержит лишь несколько разбросанных по всему объему ссылок на работы других авторов, что бесконечно мало по сравнению с поразительным обилием ссылок и цитат в остальных томах трилогии. Это может служить указателем на то, что она очень близка к самой сердцевине собственного мышления Бальтазара, хотя и несет весьма сильный отпечаток Фомы Аквинского (который, конечно же, и находится в самом сердце мышления Бальтазара)[217]. Более того, именно в этом томе трилогии Бальтазар наиболее близко подходит к применению философского метода в чистом виде[218].
Как следует интерпретировать эти факты? Некоторые исследователи отмечают существенное развитие представлений Бальтазара о трансценденталиях[219]. Хотя в этой интерпретации есть нечто от похвалы (каждый мыслитель развивает собственное мышление – это неизбежный и желанный результат мышления), в то же время переиздание Бальтазаром «Истины» в качестве ТЛ 1 в 1985 году выглядит в странном свете. Зачем переиздавать то, что содержит образ мыслей, уже оставленный позади? Другой возможный способ интерпретации этого факта – сказать, что две первые части трилогии в некотором смысле являются следствием Бальтазарова обязательства написать давно обещанный второй том «Истины». Сознавая опасность чрезмерного упрощения, я берусь предположить, что «Сияние славы» и «Теодраматика» могут быть интерпретированы как грандиозное интермеццо между 1-м и 2-3-м томами «Теологики», не только с хронологической точки зрения, но и согласно его композиционной «логике», или ходу мысли.
Центральное определение истины в «Истине» – истина как раскрытие бытия[220]. В соответствии с этой интерпретацией, ССл и ТД – это рассказ о раскрытии божественного Бытия через откровение в образе Христа, необходимый, чтобы говорить об откровении с логически-рациональной точки зрения (как о «целостной истине Бога»), что сделано позже в ТЛ 2 и 3[221]. Данная интерпретация подкреплена рядом высказываний из «Эпилога». В начале логической части «Порога» Бальтазар говорит: «Теперь мы видим, в каком смысле «истина» образует завершение «красоты» и «блага», – в том смысле, в каком конец должен быть в то же время началом»[222]. Истина должна быть концом и в то же время началом[223]. Этот парадокс поразительно точно описывает запутанность биографии Бальтазара и подчеркивает противоречия при выборе одной из трансценденталий в качестве «первой». Некоторые пассажи в «Истине», как будет показано позже, содержат, как в зародыше, важные составляющие понятий Бальтазара о красоте, а также и о благе. В этом смысле грандиозное интермеццо не только предвосхищает, но и развивает темы, содержащиеся в первой части. «Истина», таким образом, выполняет функцию и Бальтазаровой философии истины (в противоположность богословию истины), и, в большей степени, философского каркаса для всей трилогии.
Начав свою трилогию с эстетики, Бальтазар хотел подчеркнуть, что Бог явился в Христе – в образе (Gestalt), который может быть постигнут человеком. Этот факт, Verbum caro factum est (Слово стало плотью), – отправная точка всего богословия[224]. В этом смысле красота, постигнутая как раскрытие славы Божией, – первое слово. Бог предстает как излучение своей собственной славы, являя свою любовь к миру как творец и спаситель. Эта идея неизбежно (для мыслящего человека) поднимает вопрос о том, как является Бог и как возможно само явление Бога. Это будет вопросом «Теологики». Но даже в самом явлении Бога должно быть нечто вроде само-высказывания (выражение, используемое Бальтазаром в «Эпилоге»), некая логика, разновидность истины. В раннем издании «Истины» Бальтазар хотел привлечь внимание, среди прочего, к «вербальной манифестации всего сущего»[225] – что само явление в некотором смысле опосредовано языком при выражении и постижения. Та же идея выражена в «Эпилоге», где говорится, что эстетика (само-показывание) и драма (само-отдавание) должны быть «зачаточными» формами логики (само-высказывания)[226]. В этой идее Бальтазар видит богословское понятие о том, что все в глубинном смысле есть слово: Бог выражает себя в своем вечном Слове, Сыне, и все, что сотворено, сотворено актом произнесения этого Слова. Для всех существ, «даже их эпифания и обретение себя с необходимостью заключают в себе возникновение в речи»[227].
Предварительно здесь можно заключить, что в Бальтазаровом понятии о красоте как о «первом слове» есть некоторые противоречия. Тем не менее, необходимо помнить, что он никогда не говорит о красоте как о «первой» в хронологической или логической последовательности трансценденталий, а всего лишь как о первом слове, выбранном для начала трилогии[228]. В разделах об удалении эстетики из богословия, во вступительной главе[229] к ССл 1, показано, что выбор исходной точки до некоторой степени сделан в контексте данного сообщения, в связи с тем, что Бальтазар собирается подвергнуть критике: позитивистским забвением эстетики и слепотой современного человека в отношении как философии, так и богословия[230]. Другими словами, выбор красоты в качестве первого слова мотивирован апологетически.
Философия и богословие в симфоническом объединении
Противоречие, связанное с поиском «первого слова» среди трансценденталий, можно, как я хочу предложить, проиллюстрировать при помощи рассуждения о взаимоотношении богословия и философии. Что из них «первое»? «Мы начинаем с размышления о ситуации человека», – пишет Бальтазар в последней «Ретроспективе» на свою работу, где он пытается «представить схему трилогии»[231]. Далее он философски рассуждает о «действительном различии», рассмотренном Фомой Аквинским (esse-essentia/бытие-сущность), приходя к вопросу об отношении конечного к бесконечному. Почему мы не Бог? На этот вопрос невозможно ответить философски, говорит Бальтазар, но только через само-выражение Бога в откровении, хотя оно имеет «параллели» в осуществляемых человеком философских поисках. Некое внутреннее противоречие можно заметить и в первичности появления Бога в ССл 1, хотя эта идея имеет свои предпосылки. Здесь также конец должен быть в то же время и началом: вопрос, на который ССл 1 отвечает с богословской точки зрения, в некотором смысле изложен в «Истине», где Бальтазар, среди прочего, рассматривал тему действительного различия трансценденталий с философских позиций. Другими словами, откровение не происходит в философском вакууме. Взгляды Бальтазара на взаимоотношения между философией и богословием в «Общем вступлении» к ТЛ 1, написанном для второго издания, выражены в следующем изречении: «Без философии не может быть богословия» (Ohne Philosophie, keine Theologie)[232]. Этот принцип имеет хронологическое и биографическое выражение в отношении между ТЛ 1 и ССл 1.
Однако ошибочно будет заключить, что философия для Бальтазара олицетворяет истину и стоит на первом месте, в то время как богословие олицетворяет красоту и стоит на втором. Согласно Бальтазару, философия по своей сути не является позитивистско-рационалистической наукой, разрешающей все вопросы раз и навсегда. Философия – это, скорее, интроспективный отклик философа на удивление (у греков – thaumazein), пробужденное в нем бытием: «Удивление перед Бытием – это не только исток мысли, но (…) также постоянный элемент (arch?), в котором она движется»[233]. Богословие, в свою очередь, это не только ощущение и приятие полного красоты и славы божественного откровения, но и попытки продумать его последствия, то есть теология. В этом случае и философия, и богословие имеют дело со всеми трансценденталиями в их единстве и полноте. В отношении последовательности, изречение Бальтазара в некотором смысле обратимо: Ohne Theologie, keine Philosophie[234]. Суть том, что философия исходно теологична, потому что она не может адекватно обращаться с вопросами о человеке, не затрагивая вопросы о Боге и реальности в целом. Откровение, с точки зрения Бальтазара, – это не отмена философии, но радикальная критика и завершение. Другой важный момент относительно воззрений Бальтазара на это отношение заключается в том, что он следует Анри де Любаку (и Карлу Ранеру, среди прочих) в своей критике идеи natura pura — чистой природы, с которой надо обращаться чисто философски с помощью разума, до богословия и откровения и отдельно от них[235].
Согласно Бальтазару, эта идея противоречит учению о Христе как посреднике при сотворении. Можно также добавить, что такая абсолютно чистая природа могла бы существовать, в лучшем случае, только до грехопадения[236]. Бальтазар, ссылаясь на Романо Гвардини, оставляет открытой возможность «третьей сферы истин», располагающихся, так сказать, между философией и богословием, «которые исходно принадлежат тварной природе, но не попадают в поле зрения сознания, пока на них не падает луч сверхъестественного»[237].
Хотя философия формально представляет собой своего рода отправную точку для богословия, при элиминации natura pura обнаруживается, что эта философская исходная точка в действительности озарена славой откровения и составляет неотъемлемую часть универсального философски-богословского ответа[238] на вопросы жизни, представленные в работе Бальтазара. Богословие, впрочем, начинается не там, где кончается философия, – скорее, богословие и философия углубляют друг друга изнутри, через «скрупулезное сотрудничество» и взаимную «внутреннюю открытость»[239], причем обе действуют с помощью логики, основанной на изумлении перед Бытием. Возможно, эта взаимность также верна в случае истины и красоты – красота делает истину более истинной, и истина делает красоту более красивой?
Взаимопроникновение (perichörösis) трансценденталий
Теперь возникает следующий вопрос: куда ведет все это смешение первого с последним, начала с концом? Она приводит нас к самому сердцу Бальтазаровой концепции трансценденталий: к их взаимодействию, взаимопребыванию и взаимопроникновению. В этом и состоит основание проблемы нахождения «первого слова», а в некотором смысле также и основание взаимозависимости философии и богословия[240]. Идея тесной связи между трансценденталиями преследовала Бальтазара начиная с самых ранних лет его деятельности как мыслителя. Во «Вступлении» к «Истине», например, сказано, что взаимодействие между ними «столь глубоко, что невозможно говорить конкретно об одной из трех, не втягивая в обсуждение две другие»[241]. Слово «взаимопроникновение» используется для описания взаимодействия трансценденталий самим Бальтазаром, и это понятие достаточно обстоятельно разработано Давидом Шиндлером[242]. Этот термин может также прояснить точки соприкосновения между Бальтазаровой концепцией трансценденталий и Троицей; в самом деле, греческое слово perichörösis представляет собой древний термин тринитарного богословия.
Как отмечает Шиндлер, для Бальтазара каждая из взаимопроникающих трансценденталий имеет определенное «преобладание», однако их порядок в высшей степени относителен в зависимости от контекста[243]. По Бальтазару, в случае красоты, как подчеркивается на первых страницах ССл 1, центральными аспектами являются цельность и непосредственность. Шиндлер хорошо понимает лежащую в основе этого утверждения мысль Бальтазара, говоря, что красота – это «то, что позволяет истине быть истинной, и благу благим»[244]. Без красоты две ее сестры теряют полноту и великолепие. И даже больше, они теряют то, что дает им их собственную цельность и глубину: «Мы можем сказать очень просто, что без красоты и истина, и благо теряют именно трансцендентность. Красота играет ключевую роль в самой трансцендентальности трансценденталий»[245]. Средство исцеления от сухости понятий и от позитивистских и механицистских позиций в науке и этике, постоянно критикуемых Бальтазаром, – это открывание глаз на красоту. Он сокрушается: «В мире без красоты […] добро теряет свою привлекательность, самоочевидность того, что оно должно выполняться»[246]. Как будет показано ниже, истина также кое-что теряет, если забыта красота…
Красота истины
Бальтазар описывает истину в ТЛ 1 как раскрытие бытия (alētheia).
В третьей главе ТЛ 1 Бальтазар стремится показать, что истина – это тайна: что тайна не лежит за истиной, а находится в самом ее сердце. Чтобы подтвердить это, он вначале погружается в «Мир Образов», обозначая различие между сущностью (некоего сущего) и ее явлением. В рамках этой картины, истина – «раскрытие в явлении подлинного сущего, которое само по себе не показывается»[247]. Значение истины (то есть что истина значит, ее Bedeutung, или смысл) не заключается ни в явлениях как таковых, ни в том, что за ними: «Истину можно найти только где-то между явлением и являющейся вещью»[248]. Бальтазар поясняет эту мысль, спрашивая, что «означает» великое произведение искусства, например симфония Моцарта или его «Дон Жуан»? На этот вопрос можно ответить, только оставаясь верным их «образу», их «внешней стороне»: слушая их снова и снова. Только тогда всплывает «суть» этих произведений, их «внутренняя сторона», в ее непостижимости и превосходящем слова качестве. Только оставаясь верным образу [Bild], можно прийти в контакт со смыслом [Sinn], и в великом произведении искусства эти два понятия сливаются в Sinnbild [249], которое превосходит сумму его частей. Его истинность не может быть сведена к чему-либо иному кроме глубины его собственного явления. В «пустой диалектике между сущим и явлением» загадочность истины состоит в первую очередь в ее непостижимости, однако в качестве Sinnbild это также момент откровения[250]. И здесь на первый план выступает красота.
«Между этим аспектом истины и понятием красоты существует особенно тесная связь. Поскольку имя этого лучезарного свойства истины, ошеломляющего великолепием, неделимой целостностью и безупречной выразительной мощью, – на самом деле не иное, как красота. Красота – это тот аспект истины, который нельзя вместить в рамки какого-либо определения, но который может быть постигнут только при непосредственном соприкосновении; благодаря красоте, каждая встреча с истиной – это новое событие. […] Благодаря красоте, истина всегда есть по сути предмет благодати»[251].
Здесь красота понимается как неуловимый элемент истины, о котором так часто говорит Бальтазар, «то, чего недостает чистой логической истине, которая была старательно экстрагирована из бытия»[252]. Идея того, что красота как аспект истины связана с благодатью, видна из ее способности спасать нас от того, чтобы вещи и знания о них стали «невыносимо скучны»: «Тот факт, что одни и те же вещи окружают нас изо дня в день, появляются перед нами каждое утро в одних и тех же существовании и сущности, но не становятся невыносимыми, – следствие таинственности истины, которая всегда богаче, чем то, что мы были способны до сих пор постичь»[253]. Эта глубина и сверх-изобилие истины, по сути, и удерживает как философа, так и богослова в состоянии удивления – их основной позиции по отношению к предмету их размышлений, по мнению Бальтазара[254]. Красота здесь видится как тайна истины. Это то, что сохраняет истину от превращения в просто логику или в изменчивые семантические утверждения, свободно плавающие над реальностью бытия. От красоты истина получает полноту, смысл и великолепие, и так рождается прекрасная логика, наполненная глубинами бытия.
Истина красоты
На первых же страницах ССл 1, как отмечалось выше, первичность («перво-словность») красоты играет присущую ей роль своеобразного орудия. Красота избрана здесь первым словом, «чтобы снова вывести на первый план цельную истину – истину как трансцендентальное свойство Бытия, истину не как абстракцию, но как живую связь между Богом и миром»[255]. Эта «цельная истина», как говорит Бальтазар, содержит в себе истину о человеке, мире и Боге, и также историческое Евангелие и Церковь, которая его хранит, истину о растущем Царстве в ее полноте и слабости и истину о темноте настоящего и неопределенности будущего[256]. Красота подобна прожектору, освещающему весь ландшафт истины. А прожектора предназначены не для того, чтобы демонстрировать себя, но – показывать, что они освещают. В дополнение к этому, Бальтазар в ССл 1 говорит о красоте как о «чистом сиянии истины и блага ради них самих»[257]. Это напоминает поразительную формулировку из одного из ранних Бальтазаровых эссе о музыке: «Истина как мыслительная категория материализуется в красоту»[258]. Свет, который излучает истина, когда она является в материи (как Gestalt) – это свет истины, содержащий истину. Истина красоты, или истина, присущая красоте, видна в том, что истину как раскрытие бытия можно постичь в явлении вызывающих изумление прекрасных образов, захватывающих того, кто их наблюдает.
Окончательное слово: любовь
Так на примере некоторых аспектов взаимоотношений между истиной и красотой вышеизложенное показывает, что взаимопроникновение трансценденталий – основной момент в мышлении Бальтазара. Тем не менее, взаимопроникновение трансценденталий, если можно так сказать, обладает своей собственной трансцендентальностью, как видно из следующего:
«Истина, благо и красота – настолько трансцендентальные свойства бытия, что их можно постичь только друг в друге и друг через друга. В своей общности они представляют доказательство неисчерпаемой глубины и бескрайнего богатства бытия. Наконец, они показывают, что в конце концов все возможно понять и раскрыть только потому, что оно зиждется на предельной тайне, чья таинственность покоится не на недостатке ясности, но на сверх-изобилии света. Что более непостижимо, чем то, что сердцевина бытия – в любви, и что ее возникновение – как сущности и существования – основано не на чем ином, как на безосновательной благодати?»[259]
Конечно, можно спросить, действительно ли эта цитата относится к философии, а не к богословию; в лучшем случае, это философия в смысле «третьей сферы» Гвардини, о которой упоминалось выше. Данная цитата, однако, освещает следующий важный аспект Бальтазарова мышления: если бытие и трансценденталии и можно свести к чему-то более первичному, то лишь к глубочайшей сущности как сотворенного, так и абсолютного Бытия (то есть Бога), а именно, к любви. В качестве примера практического осуществления такого сведения отметим, что Бальтазар позже в ТЛ 1 сводит истину к любви: «Вся истина сводится к… тайне любви.» В этом контексте он также говорит, что красота – это разновидность «безосновательного основания» (groundless ground): «В действительности, красота есть не что иное как непосредственная заметность безосновательности основания по отношению ко всему, что на нем покоится, и исходя из всего, что на нем покоится. Это просвечивание, посредством явления, таинственного фона бытия»[260]. Сведение трансценденталий к любви углубляется далее в «Теологике» благодаря богословским идеям. В ТЛ 2 Бальтазар использует выражение Густава Зиверта, который говорит о любви как о «трансценденталии как таковой [немецкий: das Transzendentale schlechthin]» и, таким образом, представляет благо (bonum) как нечто «более трансцендентальное, чем бытие и истина»[261]. С богословской точки зрения, эта безосновательность проявляет себя в Unvordenklichkeit[262] («непредвидимости») таинственной божественной любви (особенно любви Отца к Сыну), которая служит основанием как внутренней жизни Бога, так и благодати, данной при сотворении и искуплении мира. Это слово также указывает, что человеческое мышление не может выйти за пределы Божественной любви, потому что эта любовь, как всегда было известно, превосходит разумение (Еф 3:19). В «Эпилоге» Бальтазар говорит: «“Бог есть любовь” и ничто кроме этого; в этой любви заключается всякая возможная форма самовыражения, истины и мудрости. Но это также красота/великолепие, которые всегда превосходят все, что мы только можем постичь»[263].
Взаимопроникновение трансценденталий, другими словами, подобно перихорезису божественной тринитарной любви и отражает его: в Боге красота, благо и истина живут и пересекаются в единстве любви трех Лиц – Отца, Сына и Святого Духа. Это не означает, что каждая трансценденталия однозначно приписана отдельной ипостаси[264], или что тождество трансценденталий и Лиц заключено в некой четвертой субстанции или элементе, стоящим за тремя Лицами, но что «проявление внутренней божественной жизни (исхождения) как таковое тождественно трансценденталиям, которые тождественны между собой»[265]. Вступление в эту полноту трансценденталий – то же самое, что вступление в Божественную любовь, а именно, эпифания Бога в воплощении, жизни, смерти и воскресении Сына. «Прежде всего, – говорит Бальтазар, – мы не должны упустить, что все в Христе – взаимопроникновение в нем всех трансценденталий, даже в их мирской противоположности, – всегда остается указателем безграничности Божественной любви, потому что Он представляет собой Слово Отца в Духе таким образом, что трансценденталии, в Нем являющиеся, как мы показали, – это откровение триипостасной жизни Бога»[266].
В заключение этого раздела скажем, что божественная любовь – это окончательное слово в Бальтазаровой философско-богословской интерпретации взаимопроникновения трансценденталий (в центре которой стоит красота) как выражения этой любви[267].
Прекрасная любовь
Идеи Бальтазара о трансценденталиях и их взаимопроникновении открывают, на мой взгляд, весьма многообещающий подход к современному богословию. Можно критиковать его за отсутствие исчерпывающей теоретической ясности[268], но критик не должен забывать, что Бальтазар как раз не хочет раз и навсегда завершать дискуссию. Его мышление всегда открыто по отношению к большему целому, которое он стремится постичь по частям. В связи с нашей темой ему можно было бы задать критические вопросы о том, не сводятся ли истина и красота почти к одному и тому же: феноменологическому явлению бытия. К этому вопросу нас подводят противоречия в определении их точного взаимоотношения, отмеченные в предыдущих разделах. Однако снова отметим, что это тоже часть точки зрения Бальтазара: трансценденталии взаимосвязаны и переходят друг в друга. Живой характер его мышления в большой степени основывается на этих противоречиях. Тем не менее, теоретический вклад других мыслителей и богословов мог бы помочь нам в освещении того, что же может означать «прекрасная логика» в еще более глубоком смысле. К одному из них я и хочу сейчас обратиться.
В предыдущем разделе я затронул идею Бальтазара о сведении трансценденталий к божественной любви как безосновательному основанию. Эта идея указывает на центральное место, которое при описании Бога занимает благо. Но это не должно вводить нас в заблуждение: благо не является единственной божественной трансценденталией, и красота и истина не являются всего лишь производными от блага. Чтобы оценить понятие прекрасной логики в богословии, божественной любви должны быть приписаны также и остальные трансценденталии. Бытие Бога как тринитарный перихорезис любви Отца, Сына и Святого Духа является не только благим, но также прекрасным и истинным. «Большая трансцендентальность» блага, упомянутая в предудущем разделе, должна быть отнесена преимущественно к благу как акту божественной любви, который осуществляет трансценденталии при сотворении мира.
Американский православный богослов Дэвид Бентли Харт предлагает весьма плодотворную точку зрения на Бога как красоту и прекрасное в своей работе «Красота бесконечного: Эстетика христианской истины», которая, согласно автору, вполне может считаться «своего рода расширенными заметками на полях отдельных страниц трудов Бальтазара»[269]. Следующий замечательный отрывок о красоте Бога очень хорошо освещает тему прекрасной логики совершенно в духе самого Бальтазара:
«Наиболее простое утверждение богословской эстетики заключается в том, что Бог прекрасен: не только, что Бог – это красота или сущность и архетип красоты, не только даже, что Бог – это высшая красота, но и что […] Бог есть красота и в то же время прекрасен, причем сияние красоты освещает Его творения и отражается в них. […] Красота Бога не просто «идеальна»: не отдаленная, холодная, безликая или абстрактная, не просто абсолютная, единая и бесформенная. […] Красота Бога – это восторг и объект восторга, взор любви, разделяемый Лицами Троицы; это то, что созерцает Бог, что видит и чему радуется Отец в Сыне, в сладости Духа, в том, чем восхищаются Сын и Дух друг в друге, потому что как Сын и Дух Отца они разделяют его знание и любовь как личности. […] Христианский Бог, который бесконечен, также бесконечно formosus[270], это непревзойденная полнота всех образов, трансцендентно определенный, вечно обладающий своим Логосом. Истинная красота – это не просто идея прекрасного, неподвижный прототип в «уме» Бога, но бесконечная «музыка», драма, искусство, заключенная в безграничной динамике жизни Троицы, но никогда не «ограниченная» ею […]. И поскольку он прекрасен, бытие изобилует различиями: форма, разнообразие, многочисленные взаимосвязи. Красота – это отличие различного, свойство другого быть другим, истинная форма отдаленности. И Святой Дух, будучи венцом божественной любви […], также делает божественную радость доступной тому другому, что не божественно, – творению, не отчуждая его от своей божественной «логики» […]. Дух – тот, кто украшает, в ком блаженство Бога переливается через край и достигает совершенства именно как переполняющее, и тем самым тот, кто дарует сияние, форму, ясность и чарующее великолепие тому, что Бог творит и объемлет в сверхизобилии своей любви. И эта красота есть форма всей тварной истины; таким образом, невозможно постичь иное в качестве иного вне признания и любви, аналогии и желания.
Восхищение в красоте «адекватно»; радость в красоте, когда это настоящая радость, отражает способ, которым Бог выражает себя»[271].
Обратите особое внимание, как тесно в этом отрывке Харт связывает красоту с Богом как тринитарной любовью; стоит отметить и то, что тварная красота понимается здесь как аналогия и отражение «сверх-красоты» и «сверх-образа» Бога. Заметьте также, что радость Духа от красоты – это выражение божественной «логики», воистину благой и прекрасной логики любви[272]. Красота – образ как божественной, так и тварной истины. В дальнейшем Харт обсуждает понятие «Бог выше Бытия» (ссылаясь, среди прочих, на Ж.-Л. Мариона)[273]. Здесь он говорит, осторожно критикуя Мариона, что «любовь, в действительности, онтологична и раскрывает красоту как истину мира: любовь – это изначальное действие, вызывающее сущее к бытию, так что бытие сущего – это и есть красота, свет»[274]. В свете изложенного должно быть понятно, что любое богословие – теология или теологика, – которое не видит, что Бог, тринитарный союз любви, прекрасен, – нелогично в самом своем основании. Истина Бога не только в том, что он существует, но в том, что он как Троица есть высшая любящая красота, красота, всегда раздающая себя в благе. То же верно и в отношении сотворенного бытия, оно не просто наличествует как некая логическая, материалистическая черта; оно прекрасно и отдает себя восприятию. Следовательно, здравая логика (в философии и богословии) должна предоставлять место красоте; она должна быть прекрасной логикой.
Заключение
В этой статье я обсудил взаимодействие трансценденталий, согласно Гансу Урсу фон Бальтазару, чтобы показать, почему нам нужна прекрасная логика и что это понятие подразумевает. Вначале я рассмотрел, что является «первым словом» для Бальтазара – истина или красота? Далее я перешел к обсуждению взаимоотношений между философией и богословием. Я выдвинул тезис, что противоречия в этих отношениях плодотворны в вопросе о взаимопроникновении трансценденталий, что и было показано на примере отношения между красотой и истиной. Затем я обратился к основе воззрений Бальтазара на трансценденталии («окончательное слово»), а именно, к божественной тринитарной любви, и привел богословие Харта в качестве примера многообещающего подхода к объяснению, почему логика должна быть прекрасна.
Итак, мы можем говорить, в свете мысли Бальтазара, не только о прекрасной логике, но и о логике прекрасного, о логике любви: вечный Бог Отец дарует себя посредством сотворения мира через своего Сына и посылает его для воплощения ради нашего спасения, завершаемого через излияние Духа, и тем самым открывает себя как вечную, прекрасную любовь, полученную как истина через откровение Сына, выражающего Отца: «Я есмь истина – видевший Меня видел Отца, возлюбившего мир» (Ин 14:6,9; 3:16). Его последней волей была молитва: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Ин 17:24).
Перевод с английского Анны Кондратовой
Эндрю Данстан
Карл Барт: красота и слава – вызов пониманию Бальтазара[275]
1. Введение: как Бальтазар понимал отношение Барта к красоте
Богословие – самый ясный из предметов, наиболее полно увлекает голову и сердце …. Это пейзаж, подобный пейзажам Умбрии и Тосканы, с их панорамностью и отчетливостью. Это шедевр, который столь же хорошо спланирован и причудлив, сколь и соборы Кельна и Милана[276].
Это сказал Карл Барт в 1934 году, спустя несколько лет после отдыха в Италии, где он созерцал итальянские соборы и итальянскую природу. С этих знаменитых слов уместно начать размышление о том, как он понимал красоту. В них недвусмысленно отражена чуткость к красоте богословия: Барт находил красоту в Боге и божественном откровении, а потому и в богословии. Однако ограничивается он этим или идет дальше? Есть ли у него место и смысл для красоты мирской, для красоты природы и культуры?
На протяжении последних пятидесяти лет почти все богословы отвечали на этот вопрос однозначным: Nein! Парадоксальным образом, такой стереотип в понимании Барта пошел от его друга Ганса Урса фон Бальтазара, человека, с которым Барт как-то сутки напролет слушал Моцарта[277]. Бальтазар, возродивший красоту в богословии, первым осмыслил и концепцию красоты у Барта. Он решил, что для Барта существовала лишь богословская красота. Впрочем, с оговоркой: косвенным образом Барт признавал мирскую красоту.
Какой же путь следует избрать: путь Карла Барта, который заново открывает внутреннюю красоту богословия и самого откровения… Или (не исключено, что Барт это подразумевает) допустить возможность подлинной взаимосвязи между красотой богословия и красотой мироздания?[278]
Богословы, которые вслед за Бальтазаром увлеклись богословской эстетикой, почти безусловно приняли его понимание Барта. За одним, правда, исключением: они не допускали, что у Барта есть косвенные указания на красоту мира. К примеру, Ричард Виладсо полагает: «Барт остается с «внутренней красотой богословия и откровения»[279]. Франческа Мэрфи утверждает, что если Бальтазар в своей эстетике пытается «возлюбить красоту мира сего», то Барт «воспринимает нисходящую форму Христа как единственный аналог между Богом и миром»[280]. А вот сходный протестантский ракурс: с точки зрения Джона де Грачи, Барт усматривал красоту «лишь в явлении Иисуса Христа», но не «в природе и искусстве»[281]. И эти авторы далеко не единственные[282].
В последнее время несколько богословов развивали интерпретацию Бальтазара в еще более радикальной форме. Вослед тезису Джона Милбэнка о том, что постмодернистскую критическую теорию отличает эстетическая предрасположенность к возвышен ному в ущерб прекрасному, эти мыслители не только соглашаются, что у Барта нет места мирской красоте, но и находят здесь вариацию на тему предпочтения возвышенного, записывая Барта в предтечи и союзники постмодернизма[283]. Дэвид Бентли Харт в книге «Красота бесконечного» повторяет за Бальтазаром, что Барт «утверждает славу Божию лишь через отрицание мирской красоты»[284]. Однако приписывает он это предубеждению в пользу «возвышенного» (англ. sublime), которое чем-то сродни гегелевскому «становлению», хайдеггеровской «темпорализации» и дерридеанской difference[285]. Сходную интерпретацию предлагает Джон Бетц в пространных статьях под названием «За пределы возвышенного: эстетика аналогии бытия» (часть 1 и 2). У Барта нет места мирской красоте. Это вытекает из «эстетической предубежденности в пользу возвышенного». Следовательно, у Барта «возвышенный Бог» сродни «возвышенной бездне» Хайдеггера, причем обоим сопутствует «возвышенное и ирруптивное содержание»[286].
Между тем почти никто не оспорил мнение Бальтазара. Одно из исключений – Пол Фидc. В своих трудах он кратко указывает на возможность совершенно иного понимания Барта: по его мнению, Барт вполне может усматривать здесь analogia pulchritudo[287].
В этой статье я попытаюсь обосновать альтернативную интерпретацию бартовского подхода к красоте. Основное внимание я уделю наиболее подробному размышлению Барта о красоте, которое содержится в «Церковной догматике» § 31.3 (далее ЦД § 31.3). Ключевую роль в этом прочтении играет иная герменевтика, чем у Бальтазара и его последователей. Как мы увидим, в ЦД § 31.3 Барт считает красоту формой славы. Затем я покажу, что если метод или «форма» определяется содержанием, то единственный способ точно понять горизонты бартовской pulchritudo состоит в том, чтобы уяснить ее материальный контекст: как Барт понимал славу. В своем докладе я продемонстрирую, что если мы примем этот иной подход – сначала разберемся в бартовской концепции славы в ЦД § 31.3, а затем (в свете этого) в его концепции красоты и мира в ЦД § 31.3, – отношение Барта к эстетике предстанет в совершенно ином свете. Мы увидим, что у него есть место и красоте богословия, и красоте мира. Последняя как бы аналогична первой.
2. Слава в ЦД § 31.3.
Начнем с понятия славы в ЦД § 31.3. Когда мы разберемся в нем, станет понятно, что перед нами analogia gloria: аналогия между божественной славой и прославлением.
Для Барта слава – это окончательный и в каком-то смысле кульминационный атрибут/совершенство Бога[288]. Она представляет собой не статическую субстанцию, а имеет характер динамического «акта» или «события». Это естественно, коль скоро Барт идет не от общей онтологии, а от ноэтической основы в событии Христа[289].
При изучении ЦД § 31.3 становится ясно: у Барта слава есть один акт Божий, который состоит из двух моментов (или сцен) – славы и прославления[290].
Согласно Барту, слава, первый из этих двух моментов, есть манифестация (или излучение вовне) всего божественного Бытия, исполненного божественного совершенства. По словам Барта: «Это самооткрывающаяся полнота всех божественных совершенств … возникающая, самовыражающаяся, самопроявляющаяся реальность всего, что есть Бог»[291]. Барт полагает, что такое проявление (или «экстасис») Бытия, благодаря Духу Святому, «непреодолимо» или «действенно»: оно создает или пробуждает второй момент, момент отклика, прославления[292].
По мнению Барта, прославление состоит их трех основных элементов. В первую очередь оно включает рецепцию божественной славы, то есть знание о Боге, открывающем себя, и общение с Ним[293]. Более важны для нашего анализа два других элемента. Согласно Барту, прославление также включает акт свидетельства реципиентом[294]. Славные manifestata порождают в сердце человека такую благодарность, что в ответ он решает сообразовать с Богом, открытым в славе, всю свою жизнь без остатка. В результате все существо человека «принимает форму соответствия»: становится «образом», «картиной» или «эхо» Бытия Божия.
И третье: прославление включает «участие» в божественной славе[295]. По словам Барта, «то, что делает тварь … имеет характер …участия в Его Бытии». Поскольку божественная слава сама создает и пробуждает прославление со стороны реципиента, свидетельство последнего становится частью божественного акта славы. Следовательно, Бог действует «в нем и через него».
Подведем итоги. У Барта слава и прославление – разные моменты. Однако они сходны. Прославление есть подобие божественной славы и сопричастность ей. Хотя Барт не говорит этого напрямую, все же ясно, что это моменты аналогичные. Таким образом, в ЦД § 31.3 мы имеем analogia gloria.
3. Красота в ЦД § 31.3.
Вышесказанное очень важно. Прежде всего, отсюда вытекает, что в ЦД § 31.3 Барт также подразумевает analogia pulchritudo: аналогию между прекрасной формой божественной славы и прекрасной формой прославления.
В ЦД § 31.3 Барт утверждает, что божественная слава всегда имеет диалектическую форму «единства и различия», «простоты и множественности», «идентичности и неидентичности»[296]. По его мнению, наблюдателю она кажется чем-то отдельным, постижимым через наблюдение во всей полноте. Однако она представляет собой единство с единым и бесконечным божественным Бытием, а потому не может быть полностью постижима. Она ускользает от понимания и повергает в молчание. Барт приводит несколько примеров этой формы откровения Бога о себе. В Боговоплощении божественная природа есть не только единство, но и отдельное человечество Иисуса из Назарета. Каждое из божественных совершенств различимо, но все они едины с нераздельной божественным Бытием. По мнению Барта, эта форма открывающего себя божественного Бытия происходит из Троицы: Троица же существует как отдельные модусы Бытия, и каждый из них составляет единство с единой божественной Сущностью.
В ЦД § 31.3 Барт говорит о красоте не как о божественном атрибуте, а как о форме божественной славы. По его словам, «форма божественного бытия имеет и сама представляет собой…красоту»[297].
Бартовское понимание красоты представляется вариацией на тему томистской концепции, согласно которой, красота есть пересечение формы (species/gestalt) и великолепия (lumen/glanz). Есть некоторые указания, что Барт вполне отдавал себе в этом отчет[298].
К примеру, он считает свою концепцию красоты восстановлением средневековой концепции. «Мы говорим, что Бог прекрасен.
И тем самым, мы возвращаемся к церковному преданию, каким оно было до Реформации»[299].
Конечно, утверждение Барта о том, что божественная слава имеет единую и особую форму красоты, если вспомнить его аналогию между славой и прославлением, подразумевает: прославление также имеет единую и особую форму красоты.
В ЦД § 31.3 есть указания на то, что мы поняли Барта правильно. Он говорит, что письменные труды по богословию составляют часть прославления, которое совершает Церковь. «Именно когда мы собираемся в Церковь, и когда возвещается Слово … богословие делает свое дело … мы славим Бога … и становимся сопричастными Его самопрославлению»[300]. По его словам, в таких богословских трудах есть красота. «Богословие в целом, в своих частях и их взаимосвязи, в своем содержании … имеет особую красоту»[301].
4. Мир в ЦД § 31.3.
Если мы с учетом вышесказанного рассмотрим отношение Барта к миру в ЦД § 31.3, оно предстанет перед нами совсем в ином свете, чем при расхожем понимании. По сути Барт говорит, что прекрасная форма мира – это аналогия (или во всяком случае, может быть аналогией) божественной красоты.
В ЦД § 31.3 Барт говорит, что мир прославляет Бога[302]. По его мнению, все бытие свидетельствует о божественной славе. «Нет сферы на небесах или на земле, которая даже здесь и теперь не была бы … полна славы Божией». «Творение … никогда не прекращалось … и в нем отражается слава Божия». «Все твари … обретают свое бытие и существование в движении этого божественного самопрославления». Однако Барт полагает, что это свидетельство и сопричастие происходит «втайне». Как правило, оно незримо для человеческих очей. Но когда Бог открывает Свое Бытие во Христе, оно актуализируется, становится зримым отражением этого света. Барт говорит: «Лишь в свете … Иисуса Христа … мы можем … сказать, что существует этот отголосок …данный сотворением … glorificatio, которое … проистекает из gloria Dei и сопричастна ей».
Конечно, утверждение Барта о том, что мир прославляет Бога – в свете нашего предыдущего рассуждения, – требует вывода: с его точки зрения, прославление миром имеет единую и особую форму красоты, которая есть аналог божественного.
Более того, бартовский тезис о прославлении миром Бога подразумевает, что прекрасная форма мира есть подобие божественной красоты в двух особых смыслах. Во-первых, зримые формы красоты или единой и особой формы в мире – это сокрытая аналогия божественной красоты. Как мы уже видели, идея Барта о прославлении миром Бога означает, что все бытие свидетельствует о божественном или подобно ему. Отсюда вытекает, что случаи красоты или единства и многообразия в мире также суть отголосок божественного. Впоследствии (ЦД III/I) Барт выскажется недвусмысленно. Он скажет, что в свете божественного откровения во Христе мы можем видеть, что случаи «порядка, красоты и целесообразности» в мире свидетельствуют о Боге или «прозрачны» для Бога[303]. Это случаи красоты или единой и особой формы в мире, которые зримы для всех людей, но взаимосвязь которых с божественной красотой актуализируется и становится зримой лишь когда Бог открывает Себя в Иисусе Христе.
Бартовский тезис о прославлении миром Бога также подразумевает, что все бытие втайне эстетично: оно имеет сокрытую единую и особую форму красоты, которое есть аналогия божественной красоте. Из представления Барта о мире как об образе Божьем логически вытекает, что мир имеет единую и особую форму. Получается, что зоркому наблюдателю мир представляется особым, то есть полностью тварным. Однако он и един с божественным. Согласно определениям самого Барта, он имеет красоту формы, которая есть аналог прекрасной форме божественной славы. Это единая и особая форма красоты, связанной с божественным, которая становится зримой лишь в мгновения самопрославления Бога во Христе.
Важно подчеркнуть: по Барту, хотя с объективной или божественной точки зрения, прекрасная форма мира есть аналог божественной красоты, с человеческой точки зрения, она лишь может им быть. Если зримость прекрасной формы мира разная в каждом из вышеописанных случаев, в обоих случаях ее взаимосвязь с божественной красотой не самоочевидна. Она актуализируется и становится зримой лишь в событии божественного самопрославления во Христе.
5. Вывод
На протяжении пятидесяти лет понимание бартовской концепции красоты Бальтазаром практически не оспаривалось в богословии: считалось, что Барт говорил лишь о богословской красоте. Мы предложили альтернативное понимание вопроса. Мы показали: если рассматривать его концепцию красоты в свете славы, получается, что он верит и в красоту богословия, и в красоту мира, причем вторая аналогична первой. В заключение я хотел бы вкратце показать, что эта альтернативная интерпретация органичнее всего соответствует бартовскому корпусу: она сообразна высказываниям Барта, которые иначе необъяснимы.
Начнем с ЦД § 31.3. Здесь Барт делает ряд замечаний, которые не имеют смысла, если не считать, что для Барта красота мира может быть подобием божественной красоты. Показательны три примера. По словам Барта, Бог «не только источник всякой истины и всякой благости, но и источник всякой красоты»[304]. Более того, в одном месте Барт утверждает, что хотя единая и особая форма божественной славы есть единственная совершенная форма красоты, могут быть и другие, несовершенные, случаи этой единой и особой формы красоты. «Вопрос состоит не в том, могут ли существовать другие примеры такого единства и различия. Разумеется, могут. Вопрос в другом: … где совершенное? … Лишь форма божественного бытия имеет божественную красоту»[305]. В третьем и последнем отрывке из ЦД § 31.3 Барт подходит удивительно близко к разъяснению analogia pulchritudo. Он заявляет, что красота Христа есть критерий всякой красоты, и следовательно, представления о красоте в культуре и философии должна выверяться по нему. Барт прямо пишет, что когда красота культуры или философии санкционируется-таки этим критерием, она должна восприниматься как отражение божественной красоты. «Наши тварные представления о прекрасном, отталкивающиеся от тварного, могут заново обрести или не обрести себя в божественном бытии. Если это происходит … они … также …. описывают Его бытие»[306].
Знаменитые замечания Барта о Моцарте в ЦД III/3 также представляют существенную сложность для тех, кто солидарен с бальтазаровским прочтением Барта. В прекрасной форме музыки Моцарта – одной из культурных форм красоты, – Барт усматривает аналогию форме божественного промысла[307]. В музыке Моцарта есть и светлые, и темные тона, но она всегда светлая. По мнению Барта, это образ божественного промысла: в мире есть и хорошие, и плохие вещи, но все происходит в соответствии с благой волей Творца. Последователям Бальтазара остается лишь списывать это неудобное для них противоречие пристрастием Барта к Моцарту[308].
Однако, как видим, отрывок хорошо согласуется с бартовским богословием красоты.
Напоследок вернемся к знаменитым словам Барта, с которых мы начали[309]. Казалось бы, они очень просты. Заметим, однако, что Барт предполагает взаимосвязь между красотой богословия и красотой мира. Прекрасная форма богословия подобна панорамным, но отчетливым пейзажам тосканской провинции. Она напоминает о причудливой и строгой архитектуре миланских соборов. Опять-таки мы не поймем здесь Барта, если не примем альтернативное понимание, согласно которому, он видел и красоту богословия, и подобную ей красоту мироздания.
Перевод с английского Глеба Ястребова
Кнут-Вилли Сэтер
Красота природы в новом естественном богословии[310]
Введение
В последние двадцать лет некоторые участники полемики между наукой и богословием говорят о необходимости пересмотра понятия естественного богословия. Ученые-богословы, такие как Джон Полкинхорн, пытаются наводить мосты между этими, как может показаться, далекими друг от друга областями знания, говоря о том, что научные интуиции будут раскрыты более широко и обретут более глубокое наполнение, если их рассматривать с богословской точки зрения. Как подчеркивает Полкинхорн, новая инициатива, касающаяся вопроса пересмотра естественного богословия, возникла на почве не богословия, а естественных наук, в частности физики[311]. Поскольку толчком к пересмотру понятия естественного богословия послужили научные поиски, новое естественное богословие может развиваться как сфера, в которой станет возможным проводить связи между богословием и наукой.
Призыв к пересмотру понятия естественного богословия обосновывается тем обстоятельством, что наука рассматривает вопросы, которые в действительности выходят за рамки ее самой. Более того, Полкинхорн утверждает, что реальность невозможно объяснять опираясь исключительно на принципы науки. Богословие же может способствовать расширению перспективы научных исследований: «Богословие может помочь науке в том смысле, что оно даст ей ответы на те мета-вопросы, которые возникают в сфере науки, но выходят за границы возможностей самой науки, оказывающейся не в силах ответить на них»[312]. По мнению Полкинхорна, естественные науки ориентируются только на законы природы, богословие же может собственно помочь науке увидеть, почему законы таковы, каковы они есть. В этом смысле богословие может способствовать достижению более глубокого и более всестороннего понимания действительности.
Полкинхорн разрабатывает понятие нового естественного богословия, где особую значимость приобретают три темы: постижимость природы для разума, «тонкая настройка» природы и красота природы[313]. В главных дебатах, ведущихся в данной области, подробно рассматривались две первых темы, однако меньше внимания уделялось вопросу красоты природы, хотя в нескольких книгах, написанных в последние годы, этот вопрос получил некоторое освещение[314].
Будет ли разработка вопроса красоты природы способствовать наведению мостов между наукой и богословием? Я буду говорить и о понятии природы, и о понятии красоты, но особо заострю внимание на последнем. Задаваясь вопросом о том, является ли красота природным свойством, я пытаюсь понять, является ли красота тем, что дано природой, или ее следует понимать как субъективное явление – такое, которое определяется оком зрящего. Говоря о красоте природы, я прежде всего буду рассматривать понятие нового естественного богословия, а затем речь пойдет об эпистемологии и онтологии в связи с природой и красотой соответственно. Далее я коснусь вопроса красоты как объективного свойства природных систем и постараюсь выяснить, в какой мере понятие красоты природы может служить надежным связующим звеном между наукой и богословием. В конце я вкратце рассмотрю вопрос красоты природы в свете критического реализма и богословских интуиций, обосновывая тезис о том, что красота природы – явление реляционное.
Красота природы в новом естественном богословии
Многие из тех исследователей, которые принимают участие в споре науки и богословия, действительно касаются вопроса красоты природы. Один из этих исследователей, Питер Барретт, указывает на то, что идея красоты сложная, поскольку охватывает собой огромное множество тем[315]. Пол Карр и Алистер Мак-Грат заостряют внимание на сложности идеи красоты[316], а последний из упомянутых ученых, в частности, подчеркнул тот факт, что концептуализация красоты сопряжена с определенными эпистемологическими затруднениями. По словам Чарльза Таунса, феномен красоты вызывает реакцию и у науки, и у религии: «Наши эстетические чувства пробуждаются вследствие нашего опыта восприятия красоты природы и обретают звучание в языке науки и религии»[317]. Есть ряд различных подходов к изучению вопроса красоты, и одним из них является подход Пола Дэйвиса, который утверждает, что большинство ученых принимают красоту как нечто само собой разумеющееся, – что в корне неверно. По его словам, постижимость природы для разума и красота природы суть яркие свидетельства того, что в природе сокрыто нечто более знаменательное, чем представляется при поверхностном рассмотрении[318].
Целый ряд вопросов, касающихся красоты природы, с особым вниманием рассматривается в рамках нового естественного богословия. Руководствуясь соображениями краткости и в то же время ясности, я постараюсь сжато изложить идеи Полкинхорна. Он начинает с тезиса о том, что математика, будучи точной наукой, служит инструментом для других наук, и ее успех обусловлен двумя причинами: она положительно зарекомендовала себя в вопросах эстетики и оказалась надежным ориентиром при выработке жизнеспособных теорий. Что касается первого, то, по словам Полкинхорна, математика, в силу своей структуры, также отражает красоту в природе. Эта красота открыта не каждому, а представляет собой откровение, доступное тем, кто занимается математикой. В математике как особой области знания есть четкое понимание критериев здравой и совершенной математики: это принципы экономии и отточенности.
Однако Полкинхорн также утверждает, что математика – неэмпирическая область знания; это теоретическая и абстрактная наука, которая не проистекает из человеческого опыта. Эта область знания столь экстраординарна в силу понимания уравнений, которые «…судя по всему, характеризуют глубинную структуру мира»[319].
Поскольку математика – инструмент для других наук, мы также обнаруживаем красоту математики в других областях знания, таких как, например, физика[320].
Хотя математика является теоретической дисциплиной, выявляющей и анализирующей модели, оказывается, эти модели можно найти и в структуре физического мира. Обосновывая взаимосвязь между совершенством математики и красотой природы, Полкинхорн идет по стопам Дирака, который был занят поисками совершенных уравнений, поскольку они соответствуют красоте в природе и, таким образом, служат точными описаниями физического мира[321]. Полкинхорн говорит, что красота природы, которую выражает математика, не привносится извне в структуру, которая присуща природе, а наоборот, открывается нам в подлинных фактах природы.
Как Полкинхорн связывает это с богословием? Математика – ключ к тайнам вселенной, и потому он считает вселенную постижимой для разума. То, как он связывает науку с богословием, следует воспринимать не как доказательство, а как преобразование, согласующееся с теизмом. Он говорит, что «вселенная, в своей рациональной красоте и открытости, выглядит как мир, в котором то там, то здесь являются свидетельства разума. И, может быть, здесь нужно говорить: “Разума”, Разума Божьего»[322]. С точки зрения Полкинхорна, внутренняя разумность, т. е. математика, и разумность внешняя, т. е. структура физического мира, теснейшим образом взаимосвязаны. И это так, поскольку у них единый исток: разум Творца, Который есть источник всего сущего[323]. Таким образом, красота – это знак чего-то запредельного: «Чувство восхищения перед совершенной упорядоченностью физической вселенной (…) есть признание того, что за всем сущим можно узреть разум творца»[324].
Полкинхорн утверждает, что новое естественное богословие может стать сферой соприкосновения науки и богословия[325]. Однако вопросы, затрагиваемые в новом естественном богословии, – такие как постижимость природы для разума, «тонкая настройка» природы и красота природы, – нельзя рассматривать изолированно. Вопрос «тонкой настройки», в который часто включают вопрос разумного замысла, находящего отражение в природе, касается проблем, подобных тем, что связаны с вопросом красоты природы.
Алексей Нестерук хочет понять, несет ли физическая вселенная на себе печать разумного замысла на онтологическом уровне, или таковой замысел представляет собой структуру нашего интеллекта[326]. Подобным образом мы можем рассматривать природу и красоту как нечто мыслящееся на онтологическом уровне или же как нечто глубоко коренящееся в нашем интеллекте: пребывает ли красота вовне, или же ее видит только око зрящего? Если факты свидетельствуют о том, что верно последнее, значит в целом понятие красоты природы в новом естественном богословии представляется сомнительным.
Онтология и эпистемология в соотношении с природой
Возможно ли изучать природу и красоту в связи с онтологическими и эпистемологическими вопросами? Разумеется, мы сможем лучше понять природу, рассматривая ее онтологический статус (существует ли вообще природа?) и ее эпистемологический статус (если эта природа существует, то как мы обретаем знание о ней?). Точно так же мы можем рассматривать и красоту – в категориях онтологических и эпистемологических.
Позвольте сначала коснуться вопроса природы. В рамках философии истории мы находим целый ряд подходов к выяснению онтологического статуса природы. Природу можно понимать в соответствии с тремя парадигмами[327]. Прежде всего, это онтологическая парадигма, которая господствовала с античных времен до средневековья. В этой парадигме природе присваивается независимый статус, она независима от человеческого разума. Однако эта парадигма также охватывает собой ряд различных трактовок природы: Демокрит концептуализировал природу, руководствуясь онтологически атомистическими взглядами, Платон – онтологически идеалистическими, тогда как Аристотелево понятие природы приняло форму онтологического реализма. Опираясь на труды древнегреческих мыслителей, философы средневековья вдохнули новую жизнь в понятие природы. В то время как греческие философы в основном понимали природу как нечто вечное, представители схоластики считали единственным вечным сущим (natura naturans) Бога, а природу – сотворенной в пространстве и времени (natura naurata).
В картезианской парадигме, которую Свенд Андерсен именует философией сознания[328], откровение природы, данное нам, зависит от нескольких определенных условий. Одно из главных условий состоит в том, что мы должны обладать сознанием реальности, основанным на нашей способности воспринимать, мыслить и чувствовать. Согласно Декарту, нам нужно исследовать свое сознание, чтобы обрести знание реальности. Однако такой поворот в философии ведет к разграничению рационалистического и эмпирического подходов, для которых важнейшим был вопрос о том, какие элементы первичны в наших поисках знания. Кроме Декарта, рационализм обосновывают Спиноза и Лейбниц, тогда как эмпиризм обычно ассоциируется с Локком, Юмом и Беркли. Мы также находим некое сочетание того и другого в трансцендентальной философии Канта.
Третья парадигма ассоциируется с лингвистическим направлением в философии, отвергающим картезианское мнение о том, что наш разум – основание, опираясь на которое мы можем обрести знание. Это направление мысли находит выражение в феноменологии и аналитической философии. Обе эти школы указывают на то, что ни «бытие», ни «разум» не могут считаться чем-то основополагающим, поскольку мы связываем себя с тем и другим посредством языка.
В споре науки и богословия принимается как данность то, что природа объективно существует. Эту же позицию отстаивают или принимают как данность приверженцы нового естественного богословия. Данный онтологический тезис дополняется эпистемологическим представлением, согласно которому возможности обретения знания не являются неким естественным некритическим процессом. В этом – суть критического реализма.
Критический реализм – подход, пользующийся большой популярностью у приверженцев нового естественного богословия, и в изысканиях различных ученых он находит ряд практических преломлений. Критический реализм рассматривает такие вопросы, как герменевтический и эпистемологический круг, социальные и культурные аспекты, многообразие и сложность исследований, и наконец неэмпирические критерии[329]. Если, размышляя о природе, мы стремимся руководствовать принципами критического реализма, то должны принимать во внимание эти вопросы.
Онтология и эпистемология в соотношении с красотой
В своей книге «Тайная сила красоты» Джон Армстронг рассматривает вопрос о том, что значит, что нечто воспринимается как прекрасное[330]. Он рассматривает этот вопрос в контексте искусства и эстетики. Совершая путешествие по истории, он сталкивается с затруднением: то, что мы воспринимаем как красоту, выразить сложно, поскольку критерии здесь неясные, но в философском отношении они слишком жесткие, чтобы можно было их применять в данном вопросе.
Армстронг призывает нас не уподобляться Прокрусту[331]. Персонаж греческой мифологии кузнец Прокруст был жестоким и низким человеком. У него было железное ложе, и на него он укладывал всякого путника, которого ему удавалось заманить к себе в дом; пользуясь кузнечными орудиями, он вытягивал ноги тому, кому ложе было велико, и обрубал их тому, для кого оно было мало. На самом же деле не было ни одного человека, кому ложе подходило бы идеально, поскольку у Прокруста было припасено запасное ложе, которое он использовал в случае, если первое ложе подходило путнику. По словам Армстронга, мы поступаем как Прокруст, когда поддаемся искушению принимать одну трактовку красоты в качестве универсального ключа к пониманию всякой красоты.
Обращаясь к истории, Армстронг указывает множество критериев выявления красоты. Вначале он рассматривает трактат Хогарта «Анализ красоты», где красота определяется как сочетание определенных форм и структур. Далее он рассматривает «Протагор», где красота связывается и с целым (космосом), и с частями. Кроме того, Армстронг говорит о красоте как о всеобъемлющем качестве вещей и о красоте как о соотношении между частями. Однако, очевидно, все это не является адекватным описанием красоты, рассматривается ли она как части или как целое.
Затем Армстронг говорит о кантовском повороте в понимании красоты, где главным оказывается зрящий. Кстати сказать, эту позицию занимал уже Юм. В своей «Критике способности суждения» Кант первым подробно рассуждает о красоте как о том, что относится к индивидуальному пониманию каждого человека. Для Канта проблема красоты не есть нечто внешнее, не есть некое объективное явление, – она есть нечто внутреннее и имеет отношение к нам как к наблюдателям. По словам Армстронга, «быть может, прекрасные вещи вовсе не обладают неким странным свойством; быть может, мы называем вещи прекрасными в силу того отклика, какой они вызывают у нас»[332]. Согласно Канту, утверждения, высказываемые нами о красоте картины, невозможно отделить от удовольствия, получаемого нами, когда мы смотрим на нее. В конечном итоге, определяющим является наше чувство удовольствия, какими бы ни были пропорции и линии, запечатленные на картине. Это требует от нас ответа на вопрос, как понимать удовольствие и как нам быть с эстетикой как явлением, – вспомним, что этот предмет рассматривает Кант в своем труде[333]. Кантовский поворот в философии ведет к пониманию красоты, отличному от более ранних парадигм, где красота трактовалась в основном как существующая вовне, как вещь в природе, которую надлежало найти путем наблюдения. Словом, Кант подвергает сомнению обоснованность нашего понимания красоты как чего-то объективного в наблюдаемых нами явлениях.
Как новое естественное богословие отвечает на поставленный Кантом вопрос? Если красота действительно имеет отношение только к оку зрящего, значит считать красоту природы свидетельством существования и деяний Бога, конечно же, было бы ошибкой. Однако новое естественное богословие все же отчасти следует за Кантом – в той мере, в какой специфическая интерпретация красоты, данная этой школой, определяется критическим реализмом. Онтологический аспект в критическом реализме, разрабатываемый такими исследователями, как Полкинхорн, указывает на то, что красота пребывает вовне. По убеждению Полкинхорна, критический реализм учит тому, что онтология априорна по отношению к эпистемологии: «именно онтология определяет эпистемологию (полагаю, что таково определение реализма)»[334]. Это утверждение не противоречит представлению о том, что «эпистемология формирует онтологию», поскольку на онтологию опираются, подчеркивая, что эпистемология служит путем к пониманию реальности. Однако этот вывод сделан слишком легко: хотя большинство людей не сомневаются в объективном существовании природы, они далеко не едины во мнении о том, что во внешнем мире может претендовать на то, чтобы именоваться прекрасным. Поэтому критерии онтологической оценки красоты должны отличаться от критериев онтологической оценки природы и быть более строгими. Эпистемологическое заявление дает почву для размышлений о том, как обретать знание и как воспринимать красоту, причем заострить внимание необходимо на нашей способности получать такое знание.
Каковы будут следствия обоснования идеи красоты природы с точки зрения критического реализма? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к вопросу о том, как истолковываются основания критического реализма в согласии с новым естественным богословием. По утверждению Полкинхорна, «критический реализм – это философская позиция, основанием которой служит действительный опыт научного сообщества, а не мнимая абстрактная необходимость в том, чтобы вещи были именно такими»[335]. Думаю, новое естественное богословие приложило недостаточно усилий к разработке вопроса о том, есть ли красота в мире или нет, – идет ли речь о наших наблюдениях за красотой в природе, совершенством математики или за тем и другим. Если бы нам удалось найти причины истолковывать красоту как нечто пребывающее в наблюдаемых нами явлениях внешнего мира и если бы мы смогли, подобно тому как уже делаем это в случае с пониманием природы в целом, доказать, что красота пребывает в вещах (пусть мы и руководствуемся эпистемологически критическим подходом), – обогатило ли бы это новое естественное богословие?
Красота как объективное свойство природных систем
Алехандро Гарсия-Ривера, Марк Грейвс и Карл Нейманн выдвинули совершенно оригинальную идею красоты, имеющую непосредственное отношение к полемике между наукой и богословием. Эти ученые утверждают, что красота – не только субъективная реакция, происходящая в оке зрящего, но и объективное свойство природной системы[336]. Как объективное свойство, красота должна поддаваться эмпирическим наблюдениям и определениям. Более того, если красота действительно есть объективное свойство природной системы, значит эстетика необходима каждому, кто стремится в полной мере постигнуть такую систему. Гарсия-Ривера, Грейвс и Нейманн раскрывают свое понимание данного вопроса, соотнося свои принципы со сферой биологии развития.
Для ученых красота, по мнению этих трех авторов, связана с неизвестным, т. е. аспектами системы, которые не в полной мере постигнуты. Богословское понятие тайны может функционировать как аналогия понимания учеными неизвестного, а красота и в том и в другом случае является надежным ориентиром на пути к истине: «Поэтому необходимо больше подчеркивать важную связь между богословием и наукой, которая устанавливается благодаря красоте»[337]. Для богословия природная красота – ключ к пониманию божественного действия в мире, и природная красота может рассматриваться как явление имманентности Бога миру. Таким образом, красота составляет сердцевину самой высшей реальности. Подобно этому, и в науке природная красота служит ключом к пониманию неизвестного в природе.
Гарсия-Ривера, Грейвс и Нейманн указывают на то, что богословие, построенное на этом основании, ставит под сомнение разумность спора, вызванного данными, полученными в ходе изысканий в рамках наук биологического профиля, а именно – полемики редукционизма с антиредукционизмом. По словам авторов, биологи испытывают глубокий конфликт: с одной стороны, они не могут не видеть красоты системы, которую стремятся понять, с другой – считают себя обязанными разложить эту систему на составляющие, с тем чтобы получить знание, необходимое для управления системой и ее эксплуатации[338]. Таким образом, богословие помогает решить эту задачу, вскрывая глубокий конфликт, в который оказываются втянуты ученые, и указывая путь, благодаря которому данный конфликт может привести к знаменательным экспериментальным результатам.
Что, если красота будет признана эмпирически доступной категорией? Здесь авторы ссылаются на Владислава Татаркевича, который говорит, что красота трактуется как «единство в многообразии». Красота связана не с целым или частями, а с таинственным единством, которое спаивает части с целым[339]. Такое понимание красоты идет вразрез с положениями современной философской эстетики, где природная красота связывается либо с частями, либо с целым.
Следующий шаг состоит в том, чтобы внимательно рассмотреть объективный аспект красоты. По убеждению Гарсия-Ривера, Грейвса и Нейманна, традиционное понимание субъективности красоты мы унаследовали от Просвещения. Красота трактуется как порождение сознания, а не как опыт, обретаемый благодаря чувствам и интерпретируемый сознанием. Некоторые философы, например, Жак Моно, идут еще дальше, считая субъективность нерелевантной при рассмотрении природных феноменов и утверждая, что биология представляет собой лишь отрасль физики[340]. При таком подходе биология истолковывается как совокупность данных, а не как совокупность феноменов, и это приводит к тому, что книга Природы трактуется как рассказ, в котором, как в школьном учебнике, нет ничего, кроме голых фактов.
Итак, Гарсия-Ривера, Грейвс и Нейманн выдвигают тезис о единстве в многообразии и объективности в красоте. Что касается последнего, то они говорят о моделях информации, которые имманентны по отношению к природным феноменам: «Человек воспринимает красоту посредством чувств и актов ментальной интерпретации, а некоторые природные феномены характеризуются внутренней взаимосвязанностью, богатство содержания и информативная простота которой способствуют постижению прекрасного»[341].
Я не стану подробнее раскрывать их идеи, – просто подчеркну, что если красота эмпирически значима для науки, значит ее необходимо четко определять как свойство динамических систем, возникающих во времени и пространстве, и выявление красоты в таких системах должно быть подчинено эстетике, имеющей прочное эмпирическое основание. Это представление обогащается определением красоты, данным архитектором Кристофером Александером, который говорил о ней как о «свободе от внутренних противоречий». Гарсия-Ривера, Грейвс и Нейманн относят архитектурную эстетику Александера, в которой жизнь фигурирует как эстетическая категория, к биологическим системам, присовокупляя к ней эстетику динамических форм. Это дает основание изучать вопрос о том, как красота проявляется в природных системах в биологии развития.
Некоторые выводы, сделанные учеными, можно подытожить следующим образом. (1) Сущность природной реальности составляет динамическая форма, а не движущая причина. (2) Эмпирическая эстетика становится возможной вследствие поиска эстетики динамической формы. (3) Эмпирическая эстетика должна принимать во внимание и объективность, и субъективность красоты. (4) Красота – основополагающее свойство природной реальности. (5) Богословие и наука могут быть обогащены этим пониманием. Исходя из этого Гарсия-Ривера, Грейвс и Нейманн приходят к заключению о том, что связь между наукой и богословием можно найти в эмпирической эстетике, которая вскрывает отношения между тем и другим[342].
МЕТАФОРА МОСТА И НЕОБХОДИМОСТЬ В ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ
Поскольку красота – эмпирический принцип природного мира, эмпирическая эстетика может способствовать разработке нового естественного богословия. Здесь может оказаться весьма действенной метафора моста, широко используемая в науке и богословии[343].
Области знания, которые мы стремимся соединить, – наука и богословие. Мы можем обосновывать необходимость в возведении «мостов» различных типов между наукой и богословием, разной «протяженности» и из разных «материалов». Основой этой конструкции служит особое понятие нового естественного богословия, сердцевиной которого является красота природы; мост этот соединяет территорию науки с территорией богословия. По моему мнению, мост, начинающийся на территории науки (как у Полкинхорна), представляется шатким. Эта шаткость может быть скомпенсирована за счет эстетики, имеющей эмпирическое основание.
Эта конструкция в новом естественном богословии также должна иметь более прочную опору в эпистемологической рефлексии. Вне всяких сомнений, понятие Полкинхорна обосновывается принципами критического реализма, и новое естественное богословие должно далее разрабатывать лежащую в основе понятия красоты природы эпистемологию критического реализма. Достаточно ли изучены эти основополагающие эпистемологические идеи? Жизнеспособны ли они? В то же время эти вопросы также имеют непосредственное отношение к эстетике, имеющей эмпирическое основание. Такое понятие требует более четкого эпистемологического обоснования, в частности, изучения отношений между субъектом и объектом. Находим ли мы такую эпистемологическую опору в критическом реализме? Я считаю, что сопоставление идеи красоты природы в новом естественном богословии (разрабатываемой Полкинхорном) с идеей красоты природы в эмпирической эстетике (разрабатываемой Гарсия-Ривера) может привести ко взаимному обогащению этих понятий. Однако оба подхода требуют дополнительных эпистемологических корректировок, особенно в том, что касается отношений субъекта и объекта. Эта необходимость осознается яснее, когда мы рассматриваем красоту как нечто реляционное.
Красота и богословие – красота как понятие реляционное
Говоря о красоте природы как о прочном мосте между наукой и богословием, мы должны ступить также на почву богословия. Что можно сказать о красоте природы, если рассматривать это понятие с точки зрения богословия? Должно ли сыграть некую роль богословие в построении этого моста? Богословие может многое сказать о красоте как явлении, но рассмотреть этот вопрос здесь детально, пожалуй, было бы слишком сложно. Однако здесь важно ответить на вопрос о том, могут ли укрепить эпистемологическое основание этого моста богословские идеи.
По убеждению Полкинхорна, изучение красоты природы в ракурсе богословия приведет собственно не к новому естественному богословию, а к дискуссии о богословии природы, обогащенном научными интуициями. Кроме того, Гарсия-Ривера движется от науки к богословию, а затем рассматривает вопрос красоты в природе с богословской точки зрения. В частности, Гарсия-Ривера связывает красоту с понятием богословской эстетики. Ссылаясь на труды Ричарда Виладесо, он определяет богословскую эстетику как учение о Боге, религии и богословии в связи с рациональным знанием, прекрасным и искусством[344]. Гарсия-Ривера вслед за Тейяром де Шарденом утверждает, что красота – это проявление глубин космоса.
Руководствуясь богословскими соображениями, мы можем задаться вопросом, какой статус имеет красота в богословии. Гарсия-Ривера связывает красоту с самой сущностью богословия: «Вселенная без красоты не может называться космологией. Точно так же, без красоты учение о творении не может завладеть нашим вниманием. Это означает, что красота должна также играть ключевую роль в учении о вселенском Христе»[345]. Но даже если красота действительно имеет такое значение, мы все равно должны яснее понимать вопрос красоты как основополагающего феномена в богословии – эта серьезная задача поставлена перед богословами.
Когда мы заостряем внимание на прекрасных формах, а не на движущих причинах, «…глубокие принципы, лежащие в основе единства и многообразия жизни, становятся очевидны, вследствие чего насыщается не только разум, но и сердце»[346]. Исходя из этого тезиса, Гарсия-Ривера рассматривает вопрос о том, как можно понимать красоту в богословском ракурсе. Он дает богословское определение красоты, говоря о ней как о символе жизни, преизобильное познание которой мы обретаем в наслаждении ею[347]. По его словам, этот определение отражает духовный аспект более точно, нежели классическое определение красоты (как единства в многообразии). Кроме того, если мы рассматриваем красоту как символ, это дает нам возможность провести в высшей степени важное разграничение между красотой и прекрасным. Прекрасное – это опыт восприятия красоты, тогда как сама красота имеет исток в Боге. Поэтому Гарсия-Ривера пользуется термином «символ» – это позволяет ему говорить о божественном происхождении красоты и в то же время утверждать, что она является предметом человеческого опыта. Это может обогатить наше понимание множества различных богословских вопросов, включая таинства, отношения между красотой, благодатью и благом, а также вопрос о соотношении прекрасного и безобразного.
Гарсия-Ривера ссылается на Ганса Урса фон Бальтазара, который подчеркивал значение красоты в богословии, указывая такой путь богословствования, в котором отправной точкой служит отклик человека на красоту[348]. Отталкиваясь от этой отправной точки, фон Бальтазар разрабатывает богословскую эстетику, которая базируется на созерцании благого, прекрасного и истинного[349]. Как показал Кристиансен, идеи отцов Церкви занимают важнейшее место в богословской эстетике фон Бальтазара[350]. В их богословской рефлексии красота и эстетика тесно взаимосвязаны. По убеждению фон Бальтазара, Бог прежде всего отдает Себя человеку как откровение Своей Триединой любви. Бог учит человека истине и дарует ему спасение, дабы человек мог возвратиться к состоянию единения с ближними и участвовать в Триединой жизни Бога. Красота – явление, которое пробуждает в человеке желание примириться с Богом[351]. Поэтому красота может истолковываться как свойство Триединого Бога, а значит красота – понятие реляционное. Этот реляционный подход может помочь пересмотреть и переосмыслить традиционное разграничение между субъектом и объектом. Хотя объем данной статьи не позволяет мне подробно рассмотреть вопрос красоты в богословии, тем не менее важно заострить внимание в целом на широком спектре богословских вопросов, связанных с красотой, и, в частности, на глубоких тезисах о красоте в богословии фон Бальтазара.
Красота природы – корректировка критического реализма
Эмпирическая эстетика, как характеризует ее Гарсия-Ривера, может способствовать дальнейшей разработке понятия красоты в богословии, согласного с интуициями науки. Если эмпирическая эстетика должна принимать во внимание объективность и субъективность красоты, как было упомянуто выше, мы можем считать себя наблюдателями, тесно связанными со вселенной. В этом смысле красота может рассматриваться как нечто обладающее реляционным свойством[352].
Однако если красота прежде всего реляционное явление, что же сказать об эпистемологии критического реализма, который в известной степени свидетельствует в пользу разграничения между субъектом и объектом? Более того, критический реализм обвиняли в фундационалистских тенденциях. По словам Нэнси Мерфи, критический реализм завяз в модернизме и потому не может отвечать на вызовы постмодернистской эпохи, – в связи с этим мы также могли бы упомянуть и реляционные вызовы. Точнее же сказать, Мерфи указывает на то, что критическому реализму присущи три ограничивающих элемента мысли модернизма: (1) эпистемологический фундационализм, который стремится найти непоколебимое основание веры, (2) репрезентативное мышление, проявляющееся в корреспондентной теории истины, и (3) крайний индивидуализм и недостаточное внимание к обществу[353].
Эпистемологические дискуссии о фундационализме и когерентизме характеризуются строгими рамками. И все же критический реализм может слагаться из элементов, связанных с тем и другим[354].
Эпистемология критического реализма могла бы получить дальнейшее развитие, если бы в нее было включено более подробное описание реляционного аспекта реальности, как это находит отражение в богословском понятии красоты, подобном тому, которое разработал фон Бальтазар. Потенциал дальнейшего развития также можно найти в исследовании Полкинхорна, посвященном «критическому» в критическом реализме. В этой области важно найти новые идеи и интуиции, что обосновывается постановкой целого ряда вопросов, таких как герменевтический и эпистемологический круг, социальные и культурные аспекты, многообразие и сложность исследований, а также неэмпирические критерии[355].
Точнее сказать, вопросы двух кругов и неэмпирических критериев могли бы далее рассматриваться в рамках эпистемологии критического реализма с целью разработки более основательного понятия красоты природы как реляционного аспекта реальности.
Заключение
Онтологические и эпистемологические проблемы, связанные с понятиями природы и красоты, чрезвычайно сложные. Понятие красоты в большей степени требует от нас пересмотра вопроса отношений между субъектом и объектом, – таким образом, возникают вопросы о том, как мы понимаем эстетику и как проводим исследования в области эстетики. Итак, естественна ли красота в том смысле, что она дана в природе, или нам следует понимать ее как субъективное явление? У Гарсия-Ривера, Грейвса и Нейманна мы находим понятие, которое и притязает на соотнесенность с объективной природой, и указывает на возможность понимать эту природу как являющую себя объективно прекрасной.
Понятие Полкинхорна о красоте природы в новом естественном богословии в основном зиждется на особом эпистемологическом основании, а именно – на его критическом реализме. Однако новое естественное богословие – утверждающее, что красота природы может служить связующим звеном между наукой и богословием, – могло бы только выиграть, если бы обрело более прочное эмпирическое основание. Один подход здесь заключается в привлечении методик и сведений из области биологии развития к разработке эмпирической эстетики. Такая интуиция может обогатить рефлексию о красоте природы и послужить ценным вкладом в дело созидания моста между наукой и богословием в новом естественном богословии. Наконец эмпирическая эстетика, обогащенная богословием, может способствовать дальнейшей разработке понятия красоты как реляционного качества. Однако существует необходимость в тщательном изучении вопроса красоты как реляционного понятия, а это также требует от нас дальнейшей разработки критического реализма, на котором зиждется новое естественное богословие.
Перевод с английского Леонида Колкера
Симонетта Сальвестрони
Красота в последнем цикле стихотворений Бориса Пастернака[356]
В самые трагические моменты ХХ века лишь немногим ниспосылался дар видеть и выражать – даже в столь отчаянном положении – красоту сотворенного Богом мира. Этти Хиллесум[357] показала ее в своем дневнике (1941–1943), написанном в период изоляции, заключения в концлагеря и истребления, выпавших на долю еврейского народа.
В России, где целое поколение ученых, художников, поэтов и просто обычных людей прошло через гонения, аресты, смерть в безвестности, жизнь в отчаянии без надежды на избавление, такой способностью видеть красоту за внешностью вещей обладал Борис Пастернак.
«Koгда разгуляется» – последний его сборник, написанный в 1953–1956 годах, по завершении «Доктора Живаго». Тяжело больной, отрезанный от современной ему советской литературы, поэт дал сборнику неожиданное название – так говорят о наступлении ясных дней в природе, но в первую очередь он имел в виду собственное внутреннее состояние благодати и благодарности.
Текст драгоценный в глазах русского читателя, но существенный и для каждого, кто переживает или пережил в иных обстоятельствах насилие, несправедливость и горе, для тех, кто поныне задается вопросом о смысле существования. В октябре 1948 года поэт писал: «Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое свое письмо им»[358].
В такой перспективе «Koгда разгуляется» воспринимается как заключительное послание, с которым Пастернак, собрав напоследок всю свою творческую энергию, обращается к своим друзьям. Это его последнее свидетельство, его духовное завещание.
Этот текст завершает поэтический цикл «Доктора Живаго» и обогащает содержание этого цикла. Автор сознает, что завершил главный, важнейший труд своей жизни[359], ту миссию, которая для Живаго, как и для его альтер эго – Гамлета и Христа, составляла причину и цель жизни. Пастернак достиг периода глубокой внутренней свободы, которой никто, ни один правитель, не властен был его лишить.
В романе «Доктор Живаго» источником энергии для человека служит природа. Постоянная смена сезонов ободряет и утешает героя, составляет контраст историческим событиям, насильственному разрыву с прошлым. Запах цветущих лип, который он впитывает во время долгого путешествия на поезде, «кремовый свет солнца золотой осени», возвращающийся в разоренную до неузнавания Москву, песня соловья над «весенней распутицей» Урала – все это дарует герою утешительное постоянство, ту уверенность, которую обретает человек, слившийся с естественным течением жизни, без внезапных резких перемен. Личная история и история страны нарушены, но природа продолжает жить в привычном ритме, повинуясь сокровенной внутренней гармонии.
В стихотворениях последнего цикла Пастернак проявляет меньший, чем прежде, интерес к циклическому времени. Здесь мы видим иное измерение: уникальность мгновения, прорывы за пределы повседневной пошлости, яркие вспышки, освещающие жизнь. Теперь Пастернак живописует не грозу – это он уже делал – но тот момент, когда природа «разгуляется», прояснится, точно так же, как после тревожных лет работы над романом автор вновь обрел блаженный покой. Даже в неблагоприятных обстоятельствах он остается в мире с собой и с Божьим творением.
Заглавное для цикла стихотворения – автор поместил его в середину сборника – открывается описанием большого, тихого озера. На заднем плане еще висят тучи, но небо проясняется. Горизонтальный план озера контрастирует с вертикальным нагромождением туч вплоть до величественных горных ледников. По мере того как небо проясняется, меняется его освещение и цвет. Лес подсвечивается теплыми оттенками, опять-таки контрастными по отношению к черным теням. Стихает ветер, солнце вновь льет на землю свои лучи, затопляя ее золотым светом. По новому, ослепительно яркой, выглядит зелень листьев.
Третье четверостишие подводит нас к сути поэтического текста – не прямолинейно, но через семантические и фонетические аналогии[360].
Когда в исходе дней дождливых Меж туч проглянет синева, Как небо празднично в прорывах, Как торжества полна трава! Стихает ветер, даль расчистив, Разлито солнце по земле. Просвечивает зелень листьев, Как живопись в цветном стекле. B церковной росписи оконниц Так в вечность смотрят изнутри В мерцающих венцах бессонниц Святые, схимники, цари[361].Поэт описывает радостный, наполненный ликованием момент, который переживает природа после грозы. Прежде всего в разрыв туч проглядывает кусочек синевы. Яркий цвет влажных листьев вызывает аналогию с витражами, которыми украшены церковные окна. Из безбрежного пространства природы текст вдруг сужается до размеров витража. В тему природы внедряется тема художественного творчества человека. Как мы убедимся, это центральная тема всего цикла.
Художник изобразил человеческие фигуры – святых, схимников и царей – которые в напряжении молитвы и раздумья глядят в вечность. Вечность или большая глубина времени присуща духовному миру, непрерывному становлению природы, но также и поэтическому тексту, который способен превозмочь узость текущей жизни и устремиться в будущее. Автор «Доктора Живаго» хорошо это знает и указывает на это в последнем сборнике: «Рука художника… со всех вещей смывает грязь и пыль», пишет он в стихотворении «После грозы». «Жизнь, действительность и быль выходят преображенней из его красильни» и затрагивают читателей грядущих веков. Семантическая и звуковая параллель между словами «простор» и «собор» подготавливают ключевую для стихотворения метафору:
Как будто внутренность собора — Простор земли, и чрез окно Далекий отголосок хора Мне слышать иногда дано.В предпоследнем четверостишии появляется наконец «Я» автора, оно становится субъектом и протагонистом заключительных строк. Поэт способен видеть и выразить величие и гармонию бытия, сияющую красоту «здесь и теперь», чувство единства, созданное потоком жизни, в котором дрожит и вибрирует весь мир.
Природа, мир, тайник вселенной, Я службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной, B слезах от счастья отстою.Необъятное пространство земли сопоставляется с внутренним пространством собора. Голос природы, шорохи, пение птиц есть часть радостного священного хора, прославляющего Творца, и к этой службе, трепеща и плача от счастья, присоединяется поэт, его «Я».
В кратком, но чрезвычайно емком стихотворении Пастернак повествует о том, как он вновь обрел духовный покой в тот час, когда «разгулялась» природа. Благодарность Творцу за то, что ему даровано быть частью столь прекрасной вселенной, и за творческий дар исцеляет и личные, и общие раны.
Мы вышли за пределы повседневного бытия. То же самое происходит в заключительном тексте цикла, в стихотворении «Единственные дни». Поэт вспоминает красоту зимнего, подсвеченного солнцем дня, когда «нам кажется, что время стало».
И полусонным стрелкам лень Ворочаться на циферблате, И дольше века длится день, И не кончается обьятье.В этом стихотворении обнимаются влюбленные, но в контексте цикла это объятие, которым завершается вся книга, охватывает и благосклонную, прогретую солнцем природу, и задает перекличку с другим объятием из стихотворения «В больнице». Там поэт наблюдает через окно мир с зоркостью человека, стоящего на пороге смерти. Его душа благодарна живой природе, но в первую очередь Богу за «совершенство Его дел», за полученный от Него «бесценный подарок».
Эхом отзывается благодарное изумление Живаго в те творческие ночи в Варыкино: «Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний [Лары и Катеньки], сливаясь с чистотою ночи, снега, звезд и месяца в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования. «Господи! Господи! – готов был шептать он. – И все это мне. За что мне так много?…»[362].
В ожидании близкого конца проступают и другие смыслы:
…Я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, И прячешь, как перстень, в футляр.Слезы благодарности затуманивают зрение автора/лирического героя: он ощущает присутствие Бога, теплоту Его рук, оберегающих и защищающих его.
Христос в стихотворении «Гефсиманский сад» отрекается «как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства» и становится «как смертные, как мы». В стихотворении «В больнице» поэт, лишившись возможности пользоваться «бесценным подарком», превращается в обычного человека, но он защищен милостью и любовью Создателя. Смерть – не уродливый аспект жизни, но возращение в теплые руки Бога.
В этих трех стихотворениях поэт переживает и выражает момент благодати, в который жизненная энергия, глубокое чувство, радость, соединяющая его с миром природы и его Творцом, не иссякает, как не может иссякнуть и любовь внутри него самого. Дар – та творческая энергия, с которой он прославляет красоту и силу жизни, победу над всеми, кто хотел бы обеднить и уничтожить бытие.
Пролог к сборнику состоит из трех стихотворений, предвещающих и подготавливающих то, что поэт собирается сказать. Первое стихотворение «Во всем мне хочется дойти» прославляет поэтическую деятельность, неустанно направленную на постижение сути вещей:
Я б разбивал стихи, как сад. Всей дрожью жилок Цвели бы липы в них подряд, Гуськом, в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, Дыхание мяты….Метафора проясняется при чтении третьего стихотворения, «Душа»:
Душа моя, печальница О всех в кругу моем, Ты стала усыпальницей Замученных живьемВо «время шкурное за совесть и за страх», когда большинство писателей не решалось упоминать о понесенных потерях, душа Пастернака ширится, принимая в себя «замученных живьем», их плач, их страдание, запах смерти, и постигает, что страдание не было напрасным.
В цикле «Люди и положения» он писал: «Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет.
Надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывает забвение»[363].
Поэзия полна страдания, но из горя и смерти рождаются жизнь и творчество. В «Докторе Живаго» Пастернак писал: «В ответ на опустошение, произведенное смертью… ему хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить – красоту. Сейчас как никогда ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь»[364].
Как он писал в стихотворении «Земля», «тайная струя страданья» согревает «холод бытия». Все, что писатель испытал, увидел, перестрадал, становится «перегноем», плодородной почвой, дающей жизнь его поэзии, прекрасному благоуханному «саду».
Сердечная боль, принятая, переработанная в глубине души, смывает все поверхностное – жажду успеха, мирского признания, материальных благ. Остаются лишь чистые желания. Одно из них выражено в конце второго стихотворения («Быть знаменитым некрасиво»), в котором Пастернак противопоставляет эгоизму современных ему писателей собственное поэтическое кредо, концепцию творческой деятельности, единственной целью которой является «самоотдача».
И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только Живым и только до конца.Другое желание, как уже указывалось, – дойти до сути вещей. Пастернак видит такую возможность в поэтической деятельности, которую он в конце первого стихотворения сборника превозносит такими словами:
Достигнутого торжества Игра и мука — Натянутая тетива Тугого лука.Поэзия – натянутый, готовый к выстрелу лук, стрела его летит в самую суть вещей. Настоящее длится вечно: стрела всегда готова к полету в тот момент, когда читатель раскрывает книгу.
Метафора лука и тетивы уже прозвучала в письме от 25 ноября 1948 года балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву: «Дорогой Кайсын… Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми в любом положении, даже в горе… Прирожденный талант есть… школьное учебное пособие для достижения мира изнутри с его лучшей и наиболее ошеломляющей стороны. Дарование учит чести и бесстрашию… В вас есть эта породистость струны или натянутой тетивы, и это счастье»[365].
Та же концепция искусства присутствует в стихотворениях цикла «Когда разгуляется» и в романе. Герой романа, одинокий, горюющий после расставания с Ларой, формулирует это так: «За этим расчерчиванием разных разностей он снова проверил и отметил, что искусство всегда служит красоте, и красота есть счастье обладания формой… и таким образом, искусство, в том числе трагическое, есть рассказ о счастье существования»[366].
Когда разгуляется
Большое озеро как блюдо, За ним – скопленье облаков, Нагроможденных белой грудой Суровых горных ледников. По мере смены освещенья И лес меняет колорит. То весь горит, то черной тенью Насевшей копоти покрыт. Когда в исходе дней дождливых Меж туч проглянет синева, Как небо празднично в прорывах, Как торжества полна трава! Стихает ветер, даль расчистив, Разлито солнце по земле. Просвечивает зелень листьев, Как живопись в цветном стекле. B церковной росписи оконниц Так в вечность смотрят изнутри В мерцающих венцах бессонниц Святые, схимники, цари. Как будто внутренность собора — Простор земли, и чрез окно Далекий отголосок хора Мне слышать иногда дано. Природа, мир, тайник вселенной, Я службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной, B слезах от счастья отстою.Перевод с английского Любови Сумм
Тереза Оболевич
Онто-теологические основания эстетики: Плотин и Лосев[367]
1. Введение
Подобно другим философам Серебряного века, Алексей Федорович Лосев (1893–1988) на протяжении всего своего творчества интересовался вопросами эстетики. Стоит упомянуть хотя бы о его первых, юношеских эссе, посвященных философии музыки: «Два мироощущения. Из впечатлений после “Травиаты”» и «О музыкальном ощущении любви и природы. К тридцатипятилетию “Снегурочки”», написанных в 1916 г., книге «Диалектика художественной формы» (1927) и, наконец, его фундаментальной «Истории античной эстетики» (занимающей особое место не только в русской, но и мировой философской литературе), над которой Лосев работал, начиная с 60-х годов XX века до конца своей жизни. Дополнением его opus vitae были «Эллинистически-римская эстетика», «Эстетика Возрождения» и «Исторический смысл эстетики Возрождения». В 70-е годы возникли лосевские работы (изданные уже после его смерти), посвященные проблеме стиля.
Cвою преподавательскую деятельность Лосев также начал с чтения лекций на эстетические темы. В 1919 г. в Нижегородском университете молодой профессор, кроме прочих лекций, делал доклады о Бетховене, Вагнере, Римском-Корсакове, Чайковском[368].
В 20-е годы вел занятия (в музыкальном сопровождении преподавателей) в Московской консерватории и Государственном институте музыкальной науки, впоследствии переименованном в Государственную Академию художественных наук, где начиная с 1923 г. работала специальная комиссия, занимающаяся исследованием художественной формы. Лекции, прочитанные Лосевым в 1922–1925 гг., вошли в книгу «Музыка как предмет логики» (1927), которую специалисты оценивают как первую фундаментальную работу в русской философии музыки[369].
Следует добавить, что Лосев был не только теоретиком искусства, но и практиком. В юности он замечательно играл на скрипке, а в 20-е годы служил звонарем и регентом хора в одном из московских храмов. Эстетическая рефлексия Лосева затрагивала также вопросы реализма религиозного искусства, в том числе иконы.
Об эстетической концепции Лосева написано немало[370]. В настоящей статье я хотела бы сравнить его воззрения на эстетику, особенно на прекрасное, с мыслью Плотина (представленной в «Эннеадах», в особенности в трактате I, 6 – «О красоте» и V, 8 – «Об умопостигаемой красоте»), на которого часто ссылался русский философ.
2. Лосевское определение эстетики
Вначале рассмотрим, каким образом Лосев понимал сам предмет эстетики. Чаще всего классическая эстетика трактуется как философия прекрасного, т. е. философская рефлексия о природе и конкретных проявлениях красоты и искусства. Считается, что в качестве особой философской дисциплины она возникла довольно поздно – только в XVIII веке, когда Александр Баумгартен опубликовал знаменитую книгу «Aesthetica acromatica» («Эстетика, предназначенная для лекций», 1750–1758), в которой написал: «Цель эстетики – совершенство чувственного познания как такового, а это есть красота» (§ 14)[371].
Лосев не был согласен ни с одним из вышеперечисленных утверждений. Во-первых, он настаивал на том, что эстетика касается не только красоты или прекрасного. Во-вторых, мыслитель полагал, что «то, что в течение (…) почти двух тысяч лет, и даже более того, эстетика не была самостоятельной дисциплиной, нисколько не мешает построению истории эстетики»[372] античности. Проанализируем же оба тезиса русского философа.
Согласно Лосеву, предметом эстетики является выражение или символ, т. е. проявление внутреннего содержания, смысла (идеи, понимаемой как объективным образом, т. е. как укорененной в абсолюте, так и субъективно – как возникшей в человеческом уме) во внешнем, материальном модусе или стороне. Не подлежит сомнению, что такое понимание эстетики и ее предмета восходит к итальянскому философу Бенедетто Кроче (1866–1952), который в начале XX века привел дефиницию эстетики именно как науки о экспрессии, выражении[373].
Лосев считал, что основной категорией эстетики является как раз эстетическое[374], т. е. то, что относится к сфере выражения, символа. К нему относятся не только «красота» или «прекрасное» и «грация» (когда имеет место гармония идеи и ее выражения, внешней и внутренней стороны вещи), но и «безобразное», «низменное» (когда образ выражает нечто большее, чем это предполагает идея, напр., образ червя преувеличенно подчеркивает ничтожность, незначительность), «возвышенное», «пафос» (когда, в свою очередь, выражение не передает величия идеи, например образ звездного неба не отражает великолепия вселенной), «комизм» (который является реализацией категории низменного – в том случае, когда выражение, результат неадекватны ожидаемой цели, например бег клоуна без реальной необходимости) или «трагизм» (производная категории возвышенного, когда мы сожалеем, что такая величавая идея не была должным образом осуществлена, например благородный Эдип оказался отцеубийцей), а также «мера», «гармония» (указывающие на идеал, целостность вещи), «ирония» (такое выражение, которое искажает смысл идеи: «да», означающее «нет», и наоборот), «гротеск» (выражание фантастического характера), «игра» и т. п. Разнообразные категории составляют всевозможные аспекты «эстетического». В то же время они имеют онтологический характер, поскольку являются различными вариантами связи идеи-эйдоса и его выражения (т. е. явления) – либо их равновесия, либо той или иной дисгармонии этого отношения.
Для дальнейшей характеристики «эстетического выражения» следует рассмотреть одну из антиномий, которая представлена в книге Лосева «Диалектика художественной формы», а именно антиномию адеквации. Она гласит, что художественная форма, с одной стороны, предполагает некоторый первообраз, существующий независимо от нее (тезис), а, с другой стороны, что именно данная форма создает этот первообраз (антитезис). Художник осуществляет некую объективно существующую идею, однако, мы ничего не знали бы о ее существовании, если бы творец не воплотил ее в конкретном произведении. Отсюда следует, что художественная форма (в изобразительном искусстве, музыке, литературе и т. п.) одновременно и данность, и задание (что составляет синтез антиномии адеквации). Данная антиномия соотносится с указанной Лосевым в другом месте антиномией необходимости и творчества (т. е. свободы). Художественная форма является синтезом этих моментов, «раскрытием первообраза»[375].
Отсюда остается уже только один шаг до утверждения, что источником искусства является абсолют (Единое Плотина). «В основе всех и всяческих эстетических состояний, а значит, и в основе всех искусств лежит первичное бытие, характеризуемое (1) как непрерывная творческая текучесть и (2) как чистое познавательное неоформленное качество или смысл»[376]. Единое, первичное бытие или, скорее, сверхбытие лежит в основе всего сущего, в том числе, искусства, а также в основе вдохновения, творчества художника, который придает укорененным в абсолюте идеям материальную форму, сообразно области искусства, которой он занимается (например, живопись, скульптура, театральное представление, танец, литературный текст или музыкальная нотация). В этой связи данная материя приобретает в искусстве религиозное значение, преображается и даже обожествляется. Таким образом, можно сказать, что «истинная эстетика есть эстетика религиозного материализма»[377].
В свою очередь, Единое – на что указывал еще Плотин – отражается, выражается в космосе, который по этой причине также может рассматриваться в качестве предмета эстетики. В нем вечность и бесконечность проявляется в конечном, поэтому каждая вещь является выражением, символом всего космоса (эта мысль получила свое развитие в христианской патристике).
По представлению античных мыслителей, космос, природа подражает абсолютному первообразу и сам является предметом, образцом для подражания (μίμησις) для художников – «пророков муз», передающих людям то, что получили от высшей силы (δαιμόνιον):
Ведь не положено, чтобы образ прекрасного и сущности не был прекрасным. Известно, он повсюду подражает первообразу. К тому же он обладает жизнью и есть сущность, как подражание, и есть красота, как происходящее оттуда. И он вечно существует в качестве образа. Иначе один раз он будет его образом, а другой раз нет; и этот образ возник не при помощи искусства. Но всякий образ, являющийся таковым по природе, пребывает, пока пребывает образец[378].
В результате, для Плотина «нет существенной разницы между художественно-творящим человеком и самой природой, то есть в конечном основании нет разницы между искусством и природой»[379].
По этой причине античная эстетика отличается объективизмом. «Фантазия» не воспринимается здесь всего лишь как выдумка художника, но как эманация, выражение всеобщего логоса и потому имеет трансцендентальный характер[380]; художник «питается созерцанием божественной красоты, небесной софии»[381]. В то же время Лосев напоминает о том, что среди античных философов именно Плотин писал о том, что искусство, будучи выражением творческого Эроса, является первой ступенью для достижения умозрительного мира[382] и поэтому заслуживает уважения и признания. В «Эннеадах» можно прочесть:
Пусть лежат, допустим, камни в куче, один, если угодно, возле другого, причем один необработанный, непричастный искусству, другой же уже преодоленный искусством и превратившийся в статую бога или какого-нибудь человека (…). В таком случае камень, превратившийся от этого искусства в красоту формы [лика] (eidoys), оказался, надо допустить, прекрасным не от своего бытия в качестве камня (потому что иначе подобным же образом был бы прекрасен и другой камень), но от того лика, который вложило в него искусство[383].
Художник воспринимает идеальный первообраз, выражает его с помощью материальных средств и, в то же время, интерпретирует его. Искусство имеет метафизическое измерение[384], а настоящий художник есть и создатель, и воссоздатель (в наилучшем смысле этого слова), занимает как активную, так и пассивную позицию. Процесс творчества имеет теургический, богочеловеческий характер.
Художественное произведение, конечно, входит в область явлений природы, для которых необходимость характернее всего. Но в то же самое время от подлинного художественного произведения всегда веет какой-то свободой. Оно погружает нас в атмосферу беззаботной и привольной свободы[385].
Первообраз, даже в сфере одного и того же вида искусства, напр., скульптуры, может быть выражен множеством различных способов: «искусство усложняет и модифицирует первично ощущаемое им бытие, сгущает его, желая его оформить и преобразовать»[386].
Следовательно, искусство не столько имитирует или дублирует действительность, сколько, говоря словами духовного наставника А. Лосева, о. Павла Флоренского, дает «наиболее глубокое постижение ее архитектоники, ее материала, ее смысла»[387]. Это не «фотографическое» изображение реальности (впрочем, сама фотография как вид искусства не есть копирование, а образное изображение, передача не столько «лица», сколько «лика»). Такое понимание искусства восходит к отцам церкви, например знаменитым дебатам об иконопочитании, в которых решающий голос имели Феодор Студит и Никифор, a несколько ранее – к Псевдо-Дионисию Ареопагиту, который, в свою очередь, ссылался на учение о «внутреннем эйдосе» (τὸ ένδον εῖδος) Плотина (стоит отметить, что, согласно Лосеву, само понятие εῖδος следует переводить именно как «лик»[388]). В «Эннеадах» мы находим следующие слова:
Но как согласуется то, что относится к телу, с тем, что существует до тела? Как домостроитель, сличая построенное здание с его внутренним эйдосом, говорит, что дом красив? Не потому ли, что построенное здание, если отделить камни, и есть не что иное, как внутренний эйдос, раздробленный внешней материальной массой, который проявляется во множестве как неделимый[389].
Эстетический реализм ни в коей мере не противоречит условности искусства, а его познавательное или даже «эвристическое» значение согласуется с апофатизмом изображаемого предмета (т. е., в конечном счете, абсолюта). «Тайна искусства, можно сказать, заключается в этом совмещении невыражаемого и выражения, смыслового и чувственного, ‘идеального’ и ‘реального’»[390].
Каждое произведение искусства нуждается в определенном усилии для того, чтобы, с одной стороны, открыть его первообраз, а с другой – вывести, создать новые потенциальные значения. Отсюда, «искусство сразу – и образ, и первообраз»[391]. Вновь используя терминологию П. Флоренского, можно сказать, что оно одновременно и «эргон» (ἔργον – дело, т. е. нечто уже осуществленное), и «энергия» (ἐνέργειά – деятельность, т. е. творение, акт созидания)[392].
3. Онтологический характер эстетики
В своих рассуждениях о первообразе, который выражается в произведении искусства, Лосев подчеркивает онтологический характер эстетики, особенно эстетики античной. «Античная эстетика, вообще говоря, и есть не что иное, как античная философия»[393], в том числе онтология, поскольку
Эстетика здесь еще никак не отличается от общего учения о бытии, то есть от онтологии. Тем не менее она здесь не просто онтология, а только ее заверши-тельная часть[394].
В первую очередь, это относится к Плотину, эстетика которого является символизмом, т. е. выражением эйдосов в чувственных, материальных вещах:
Мы утверждаем, что здешнее [прекрасно] благодаря участию в эйдосе. Именно – все бесформенное, [однако] по природе способное принять форму и эйдос, будучи непричастным смыслу и эйдосу, безобразно и находится вне божественного смысла, то есть оно просто безобразно. (…) Поэтому привходящий [в материю] эйдос упорядочивает путем объединенного полагания то, что из многих частей должно стать [неделимым] единством (…)[395].
Следует отметить, что Лосев вслед за Плотином провозглашал единство бытия и прекрасного. Можно привести одно из наиболее характерных высказываний автора «Эннеад»:
Тамошная же потенция имеет только [чистое] бытие, и только [чистое] бытие в качестве прекрасного. Да и где может быть прекрасное, если лишить его бытия? С убылью прекрасного она терпит ущерб и по сущности. Потому-то бытие и вожделенно, что оно тождественно с прекрасным; и потому-то прекрасное и любимо, что оно есть бытие[396].
Лосев обращал внимание на то, что неоплатоновский тезис об онтологической обусловленности прекрасного и эстетики был развит в средневековье в виде теории трансценденталий, согласно которой «красота – это не дополнительный атрибут бытия, а его трансцендетальное качество, поскольку она тождественна с благом»[397]. Эту мысль мы можем встретить уже в трактате «О божественных именах» Псевдо-Дионисия Ареопагита, трактующего Бытие и Прекрасное как равнозначные имена (т. е. совершенства) Бога, a впоследствии – у св. Бонавентуры, св. Альберта Великого, св. Фомы Аквинского, Ульрика Страсбургского и Николая Кузанского, ссылающегося, опять-таки, на Псевдо-Дионисия[398].
Тезис об онтологическом измерении эстетики означает также, что наиболее важные метафизические категории имеют одновременно эстетический характер. Лосев классифицирует их в виде триады. По его мнению, эти категории могут иметь следующие значения: (1) выражаемого предмета, (2) выражающего принципа и
(3) самого выражения, являющегося результатом взаимодействия двух первых моментов. Субъект выражения (или символизирования) составляют т. н. общеэстетические категории, определяемые типом отношения «общее – частное». К ним Лосев относит, прежде всего, Единое Плотина, а также число, Нус, материю и тело. Объект выражения (выражающий принцип) построен по типу отношения «целое – часть», образуя определенные структуры, т. наз. дифференциально-эстетические категории, которые основываются на постепенном приращении (как в дифференциале) выражающих моментов, составляющих целое. Среди них философ упоминает математическую категорию гармонии, а также ее модификации: «становление» – стремление к реализации принципа гармонии в «иннобытии», т. е. за ее пределами, что соответствует категориям mimesis – подражания и katharsis – очищения (иногда причисляемым к категориям доэстетическим[399]), а также очередную стадию диалектического преобразования гармонии – «факт», который образуют т. н. элементарно-конструктивные категории (порядок, место, мера и фигура – в самом широком смысле этого слова: лик, тип, эйдос и идея) и композиционно-конструктивные категории (пропорция, симметрия и ритм). Наконец, результат выражения – само выражение как таковое – относится к т. н. интегрально-эстетическим категориям, в которых имеет место равновесие, тождество выражаемого и выражающего моментов. Это модусы софии-премудрости[400], являющейся моделью реализации, осуществления, энтелехии. К этим категориям относится также прекрасное и его видоизменения (безобразное, ирония, комизм, трагизм и т. п.) и эстетическое и этическое понятие калокагатии[401] (красоты-и-блага). Лосев полагал, что высшим пределом вышеперечисленных категорий является Единое неоплатоников, в котором «выражаемое и выражающее не только совпадают, но совпадают в одной неразличимой точке»[402]. Нижний же предел составляет материя (ὕλη) как потенция всяческого оформления, а следовательно – также выражения, на что указывал Аристотель, а вслед за ним Плотин: «Кто увидел прекрасное в телах, должен не оставаться на этом, но должен, в сознании, что это – [только] образы, следы и тени, бежать к тому, в отношении чего это является образами»[403].
4. Музыкальная эстетика
Наконец, плотиновские мотивы появляются у Лосева в его рассуждениях на тему музыки, которую философ рассматривал как символ или выражение (причем в двойном смысле: и как объективное выражение абсолюта, и как выражение разнообразных, порой противоречивых, человеческих чувств). Музыка, с одной стороны, выражает, проявляет сакральную сферу, а с другой – демонстрирует ее апофатический, непостижимый характер.
Музыка погружает в Тьму Бытия, где кроются все начала и концы, все рождающее и питающее, материнское лоно и естество Вселенной. (…) Абсолютное Бытие музыки есть одинаково бытие мира и Бога. (…) В музыке нет небожественного[404].
Неслучайно античные и средневековые мыслители учили о музыке сфер, т. е. божественной гармонии, проникающей всю вселенную. В XX веке о божественном измерении музыки писал, среди прочих, современник Лосева, Ганс Урс фон Бальтазар в работе «Раскрытие музыкальной идеи: Опыт синтеза музыки»[405].
По убеждению Лосева, источником музыкального бытия, как любого произведения искусства, является Единое[406] неоплатонизма (или, говоря религиозным языком – Бог). Более того, музыка находится «ближе всего к перво-художеству» и «воплощает не образы становления, но само становление как такое»[407], т. е. отражает динамику, активность абсолюта в текучей мелодии.
Музыка есть изнутри ощущаемое самосозидание жизни, внутренне создаваемая стихия самовозникающего бытия. (…) Я утверждаю, что такая жизнь свойственна только Божеству, Абсолюту, что музыка есть не просто субъективное ощущение, но попытка дать субъективно-божественное самоощущение, образ того, как Абсолют ощущает сам себя[408].
По этой причине Лосев считал музыку наиболее возвышенным видом искусства. В его иерархии, выше музыки находится только молитва[409]. Будучи укорененной в абсолюте, она способна преодолевать расстояние между Богом и миром. Стоит привести весьма красноречивое высказывание Плотина:
Музыкант – это человек, чрезвычайно восприимчивый ко всяческой красоте, испытывающий упоение и восторг в присутствии прекрасного (…); ему противно все, что дисгармонично в мелодиях и ритмах; он всегда и во всем стремится к соразмерности и мере. Эта врожденная способность и должна послужить отправным пунктом для подобных людей. Поскольку их ведут оттенки, ритмы и пропорции чувственных вещей, им следует учиться отличать эти материальные формы от форм истинно-сущих, которые являются источником этих первых: их нужно направлять к той истинной красоте, что проявляется через подобные формы; им нужно показать, что их восхищение было вызвано ни чем иным, как гармонией и красотой сверхчувственного мира ума, не каким-либо отдельным проявлением красоты, но самой абсолютной красотой; и эти философские истины должны быть им разъяснены, дабы вести их к вере в то, что не познав это, они не познают и самих себя[410].
Лосев, в свою очередь, утверждал:
В чистом музыкальном Бытии потонула бездна, разделяющая оба мира. Музыкально чувствовать – значит не знать отъединенности Бога и мира. Музыкально чувствовать – значит славословить каждую былинку и песчинку, радоваться жизни Бытия, – вне всяких категорий и оценок. (…) Жить музыкально – значит молиться всему[411].
Иными словами, музыка для Лосева является особым родом экстаза, упоения, восхищения, и потому – мирским, секулярным аналогом молитвы, установления связи с абсолютом. Из всех видов искусств она наиболее благородна.
* * *
Подводя итоги вышесказанному, следует подчеркнуть, что и для Плотина, и для Лосева эстетика (практически отождествляемая с онтологией) имеет трансцендентное, сакральное измерение. Все эстетические (т. е. выразительные, символические) категории во главе с понятием прекрасного являются теми или иными видоизменениями абсолюта. В этой связи эстетика Лосева – глубоко христианского мыслителя – может рассматриваться как «богословие красоты», которое означает «рефлексию о природе прекрасного в его отношении к Богу»[412].
Карел Сладек
Философско-богословские размышления о красоте в работах Николая Лосского[413]
В этой работе я представлю концепцию красоты, представленную у Николая Онуфриевича Лосского. Начнем с краткого описания его биографии. Николай Онуфриевич Лосский родился 6 декабря 1870 года в местечке Креславка на территории современной Латвии[414]. Когда ему было 15 лет, он был увлечен революционными идеями социалистов. В этот период он осуждал веру и церковь, как, в сущности, многие русские интеллектуалы ХIХ-го и начала ХХ-го века. В первый раз он эмигрировал (добровольно) и вел жизнь сочувствующего революционным кругам в Швейцарии и Франции, где он даже примкнул к Иностранному легиону. В конце концов, разочарованный, голодный и без денег, он вернулся в Россию пешком через всю Европу. Он завершил свою учебу в классической гимназии и поступил на отделение естественных наук Физико-математического факультета Санкт-Петербургского Университета. Он все еще был атеистом, но с течением времени математическая атомистическая концепция мира перестала удовлетворять его. В 1894 г. вод влиянием А. А. Козлова, представителя «неолейбницианства», он поступил на Историко-философский факультет Санкт-Петербургского Университета. Там он увлекся А. И. Введенским и В. С. Соловьевым[415]. Лосский стал подробно заниматься в своей научной работе человеческим сознанием, в частности, человеческим «Я». Он изучал интеллектуальную жизнь человека как результат взаимодействия психической деятельности составных частей тела (например, нервной системы) и психической деятельности человеческого «Я» как высшего организующего фактора. Его система называется волюнтаризмом, потому что она утверждает, что каждое изменение в «моей» области психической деятельности происходит как акт воли. Он вернул себе христианскую веру главным образом под влиянием П. А. Флоренского и его основного сочинения «Столп и утверждение истины».
В 1917 г. для жизни Лосского, безусловно, трагическим ударом стала Октябрьская революция в России. В 1922 г. его уволили с кафедры философии как сторонника антиреволюционной и реакционной буржуазной идеологии. Он был арестован во время крупной облавы на российских интеллектуалов, и как личность, бесполезную для социализма, его ожидала смерть. В конце концов, его вывезли из России на «Философском пароходе», и он вместе со своей семьей прибыл в Прагу. Он активно работал в Чехословакии до конца Второй мировой войны, во время которой он жил в Словакии[416]. В 1945 г. Лосский покинул Чехословакию и после короткого пребывания в Париже был приглашен в Нью-Йорк в качестве профессора философии. Лосский преподавал в различных университетах США и Канады. Он умер в почтенном возрасте 95 лет в Париже в 1965 г.
В этой статье изложены рассуждения Лосского о красоте, написанные главным образом во время его пребывания в Первой Чехословацкой Республике. Сначала я представлю в теоретическом виде концепцию красоты в философско-богословских размышлениях Лосского, затем рассмотрю подробно роль красоты в созерцании и святости преображенного человека, а в конце классифицирую красоту в сформулированных Лосским критериях достоверности мистических видений.
Введение: красота в философско-богословской рефлексии
Красота по-разному интерпретируется различными философскими школами. Лосский столкнулся с этими направлениями мысли в то время, когда он пытался отстаивать красоту в ее трансцендентном духовном качестве. Красота в том виде, как он ее воспринимал, всегда связана с добром и истиной. Статья Лосского, на которую я буду опираться, под названием «Критика философских направлений в эстетике», написанная для словацкой «Философской антологии», была последней главой задуманной им работы по эстетике под названием «Мир как осуществление красоты». Направлениями суждения в эстетике, которые критиковал Лосский, являются релятивизм, физиологизм, психологизм и эстетический формализм. Согласно Лосскому, красота является общезначимой ценностью для каждой эпохи и несет нормативный характер. Заблуждение релятивизма, физиологизма и психологизма связано, согласно Лосскому, с неправильной гносеологической интерпретацией, которая не признает возможности объективного признания ценностей и обусловлена только поверхностными субъективными чувствами и психическими процессами[417].
«Красота является ценностью, принадлежащей особому духовному или психическому бытию, которое имеет положительный смысл и воплощается в жизнь чувствами», – размышляет Лосский и добавляет: «Каждая жизнь, каждое человеческое существо, каждая ситуация, проживаемая человеком, даже в бедности и безобразии, скрывает положительный смысл в своей глубине и, следовательно, содержит в себе аспект красоты. Однако увидеть эту красоту в реальной жизни представляется очень трудной для нас задачей».[418]
Для Лосского эстетика, подобно логике или этике, является наукой об объективных и нормативных ценностях, тогда как высшее выражение красоты он находит в христианском мировоззрении, где возможность пути к совершенству присутствует всегда, даже в сильно ухудшающейся ситуации, где красота побеждает безобразие зла добром[419].
Подобным же образом Лосский начинает свое размышление в статье «Искусство», утверждая, что существенным содержанием искусства является красот[420]. Согласно Лосскому, искусством может быть только то, что связано с религией и ее абсолютными ценностями, или, точнее, с Богом. Это единственный путь, на котором искусство может развить все возможности человека – ум, волю и чувство[421].
Красота как посредник между знанием объективных ценностей и путем человека к Богу является также движущей силой развития во всем творении. Это красота, которая участвует во внутренней склонности к совершенной форме, в которой можно было бы осуществить личное сознание и ценности Царства Божьего. В книге «Достоевский и его христианское миропонимание» Лосский писал:
«Красота есть конкретность воплощенной положительной духовности в пространственных и временных формах, пронизанных светом, цветами, звуками и другими чувственными качествами. Воплощение духовности есть необходимое условие полной реализации ее. Отсюда следует, что красота есть великая абсолютная ценность, завершающая остальные абсолютные ценности, святость, нравственное добро, истину, мощь и полноту жизни, когда они достигают совершенного конкретного выражения вовне. Через красоту открывается ценность всех остальных видов добра в особенно увлекательной форме. Поэтому, влияя без приказаний, без заповедей, без нарушения свободы, красота может преодолеть не только обыденный эгоизм, но и титаническую гордыню: она может побудить человека забыть свое самолюбивое я и самоотверженно служить добру»[422].
Лосский предупреждает об аскетическом аспекте красоты в вышеупомянутой цитате. Когда человек откроется ей как абсолютной ценности Бога и внутренне будет взаимодействовать с ней, он приобретет средство для своего духовного роста. Красота поддерживает человека в его духовной борьбе с эгоизмом и злом, внутренне очищает его – и именно красота сияет в человеке, идущем по пути святости.
Красота в созерцании и святости преображенного человека
Согласно Лосскому, аспект красоты непосредственно присутствует в каждом человеке и, как я упомянул в предыдущем разделе, она является посредником на пути к совершенству. Когда Лосский рассматривал жизнь и творчество Достоевского в этом контексте, он отметил: «Все существа имеют в себе аспект красоты, или первозданной, или связанной с движением их к совершенству, или, по крайней мере, с обнаружением мирового смысла. Во всем мире можно найти красоту и полюбить мир»[423].
Приведенная мысль Лосского соответствует богословской антропологии, в которой «образ Бога все еще присутствует в человеке, хотя после падения Адама он скрыт и ослаблен, следовательно аспект красоты в первоначальной форме находится в глубине человеческого существа. В то же время, после первой оплошности человек тяготеет к совершенству и святости, и когда он привязывается к совершенной красоте образа Бога», осуществленной в воплощении богочеловечества Христа, он способен осознать и осуществить красоту в своей духовной жизни. В последнем предложении цитаты Лосский отстаивает возможность естественного созерцания красоты в тварном мире, которая открывает путь к Творцу[424].
Красота как абсолютная ценность участвует в духовной борьбе с порабощающим эгоизмом и злом во время духовного развития личности. Процесс очищения от эгоистических стремлений, просвещение красотой божественной действительности и союз с ней есть, согласно Лосскому, единственный путь к совершенству и святости. Человек неожиданно получает способность проникновения в суть вещей или видения сверхъестественного мира на углубленном уровне. Он получает дар пророческого ясновидения, способность чувствовать себя в других и видеть единство всех вещей – что представляет собой явления, объективность которых Лосский пытался отстаивать во всех своих работах. Внутренне очищенный человек – как человек, согласно православному богословию, обоженный нетварными энергиями, – осознает красоту как реальное присутствие невидимого мира, который прорывается во время и пространство. «Без сомнения, каждый из нас в меру своей любви к добру или нужды в его откровении более или менее приобщается к видению отблесков этого Царства, например в том возвышенном восприятии красот природы или красоты человека, которое наполняет душу несокрушимою уверенностью в бытии Бога и Царства Его»[425].
Однако Лосский предостерегал против любых поисков духовных явлений без очищения сердца, потому что человек может неожиданно вызвать активность низших стихий, ответственных за нервные центры, что может привести к раздвоению личности, истерии или другому действию зла[426]. Красота как абсолютная ценность привлекательна и для ее фальсификаторов.
«Красота есть величайшая ценность. Поэтому и подделки ее наиболее соблазнительны и наиболее опасны. Нужна большая чуткость, чтобы уберечься от них.»[427] Несмотря на этот факт Лосский оставался оптимистом, заявляя чуть далее: «Однако есть основания утверждать, что даже и тот, кто поддается приманке ложной красоты, рано или поздно открывает ложь, когда освобождается от извращенных чувств. Поэтому в конце концов подлинная красота способна победить и спасти мир»[428].
Воплощенный идеал красоты в том виде, как его воспринимал Лосский, представляет собой духовную жизнь, связанную с принятием абсолютных ценностей. Стремящееся к совершенству существо становится прекрасным и духовно здоровым, что Лосский подтверждает на примере литературных героев из произведений
Ф. М. Достоевского, которые привлекают многих людей своей симпатией и любовью; в особенности он разбирает известных литературных героев старца Зосиму и Алешу Карамазова, Макара Ивановича и Софью Андреевну Долгоруких и других. Из всех этих героев давайте уделим немного внимания фигуре Алеши Карамазова, пример которого показывает, что красота, преобразующая человека, может передаваться среди людей. Это переживание красоты молящегося человека (в данном случае матери Алеши), которое даже позже помогает распознать красоту истинного святого (в приведенной ниже цитате – старца Зосимы).
«Среди всех воспоминаний, которые запомнились ему на всю жизнь, было обаятельное и прекрасное лицо матери, молящей за него Богородицу и протягивающей его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице. Поэтому он пришел в город к отцу узнать, где находится могила матери. Там он встретил старца Зосиму и ушел в монастырь, потому что поверил, что Зосима был святым и что в его сердце скрывался секрет преображения для каждого».[429]
Способность красоты духовно преображенного человека передаваться между людьми представляет собой явление, часто обсуждаемое у русских авторов, особенно в связи с историей о встрече крупного помещика Н. А. Мотовилова со святым Серафимом Саровским, обойти которую Лосский не мог. Ощущение такого межличностного видения озарения Духом Святым, с чем познакомил Серафим Саровский своего духовного сына, возможно при условии изменения телесных чувств, которые становятся совершенными при контакте с Царством Небесным. Ослепительная красота лица святого, преображенного Святым Духом, сделала божественными чувства Н. А. Мотовилова, чтобы он также мог видеть красоту отношений в Царстве Небесном. Лосский пишет об этом: «В Царстве Божием, где нет процессов отталкивания, преображенная телесность создается совместными творческими актами многих деятелей без всякого противоборства и стеснения их друг другом; она состоит из чувственных качеств чистых, совершенных, гармонически соотносящихся друг с другом, воплощающих абсолютную красоту»[430].
Преображенная телесность наделяется новыми качествами для движения вперед по своему духовному пути, а также получает как дар людей из окружения. Одним из даров очищенной души является пророческое ясновидение, которое часто рассматривал Лосский. Способность проникновения в состояние души другого существа – это всегда дар божий, который человек должен принимать со смирением. Лосский всегда рекомендовал отдавать предпочтение возникающему благу красоты, а не знанию темных сторон души другого человека.
«Святые обыкновенно обладают даром глубокого проникновения в чужую душевную жизнь и способностью ясновидения. Это та черта их, которая обозначается термином прозорливость»[431],– писал Лосский и добавлял: «Святой прозорливец видит тёмные закоулки души человека, но он предпочитает то состояние соединения души с Богом, при котором мир открывается ему в аспекте добра и красоты»[432].
Красота преображенного лика до сих пор занимает центральное место в восточнохристианской мистике. Многие святые видели в мистических видениях совершенство прекрасного лика Христа, Божьей Матери или святых. Реальные и достоверные мистические видения всегда прекрасны, а красота является одним из критериев достоверности мистических видений, что всегда осознавал Николай Лосский.
Красота как критерий достоверности мистических видений
Я посвящаю последнее краткое размышление красоте как отличительному критерию достоверных мистических видений. Николай Лосский рассматривал мистическое зрение в статье «О мистической интуиции», которая была опубликована как последний раздел труда «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция». В своих размышлениях о красоте мистического события Лосский часто опирался на опыт монахини-кармелитки Терезы Авильской, у которой он находил ослепительное сияние красоты в видении воскресшего Христа.
«Описывая свою жизнь, она говорит, что видела Его «яснее, чем телесными глазами», и, хотя с тех пор прошло 26 лет, ясно помнит, как будто видит Его лицо. Когда религиозная жизнь её окрепла, у неё было множество видений. Однажды она видела руки, потом лицо Иисуса Христа «в сверхъестественной славе и красоте»; наконец, она увидела всего Христа, как Он изображается в «Воскресении»; белизна и блеск Его превосходили человеческое воображение, ясность солнца в сравнении с Ним – тьма; тем не менее этот блеск не ослепляет»[433].
Видение Христа характеризуется красотой его освещенного светом лица или всего его тела. Напротив, видение врага Христа – Сатаны – сопровождают безобразие и тьма. Противоположность красоты и безобразия, таким образом, является критерием для распознания источника видения: исходит ли оно от Христа или Сатаны. Как описывал это явление Лосский, видения Сатаны у Терезы сопровождались отвращением и безобразием, которые оставляли сухость и беспокойство: «Были у неё иногда и видения царства зла. Однажды она видела дьявола: у него был отвратительный рот, пламя исходило из его тела»[434].
Помимо видения Христа, можно также обрести прекрасное видение Богоматери, ангелов и святых. Как православный мыслитель Лосский также описывал явления Девы Марии в Лурде и Ля Салетт, над которыми Католическая церковь размышляет до сих пор. Лосский внимательно изучил явления света, описанные детьми, ослепительную красоту и характер видения женщины. Он также обратил внимание на миссию Богородицы, предостерегающей о негативных последствиях секуляризации[435].
Кроме критерия красоты на объективном уровне, Лосский предложил в качестве дополнительных критериев достоверности мистических видений способность человека, пережившего видение, рационально отличать это переживание от галлюцинации, дальнейшие свидетельства духовного роста без признака патологий и, в особенности, тот факт, что человек после достоверного видения характеризуется смирением и любовью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В своей статье я сделал попытку поразмышлять над основными характеристиками красоты как абсолютной ценности в понимании русского мыслителя Николая Онуфриевича Лосского. Лосский включил красоту в свое христианское мировидение. Явление красоты, онтологически связанной с добром и истиной, предвещает реальность Царства Божьего, по сравнению с которым явление Царство Зла лишь искажает красоту, в являя таким образом безобразие, зло и ложь. Красота воплощается в течение духовного роста стремящегося к совершенству человека, и на более высоких стадиях человек может обрести подлинные видения красоты прославленного Христа, Богородицы или святых.
Перевод с английского Олега Агаркова
Катарина Брекнер
Красота и искусство у В. Соловьева и С. Булгакова. Спасет ли красота мир?[436]
Она (София) прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в сравнении со светом она выше.
(Книга Премудрости 7:29)На одной из своих многочисленных лекций Соловьев упомянул о знаменитой иконе Софии Божьей Премудрости в кафедральном соборе Новгорода, воскликнув: «Кто же это восседает с царственным достоинством на престоле, если не Святая Премудрость, истинный и чистый идеал самого человечества, высшая и всецело соединенная с Богом, воссоединяющая в себе все сущее во временном мире». В другом месте он заметил: «…всякая сознательная действительность человеческая, определяемая идеею всемирной сизигии и имеющая целью воплотить всеединый идеал в той или другой сфере, тем самым действительно производит или освобождает реальные духовно-телесные токи, которые постепенно овладевают материальною средою, одухотворяют ее и воплощают в ней те или другие образы всеединства…»[437]
«Я никогда не видел глаз прекраснее и задумчивее, чем у него. Его (Соловьева) лицо выражало победу духовного над животным» (воспоминание М. Ковалевского, цитируемое в предисловии к книге Л. и Т. Сытенко Владимир Соловьев в преемственности философской мысли[438]).
Философствовать для христианина значит принадлежать к двум крайностям – к пророкам и философам, оказаться посередине между иудеем и эллином, разрываться между двумя противоположностями: трезвой и рациональной речью философов и исступленными восклицаниями и видениями пророков. Теософское мышление Соловьева также было воспламенено верой и направлялось чаянием невозможного, вечно грядущего невозможного. Действительно, возможность невозможного было предметом философского поиска Владимира Соловьева: как он утверждал, человек никоим образом не является сам по себе целью, но призван творчески воссоединить Тварь и Творца. Соловьев твердо был убежден, что творение не завершено: особенно в пятой книге Истории и будущности теократии (1885–1887)[439] он однозначно писал о том, что тварь ожидает сознательного человеческого соединения ее с Богом, которое он называет «всеединством»[440]. «Всеединство», объемлюще «объективную истину», «объективное благо» и «объективную красоту», стало теософской программой Владимира Соловьева и в то же время – пророчеством, вслед за Федором Достоевским гласящим, что «красота спасет мир»[441].
В своей незаконченной Теоретической философии (1897–1899)[442]
Соловьев доказывает, что человеческое «мышление» преследует раскрытие «объективной истины», «деятельная воля» желает достичь «объективное благо», а «чувство» стремится к «объективной красоте»[443]. Уже в докторской диссертации Критика отвлеченных начал (1877–1880) он наметил образ «всеединства», объединяющего «благо», «истину» и «красоту» как объективные начала. Ни «отвлеченные», ни «отрицательные» формы познания не могут постичь эти начала, поскольку они суть элементы самого течения жизни, обладают «жизненным характером»[444]. Истина и красота некоторым образом присутствуют в жизни каждого человека. Однако, по Соловьеву, красота – это не качество, не некое свойство сущего, она не возникает случайно, она субстанциальна. Он утверждает, что «красота» и «благо» – как сиамские близнецы, и предрекает, что красота преобразит «вещественное бытие» в «нравственный порядок»![445]
Если же нравственное устроение жизни может быть достигнуто благодаря красоте, то она должна быть деятельно достижима всеми и всегда, иначе «благо» и «красота» сведутся к какому-то элитарному признаку. Чтобы глубже понять это убеждение Соловьева, я кратко рассмотрю, что он понимал под прекрасным, и параллельно представлю его теорию красоты. Далее в данной статье я попытаюсь понять, как следует понимать спасение посредством красоты.
Солнце первого дня миротворения представляет «всеединство». Оно льет лучи света на все сущее[446]. Когда природа освещается солнечным светом, в ней может возникнуть красота. Так, например, алмаз как камень сам по себе не прекрасен, и только когда солнечный свет преломляется в нем, тогда возникает красота. Простой камень становится драгоценным, прекрасным[447]. Иначе ту же мысль можно выразить в форме аксиомы: просветление природы солнцем, космическим выразителем «всеединства», указывает на соединение совершенно независимых друг от друга частей, что Соловьев называет сизигией (парностью). В принципе, красота – это своеобразная сизигия, сочетание независимых друг от друга явлений, в то же время указывающее на высшее их единство[448].
Солнце – первичный источник красоты: Соловьев здесь использует символику Якоба Беме (изначально – Платона), связывающего Единое, источник любви, со светом. Что солнце – для космоса, то человеческое сознание – для мира вообще. Человек – самое «прекрасное» из всех созданий именно потому, что он – самое сознательное существо. В нем проявляется «солидарность духовных и материальных, идеальных и реальных, субъективных и объективных факторов и элементов вселенной»[449]. Человеческий разум, утверждает Соловьев, основывается на идеях, а те, в свою очередь, суть вершина мышления и чувства. Отношение между животным и человеческим сознанием аналогично отношению красоты в природе или жизни и красоты художественной[450]. Искусство пересоздает действительность, являя в ней «Божественное начало»[451], свидетельствуя о поиске человеком свободы, а именно свободы от цепей природной причинности[452].
К сожалению, Соловьев не создал теории искусства или красоты. Однако в его трех коротких эссе – Смысл любви (1892–1894), Красота в природе (1889) и Общий смысл искусства (1890) – содержатся важные элементы теории красоты. Наиболее существенным мне представляется то, что он не разграничивает жестко жизнь и искусство, но говорит об искусстве, словно оно тождественно жизни. Красота как в жизни, так и в искусстве основана на ясных идеях, которые духовно преображают природу, творчески созидают естественную жизнь и придают всему подлинный смысл. Таким образом, красота «служит бытию», ведь поскольку красота существует, она снова и снова воплощает идеи, воссоединяет идеальное и реальное, объективное и относительное.
В последней части Смысла любви говорится, что нам следует стремиться сообщить жизни полноту в «сизигическом единстве» и изменить наше отношение к природе[453], что, конечно, соответствует экуменическим, экологическим и универсалистским требованиям современности. Изменение отношения предполагает конкретную деятельность. Что же именно подразумевается под этим призывом? Что общего у красоты и этого изменения отношения, и в чем оно заключается? На этот ключевой вопрос сам Соловьев не дал однозначного ответа. Чтобы ответить на него, необходимо творчески истолковать его теософию.
Обсуждая материалистическое мировоззрение и подвергнув марксистскую форму материализма основательной критике[454], молодой Соловьев в работе Еврейство и христианский вопрос (1884) ввел определение «религиозный материализм». Он выделил три формы «материализма». «Практический материализм» означает попросту приверженность эгоизму, гедонизму, низменной чувственности. Практический материализм теоретически разрабатывается в «научном материализме», как называет его Маркс. Третий тип – «религиозный материализм» – описывает еврейское мышление и национальный дух. Евреи не отделяют «духовное» от его материального воплощения: у «материи» нет своего особого бытия, она – ни Божество, ни дьявол, но недостойная обитель, в которой все же живет дух Божий. Верующий иудей понимал, что природа должна быть в полном распоряжении Бога[455]. Именно потому, что евреи глубоко верили в непрерывное общение между Богом, природой и человеком посредством одухотворения природы, они и были избранным народом, которому первому явился Христос. Однако, утверждает Соловьев, Христос потребовал от них двойного подвига, а именно, отказаться от национального эгоизма и от национального благополучия. Если бы они боролись с Римской Империей как мученики, они бы победили и соединились бы с христианством в общем торжестве. Вопреки этому евреи отвергли свой долг, а перед христианами встала та же задача – устроение Вселенской церкви[456], то есть созидание праведного общества, живущего в красоте, непрестанно одухотворяющей природу и общество путем просветления материи лучезарной ясностью идей. Изначально между духовным и материальным бытием нет дихотомии, но, напротив, дух и материя внутренне связаны друг с другом[457]. Вот почему создание красоты возможно всегда, везде и для всех. Нам нужно быть, как евреи, как алмаз, который в глубине тьмы являет свет. Человеческий разум должен ярко сиять в природе и из природы, воссоздавая красоту в ней. Именно так мы вновь предадим красоту природы в руки Божьи.
Любопытно, что и Творец предстает у Соловьева как сизигическая сила. В его концепции «всеединства» определение свойств бытия предполагает дуализм в самом Боге: природа присутствует в Нем, есть Его «образ» и «двойник»[458]. Природа и нетварна, как и Он сам, и в то же время тварна. Природа содержит в себе живое божественное бытие – тождественное Богу и отличное от него, поскольку природа – это также часть творения. Эта парадоксальная ситуация природы весьма загадочна. Сам Соловьев предложил разгадку лишь в скрытой форме. Согласно его эсхатологии, творение природы не завершено в Семь Дней, но продолжает приносить плод софийной синергии с Творцом. Именно поэтому человек, духовно животворя природу, должен изменить свое отношение к ней. Одухотворение природы не зависит от деятельности церкви и даже не подлежит какому-то конкретному церковному вероопреде-лению. Соловьев не приписывал церкви какой-либо особой роли в решении проблемы пробуждения красоты в природе, или, точнее, в побуждении человека к изменению отношения к природе ради приближения спасения. С другой стороны, церковное единство, грядущая Вселенская церковь как явление «всеединства», конечно, соответствует красоте. Здесь, несомненно, кроется суть его теософии, глубочайший смысл его пророчества.
Со-творение с Творцом, задача и способность человека пересоздавать красоту, изменив свое отношение к природе, конечно, принадлежит к сфере теургии. По этому вопросу Сергей Николаевич Булгаков вступил в дискуссию с Соловьевым и занял отличную от него позицию.
Начав, как он сам писал, с некоторого «мрачного революционного нигилизма»[459], Булгаков быстро стал признанным специалистом по марксистскому учению о прибавочной стоимости. Однако марксистский период его творчества длился очень коротко. Начиная с 1901 г. под влиянием Достоевского и Соловьева он обратился от изучения политических наук к богословию. В 1926 г. он стал деканом Свято-Сергиевского института в Париже. Он умер в Париже в 1948 г. В этой статье я не касаюсь трудов Булгакова до его изгнания из России, и даже до 1919 г. В этой статье я сосредоточусь на его критике взглядов Соловьева на теургическую магию красоты. Обсуждая соловьевское положение, что «красота спасет мир», Булгаков однозначно отверг заключающееся в нем представление о теургии, настаивая на том, что красота в природе и искусстве вовсе не «спасает мир». Конечно, красота приносит человеку удовольствие, иногда утешает его, но все же это утешение мало действенно и ничего существенно не меняет[460].
Булгаков составлял статьи, собранные в сборник Свет невечерний в 1916 году незадолго до своего рукоположения, в которых также затрагивается проблематика искусства и красоты; к тому времени он уже отбросил все нехристианские взгляды по всем вопросам. Красота – особая форма безусловной истины – необходимо должна склониться перед крестом и взять его на себя. Творчество идет «кремнистым путем»; в этом контексте Булгаков вспоминает о Симоне Киринеянине, которому возлагается на плечи крест помимо его воли. Освободиться от креста, то есть от трагедии, можно лишь ценой духовного паралича. Тогда место красоты[461], утратившей свой подлинный смысл, занимает притворная «красивость»[462]. Не существует красоты, созданной исключительно человеческими силами, и простая «красивость» не может удовлетворить притязаний художника на созидание совершенно новой действительности.
Создание «абсолютной действительности», форма которой есть красота, – это задача теургии. Булгаков поправляет Соловьева, говоря, что только нисхождение Бога в сей мир – истинная теургия, подлинно дает возможность для творения. Только действие Бога в этом мире означает теургию в собственном смысле слова. Конечно, человек со своей стороны также восходит к Богу, и это также творческий акт, однако он недостаточен. В сущности, теургия зависит от воли Божьей, и человек не может повлиять на нее своим вдохновением, вызвать ее своей религиозностью и т. п. Однако встреча божественного «теургического нисхождения» и, по выражению Булгакова, человеческого «софийного восхождения» создает возможность для совместного со-творения, для христианского чудотворения. Это сочетание восходящей и нисходящей воль Булгаков назвал «софиургией»[463], вводя, таким образом, понятие София. Итак, наконец, мы подошли к трудному вопросу: что или кто есть Божья Премудрость?
Большинство исследователей, богословов и философов, занимающихся творчеством Булгакова, согласны с тем, что у него следует различать тварную и небесную Софию (первая несет в себе образ последней), а также раннюю (более философскую) и позднюю (более богословскую) софиологии. В любом случае, обе концепции не до конца совместимы друг с другом[464]. Однако, как мне представляется, разрешение противоречий очевидно: Булгаков приписывает софийность (Божью Премудрость) всем Трем Лицам Пресвятой Троицы. Когда Христос, Богочеловек, соединенный с Софией, пришел в мир, небесная София стала «жизненным началом» для мира, дав ему возможность ипостазироваться. Ипостазирование означает возможность обрести ипостасность, т. е. воплотить Божественную сущность на земле. Булгаков рассматривает различные формы софийности, начиная от Бога и заканчивая ее высшим проявлением на земле, т. е. церковью[465]. В противоположность Соловьеву, Булгаков считал, что Бог поручил теургическую власть исключительно церкви. Каждый верующий также может причаститься Божественной Премудрости, поскольку таинство евхаристии предвещает ключ к постижению премудрости, теургии. Соответственно, обычный человек обладает теургической силой, если он принадлежит к церковной общине и поступает по-христиански[466]. Можно сделать вывод, что евхаристия хранит «софийное» знание, необходимое для преображения мира в красоту.
Человек при посредничестве церкви лишь «принимает» теургию, а вовсе не «творит» ее. При условии «духовного трезвения», «молитвенного горения» и «собранности всех сил духовных» человек может принять участие в теургической магии. При этом жертвенное самоотдание Богу – необходимое для этого условие[467].
Речь идет, таким образом, о «духовном искусстве»[468] и «духовной красоте»[469]. «Духовная красота» – не от мира сего, она связана с евхаристией[470], колыбелью жизни.
Мы приближаемся к завершению: «православие имеет основной идеал не столько этический, – утверждает Булгаков, – сколько религиозно-эстетический: видение “умной красоты”, которое требует для приближения к себе особого “умного художества”, творческого вдохновения»[471]. Итак, это «умное художество» не творит красоту из ничего, но черпает ее от Иисуса, преодолевшего хаос, безобразность и зло[472]. Художники иногда берут на себя роль пророков, и тогда их служение включается, как пишет Булгаков, в «ветхий завет Красоты», возвещающий грядущего «Утешителя». Однако его пришествие будет катастрофичным: прежде «тьма» должна сгуститься и возгореться «тоска по красоте»[473].
В заключении следует сказать, что красота у Булгакова и Соловьева – это выражение духовного единения тварного и нетварного, мира и Неба, субъекта и объекта, это восстановление красоты как эсхатологического понятия. Как Соловьев, так и Булгаков ожидали одухотворения природы и всего сущего или сотворенного. Это – необходимое условие грядущего царства красоты. Однако Булгаков сосредоточился на задаче церкви по воплощению Софии, явлении на земле красоты Божественной Премудрости.
Перевод с английского Кирилла Войцеля
Об авторах и редакторах
Карл Барт (Karl Barth)
Один из крупнейших и наиболее влиятельных богословов ХХ века (1886–1968). Автор «Послания к Римлянам», многотомной «Церковной догматики» и ряда других основополагающих бого словских трудов.
Ганс Урс фон Бальтазар (Hans Urs von Balthasar) Один из крупнейших католических богословов современности (1905–1988), кардинал и священник.
Алексей Бодров Кандидат физико-математических наук, ректор и главный редактор ББИ.
Катарина Брекнер (Katharina Breckner) Специалист по русской политической и религиозной философии. Автор многих публикаций. Проживает в Гамбурге (Германия).
Ансельм Грюн (Anselm Gruen) Монах бенедиктинского монас тыря в Мюнстершварцахе (Бавария, Германия), изучал философию и богословие в Риме, экономику в Нюрнберге. Автор более двухсот книг, изданных миллионными тиражами и переведенных на 30 языков.
Григорий Гутнер Доктор философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН, преподаватель ББИ и СФИ.
Эндрю Данстан (Andrew Dunstan) Аспирант Оксфордского университета.
Гуннар Иннердал (Gunnar Innerdal) Аспирант университета NLA (Берген, Норвегия)
Ромило Кнежевич (Romilo Knežević) Современный сербский богослов, аспирант Оксфордского университета. Автор книги «Время и познание: богословское прочтение Марселя Пруста», ряда статей по богословию.
Михель Ремери (Michel Remery) Научный сотрудник факультета Католического богословия Тилбюргского университета; специалист в области архитектуры и богословия, опубликовал ряд работ о связи между литургией и архитектурой.
Тереза Оболевич (Teresa Obolević) Доктор философских наук, зав. кафедрой философии и религии Папского университета Иоанна Павла II (Краков, Польша), автор книги «От имяславия до эстетики Алексея Лосева. Концепция символа» (изд. ББИ) и других работ, посвященных русской религиозной мысли ХХ века.
Симонетта Сальвестрони (Simonetta Salvestroni) Преподаватель русского языка и литературы Университета Кальяри (Италия). Изучала творчество итальянских писателей, семиотику культуры (М. Бахтин, Ю. Лотман). Автор книги о Ф. Достоевском и А. Тарковском (изд. ББИ).
Карел Сладек (Karel Slбdek) Заместитель декана и преподаватель факультета Католического богословия Карлова университета (Прага, Чехия), руководитель Центра Pro Oriente Christiano при этом факультете.
Кнут-Вилли Сэтер (Knut-Willy Sжther) Доцент университета Волда (Норвегия) и университета NLA (Берген, Норвегия); специалист в области философии религии, в особенности в сфере отношений между наукой и богословием.
Михаил Толстолуженко Сотрудник ББИ, координатор ряда проектов ББИ.
Каллист Уэр (Kallistos Ware)
Заслуженный профессор богословия Оксфордского университета, патролог, автор многих книг, переводчик «Добротолюбия», попечитель ББИ.
Пол Фидс (Paul Fiddes) Известный богослов, профессор систематического богословия в Оксфордском университете. Его книга «Творческое страдание Бога» считается одной из лучших богословских работ последних десятилетий ХХ века.
Дэвид Харт (David Hart)
Один из ведущих православных богословов, философ, преподавал бого словие в Университете св. Фомы, Колледже Лойолы и других американских университетах, приглашенный профессор Провиденс-колледжа, автор книги «Красота бесконечного. Эстетика христианской истины», изданной ББИ.
Примечания
1
Доклад был прочитан фон Бальтазаром в Американском католическом университете по случаю получения им степени почетного доктора 5 сентября 1980 г.
(обратно)2
Имеется в виду Wandrers Nachtlied II (“Über allen Gipfeln…”), известное у нас более всего в переводе Лермонтова («Горные вершины…»). – Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)3
Ср. англ. landscape – «ландшафт», «вид местности».
(обратно)4
Терцет Памины, Тамино и Зарастро в «Волшебной флейте».
(обратно)5
«Который нас ради человек и нашего ради спасения» (лат.).
(обратно)6
«Живущий человек – Слава Божья» (лат.).
(обратно)7
Готовится к изданию в ББИ.
(обратно)8
Также готовится к изданию в ББИ.
(обратно)9
Перевод А. Прокопьева.
(обратно)10
Сокращенная версия § 31.3 (“Gottes Ewigkeit und Herrlichkeit”) из Церковной догматики (Kirchliche Dogmatik II/1, S. 733–751).
(обратно)11
Наслаждаться, наслаждение Богом (лат.).
(обратно)12
Конечная цель человека (лат.).
(обратно)13
Непристойный (лат.).
(обратно)14
Пресыщенность (лат.).
(обратно)15
Конечная точка, начальная точка (лат.).
(обратно)16
Красота (греч.).
(обратно)17
Призывать (греч.).
(обратно)18
Metropolitan Kallistos of Diokleia, “Beauty will save the world”, in: Sobornost, Vol. 30 (2008), 7–20.
(обратно)19
Достоевский Ф. Идиот, ч. 3, гл. 5.
(обратно)20
Достоевский Ф. Братья Карамазовы, кн. 3, гл. 3.
(обратно)21
“Religion and Art”, in E.L. Mascall (ed.), The Church of God, An Аnglo-Russian Symposium by Members of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius (London: SPCK, 1934), 175.
(обратно)22
Cratylus, 416.
(обратно)23
Surprised by Joy: The shape of my early life (London: Geoffrey Bles, 1956), 22–24.
(обратно)24
Confessions 10:27.
(обратно)25
On the Divine Names 4:7, PG 3:704A; ed. B.R. Suchla, Corpus Dionysiacum I, Patristische Texte und Studien 33 (Berlin/New York: Walter de Gruyter,1990), 151–152; tr. Colm Luibheid and Paul Ro-rem, Pseudo-Dionysius: The Complete Works, The Classics of Western Spirituality (New York /Mahwah: Paulist Press, 1987), 77.
(обратно)26
In Librim Beati Dionysii De Divinis Nominibus Expositio, ed. Ceslaus Pera (Тurin/ Rome: Маrietti, 1950), § 349, 114.
(обратно)27
On the Divine Names 4:7, PG 3:701С; ed. B.R. Suchla, 151; tr. Luibheid and Rorem, 76.
(обратно)28
Unguarded Thoughts (London: Collins/Harvill, 1972), 66.
(обратно)29
Sacraents and Orthodoxy (New York: Herder & Herder, 1965), 73–74.
(обратно)30
Unguarded Thoughts, 76.
(обратно)31
Sacraments and Orthodoxy, 142.
(обратно)32
Victor Bychkov, The Aesthetic Face of Being: Art in the Theology of Pavel Florensky (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1993), 18.
(обратно)33
Bychkov, The Aesthetic Fase, 32.
(обратно)34
Carmina Nisibena, ed. G. Bickell (Leipzig, 1866), 122.
(обратно)35
Оn the Celestial Hierarchy 3:2, PG 3: 165B; ed. G. Neil and A.M. Ritter, 18; tr. Luibheid and Rorem, 154.
(обратно)36
8 November, Great Vespers, sticheron 2 on Lord, I have cried; tr. Isaac E. Lambertsen, The Minaion of the Orthodox Church, vol. 3, November (Liberty, T.N.: St John of Kronstadt Press, 1998), 59.
(обратно)37
Цит. по: Archimandrite Lazarus Moore, St Seraphim of Sarov: A Spiritual Biography (Blanco, TX: New Sarov Press, 1994), 144.
(обратно)38
The Russian Primary Chronicle, tr. S.H. Cross and O.P. Sherbowitz-Wetzor (Cambridge, MA: Mediaeval Academy of America, 1953), 111.
(обратно)39
“Religion and Art”, 191.
(обратно)40
Commentary on the Psalms 1:10–11 (PL 14:925–6).
(обратно)41
“Religion and Art”, 177.
(обратно)42
“Religion and Art”, 176.
(обратно)43
Letters and Papers from Prison: The Enlarged Edition, ed. Eberhard Bethge (London: SCM Press), 282.
(обратно)44
См.: Kallistos Ware, “La transfiguration du Christ et la souffrance du monde”, Service Orthodoxe de Presse 322, (November 2007), 33–37.
(обратно)45
Фрагмент из книги: Дэвид Харт, Красота бесконечного. Эстетика христианской истины, М.: ББИ, 2010. С. 22–43.
(обратно)46
См., например: Mikel Dufrenne, Phenomenologie de l’experience esthetique, 2nd ed., 2 vols. (Paris: Presses Universitaires de France, 1967); в этом, возможно, самом влиятельном и систематическом тексте о теории эстетики со времен труда Бенедетто Кроче Estetica (а то и превосходящем его) красота – традиционный эстетический критерий, в отношении которого автор не проявляет никакого постоянства. Хотя он хочет в каком-то смысле признать существование красоты, он не может найти для нее места в схеме эстетики; для него она остается, должно быть, по чти совсем не разработанной темой, которая неотступно преследует, хотя не может направить его феноменологию.
(обратно)47
По преимуществу (фр.).
(обратно)48
Сущность христианства (нем.).
(обратно)49
Для удобства (лат.).
(обратно)50
В переводе дается синодальная нумерация Псалмов. – Прим. пер.
(обратно)51
«Различие», в пер. Н. Автономовой – «различАние» (фр., графически измененное у Деррида). – Прим. пер.
(обратно)52
См.: Enneads 5.8.9, а также: E. Krakowski, L’Estetique de Plotin et son influence (Paris, 1929), 159.
(обратно)53
Balthasar, Glory of the Lord, 1:34.
(обратно)54
Rudolf Bultmann, Jesus Christ and Mythology (New York: Scribner, 1958), 15. (Рус. пер.: Р. Бультман, Избранное: Вера и понимание. М., 2004. С. 211–249. – Прим. ред.)
(обратно)55
Bultmann, Jesus Christ and Mythology, 17. Здесь, между прочим, Бультман воспроизводит заблуждение Гарнака и других, предлагавших считать, что рассказ о воплощении подчиняется драматической морфологии определенных существовавших до него гностических мифов о Спасителе; это, однако, носит крайне спекулятивный характер: не только не существует никакого свидетельства о существовании подобных мифов до христианства, но единственные гностические системы, в которых появляются такие мифы (а этих систем меньше, чем можно себе вообразить), – это системы, на которые очевидным образом повлияла христианская мысль.
(обратно)56
Bultmann, Jesus Christ and Mythology, 51.
(обратно)57
Взято из: Rudolf Bultmann, Glauben und Verstehen: Gesammelte Aufsatze, 4 vols. (Tubin-gen: J. C. B. Mohr, 1975), 2:137; цитируется в: Hans Urs von Balthasar, The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics, vol. 4, The Realm of Metaphysics in Antiquity, trans. Brian McNeil, Andrew Louth, John Saward, Rowan Williams and Oliver Davies (San Francisco: Ignatius, 1989), 27, n. 11.
(обратно)58
Дыхание, дух (греч.).
(обратно)59
Искорка (нем.).
(обратно)60
Полнота (греч.).
(обратно)61
Бездна Божья (нем.).
(обратно)62
Здесь, по странности, весьма кстати несколько замечаний Владимира Набокова, который никогда не уставал заявлять о своей неприязни к «символической» теории: «Понятие символа (…) всегда было для меня отвратительно (…) Символизм устраивает шумиху в школах (…) разрушает как чистый интеллект, так и поэтическое чувство. Он обесцвечивает душу. Он парализует всякую способность наслаждаться смешным и очаровываться искусством (…) С определенным типом писателя часто бывает так, что целый абзац или запутанная фраза существует как состоящий из частей организм со своей собственной образностью, собственными обращениями и призывами, собственным цветением, и тогда это особенно драго ценно, но и уязвимо, так что если посторонний, невосприимчивый к поэзии (…), насильственно вносит в нее поддельные символы (…), ее магия замещается пусты ми причудами» (Nabokov, Strong Opinions [Твердые суждения] (New York: Random House, 1973), 304–305). Отвлекаясь от суровой риторики, я бы хотел предположить, что, в известном смысле, Бог – это «определенный тип писателя».
(обратно)63
Знаки (греч.).
(обратно)64
Paul Tillich, Systematic Theology, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1967).
(обратно)65
Paul Tillich, The Dynamics of Faith. (New York: Harper, 1957), 51–52.
(обратно)66
В то время (лат.).
(обратно)67
Снятие (нем.); термин Гегеля. – Прим. пер.
(обратно)68
По преимуществу (фр.).
(обратно)69
Доклад на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)70
Tov – «хорошо».
(обратно)71
Kalos в зависимости от контекста может означать как «красивый», «прекрасный», так и «благой», «добрый». Так, например, название сборника духовных произведений православных авторов IV–XV веков Φιλοκαλία было переведено на русский язык как «Добротолюбие». – Прим. пер.
(обратно)72
“Schönheit, Theologische Realenzyklopädie” Bd. 30, Berlin: De Gruyter Verlag, 1999, р. 236.
(обратно)73
Ibid.
(обратно)74
Ibid., р. 242.
(обратно)75
Ibid.
(обратно)76
Доклад на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)77
Simone de Beauvoir, La Force de L’âge, Paris: Gallimard, 1986. P. 141–142.
(обратно)78
Dominique Janicaud, “The Theological Turn of French Phenomenology” in: D. Janicaud, (ed.), Phenomenology and the Theological Turn. The French Debate, trans. B.G. Prusak, New York: Fordham University Press, 2000. P. 17, [16-106].
(обратно)79
Эммануэль Левинас, «От существования к существующему», в: Эммануэль Левинас, Избранное. Тотальность и бесконечное, М., СПб, 2000. C. 33.
(обратно)80
Ibid., с. 158.
(обратно)81
Левинас, «Теория интуиции в феноменологии Гуссерля» в: Эммануэль Левинас, Избранное. Трудная свобода, М.: Российская политическая энциклопедия, 2004.C. 16.
(обратно)82
Левинас, «Тотальность и бесконечное», в: Левинас, Избранное. Тотальность и бесконечное. C. 158.
(обратно)83
Levinas, “Realité et son ombre” in: Collected Philosophical Papers, trans. & ed. A. Lingis, Hague: M. Nijhoff, 1987. P. 12.
(обратно)84
Иммануил Кант, Критика способности суждения, §§ 1, 6, 7.
(обратно)85
I. Murdoch, “The Sublime and the Beautiful” RevisitedO, repr. in: I. Murdoch, Existentialists and Mystics, ed. Peter Conradi, London: Chatto&Windus, 1997. P. 262; см. Иммануил Кант, Критика способности суждения, § 13.
(обратно)86
Кант, Критика способности суждения, § 7.
(обратно)87
Ibid., §§ 8, 28.
(обратно)88
Ibid., § 16.
(обратно)89
Levinas, Collected Philosophical Papers. P. 12.
(обратно)90
Левинас, От существования к существующему, в: Левинас, Избранное. Тотальность и бесконечное. С. 31.
(обратно)91
Ibid., c. 33.
(обратно)92
Emmanuel Levinas, Outside the Subject, trans. M. Smith, London: Athlone Press, 1993. P. 147.
(обратно)93
Левинас, От существования к существующему, в: Левинас, Избранное. Тотальность и бесконечное. С. 33.
(обратно)94
Ibid., c. 34.
(обратно)95
Ibid., c. 33–34.
(обратно)96
Levinas, Collected Philosophical Papers. P. 9–10.
(обратно)97
Emmanuel Levinas, God, Death and Time, trans. B. Bergo, Sandford: Sandford University Press, 2000. P. 39–40.
(обратно)98
Левинас, «От существования к существующему», в: указ. соч. C. 34.
(обратно)99
Levinas, Collected Philosophical Papers. P. 35.
(обратно)100
Ibid. Р.11.
(обратно)101
Levinas, Outside the Subject. P. 147.
(обратно)102
Gerald L. Bruns, “The Concepts of Art and Poetry in Emmanuel Levinas ‘Writings’” in: Simon Critchley and Robert Bernasconi, The Cambridge Companion to Levinas, Cam-bridge: Cambridge University Press, 2002. P. 218.
(обратно)103
Кант, Критика способности суждения, § 26.
(обратно)104
Ibid., §§ 23, 29.
(обратно)105
Ibid., § 25.
(обратно)106
Jean-François Lyotard, Lessons on the Analytic of the Sublime: Kant’s ‘Critique of Judgment’, trans. E. Rottenberg, Stanford, CA: Stanford University Press, 1994. P. 50–58.
(обратно)107
Левинас, «От существования к существующему», в: указ. соч. C. 37.
(обратно)108
Ibid., c. 38.
(обратно)109
Сам Левинас, иллюстрируя эту мысль, отсылал к статуям Родена: Левинас, «От существования к существующему», в: указ. соч. С. 32–33.
(обратно)110
Emmanuel Levinas, Nine Talmudic Readings, transl. A. Aronowicz, Bloominton: Indiana University Press, 1994. P. 41.
(обратно)111
Levinas, Nine Talmudic Readings. P. 47.
(обратно)112
Emmanuel Levinas, Otherwise than Being. Or Beyond Essence, transl. A. Lingis, 1974, Pitts-burgh: Duquesne University Press, 1998. P. 110–112.
(обратно)113
Levinas, “Meaning and Sense” in: A. Peperzak (ed.), Levinas. Basic Philosophical Writings, Bloomington: Indiana University Press, 1996. P. 49.
(обратно)114
Luce Irigaray, “Questions to Emmanuel Levinas” in: Margaret Whitford (ed.), The Iri-garay Reader, Oxford: Blackwell, 1991. P. 180.
(обратно)115
Levinas, Outside the Subject. P. 149.
(обратно)116
Ibid. Р. 147–148.
(обратно)117
Peperzak (ed.), Levinas. Basic Philosophical Writings. P. 64.
(обратно)118
Левинас, «Трудная свобода», в: Эммануэль. Левинас, Избранное: Трудная свобода. М., 2004. C. 334.
(обратно)119
Левинас пишет об этом в работе Beyond the Verse. Talmudic Readings and Lectures, trans. G.D. Mole, London: Continuum, 2007. P. 161–163.
(обратно)120
Левинас, «Трудная свобода», в: указ. соч. C. 447.
(обратно)121
David Bentley Hart, The Beauty of the Infinite. The Aesthetics of Christian Truth, Grand Rap-ids, Michigan: Eerdmans, 2003. P. 75–92. (Рус. пер.: Дэвид Харт, Красота бесконечного: Эстетика христианской истины. М.: ББИ, 2010).
(обратно)122
Левинас, «Тотальность и бесконечное», в: Левинас, Избранное. Тотальность и бесконечное. C. 74.
(обратно)123
Emmanuel Levinas, Ethics and Infinity, trans. R. Cohen, Pittsburgh: Duquesne Univer-sity Press, 1985. P. 85.
(обратно)124
Левинас, Тотальность и бесконечное, в: указ. соч. С. 198.
(обратно)125
Emmanuel Levinas, ”Ethics of the Infinite” in: Richard Kearney, States of Mind, New York: New York University Press, 1995. P. 197.
(обратно)126
Iris Murdoch, Metaphysics as a Guide to Morals. London: Chatto&Windus, 1992. P. 232–242.
(обратно)127
Iris Murdoch, “The Sublime and the Good”, repr. in: Murdoch, Existentialists and Mys-tics. P. 215.
(обратно)128
Iris Murdoch, The Bell, Harmondsworth: Penguin, 1962. P. 45. (Рус. пер. Айрис Мердок, Колокол. СПб: Северо-Запад, 1993).
(обратно)129
Ibid. P. 182. (Мердок, Колокол).
(обратно)130
Iris Murdoch, The Fire and the Sun. Why Plato Banished the Artists, Oxford: Clarendon Press, 1977. P. 76–77.
(обратно)131
Ibid. P. 267.
(обратно)132
Ibid. P. 220.
(обратно)133
Ibid. P. 268.
(обратно)134
Murdoch, ”The Sublime and the Good”, repr. in: Murdoch, Existentialists and Mystics. P. 215.
(обратно)135
Ibid. P. 37.
(обратно)136
Ibid. P. 344. Cf. Murdoch, The Bell. P. 308.
(обратно)137
Ibid. P. 343–344.
(обратно)138
Ср. Левинас, «Трудная свобода», в: Эммануэль Левинас, Избранное: Трудная свобода. C. 446.
(обратно)139
Развитие этой мысли см. в: Paul S. Fiddes, Participating in God: A Pastoral Doctrine of the Trinity, London: Darton, Longman and Todd, 2000. P. 28–55.
(обратно)140
“Христианство есть религия Божественности Троичности и религия Богочеловечества. Оно предполагает веру не только в Бога, но в человека. Человечество есть часть Богочеловечества” (Н.А. Бердяев, Философия свободного духа, Москва: Республика, 1994, с. 139).
(обратно)141
Ιωαννου Δ. Ζηζιοὐλα, Η κτίση ως ευχαριστία: Μια θεολογική ορθόδοξη προσέγγιση στο πρόβλημα της οικολογίας, Αθήνα: Ακρίτας, 1992, σ. 71.
(обратно)142
Philip Sherrard, The Sacred in Life and Art, Evia, Greece: Denise Harvey, 2004, p. 6.
(обратно)143
Philip A. Ballinger, The Poem as a Sacrament: The Theological Aesthetic of Gerald Manley Hopkins, Louvain: Peeters Press, 2000, p. 240.
(обратно)144
Джеймс Джойс, Герой Стивен, XXIV. [Цит. по изданию: Дж. Джойс, Герой Стивен. Портрет Художника, Москва: Минувшее, 2003. – Прим. пер.]
(обратно)145
Марсель Пруст, Под сенью девушек в цвету: В поисках утраченного времени. [Цит. по пер. Н. Любимова в издании: М. Пруст, Под сенью девушек в цвету, Москва: Художественная литература, 1976. – Прим. пер.]
(обратно)146
“Но так как человек своей волей мог бы повернуть на любой путь, Бог поставил эту благодать, которую Он дал, в условность с первого дня от двух вещей: а именно, закона и места … Если бы они хранили благодать и соблюдали очарование своей первоначальной невиновности, то жизнь в раю должна была принадлежать им … Но если бы они впали в заблуждение и стали порочными, откинув свое прекрасное первородство, тогда они поработились бы согласно естественному закону смерти и перестали бы жить в раю, но, умирая вне его, продолжали бы жить в смерти и в тлении” (св. Афанасий Великий, Слово о воплощении Бога-Слова 1.3). [Цит. по изданию: Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Александрийского, Часть первая, Свято-Троицкая Сергиева лавра: собственная типография, 1902, с. 195. – Прим. пер.]
(обратно)147
OEuvres, éd. Adam-Tennery, Paris: Cerf, 1898, 10, p. 255.
(обратно)148
См. Ф. Ницше, Несвоевременные мысли, 10. [Цит. по изданию: Фридрих Ницше, Сочинения. В 2 т. Т 1, М.: «Мысль», 1990. – Прим. пер.].
(обратно)149
См. Bertrand Russell, Religion and Science, New York: Oxford University Press, 1961.
(обратно)150
Бертран Рассел, История западной философии, III.6. [Цит. по изданию: Бертран Рассел, История западной философии, Издательство «Академический проект», 2006, с. 360. – Прим. пер.]
(обратно)151
Быт 1:10.
(обратно)152
A Patristic Greek Lexicon, ed. by G. W. H. Lampe, Oxford: Oxford University Press, 1961,p. 1248.
(обратно)153
“ὄντως τεχνίτης, δημιουργός, ἀριστοτέχνης, καλλιτέχνης”, Об отцах Церкви и их именовании Бога Художником (особенно у св. Климента Александрийского, св. Кирилла Александрийского, св. Григория Паламы и св. Григория Великого) см. подробнее: Χρυσόστομου Ἀ. Σταμούλη, Ἡτέχνητῆς θεολογίας καὶἡ θεολογία τῆς τέχνης, в: Φύση καὶ Ἀγάπη, Θεσσαλονίκη: Ἐκδόσεις Τὸ Παλίμψιστον, 1999, σελ. 128–129.
(обратно)154
Elizabeth Prettejohn, Beauty and Art: 1750–2000, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 49.
(обратно)155
Richard Ellman, James Joyce, New York: Oxford University Press, 1959, p. 169.
(обратно)156
См. M. H. Adams, Natural Supernaturalism, London/New York: W. W. Norton, 1974, p. 420. [Отрывок из «Четырех квартетов» Элиота цит. по пер. А. Сергеева в издании: Т. С. Элиот, Полые люди, СПб: Кристалл, 2000. – Прим. пер.]
(обратно)157
Philip A. Ballinger, The Poem as Sacrament: The Theological Aesthetic of Gerard Manley Hop-kins, Louvain: Peeters Press, 2000, p. 234.
(обратно)158
Марсель Пруст, Под сенью девушек в цвету: В поисках утраченного времени. [Цит. по пер. Н. Любимова в издании: М. Пруст, Под сенью девушек в цвету, М.: Художественная литература, 1976. – Прим. пер.]
(обратно)159
Марсель Пруст, В сторону Свана: В поисках утраченного времени. [Цит. по пер. А. А. Франковского в издании: М. Пруст, В поисках утраченного времени: В сторону Свана, СПб.: Сов. писатель, 1992. – Прим. пер.]
(обратно)160
Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel, Seattle: University of Washington Press, 1971, p. 51.
(обратно)161
John D. Zizioulas, Communion and Otherness. London: T & T Clark, 2006, pp. 64–65. [Цит. по изданию: Иоанн Зизиулас, Общение и инаковость. Новые очерки о личности и церкви, М.: ББИ, 2012, с. 81–83. – Прим. пер.]
(обратно)162
Item, p. 66. [Цит. по изданию: Иоанн Зизиулас, Общение и инаковость. Новые очерки о личности и церкви, М.: ББИ, 2012, с. 84. – Прим. пер.]
(обратно)163
Рим 8:19–23.
(обратно)164
M. Horkheimer & T. Adorno, Dialectics of Enlightenment, translated by John Cumming, New York: Continuum, 1989, p. 23. [Цит. по изданию: М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно, Диалектика просвещения. Философские фрагменты. Москва/Санкт-Петербург: Медиум / Ювента, 1997, с. 24. – Прим. пер.]
(обратно)165
Ср. Гал 4:9: «Но теперь, когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас…» [Цит. по пер. Российского библейского общества. – Прим. пер.]
(обратно)166
Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel, Seattle: University of Washington Press, 1971, pp. 17, 73.
(обратно)167
John D. Zizioulas, Communion and Otherness., London: T & T Clark, 2006, pp. 67. [Цит. по изданию: Иоанн Зизиулас, Общение и инаковость. Новые очерки о личности и церкви, М.: ББИ, 2012, с. 85. – Прим. пер.]
(обратно)168
T. S. Eliot, After Strange Gods, London: Faber & Faber, 1934, pp. 35–39. Вдохновением, лежащим в основе этого наблюдения, я обязан Дэвиду Брауну и его книге: D. Brown, God and the Enchantment of the Place, Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 135.
(обратно)169
“Nietzsche an Meta von Salis”, в: Friedrich Nietzsche, Briefe. Januar 1887–1889, hrsg. Von G. Colli und M. Montinari, New York/Berlin: Walter de Gruyter, 1984, S. 472. Приведем фразу целиком: ”Der Herbst war hier ein Claude Lorrain in Permanenz, – ich fragte mich oft, ob so Etwas auf Erden möglich sei. Seltsam! gegen die Sommer-Misère da o b e n gab es also wirklich eine A u s g l e i c h u n g. Da haben wir’s: der alte Gott lebt noch…”
(обратно)170
Meyer Schapiro, Theory and Philosophy of Art, Style, Artist, and Society, New York: George Braziller, 1994, p. 140–141.
(обратно)171
Отрывок из романа Гамсуна по изданию: Кнут Гамсун, Голод. Мистерии. Пан. Виктория, пер. Ю. Балтрушайтиса и В. Хинкиса, Минск, «Мастацкая литаратура», 1989. – Прим. пер.
(обратно)172
Выделено монахом Ромило из Хиландара.
(обратно)173
Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, The Continental Aesthetics Reader, ed. by Clive Cazeaux, London: Routledge, 2000, pp. 86–87. [Цит по изданию: М. Хайдеггер, Исток художественного творения. Пер. А. Михайлова, М.: Академический проект, 2008, сс. 117–119. – Прим. пер.]
(обратно)174
Rainer Maria Rilke, Selected Letters of Rainer Maria Rilke. Translated by R. F. C. Hull, London: Macmillan & Co., Ltd, 1946, pp. 394–395. [Цит. по изданию: Р. М. Рильке, Проза. Письма, Харьков: Фолио, 1999, с. 536. – Прим. пер.]
(обратно)175
Более подробно о богословии обыденных вещей и их спасительной красоте см. мою книгу «Время и познание: богословское прочтение Марселя Пруста», изданную на сербском языке богословским факультетом Белградского университета (2011 г.), особенно с. 225–237. См. также интереснейшие наблюдения на сей счет в: George Pattison, Art, Modernity, Faith, London: SCM Press, 1998, глава 9.
(обратно)176
В основе статьи лежит доклад, представленный на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)177
Aristotle, Ethica Nicomachea, 1120a23-4.
(обратно)178
S. Augustinus, De Civitate Dei, XV, 22.
(обратно)179
Постановление Второго ватиканского собора Sacrosanctum Concilium,, Roma 1963, n. 122, in: AAS 56 (1964) 130.
(обратно)180
J. Ratzinger, The Spirit of the Liturgy, San Francisco 2000, p. 7.
(обратно)181
M.P. Remery, “The influence of Solesmes on the theory of Dom Hans van der Laan osb on liturgy and architecture”, Jaarboek voor liturgie-onderzoek 26 (2010), p. 149–179.
(обратно)182
M.P. Remery, Mystery and Matter. On the relationship between liturgy and architecture in the thought of Dom Hans van der Laan OSB (1904–1991), Leiden 2011, 11 [Далее: Mystery and Matter].
(обратно)183
H. van der Laan, Letter to N. van der Laan 19430507; ID., Letter to Sr G. van der Laan 19890615.
(обратно)184
H. van der Laan, Rietveldsche Toren, Delft 13 Jan. 1940 [Unp. AVdL]: “als mijlpalen di-enen op de terugweg naar de Eenheid die met zich de glans der schoonheid draagt”.
(обратно)185
H. van der Laan, Letter to Sr G. van der Laan 19441218: “Cette intégrité matérielle est une chose essentiel pour la beauté de notre culte”.
(обратно)186
P. Guéranger, Institutions liturgiques, t. I, Le Mans-Paris 1840, 18782, 1: “La liturgie considérée en général, est l’ensemble des symboles, des chants et des actes au moyen desquels l’Eglise exprime et manifeste sa religion envers Dieu”.
(обратно)187
Cfr. e.g. H. van der Laan, Het Liturgisch kader van Vaals, Vaals 1989, p. 9–11; M.P. Re-mery, Mystery and Matter, Leiden 2011, p. 246–248.
(обратно)188
Cfr. H. van der Laan, La forme des églises, in: M.P. Remery, Mystery and Matter, Leiden 2011, p. 479.
(обратно)189
Cfr. S. Benedictus, Regula, c. 52: “Oratorium hoc sit quod dicitur”. Cfr. H. van der Laan, Letter to N. van der Laan 19400910.
(обратно)190
Домом молитвы (лат.).
(обратно)191
Ораторий (лат. oratorium – «молитвенный дом, место для молитвы») – освящённое здание или помещение, которое предназначено для молитв и совместного поклонения Богу. – Прим. пер.
(обратно)192
Дело Божье (лат.)
(обратно)193
H. van der Laan, Letter to N. van der Laan 19400910: “geen direct verband zoeken tussen liturgische bijzonderheden & liturgische vormen, maar het spiegelbeeld ontdekken tusschen de hoofdgedachte van de liturgie & die der architectuur”.
(обратно)194
H. van der Laan, La forme des églises, in: M.P. Remery, Mystery and Matter, Leiden 2011, p. 480: “Quelles doivent être alors les forms d’une habitation qui ne sert qu’à la prière et la réunion des fidèles sans plus?”
(обратно)195
Cfr. e.g. H. van der Laan, La forme des églises, in: M.P. Remery, Mystery and Matter, Leiden 2011, p. 480; Id., “Brieven uit Oosterhout”, Katholiek Bouwblad 16 (1948) 7.
(обратно)196
H. van der Laan, Bouwen ter ere Gods, Zwolle 19 Jan. 1950 [Unp. Archive]: “Het is zijn Naam die in het kerkgebouw moet worden verheerlijkt en als dat eerbetoon zijn weerklank niet vindt in de uitwendige vorm, dan is iedere bouwerij ter ere Gods ijdel”.
(обратно)197
Cfr. e.g. H. van der Laan, Werkgroep kerkelijke architectuur II, Breda 16 Apr. 1946 [Unp. AVdL]; ID., Bijeenkomst met de geestelijkheid, Breda 23 Nov. 1948 [Unp. AVdL].
(обратно)198
H. van der Laan, Over de schoonheid van het liturgische gebaar, in: M.P. Remery, Mystery and Matter, Leiden 2011, p. 487: “De Kerk schrijft ons bepaalde vormen voor, om onze gemoederen tot God te verheffen. Iedere andere vorm van schoonheid zou wat dit betreft op de liturgische schoonheid moeten gelijken”.
(обратно)199
H. van der Laan, Torenveltstraat 6, Oegstgeest Jan. 1941 [Unp. AVdL]: “wat de Zondagsheiliging is voor de tijd, dat zijn de kerken en heilige plaatsen voor de ruimte”.
(обратно)200
Cfr. e.g. H. van der Laan, Over de schoonheid van het liturgische gebaar, в: M.P. Remery, Mystery and Matter, Leiden 2011, p. 499.
(обратно)201
Sacrosanctum Concilium (лат. Святейший Собор) – конституция Второго ватиканского собора Католической церкви. Полное название – Конституция о Священной Литургии «Sacrosanctum Concilium». Утверждена папой Павлом VI 4 декабря 1963 года, после того как она была одобрена на соборе. – Прим. пер.
(обратно)202
Conc. Vaticanum II, Const. Sacrosanctum Concilium, Roma 1963, n. 34, in: AAS 56 (1964), p. 109.
(обратно)203
Conc. Vaticanum II, Const. Sacrosanctum Concilium, Roma 1963, n. 124, in: AAS 56 (1964), p. 131.
(обратно)204
Institutio Generalis Missalis Romani, in: Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Typis Polyglottis Vati-canis 1969, p. 279: “Ornatus ecclesiae ad nobilem ipsius simplicitatem conferat potius quam ad pompam”.
(обратно)205
H. van der Laan, Het domein van de kunst, Antwerpen 1952, p. 13: “de veredeling der kunstvormen”.
(обратно)206
Доклад на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)207
В основе статьи лежит доклад, представленный на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)208
Ссылки даются на английские издания работ Бальтазара, цитируемые автором.
Используемые аббревиатуры: ССл=«Сияние славы» (GL=The Glory of the Lord), ТД = «Теодраматика» (TD=Theo-Drama) и ТЛ = «Теологика» (TL=Theo-Logic), с указанием номера тома в английском издании. «Эпилог» к трилогии сокращенно обозначен Э (E=Epiloque). См. библиографию Бальтазара Bibliographie 1925–2005, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 2005, или веб-страницы Ignatius Press и Johannes Verlag Einsiedeln.
(обратно)209
«Тема взаимодействия между прекрасным, благим и истинным (…) – фундаментальный организующий принцип мышления Бальтазара.» – David C. Schindler, Hans Urs von Balthasar and the Dramatic Structure of Truth: a Philosophical Investigation, Perspectives in continental philosophy, no. 34 (New York: Fordham University Press, 2004), p. 368. Давид Шиндлер, «Ганс Урс фон Бальтазар и драматическая структура истины: философское расследование», Перспективы континентальной философии,? 34 (Нью Йорк, Fordham University Press, 2004), p. 368. Шиндлер посвящает «трансценденталиям» 5-ую главу своей работы (“The Transcendentals”, p. 350–421). Данная статья в значительной степени основывается на этой главе. Для более глубокого изучения трансценденталий у Бальтазара, в особенности развития его мышления и создания трилогии, см. Mario Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité chez Hans Urs von Balthasar (Presses de l’Universite Laval, 1998).
(обратно)210
В моей диссертации рассматриваются связь и единство Духа и истины у Бальтазара, т. е. она представляет собой догматико-пневматологическое исследование, отправной точкой которого является философия и богословие истины как основа для рассмотрения действия и характера Духа как Духа истины. Завершение работы планируется в 2014 г.
(обратно)211
«Теологика» будет основным материалом для моей диссертации и, соответственно, также этой статьи. Однако, говоря о красоте у Бальтазара, необходимо принимать во внимание ССл 1. Я также буду ссылаться на работы, в которых Бальтазар объясняет свой образ мышления и цели своих работ, а именно, «Эпилог» к трилогии и «Мои труды: В ретроспективе» (My work: In retrospect).
(обратно)212
Представление о трансценденталиях как о сестрах взято у Бальтазара. См. Hans Urs von Balthasar, Seeing the Form, vol. 1, The Glory of the Lord: a Theological Aesthetics (San Francisco: Ignatius Press, 1982), p. 18; Idem, Truth of the World, vol. 1, Theo-Logic: Theologi cal Logical Theory (San Francisco: Ignatius Press, 2000), p. 29 [Рус. пер.: Ганс Урс фон Бальтазар, Теологика, т. 1: Истина мира. М.: ББИ, 2013].
(обратно)213
В точности эти слова служат заглавием одной из его прекрасных маленьких книг: Г. У. фон Бальтазар, Истина симфонична. М.: ИФ, 2009.
(обратно)214
Balthasar, GL 1, 18.
(обратно)215
В дальнейшем я ссылаюсь на «Истину» (Wahrheit) только когда необходимо подчеркнуть, что это работа 1947 года, позже я ссылаюсь на ТЛ 1.
(обратно)216
Бальтазар писал руководства/комментарии к своим собственным книгам на протяжении всей своей карьеры; это утверждение относится к 1955 году. Эти тексты собраны в Hans Urs von Balthasar, My Work: in Retrospect (San Francisco: Communio Books – Ignatius Press, 1993), Здесь цитируется p. 24.
(обратно)217
Согласно одному американскому комментатору Бальтазара, ТЛ 1 «читается как расширенный комментарий к De veritate Аквината»: Rodney Howsare, Balthasar: a Guide for the Perplexed (London; New York: T & T Clark, 2009), p. 72. Опубликована и диссертация этого автора: Idem, Hans Urs von Balthasar and Protestantism: the Ecumenical Implications of his Theological Style (London: T & T Clark International, 2005).
(обратно)218
В конце Бальтазар говорит, что это «философское исследование, которое рассматривает только откровение Бога данное в творении» (Balthasar, TL 1, 271). Как я покажу ниже, однако, остается открытым вопрос, действительно ли Бальтазар ограничивает себя таким образом, поскольку в этой работе есть примеры идей, которые можно назвать чисто философскими, по крайней мере, не во всех смыслах этого выражения. Во вступлении к переизданию, он более осторожно говорит, что работа использует «преимущественно философский метод» (p.10).
(обратно)219
См. обсуждение этой темы в Schindler, Dramatic Structure of Truth, p. 361–364. Автор ссылается, в числе прочих, на вышеупомянутую работу Saint-Pierre.
(обратно)220
Balthasar, TL 1, p. 206, сравн. p. 37, 43, 149, 196, 217, 269.
(обратно)221
Эта интерпретация подтверждается тем фактом, что ТЛ 2 и 3 являются, насколько мне известно, с одной стороны, наиболее часто цитируемыми томами трилогии, и с другой – предвосхищаемыми в предыдущих работах. Сравните к примеру ссылки на различные тома ССл и ТД в Idem, Truth of God, vol. 2, Theo-Logic: Theo-logical Logical Theory (San Francisco: Ignatius Press, 2004), p. 81–85; Idem, The Spirit of Truth, vol. 3, Theo-Logic: Theological Logical Theory (San Francisco: Ignatius Press, 2005), p. 200–205.
(обратно)222
Idem, Epilogue (San Francisco: Ignatius Press, 2004), p. 77.
(обратно)223
Шиндлер также усматривает этот момент со ссылкой на то же самое место в «Эпилоге»: «Перед тем, как рассмотреть истину, Бальтазар замечает, что в определенном отношении истина должна быть в конце, даже если в другом отношении она должна быть в начале». Schindler, Dramatic Structure of Truth, p. 366. Шиндлер, однако, не отмечает в этом контексте важных богословских наблюдений по поводу языка, используемых Бальтазаром в поддержку этой идеи.
(обратно)224
Это подчеркивается, например, в Balthasar, E, p. 99ff; Idem., TL 2, p. 281.
(обратно)225
Из итогового обзора, написанного в 1955 году (Balthasar, My Work: in Retrospect, 24).
(обратно)226
Idem, E, p. 77.
(обратно)227
Ibid., p. 78.
(обратно)228
Шиндлер добавляет следующее замечание к разделу, в котором он подчеркивает, что каждая из трансценденталий имеет для Бальтазара свое «преобладание»: «Действительно, в окончательном суммарном изложении своих мыслей, Бальтазар описывает развертывание трансценденталий в следующем порядке: единство, благо, истина и красота (RT, 3…) [My Work: in Retrospect, p. 114]. Этот порядок, по-видимому, един для всех его работ, и подчеркивает тот факт, что если и существует «окончательный» порядок, он всегда «относителен» с точки зрения контекста.» (Schindler, Dramatic Structure of Truth, p. 370–1n73. Курсив мой).
(обратно)229
Balthasar, GL 1, p. 45–57, 70–79. Более полное рассмотрение – на протяжении всего раздела, p. 34–127.
(обратно)230
Idem, TL 1, p. 20.
(обратно)231
Из итогового обзора, написанного в 1988 году (Idem, My Work: in Retrospect, p. 112).
(обратно)232
Idem, TL 1, p. 7.
(обратно)233
Idem, Realm of Metaphysics in the Modern Age, vol. 5, The Glory of the Lord: a Theologi-cal Aesthetics (San Fransico: Ignatius Press, 1991), p. 614f. Cf. Idem, TL 1, p. 208.
(обратно)234
В связи с работами Пунтеля (см. сноску 31), можно выразиться точнее: без богословия не может быть полностью определенной философии.
(обратно)235
Эту тему разъясняет обсуждение в разделе 3.7.4.2.1 книги Lorenz B. Puntel & (trans.) Alan White, Being and God: A Systematic Approach in Confrontation with Martin Hei-degger, Emmanuel Levinas, and Jean-Luc Marion (Northwestern University Press, 2011).
(обратно)236
См. Conor Cunningham, “Natura Pura, the Invention of the Anti-Christ?: A Week With No Sabbath,” Communio: International Catholic Review 37, no. Summer (2010).
(обратно)237
Balthasar, TL 1, p. 13. См. Idem, TL 2, p. 96. Николас Хили в работе по эсхатологии Бальтазара указывает на эту идею и связанные с ней возможные недоразумения, проясняя сущность дела следующим образом: «Свет благодати входит в сознание философа на уровне первичного опыта. Для философа откровение как таковое остается выраженным неявно, скрытым, и не становится частью формальной структуры философского аргумента. Философ будет продолжать делать свою работу, основываясь на очевидности бытия в мирском смысле, не претендуя, однако, на то, что личный опыт бытия нейтрален по отношению к благодати или вере» – Nicholas J. Healy, The Eschatology of Hans Urs von Balthasar: Eschatology as Com-munion. Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 82.
(обратно)238
Немецкий философ Лоренц Пунтель обсудил с большой теоретической ясностью отношение между философией и богословием в своих статьях Lorenz B. Puntel, „Das Verhдltnis von Philosophie und Theologie: Versuch einer grundsдtzlichen Klд-rung,“ in Vernunft des Glaubens: wissenschaftliche Theologie und kirchliche Lehre: Festschrift zum 60. Geburtstag von Wolfhart Pannenberg: mit einem bibliografischen Anhang, Hrsg. Jan Rohls & Gunther Wenz (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988); Idem, „Der Wahrheits-begriff in Philosophie und Theologie,“ Zeitschrift für Theologie und Kirche, no. 9 (1995). См. Также разделы 3.7.4 and 2.8.1 в Puntel & White, Being and God. Взгляды Пунтеля на этот вопрос можно рассматривать как плодотворное дополнение и теоретическое развитие идей Бальтазара; Пунтель зачастую рассуждает весьма сходным образом. Он видит богословие и философию как составляющие единой всеобъемлющей науки. Обе дисциплины взаимно предполагают друг друга; философия предоставляет исходные идеи, формальные орудия и язык для богословия, в то время как богословие – окончательное решение для философии: философское исследование абсолютного бытия не может быть завершено без методологического прорыва в историко-герменевтический поиск Бытия в истории, т. е. без религии (этот последний элемент – по-видимому, не так явно присутствующий у Бальтазара, хотя это, возможно, связано с условными определениями философии и богословия – дает третье веское основание для того, чтобы в конечном итоге перевернуть изречение Бальтазара). Эти дисциплины относятся друг к другу как целое (философия) к одной из ее неотъемлемых частей (богословие: Puntel, “Verhдltnis,” p. 36). Шиндлер, завершая обсуждение трансценденталий у Бальтазара, указывает, что аспект «риска», который влекут за собой трансценденталии для философского вопрошания о смысле бытия, и есть то, что Пунтель называет «методологическим прорывом»: «Всякий, кто открыт для смысла бытия, должен быть открыт для смысла истории.» Вот что пишет Шиндлер в заключение всего раздела на той же странице: «Парадокс трансценденталий в том, чтобы, посреди драматической вовлеченности человека в мирское, открыть бытие Богу, который является Богом единства, красоты, блага и истины, потому что Он есть Троица – иными словами, потому что он сам есть драма» (Schindler, Dramatic Structure of Truth, p. 421).
(обратно)239
Balthasar, TL 1, p. 15.
(обратно)240
Ср. ibid., p. 29–30.
(обратно)241
Ibid., p. 29. Именно это он сделал в этой книге. Ср. в особенности раздел «Истина, благо и красота», p. 216–225. Предвосхищая следующий раздел, добавлю, что это также «верно по аналогии» для Лиц Троицы.
(обратно)242
См. раздел «Единство и взаимопроникновение» (Schindler, Dramatic Structure of Truth, p. 368–374). Использование этого термина Бальтазаром хорошо видно по многим пассажам в «Эпилоге» и TL 1, p. 29.
(обратно)243
Ср. тексты, процитированные в прим. 21. Дополнительный пример относительности трансценденталий можно найти в Idem, TL 2, p. 173–179. Здесь Бальтазар в значительной степени следует Бонавентуре, приписывая трансценденталии единство, благо и истина Троице, не вдаваясь в дискуссию о красоте.
(обратно)244
Schindler, Dramatic Structure of Truth, p. 368.
(обратно)245
Ibid., p. 373.
(обратно)246
Balthasar, GL 1, p. 19.
(обратно)247
Idem, TL 1, p. 137.
(обратно)248
Ibid., p. 138.
(обратно)249
Адриан Уолкер переводит Sinnbild в английской версии книги как «символ» (в отсутствие лучшего термина, как я полагаю). Это может вести к заблуждениям, поскольку подразумевает, что произведение искусства символизирует что-то еще (как мы привыкли думать о символах), в то время как Sinnbild в действительности указывает на «значение-образ», полный смыслом Gestalt, которым это произведение является само по себе.
(обратно)250
Balthasar, TL 1, p. 140–141.
(обратно)251
Ibid., p. 141–142.
(обратно)252
Ср. его замечания об истине в отношении к благу и красоте в первоначальном (1947) введении к ТЛ 1 (Ibid., p. 28–30).
(обратно)253
Ibid., p. 142–143.
(обратно)254
В «Эпилоге» понятие о красоте как о предмете благодати и дара, вызывающем изумление, приводит далее к акту благочестия, см. Idem, E, p. 66–67.
(обратно)255
Idem, GL 1, p. 18.
(обратно)256
Ibid., p. 17.
(обратно)257
Idem, TL 1, p. 224.
(обратно)258
Г.У. фон Бальтазар, «Раскрытие музыкальной идеи. Опыт синтеза музыки», в Богословие и музыка. Три речи о Моцарте. М.: ББИ, 2006, с. 29.
(обратно)259
Balthasar, TL 1, p. 225.
(обратно)260
Ibid., p. 223.
(обратно)261
Balthasar, ТL 2, p. 176–177.
(обратно)262
Ibid., p. 135–137.
(обратно)263
Idem, Е, p. 93.
(обратно)264
По этому поводу Бальтазар защищает свою точку зрения от Карла Ранера во введении 1985-го года в ТЛ. Бальтазар подчеркивает, что «вся божественная Троица находится в центре внимания в каждой из трех частей трилогии». Idem, TL 1, p. 20.
(обратно)265
Idem, Е, p. 93.
(обратно)266
Ibid., p. 97–98.
(обратно)267
Для дальнейшего изучения этого вопроса я отсылаю читателя к Г. У. фон Бальтазар Достойна веры лишь любовь. М.: Истина и Жизнь, 1997. См. также статью переводчика ТЛ 1 и 2: Adrian J. Walker, “Love Alone: Hans Urs von Balthasar As a Master of Theological Renewal”, Communio: International Catholic Review 3 – Fall, no. 32 (2005).
(обратно)268
См. Puntel & White, Being and God, p. 315–317. Здесь, помимо прочего, говорится, что «тексты фон Бальтазара – одни из наиболее прекрасных и глубоких текстов о Бытии, об «изумлении пред Бытием [die Verwunderung über das Sein]», которое он описывает в чрезвычайно элегантных и выразительных словах, хотя и нельзя сказать, что выверенных теоретически».
(обратно)269
David Bentley Hart, The Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth (Grand Ra-pids, Mich./Cambridge, U.K.: Eerdmans, 2003), p. 29. [Рус. пер.: Дэвид Харт. «Красота бесконечного. Эстетика христианской истины». М.: ББИ, 2010.]
(обратно)270
Красивый, букв. «имеющий образ» (лат.)
(обратно)271
Ibid., p. 177–178. Этот отрывок приводится в сокращении для целей данного изложения, хотя, безусловно, он заслуживает прочтения целиком. Некоторые пропуски (отмеченные квадратными скобками) содержат ссылки на Григория Богослова, Дионисия Ареопагита, библейские Псалмы и Джонатана Эдвардса.
(обратно)272
Используя выражение «логика любви», я ни в коей мере не хочу сказать, что истинную любовь можно каким бы то ни было способом из чего-либо вывести или полностью понять, а хочу сказать только то, что она всегда полностью соответствует самой себе. Логика любви заключается в том, чтобы быть безосновательной самоотдачей и, как говорит Бальтазар: «Любовь любит удивлять». В этом ее логика. См. Balthasar, TL 1, p. 211.
(обратно)273
Hart, Beauty of the Infinite, p. 229–240. Ссылки на Jean-Luc Marion, God Without Being: Hors-Texte (Chicago: University of Chicago Press, 1991).
(обратно)274
Hart, Beauty of the Infinite, p. 240.
(обратно)275
Доклад на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)276
K. Barth, “Theology” in: E.G. Homrighausen and K.J. Ernst, ed., God in Action: Theologi-cal Addresses, Edinburgh: T & T Clark, 1936, p. 39, далее, GIA. E. Busch, Karl Barth: His Life from Letters and Autobiographical Texts, trans. J. Bowden, Grand Rapids: Eerdmans, 1994, p. 244 cf. 186–187.
(обратно)277
Busch, p. 362.
(обратно)278
H.U.v. Balthasar, The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics. Vol. I: Seeing the Form, J. Fes-sio and J.K. Riches, eds., Edinburgh: T & T Clark, 1982, p. 80.
(обратно)279
R. Viladesau, Theological Aesthetics: God in Imagination, Beauty, and Art, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. 30–34.
(обратно)280
F.A. Murphy, Christ the Form of Beauty: A Study in Theology and Literature, Edinburgh: T & T Clark, 1995, p. 133.
(обратно)281
J. W. De Gruchy, Christianity, Art, and Transformation: Theological Aesthetics in the Struggle for Justice, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 117 cf. 113–114.
(обратно)282
В сходном русле высказываются: F.B. Brown, Good Taste, Bad Taste, and Christian Taste: Aesthetics in Religious Life, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 37; P. Sherry, Spirit and Beauty: An Introduction to Theological Aesthetics, Oxford: SCM, 2002, pp. 17–19, 60; E. Farley, Faith and Beauty: A Theological Aesthetic, Aldershot: Ashgate, 2001, p. 72–73; A.L. Blackwell, The Sacred in Music, Cambridge: Lutterworth Press, 1999, p. 31–33, 167; B. Leahy, “Theological aesthetics”, in: J.K. Riches, ed., The Beauty of Christ, Edinburgh: T & T Clark, 1994, p. 32; J. Dillenberger, A Theology of Artistic Sensibilities: The Visual Arts and the Church, London: SCM Press, 1987, p. 217–218; G. Pattison, Art, Modernity and Faith: Restoring the Image, London: SCM, 1998, p. 22, 56, 72–73; O.V. Bychkov, “Intro-duction”, in: O.V. Bychkov and J. Fodor, eds., Theological Aesthetics After von Balthasar, Aldershot: Ashgate, 2008, xv-xviii; S.D. Wigley, Karl Barth and Hans Urs von Balthasar: A Critical Engagement, London: T & T Clark, 2007, p. 84, 66. Более с позиций художественной критики, чем богословской эстетики, но аналогично: P. Fuller, Theoria: Art and the Absence of Grace, London: Chatto & Windus, 1988, p. 168–173.
(обратно)283
J. Milbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, Oxford: Blackwell, 2006, p. 278–302; J. Milbank, “Sublimity: The modern transcendent”, in: P. Heelas, ed., Religion, Modernity and Postmodernity, Oxford: Blackwell, 1998, p. 258–284.
(обратно)284
D.B. Hart, The Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth, Grand Rapids: Ee-rdmans, 2003, p. 241–243 [Рус. пер.: Дэвид Харт, Красота бесконечного: Эстетика христианской истины. М.: ББИ, 2010].
(обратно)285
Ibid., p. 242–243.
(обратно)286
J. R. Betz, “Beyond the Sublime. Part One: The Aesthetics of the Analogy of Being”, Modern Theology, 21 (2005), pp. 367–371; J. R. Betz, “Beyond the Sublime. Part Two: The Aesthetics of the Analogy of Being”, Modern Theology, 22 (2006), p. 1–3.
(обратно)287
P.S. Fiddes, “The sublime and the beautiful: Intersections between theology and literature”, in: H. Walton, ed., Literature and Theology: New Interdisciplinary Spaces, Aldershot: Ashgate, 2011, p. 13, 15–16.
(обратно)288
K. Barth, Church Dogmatics Volume II/1: The Doctrine of God, G.W. Bromiley and T.F. Torrance, eds., Edinburgh: T & T Clark, 1957, p. 640–641, 608. Далее, CDII/1.
(обратно)289
К. Барт: «… слава есть Сам Бог … в действии». CDII/1, p. 641 cf. 642–647.
(обратно)290
Отметим, к примеру, что все рассуждение Барта о божественной славе состоит из двух частей: о божественной славе (p. 640–666) и о прославлении Бога тварью (p. 667–677).
(обратно)291
CDII/1, p. 643; ср. p. 641–647.
(обратно)292
CDII/1, p. 644–645, 642, 647, 649–653, 666-668
(обратно)293
CDII/1, p. 667–675, 647–650, 644–645.
(обратно)294
CDII/1, p. 673–675 cf. 667–672, 647–650.
(обратно)295
CDII/1, p. 670, 672–673, 647–648.
(обратно)296
CDII/1, p. 656–666 cf. 649–666.
(обратно)297
CDII/1, p. 659, 649–651, 654–655 cf. 649–666.
(обратно)298
S.T. Aquinas, Summa Theologiae, Vol., 7: Father, Son and Holy Ghost (1a. 33–43), T.C. O’Brien, ed., London: Eyre & Spottiswoode, 1976, p. 133ff.
(обратно)299
CDII/1, p. 651, 653–654. См. также использование им почти исключительно средневековых источников в данном рассуждении: pp. 661, 656–657.
(обратно)300
CDII/1, p. 675.
(обратно)301
CDII/1, p. 656–657. Сходным образом см.: GIA, p. 39; K. Barth, Church Dogmatics, Vol-ume I/2: The Doctrine of the Word of God, G.W. Bromiley and T.F. Torrance, eds., Edin-burgh: T & T Clark, 1956, p. 841–842, 808. Далее CDI/2.
(обратно)302
CDII/1, p. 647–649, 667–669, 675–677, 670, 673.
(обратно)303
K. Barth, Church Dogmatics Volume III/1: The Doctrine of Creation, G.W. Bromiley and T.F. Torrance, eds. Edinburgh: T & T Clark, 1958, p. 371–372 cf. 382, 380. Hereafter, CDIII/1.
(обратно)304
CDII/1, p. 664. Аналогично: p. 650, 656.
(обратно)305
CDII/1, p. 659.
(обратно)306
CDII/1, p. 656.
(обратно)307
K. Barth, Church Dogmatics Volume III/3: The Doctrine of Creation, G.W. Bromiley and T.F. Torrance, eds. Edinburgh: T & T Clark, 1960, p. 295–299.
(обратно)308
Например, De Gruchy, p. 119–121.
(обратно)309
GIA, p. 39.
(обратно)310
В основе статьи лежит доклад, представленный на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)311
J. Polkinghorne, Science and Theology: An Introduction. London: SPCK, 1998, p. 71. [Рус. пер.: Дж. Полкинхорн, Наука и богословие. Введение. М.: ББИ, 2004.]
(обратно)312
J. Polkinghorne, Serious Talk: Science and Religion in Dialogue. London: SCM Press Ltd., 1995, p. 63.
(обратно)313
J. Polkinghorne, One World: The interaction of Science and Theology. Princeton: Princeton University Press, 1986, p. 45–47; K.-W. Sæther, Spor av Gud. Trondheim: NTNU-trykk, 2005, p. 178ff.
(обратно)314
P. H. Carr, Beauty in Science and Spirit. Center Ossipee: Beech River Books, 2007; A. García-Rivera, The Garden of God: A Theological Cosmology. Minneapolis: Fortress Press, 2009.
(обратно)315
P. Barrett, Science and Theology since Copernicus: The Search for Understanding. London: T& T Clark International, 2004, p. 164.
(обратно)316
Carr, ibid., p. 6; A. E. McGrath, The Foundations of Dialogue in Science and Religion. Oxford: Blackwell Publishers, 1998, p. 74.
(обратно)317
C. Townes, “Logic and Uncertainties in Science and Religion” in Ted Peters (ed.), Science and theology: The new Consonance. Boulder: Westview Press, 1998, p. 45.
(обратно)318
P. Davies, “Is the Universe Absurd?”, in Ted Peters (ed.), Science and Theology: The New Consonance. Boulder: Westview Press, 1998, p. 67.
(обратно)319
Polkinghorne, Science and Theology…, p. 73
(обратно)320
Ibid., p. 72.
(обратно)321
J. Polkinghorne, Quarks, Chaos and Christianity: Questions to Science and Religion. New York: Crossroad, 1994, p. 24.
(обратно)322
Ibid.
(обратно)323
Ibid., p. 25.
(обратно)324
Ibid., p.14.
(обратно)325
Sæther. Spor av Gud…
(обратно)326
A. V. Nesteruk, “Design in the Universe and the Logos of Creation.” in Niels Henrik Gregersen, Ulf Görman (eds.). Design and Disorder. New York: T&T Clark, 2002, p. 172.
(обратно)327
M. Merleau-Ponty, Nature: Course Notes from the Collège de France. Evanston: Northwestern University Press, 2003; Svend Andersen, Niels Grønkjær and Troels Nørager. Religions-filosofi: Kristendom og tænkning. København: Gads Forlag, 2002.
(обратно)328
Andersen et al. Religionsfilosofi…, p. 24.
(обратно)329
Polkinghorne, One World…; Sжther. Spor av Gud…
(обратно)330
J. Armstrong, The Secret Power of Beauty. London: Penguin books, 2005.
(обратно)331
Ibid., p. 21.
(обратно)332
Ibid., p. 51.
(обратно)333
Ibid., p. 57.
(обратно)334
J. Polkinghorne, “The Quantum World” in R. J. Russell, William R. Stoeger, S.J., and George V. Coyne, S.J., Physics, Philosophy, and Theology: A Common Quest for Understanding, Vatican City State: Vatican Observatory Publications, 1988, p. 335.
(обратно)335
Polkinghorne, Science and Theology…, p. 17
(обратно)336
A. Garcнa-Rivera, (et al.). “Beauty in the Living World”, in Zygon, vol. 44, no 2 (June 2009), p. 243–263; García-Rivera, The Garden of God…
(обратно)337
García-Rivera (et al.), “Beauty in the Living World…", p. 244.
(обратно)338
Ibid., p. 245.
(обратно)339
Ibid., p. 246.
(обратно)340
J. Monod, Chance and Necessity: An Essay on the Natural Philosophy of Modern Bio logy. New York: Vintage Books, 1972.
(обратно)341
García-Rivera (et al.), “Beauty in the Living World…", p. 247.
(обратно)342
Ibid., p. 250.
(обратно)343
R. J. Russel, Cosmology: From Alpha to Omega. Minneapolis: Fortress Press, 2008, p. 1–2.
(обратно)344
García-Rivera, The Garden of God…, p. 47.
(обратно)345
Ibid., p. 46.
(обратно)346
Ibid., p. 82.
(обратно)347
Ibid., p. 100.
(обратно)348
Ibid., p. 47.
(обратно)349
H. U. von Balthasar, The Glory of the Lord: A theological Aesthetics. Vol I: Seeing the Form. Edinburgh: T & T Clark, 1982.
(обратно)350
S. J. Kristiansen, “Forståelse som gave og deltakelse”, in Svein Rise (ed.). Danningsper-spektiver. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2010, p. 119.
(обратно)351
Ibid., p. 282.
(обратно)352
García-Rivera, The Garden of God…, p. 3.
(обратно)353
N. Murphy, “Relating Theology and Science in a Postmodern Age” in CTNS Bulletin. 1987, No. 7, p. 1–10; T. Peters, “Theology and Science: Where are we?” in Zygon. 1996, Vol. 31, no. 2, p. 333.
(обратно)354
Sæther. Spor av Gud…, p. 139–142.
(обратно)355
Polkinghorne, Science and Theology…, p. 16–17.
(обратно)356
Доклад на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)357
Этти Хиллесум (1914–1943) – молодая нидерландка, в годы Второй мировой войны вела дневник, который наряду с «Дневником» Анны Франк стал одним из памятников литературы Холокоста. Погибла в Освенциме. – Прим. ред.
(обратно)358
Б. Пастернак, Полное собрание сочинений: В 11 т., Т. IX (Письма), М.: Слово, 2005. С. 541.
(обратно)359
Там же.
(обратно)360
Образ или даже звуковой состав слов порождает ряд других образов, расходящихся вширь, как круги по воде от брошенного камня.
(обратно)361
Б. Пастернак, «Когда разгуляется», Полное собрание сочинений, цит. т. II, (Стихотворения 1930–1959). C. 147–196.
(обратно)362
Б. Пастернак, «Доктор Живаго», Полное собрание сочинений, цит. т. IV, 2004. C. 435.
(обратно)363
Б. Пастернак, «Люди и положения» (Проза), Полное собрание сочинений, цит. т. III, 2004. C. 327.
(обратно)364
Б. Пастернак, «Доктор Живаго», Полное собрание сочинений, цит. т. IV, 2004. C. 91.
(обратно)365
Б. Пастернак, Письма, цит. т. IX, 2005. С. 549.
(обратно)366
Б. Пастернак, Доктор Живаго, цит. т. IV. С. 452.
(обратно)367
В основе статьи лежит доклад, представленный на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)368
См. Тахо-Годи А.А. Лосев. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 76.
(обратно)369
См. Холопов Ю.Н. Русская философия музыки и труды А.Ф. Лосева // Вопросы классической филологии. Т. XI / Под ред. А.А. Тахо-Годи и И.М. Нахова. М.: Издательство МГУ, 1996. С. 240; Холопов Ю.Н. Музыка философии А.Ф. Лосева и наша современность // Логос. 1999.? 3. С. 216; Холопов Ю.Н. А.Ф. Лосев и советская музыкальная наука // А.Ф. Лосев и культура ХХ века. Лосевские чтения / Под ред. А.А. Тахо-Годи и др. М.: Наука, 1991. С. 96, 100; Чехович Д.О. А.Ф. Лосев и русская мысль о музыке (по материалам 20-х годов) // Вопросы классической филологии. Т. XI / Под ред. А.А. Тахо-Годи и И.М. Нахова. С. 259–266.
(обратно)370
Следует отметить прежде всего работы Виктора Бычкова. См. Бычков В.В. Первоосновы эстетики по Лосеву // Символ. 1990.? 24. С. 183–203; Бычков В.В. Эстетическая теория А.Ф. Лосева // Алексей Федорович Лосев / Под ред. А.А. Тахо-Годи и Е.А. Тахо-Годи. М.: РОССПЭН, 2009. С. 31–61; Бычков В.В. Выражение невыразимого, или иррациональное в свете ratio // Лосев A.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М.: Мысль, 1995. С. 888–906; Бычков В.В. Выражение как главный принцип эстетики А.Ф. Лосева // А.Ф. Лосев и культура ХХ века / Под ред. А.А. Тахо-Годи и др. С. 29–37; Бычков В.В. Русская теургическая эстетика. М.: Ладомир, 2007. С. 331–354.
(обратно)371
Baumgarten A.G. Aesthetica. § 14: “Aesthetices finis est perfectio cognitionis sensitivae, qua talis. Haec autem est pulchritudo”.
(обратно)372
Лосев А.Ф. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины // Эстетика и жизнь. Вып. 6 / Под ред. М.Ф. Овсянникова и др. М.: Искусство, 1979. C. 221; Лосев А.Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. Т. 8. Кн. 1. М.: АСТ, Харьков: Фолио, 2000, p. 389; Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения // Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения. М.: Мысль, 1998. C. 155.
(обратно)373
См. Кроче Б. Эстетика как общая наука о выражении и как общая лингвистика. Пер. В. Яковенко. М.: Издательство М. и С. Сабашниковых, 1920.
(обратно)374
См. Лосев А.Ф. Эстетика // Философская энциклопедия / Под ред. Ф.В. Константинова и др. Т. 5, М.: Советская энциклопедия, 1970. Стб. 570, 575–576. Об отдельных эстетических категориях см. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М.: Искусство, 1965, а также: Лосев А.Ф. Трагическое // Философский энциклопедический словарь / Под ред. Л.Ф. Ильичева и др. М.: Советская энциклопедия, 1983. Стб. 690–692; Трагическое // Философская энциклопедия. Т. 5. Стб. 251–253; Катарсис // Философская энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1962. Стб. 469–470; Мера // Философская энциклопедия. Т. 3, М.: Советская энциклопедия, 1964. Стб. 389–394; А.Ф. Лосев, Б. Шрагин, Гармония // Философская энциклопедия. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1960. Стб. 323–324; Мимесис // Философская энциклопедия. Т. 3. Стб. 445; Мимесис // Эстетика. Словарь / Под ред. А.В. Беляева и др. М.: Политиздат, 1989. Стб. 204.
(обратно)375
Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы // Форма. Стиль. Выражение. М.: Мысль, 1995. С. 96.
(обратно)376
Лосев А.Ф. Строение художественного мирооoщущения // Форма. Стиль. Выражение. С. 300.
(обратно)377
Ibid.
(обратно)378
Плотин. Эннеады. V, 8, 12. Пер. А.Ф. Лосева // Лосев A.Ф. История античной эстетики. Т. 6. Поздний эллинизм. М.: АСТ, Харьков: Фолио, 2000. С. 584. (Трактаты «Эннеад» I, 6 и V, 8 даются в переводе А. Лосева с указанием страницы 6 тома «Истории античной эстетики»).
(обратно)379
Ср. Лосев A.Ф. История античной эстетики. Т. 6. С. 667; Лосев A.Ф. История античной эстетики. Т. 8. Кн. 2. Итоги тысячелетнего развития. М.: АСТ, Харьков: Фолио, 2000. С. 83–84, 350–351. См. Плотин. Эннеады. V, 8, 1 (С. 571): «А если кто-нибудь принижает искусства на том основании, что они в своих произведениях подражают природе, то прежде всего надо сказать, что и произведение природы подражает иному. Затем необходимо иметь в виду, что они подражают не просто видимому, но восходят к смыслам, из которых состоит и получается сама природа».
(обратно)380
См. Лосев A.Ф. Теория творческой фантазии в античной эстетике // Литература и искусство в системе культуры / Под ред. Б.Б. Пиотровского. М.: Наука, 1988. С. 17–23; Лосев A.Ф. История античной эстетики. Т. 8. Кн. 2. С. 379–381. Единственный античный фрагмент, в котором фантазия рассматривается как исключительно человеческое творчество, Лосев находит у Псевдо-Лонгина («О возвышенном», XV). См. также: Edwards M. Culture and philosophy in the Age of Plotinus. London: Duckworth, 2006. С. 101–102.
(обратно)381
Лосев A.Ф. История античной эстетики. Т. 6. С. 679.
(обратно)382
Cр. Плотин. Эннеады. I, 3, 1–2; Лосев A.Ф. История античной эстетики. Т. 6. С. 683–685.
(обратно)383
Плотин. Эннеады. V, 8, 1 (С. 571).
(обратно)384
Об этом писал также Макс Шелер в эссе «Метафизика и искусство».
(обратно)385
Лосев А.Ф. Диалектика творческого акта // Контекст-81. Литературно-теоретические исследования / Под ред. А.С. Мясникова и др. М.: Наука, 1982. С. 68.
(обратно)386
Лосев А.Ф. Строение художественного мирооoщущения. С. 301.
(обратно)387
Флоренский П. Обратная перспектива // Имена. М.: Эксмо, 2006. С. 36.
(обратно)388
См. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука // Бытие. Имя. Космос. М.: Мысль, 1993. C. 341.
(обратно)389
Плотин. Эннеады. I, 6, 3 (С. 552).
(обратно)390
Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы. C. 198.
(обратно)391
Ibid. С. 82.
(обратно)392
Cр. Флоренский П. Чтения о культе // Философия культа. М.: Наука, 2006. С. 56.
(обратно)393
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 8. Кн. 1. М.: АСТ, Харьков: Фолио, 2000. С. 509. Ср. Там же. Т. 6. С. 231, 371.
(обратно)394
Лосев А.Ф. Две необходимые предпосылки…. С. 228. Ср. История античной эстетики. Т. 6. С. 733.
(обратно)395
Плотин. Эннеады. I, 6, 2 (С. 551).
(обратно)396
Плотин. Эннеады. V, 8, 9 (С. 581).
(обратно)397
Viladesau R. Theological Aesthetics. God in Imagination, Beauty, and Art. New York – Oxford: Oxford University Press, 1999. Р. 127.
(обратно)398
См. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. С. 151–165.
(обратно)399
Cр. Гулыга А. Принципы эстетики. М.: Политиздат, 1987. С. 11–161. Тот же. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке. Спб.: Алетейя, 2000. С. 47–72.
(обратно)400
См. Плотин. Эннеады. V, 8, 5 (С. 576): «Итак, все происходящее, будь то произведения искусства или природы, создает некая мудрость (sophia), и творчеством везде водительствует мудрость, и если кто творит согласно самой мудрости, то таковыми же [софийными] надо считать, очевидно, и искусства. (…) Следовательно, истинная мудрость есть бытие (oysia), и истинное бытие есть мудрость». Cр. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 8. Кн. Book 2. С. 289–293; Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. С. 165; Оболевич Т. Проблема Софии в творчестве А. Ф. Лосева // Cофиология / Под ред. В. Поруса. М.: ББИ, 2010. С. 30–40.
(обратно)401
См. Плотин. Эннеады. I, 6, 6 (С. 555–556): «Лучше же сказать, сущее есть красота; другая же природа [инобытие] – это безобразное. Безобразное и первично-злое – тождественны, так что то, наоборот, сразу и благое и прекрасное, благость и красота». Cр. Лосев A.Ф. История античной эстетики. Т. 8. Кн. 2. С. 491–557; Лосев A.Ф. Классическая калокагатия и ее типы // Вопросы эстетики. 1960. № 3.С. 411–473; Лосев A.Ф. Калокагатия // Философская энциклопедия. Т. 2. Стб. 413–414; Лосев A.Ф. Калокагатия // Эстетика. Словарь. Стб. 135; Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. С. 100–110.
(обратно)402
Лосев A.Ф. История античной эстетики. Т. 8. Кн. 2. С. 213. Ср. там же. Т. 6. С. 266.
(обратно)403
Плотин. Эннеады. I, 6, 8 (С. 557). Курсив мой – Т.О.
(обратно)404
Лосев A.Ф. Музыка как предмет логики // Форма. Стиль. Выражение. С. 478–479. См. Zenkin K. On the religious foundations of A.F. Losev’s philosophy of music // Studies in East European Thought. 2004. Vol. 56. № 2–3. Р. 161–172. Cр. также: «Многие художники признавали, что в их профессии имеет место божественное влияние. Например, композитор Иоганнес Брамс заявлял: ‘Идеи ниспадают ко мне непосредственно от Бога’. (…) Другие, хотя и не допускали божественного благословения, все же признавали нечто, превышающее их, как, скажем, композитор Аарон Копленд: ‘Вдохновение может быть формой чего-то, что выше сознания или же ниже сознания – этого я не знаю. Однако я уверен, что оно есть антитезис самосознания’». Цит. по: Davidson J.A. Toward a Theology of Beauty. A Biblical Perspective. Lanham [etc.]: University Press of America, 2008. Р. 35.
(обратно)405
Бальтазар Г.У. фон. Раскрытие музыкальной идеи: Опыт синтеза музыки / Пер. М. Кузнецовой. // Богословие и музыка. Три речи о Моцарте. М.: ББИ, 2006.
(обратно)406
Cр. Плотин. Эннеады. V, 8, 1 (С. 571): «Музыка до-чувственная создает ту, которая в чувственном».
(обратно)407
Лосев A.Ф. Диалектика художественной формы. С. 257.
(обратно)408
Лосев A.Ф. Трио Чайковского // «Я сослан в ХХ век…». Т. 1. М.: Время, 2002. С. 120.
(обратно)409
Cр. Лосев A.Ф. Женщина-мыслитель // Москва. 1993.? 5. С. 90–91. См. Гамаюнов М.М. «Союз музыки, философии, любви и монастыря» // Лосев A.Ф. Форма. Стиль. Выражение. С. 908.
(обратно)410
Плотин. Эннеады. I, 3, 1.
(обратно)411
Лосев A.Ф. Музыка как предмет логики. С. 479. Cм. Миклина Н.Н. Мир А.Ф. Лосева как мир «чистого музыкального бытия» // Философские науки. 2008. № 10. C. 135–136.
(обратно)412
Cр. Viladesau R. Theological Aesthetics. Р. 24.
(обратно)413
Эта статья опубликована в рамках гранта GAAV IAA908280902 под названием «Жизнь и влияние Николая Лосского в научном сообществе Первой Чехословацкой Республики» и в отредактированном варианте составит часть монографии «Николай Лосский: Защитник мистической интуиции» (Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice).
(обратно)414
Более подробную информацию о жизни Николая Лосского см. в Losskij, N. Bоспоминания, München 1968; Slбdek, K. “N.O. Losskij a Československo” (Н. О. Лосский и Чехословакия): Studia Theologica 23 (2006), p. 45–61; Mornбr, P. Dielo Nikolaja O. Losského – prvý originálny plod autoafirmácie ruského ducha (Труд Н. О. Лосского – первый оригинальный плод самоутверждения русского духа), в LOSSKIJ, N. Filozofia intuitivismu (Философия интуитивизма), Poprad 2000, p. 9–29; Филатов, В. Жизнь и философская система Н.О.Лосского, в Лосский, Н, Избранное, Москва 1991, сс. 3-10; Лосский, Н. История русской философии, Москва 1991, сс. 320–338; Mesjankina, I. Neznámé Rusko (Ruský idealismus XX. století) (Неизвестная Россия (Русский идеализм ХХ-го века)), Prague 1995, p. 145.
(обратно)415
В монографии Slбdek, K. Vladimнr Solovjov: mystik a prorok (Владимир Соловьев: Мистик и пророк), Velehrad 2009, я рассматривал жизнь, сочинения и влияние В. Соловьева на последующие поколения русских мыслителей и особенно на взгляды в Первой Чехословацкой Республике, куда интуитивные посылки В. Соловьева о космическом всепоглощающем единстве проникли также благодаря влиянию Н. Лосского.
(обратно)416
Более подробную информацию об обстановке, в которой эмигрировавшие из России в период между двумя мировыми войнами жили в Чехословакии до настоящего времени, см. в моей монографии Slбdek, K. Ruskб diaspora v Českй republice (Русская диаспора в Чешской республике), Červenэ Kostelec 2010.
(обратно)417
Ср. Losskij, N. „Kritika filozofickэch smerov v estetike“ («Критика философских направлений в эстетике»): Filozofický sborník (Антология философии), 1 (1946), с. 16–19.
(обратно)418
Ibid., с. 22.
(обратно)419
Ср. ibid., с. 32.
(обратно)420
Ср., Losskij, N., „Umenie“ («Искусство»): Filozofický sborník (Антология философии), 2–3 (1946), с. 163.
(обратно)421
Ср. ibid., с. 168.
(обратно)422
Лосский Н. Достоевский и его христианское миропонимание, с. 127, в Лосский Н. Бог и мировое зло, М., 1999.
(обратно)423
Ibid.
(обратно)424
Более подробно об антропологических выводах из восточнохристианской духовности и мистике см., напр., в моей монографии: Sládek, K. Mystická teologie východoslovanských křesťanů(Мистическое богословие восточнославянских христиан). Červenэ Kostelec 2010.
(обратно)425
Лосский Н. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1999, с. 279.
(обратно)426
Ср.ibid., с. 281.
(обратно)427
Лосский Н. «Достоевский и его христианское миропонимание», с. 127, в Лосский Н. Бог и мировое зло, М., 1999.
(обратно)428
Ibid.
(обратно)429
Ibid.
(обратно)430
Лосский Н. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. Москва 1999, с. 283.
(обратно)431
Ibid., с. 286.
(обратно)432
Ibid., с. 287.
(обратно)433
Ср. ibid., с. 274.
(обратно)434
Ibid.
(обратно)435
Ср. ibid., с. 274–275.
(обратно)436
Доклад на международной конференции «Богословие красоты».
(обратно)437
В.С. Соловьев, Сочинения: В 2 т., т. 2. М., 1990. С. 547.
(обратно)438
Sytenko, Leonid and Tatiana, Wladimir Solowjow in der Kontinuitaet philosophischen Denk-ens, Schaffhausen 1997, (предисловие).
(обратно)439
См. S. Solovyov, Vladimir Solovyov His life and Creative Evolution, E. Gibson (transl.), 2 vols, Virginia: Eastern Christian Publications, 2000, P. 216–228, (оригинал: С.М. Соловьев, Владимир Соловьев: жизнь и творческая эволюция, М.: Республика, 1997) о биографических и библиографических подробностях создания этой работы. Соловьев так и не написал задуманных трех томов. Первый объемный том посвящен библейской истории, во втором должна была быть рассмотрена история Церкви.
(обратно)440
Ср. В. Соловьев, «История и будущность теократии», в: Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, репринт под ред. С.М. Соловьева и др., Bruxelles: Жизнь с Богом; Foyer Oriental Chretin, т. 4, 1966. C. 579.
(обратно)441
Ср. В. Соловьев, «Красота в природе», в: указ. соч., т. 6, 1966, C. 33. Соловьев использует эту знаменитую фразу в качестве эпиграфа.
(обратно)442
В. Соловьев, «Теоретическая философия», в: указ. соч., 1966.
(обратно)443
Ср. G. Kline, “Hegel and Solov’ev”, in: Hegel and the History of Philosophy, J. O’Malley, K. Algozon, F. Weiss (eds.), Proceedings of the 1972 Hegel Society of America Conference, The Hague, 1974. P. 166.
(обратно)444
Ср. В. Соловьев, «Критика отвлеченных начал», в: Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, репринт под ред. С.М. Соловьева и др., Bruxelles: Жизнь с Богом; Foyer Oriental Chretin, т. 2, 1966. C. 398–407, а также во многих других его сочинениях.
(обратно)445
Ср. В. Соловьев, «Общий смысл искусства», в: указ. соч., т. 6. С. 77.
(обратно)446
Ср. В. Соловьев, «Красота в природе», в: указ. соч., т. 6. С. 48, а также, «История и будущность теократии», в: указ. соч., т. 4. С. 574–579.
(обратно)447
Ср. В. Соловьев, «Красота в природе», в: указ. соч., т. 6.
(обратно)448
Ср. В. Соловьев, «Смысл любви», в: указ. соч., т. 7. С. 57, см. особенно первое примечание на указанной странице.
(обратно)449
Ср. В. Соловьев, «Общий смысл искусства», в: указ. соч., т. 6. С. 76.
(обратно)450
Ср. В. Соловьев, указ. соч., С. 74.
(обратно)451
Ср. В. Соловьев, «Критика отвлеченных начал», в: указ. соч., т. 2. С. 352 сл.
(обратно)452
Ср. V. Soloviev, “La Sophia”, in: Vladimir Soloviev, La Sophie et les autres écrits francais, F. Rouleau (ed.), Lausanne, 1978. С. 9–17.
(обратно)453
Ср. В. Соловьев, «Смысл любви», в: Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева …, т. 7. С. 59 сл.
(обратно)454
Ср. H. Gleixner, Russisches Denken im europäischen Dialog, Wien, 1997. P. 250; см. также, K. Breckner, “Vladimir Solov’oyv as the Mentor of Anti-Marxian Socialism. Concepts of Socialism by S.N. Trubetskoj, S.N. Bulgakov and N.A. Berdiaev”, in: Vladimir Solov’oyv. Reconciler and Polemicist, E. v. d. Zweerde, et al. (eds.), Louvain: Peters, 2000. P. 461.
(обратно)455
Ср. В. Соловьев, «Еврейство и христианский вопрос», в: Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева…, т. 3. С. 142–150.
(обратно)456
Ср. Ibid. С. 160 сл. Есть сведения (D. Strémooukhoff, Vladimir Solovievet son oeuvre messianique, Reprint, Lausanne, 1975. P. 298), что последняя молитва Соловьева перед смертью 31 июля 1900 г. (по старому стилю), была за еврейский народ. Его надежды на наступление теократии были связаны с ожиданием обращения иудеев. Многие ученые подтверждают, что Соловьев глубоко изучал католическую догматику. Он прочитал многотомный труд Перрона [Perron, Reflectiones theologicae], а также, вероятно, изучил в подлиннике почти все творения пап Григория VII и Иннокентия III. Работы русского философа История и будущность теократии (1884–1886) и Догматическое развитие церкви в связи с вопросом о соединении церквей (1886) посвящены анализу догматических различий между русским православием и римским католичеством. Он пришел к выводу, что между ними нет существенных разногласий. Надежда на близкое воссоединение обеих церквей во главе с Римом главенствовала в его историософии. Он даже, как считают, переписывался с папой по этому вопросу. Царская цензура запретила ему печатать произведения на эту тему.
(обратно)457
Ср. В. Соловьев, «Оправдание добра. Нравственная философия», в: указ. соч., т. 8. C. 553.
(обратно)458
Ср. С.Н. Булгаков, «Природа в философии Вл. Соловьева», в: О Владимире Соловьеве, репринт: Томск, 1997. С. 20, и ср. С. Соловьев, Vladimir Solovyov His life and Creative Evolution. P. 217.
(обратно)459
Ср. “Autobiographical Notes”, in: Sergius Bulgakov, A Bulgakov Anthology, J. Pain, N. Zernov (eds.), London, 1976. P. 4.
(обратно)460
Ср. С. Булгаков, Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. С. 320 сл. Ср. Ibid. С. 304–330 по поводу искусства и экономики. В принципе, они носят «софийный» характер. До грехопадения «белая магия» определяла отношение человека и творения. Художественное и хозяйственное творчество не были обособлены. Жизненный процесс сам по себе достигал красоту и гармонию. После грехопадения «серая магия» сделала человека пленником природы, подчинила его суровой необходимости труда. С той поры искусство и хозяйство стали диаметрально противоположными формами творчества: если искусство создает красоту в «эротическом» (в платоновском смысле) восторге, то хозяйство просто борется за материальное выживание в плену причинности. Экономика подчинена времени, пространству и всевозможным обстоятельствам.
(обратно)461
Ср. ibid. С. 320–325.
(обратно)462
Ср. ibid. С. 319.
(обратно)463
Ср. ibid. С. 321 сл.
(обратно)464
Ср. P. Valliere, Modern Russian Theology. Bukharev, Soloviev, Bulgakov. Orthodox Theology in a New Key, Clark Ltd. 2000. P. 264 сл.
(обратно)465
Ср. S. Bulgakov, Sophia. The Wisdom of God. An Outline of Sophiology, 1937, N.Y., 1993. P. 33–35, и ср. «Ипостась и ипостасность. (Схолии к «Свету Невечернему»)», 1924–1925, в: Исследования по истории русской мысли, M.A. Колеров (ред.), т. 6, Москва, 2001, С. 28 сл.
(обратно)466
Ср. С. Булгаков, Свет невечерний. Созерцания и умозрения. С. 321.
(обратно)467
Ср. ibid. С. 322.
(обратно)468
Ср. ibid. С. 323.
(обратно)469
Ср. S. Bulgakov, Sophia. The Wisdom of God. An Outline of Sophiology, P. 98; S. Bulgakov, The Orthodox Church, New York, 1988. P. 154.
(обратно)470
Ср. С. Булгаков, Свет невечерний. Созерцания и умозрения. С. 321.
(обратно)471
Ср. S. Bulgakov, The Orthodox Church. P. 154. («Православие, [Этика в православии]»).
(обратно)472
Ср. С. Булгаков, Свет невечерний. Созерцания и умозрения. С. 330.
(обратно)473
Ср. ibid. С. 333.
(обратно)



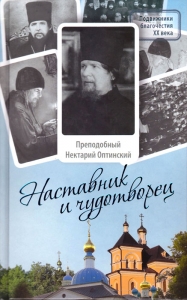
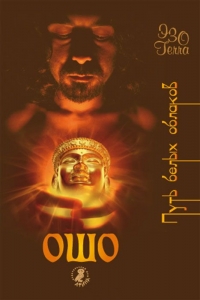


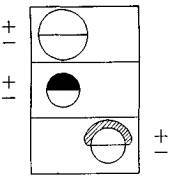
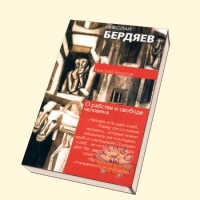


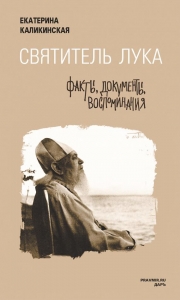
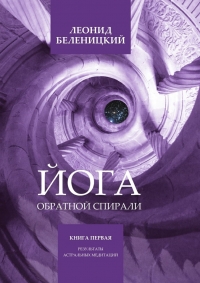
Комментарии к книге «Богословие красоты», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев