Время[1]
Недавно я запаздывал со сдачей рукописи своему издателю. Каково было мое оправдание? В общем и целом, одно из самых популярных в Америке: у меня не было «времени». Давайте исследуем это оправдание. Почему нам кажется, то у нас ни для чего нету времени, меньше всего для молитвы?
Я все время чувствую себя виновным из-за этого, и предпологаю, что большинство из вас тоже. Я думаю, само большое наше препятствие в отношениях с Богом(после греха, разумеется), это «отсутствие времени».Если бы я отдавал моим детям столько времени, сколько отдаю Богу, я мог был бы преследуем по обвинению в плохом обращении с детьми. Если бы я проводил настолько мало времени с женой, сколько я провожу с Богом, она бы имела все оснвания для того чтобы покинуть семью и развестись.
Мы все знаем из опыта, что когда мы отдаем Богу наше время, мы счастливы. Когда мы обманываем Бога, мы также обманываем себя. Мы знаем это из тысячи повторяющихся экспериметов. Но несмотря на это мы мы продолжаем убегать от Бога, от союза с Богом, от молитвы, как если бы она была горьким лекарством. Мы настолько боимся тишины и уединения, необходимых для личной молитвы, что отдаем их нашим самым ужасным преступникам, которых наш разум может постигнуть – «одиночному заключению».
Почему нам кажется, что у нас меньше времени, чем было у наших предков? Ведь на самом деле в нашем распоряжении одинаковое количество времени: двадцать четыре часа каждый день. Технологии должны были дать нам дополнительное время. Наши жизни дллжны были сочиться свободным временем. О, все эти устройства, призванные сохранить наше время! До настоящего момента они делали обратное действие. Чем больше такого рода устройств мы имеем, тем меньше у нас времени.(Единственный путь получить время — повернуть стрелки часов назад, не вперед!). Так что же пошло не так?
У наших пра-пра бабушек очень много времени уходило на ручное полоскание белья, мы же просто нажимаем кнопку на стиральной машине. Нашим предкам приходилось выращивать, ловить и резать свою собственную еду, мы же просто хотим за покупками в супермаркет, открываем микроволновку, и опять же нажимаем кнопку. Несмотря на это, мы гораздо больше гонимся за временем, чем наши предки. Почему?
В большинстве древних культур, богатые, для выполнения ручной работы имели рабов, что позволяло им наслаждаться всеми преимуществами свободного времени. Сегодня машины нам заменили рабов, но при этом у нас меньше свободного времени, не больше, как могло бы показаться. Почему?
Здесь не место ставить общую оценку болезням нашего общества(хотя наводящие мысли есть у Блеза Паскаля, в его труде «Мысли», особенно про «Развлечения»). Но здесь ввполне уместно спросить, что мы говорим в оправдание, когда мы не молимся. Я думаю также что эта оценка имеет множество областей применения.
«Все наше существо начинается с нашими мыслями, оно движется одновременно с нашими мыслями, и заканчивается, когда наши мысли заканчиваются». Таково мудрое изречени Будды. Начнем с наших мыслей(курсив автора) о времени. У нас нету времени на молитву, потому что неверны наши мысли о времени и молитве.
Мы ставим время и молитву в обратное отношение. Мы думаем, время определяет нашу молитву, но на самом деле, молитва определяет наше время. Мы думаем, что нехватка времени причина недостатка молитвы, на самом деле наш недостаток молитвы — причинан ехватки времени.
Когда маленький мальчик предложил Христу пять хлебов и пять рыб, он умножил их чудесным образом. Тоже самое он делает и с нашим временем, но только если мы посвятим ему время в молитве. Это буквальное чудо, до сих пор я знаю это из повторяющихся опытов. Каждый день, когда я говорю, что я слишком занят для молитвы, мне кажется что у меня нет времени, что я недостаточно дел выполнил, и что я порабощен временем. Каждый день, когда я говорю, что я слишком занят, чтобы немолиться, каждый день я предлагаю Христу хлеба-времени и рыбы-жизни, он невероятным образом умнажает их, и я разделяю с ним покорение времени. Я понятия не имею, как он это делает, но я знаю что он это делает, раз за разом.
И пока я сопротивляюсь пожертвовать Ему мои хлеба и рыбы. Я глупец. Это значит именно то, что означает первородных грех: духовное безумие, предпочтение страдания счастью.
Мы должны восстановить нашу духовную святость. Один большой шаг в этом направление, это начать правильно мыслить время.
Время это как декорации к спектаклю. Декорации дейсвительно являются частью спектакля, определяются спектаклем. Но наши мысли абсолютно перевернуты: мы считаем, что спектакль находиться в декорациях. Мы думаем, что тема, смысл, дух спектакля находиться в материальных декорациях, вместо того, чтобы перевернуть все наоборот.
Тоже самое с тем, как душа находиться в теле. На самом деле, тело находиться в душе. Так говорит св. Фома Аквинский. И с тех пор, как время отмеряет движение материальных тел, с тех пор как молитва отмеряет движение души, время на самом деле находиться в молитве, а не молитва во времени. Молитва определяет и изменяет и невероятным образом умножает время(Хлеба и рыбы).
Но молитва умножает время только если мы пожертвуем, и когда мы пожертвуем наше время, предложим его. В этом вся загвоздка. Мы боимся жертвы. Это нечто вроде смерти.
Все настоящие мировые религии построены на жертве, на желании смерти. Только ложная религия массовой психологии(которая проникла даже в современную церковь[2]) проходит мимо этого факта. Даже язычники и политеисты знают это. Самый популярный бог в Индии — Шива, Разрушитель, а самая популярная богиня — Кали, его женский аналог. После Голгофы, каким образом христиане могут знать это хуже? Наш Спаситель неоднократно учил нас, что пока мы не возмем наш крест и не последуем за ним, мы не сможем быть его учениками.
Это значит несколько ужасных и трудных вещей; но одна простых и легких вещей заключается в том, что мы должны пожертвовать наше время Богу. Пока время есть жизнь «время жизни».
Все очень просто: чтобы создать время для молитвы, мы должны уничтожить время для чего то еще. Мы должны что-то убить, отвергнуть, чему-то сказать «нет».
Чему? Разрешите мне предложить некоторую простую, очевидную и вместе с тем радикальную мысль: телевидение. Уничтожте телевизор. Поживите месяц без ннего. Я призываю вас это сделать.Если Вы не можете этого сделать, то это означает, что телевизор — Ваш наркотик, и вы зависимый. «Человек — раб того, что он не может отделить от себя, что вместе с тем меньше, чем он сам» сказал Джордж Макдональд.
Все известных мне люди, и семьи, которые это сделали(добровольно), очень этому рады. Телевизор — большая канализационная труба, и, в любом случае, зачем засорять свой разум и свою душу продукцией самой фанатичной антирелигиозной элиты в нашем обществе? Даже если бы не было ничего такого, ради чего следовало бы пожертвовать телевизором, независимо от этого, было бы хорошо им пожертвовать, чтобы сохранить моральную святость и интеллигентность. Узнайте, сколько часов в день Вы смотрите телевизор, и потратьте половину этого времени на молитву. Вы получите тройную пользу: очистку от мусора, время для молитвы, и еще время в запасе.
Альтернатива этому — умственное рабство, которое можно легко увидеть вокруг нас, сокрушительная сила — беспокойство и нескончаемая погоня, никогда не достигающая цели, потому что «цель» находиться не во времени, но в вечности. Современный мир несчастлив, потому что, он не касается вечности. Всякое настоящее счастье — в предвкушении вечности.
Вечность — это не будущее, но настоящее. Будущего не существует, пока не существует. Одна из самых смехотворных и успешных лжей дьявола — идея, что мы должны посвятить наши жизни преследованию и преобретению вещей, которых у нас нет, вместо того, чтобы наслаждаться теми вещами, которые у нас есть. Это делает нас рабами времени, несуществующего будущего, навсегда «Завтрашний день всегда далеко».
Первое правило для молитвы — самые важные первые шаги, не о том, как молиться, но чтобы просто молиться; не совершенствоваться и совершить молитву, но просто начать её. Когда машина в движении, становиться легче повернуть её вправо, но гораздо сложнее завести её, когда она заглохла. И молитва угасла в нашем мире.
Перевод - М.А. Гринзайд
Духовная история. Как мы оказались на краю.[3]
С разных точек зрения можно рассказать историю нашей цивилизации. Исторические книжки, как правило, рассказывают её с какой-то конкретной точки зрении, и не всегда самой важной. И то, что является самым важным для историков, не обязательно является самым важным для Бога. Он смотрит внутрь, в то время как мы видим лишь внешнюю оболочку.
Более того, Бог знает смысл истории лучше историков, потому что это «Его история». Он — автор истории, а мы её герои. Это не отменяет того, что мы совершаем свободные действия, определяя ткань истории, как и Бог; в точности как и Капитан Ахаб своими действиями участвует в развитии сюжета Моби Дика, но тоже самое делает и Мелвилл.
Разумеется, мы не можем полностью, понять точку зрения Бога, но мы можем стремиться её понять, и двигаться к ней, вместо того, чтобы её игнорировать. Мы также можем прислушаться и сосредоточиться, когда Бог открывает нам улики для её понимания. Давайте же попробуем написать краткое изложение духовной истории Европейской цивилизации, историю её души, а не тела.
В целом, её структура будет выглядеть как буква H.
Представьте себе две реки, истекающие из болота, которые затем сливаются, и опять расходятся. Движение этой истории, шаги, которые наша цивилизация делала на своем пути, представляют собой десять этапов:
1. Период мифа.
2. Пробуждение само-сознания, «Осевой период»
3. Гебраизм: добродетель в действии.
4. Эллинизм: добродетель в теории.
5. Средневековый Христианский синтез.
6. Реннесанс: возвращение к Эллинизму.
7. Реформация: возвращение к Гебраизму.
8. Классическая современность: Рационализм просвещения, секуляризованный Элленизм.
9. Антисовременность: Романтический иррационализм, секуляризованный Гебраизм.
10. Постмодернизм, настоящее время: новый «Осевой период»?
1. Миф.
Приблизительно 90 процентов того времени, что наш вид живет на этой Планете, мы думали и жили мифом. Не смотря на это, мы знаем и заботимся об этом периоде меньше, чем о любом другом, скорее всего, из-за нашего хронологического снобизма.
Слово миф означает «история». Мифы — это живые картинки, которые рождаются из воображения, этого глубочайшего, творческого, бессознательного колодца внутри нас, который психологи только начинают открывать в нашем веке. Эти истории и образы, которыми существуют мифы до сих пор оказывают на нас сильное воздействие, на бессознательном уровне, преимущественно в искусстве, а больше всего - в кино, этой огромной пробуждающей машине. Юнгианские психологи могли бы днями изучать программы МТВ, они витком набиты архетипами, мифическими образами.
Миф непосредственен и спонтанен. Он содержит красоту, а не истину, или только истину красоты самой по себе. Нам может показаться проникновенным высказывание Китса: «красота это истина, истина это красота», но это оно вместе с тем вводит нас в замешательство. Такое высказывание не будет отсутствием уважения красоте, которая является одной из трех Божиих пророков в человеческой душе, другие два — праведность и истина. Красота узнается через воображение, праведность — через совесть, а истина — через разум(в большем, древнем понимании мудрости, не просто рациональности; в смысле понимания, а не вычисления; разума, а не рассуждения). Все три сходящиеся потока еврейских пророков праведности, греческих философов, языческих создателей мифов, указывают нам на Мессию(см. Пункт 4).
Миф не ищет и тем более не дает нам ни причин, ни законов. Он не спрашивает и не приказывает. Миф не для объяснения праведности, морали. Действительно, мифы пытаются объяснить происхождения вещей, но такое объяснение не выдерживает рационального анализа. Мифы не стараются быть рациональными. Не стараются они и быть нравственными, хотя мифы часто заставляют людей что-то делать, к примеру, предпринимать мучительные попытки доказать свою мужественность, или произносить магические слова, чтобы получить помощь от местных богов, для победы над врагом. Но это не нравственно. В мифических обществах нравственность исходила не от священников, а от философов. Исключением являются евреи, которые одни среди всех древних народов не были задействованы мифом, и идентифицировали единственный Объект своего религиозного трепета и поклонения с источником совести и закона. Врожденное чувство нравственности, или совести, достаточно сильно отличается от врожденного чувства трепета, изумления, поклонения, и трансцедентной тайны(«сверхъестественного»), которая выражена мифом.
Поклонение и нравственность, существовали раздельно в язычестве в течении многих тысяч лет. Только один народ соединил их, и его собственные летописи утверждают, что не он это сделал, а Бог. Его притязание быть «избранным народом» Бога было самым застенчивым из всех возможных объяснений собственного гения.
2. Осевой период
Карл Ясперс использует этот термин для шестого века до Рождества Христова, потому что в этом веке человеческая сознательность по всему миру начала поворачиваться, как если бы она была на своей оси, лицом к себе. Сознательность стала само-сознательностью. Это произошло независимо, приблизительно в одно и тоже время по всему миру. Это было либо совпадением, либо заговором; либо случайностью, либо Божественным промыслом. Чем больше мы на все это смотрим, тем меньше нам кажется, что это было случайно.
В Китае, к примеру, мы найдем две великие фигуры: Конфуций и Лао-Цзы. Конфуция заменил преднамеренную традицию «традиционной традицией», а Лао-Цзы заменил индивидуальный мистический опыт Дао, или космической силы, авторитарной и безличной судьбой И Чинг, в своем небольшом шедевре, Дао Те Чинг.
В Индии, Гаутама Будда отказался от книг и авторитета Браминов, для поиска нирваны и осмотрительно сказал миру, что любой может сделать так же: «Будьте сами себе светильниками».
В Персии, Зороастр пророческой и моралистической религией заменил анимизм, трибиализм, и поклонение природе.
В Греции, философы и ученые дали революционный толчок, начав задавать вопросы о мире и жизни, вопросы, на которые поэты и мифотворцы не могли ответить.
В Израиле, великие пророки требовали личной и общественной справедливости и святости, а не простого соблюдения закона.
Везде, разными путями, человеческая сознательность начала создавать новый, внутрь обращенный запрос, стала сознавать свою силу и ответственность. В некотором смысле, современный человек был рожден двадцать шесть веков назад. Каждый последующий шаг в нашей духовной истории зависел от этого события, находился в его контексте.
3. Эллинизм
Эллинизмом Мэтью Анольд[4] называл греческий дух. Даже когда как политическая единица Эллада (Греция) умерла, дух её был сохранен в Римском теле таким образом, что мы можем осмысленно использовать термин «классическая» для культур как Греции, так и Рима.
Греки, если можно так выразиться, думали и говорили больше, чем кто либо другой. Лука, во время написания Деяний, должен был объяснить своей не-греческой аудитории это странное поведение «Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.»(17:21, Синодальный перевод). Самое большое значение греки придавали слову логос, которое означало(среди многих своих прочих значений) «Слово, язык, рассуждение, мысль, разум или понятная истина». Так, Иоанн начинает свое Евенгелие с изумительного притязания, что логос, который греки искали, Истина, существовало как Бог, и с Богом, «В начале», и «стала плотью», стала Иисусом, Иисусом, который сказал «Я есть истина».
Вид этой истины, которую греки мыслили, обсуждали, искали, в своих мыслях, обсуждениях и поисках больше всего — это истина о добродетели. Сократ, этот выдующийся грек, один из двух или трех людей в истории этой планеты, которые существенно изменили мир и оказали огромное влияние на все последующие эпохи, практически не размышлял ни о чем другом. Каждый его диалог это поиск истины о какой-либо конкретной добродетели.
Мы можем противопоставить Эллинский и Гебраистический разум, как это делает Мэтью Арнольд, противопостовляя теорию и практику, интеллектуализм и волюнтаризм, приоритет мысли и приоритет воли, выбора, действия. Думая о добродетели, греки представляли добродетель в теоретической сфере; евреи - в практической. Так, для Сократа и Платона, правильное мышление является добродетелью. Добродетель — это знание, а знание — это добродетель. Если мы будем знать добро, то мы будем поступать по-доброму. Воля, выбор и действие обязательно следуют за мышлением. Мы всегда выбираем то, что нам кажется выгодным. Если наши мысли правильны, будет правилен и наш выбор. Таким образом, философская мудрость является предписанием для моральной утопии, как излагает Платон в своей Республике.
4. Гебраизм
В греческой схеме отсутствовали две важнейшие категории человеческого существования, которые есть в еврейской и христианской перспективе: грех и вера, категории отношения с Богом. Эти категории не просто этические, они религиозные. Религиозность содержит этический элемент, но она идет выше его. Религиозный еврей или христианин должен быть этически добродетелен, но, помимо этого, он также должен иметь религиозную веру. Первая из двух важнейших заповедей религиозная(возлюби Господа всем сердцем и всей душой), вторая — этическая(возлюби ближнего твоего).
Для Гебраизма вера(верность) первична; добродетель - вторична, а знание — третье по важности. Знание Бога и добродетели не предшевствует их осуществлению, как это было для греков. Скорее, оно встроено в практику, или зависит от неё.Таким образом, Иисус дает совершенно гебраистский ответ на вопрос: «Как мы можем узнать твое учение, оно от Бога ил нет?», когда он говорит «кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю»(Иоанн. 7:17). Для грека, голова судит сердце: «Живи в соответствии с разумом». Для еврея, сердце судит голову: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни»(Пр. 4:23).(Сердце в Библли означает «волю», а не чувство. Гебраизм практичен, а не сентиментален.)
5. Средневековый христианский синтез
Христианская добродетель фундаментально ни чем не отличается от еврейской добродетели, потому что не только евреи и христиане, но почти все люди знают разницу между добром и злом(религии отличаются в богословии, в этической части между ними практически нет различий) и еще потому что евреи и христиане верят в одного и того же Бога, автора морального закона. Но христианство, в отличии от иудаизма — прозилетическая религия. Оно отправляло миссионеров в Греко-Римский мир, чтобы обратить его, и «то», что подлежало обращению включало в себя в том числе и греческое представлении о добродетели.
У христианами с самого начала существовало три различных отношения к языческому миру и к языческому понимаю добродетели в частности:(1) некритический синтез, (2) критический синтез, и (3) чистая критика и противопостовление. Различные христианские мыслители принимали либо (1) все, (2) некоторые или (3) никакие Греческие идеалы добродетели. Величайшие христианские мыслители, такие как блаженный Августин и Фома Аквинский, шли вторым путем, подвергаясь критике с обоих сторон, вплоть до настоящего времени. Модернисты считали их фундаменталистами, а фундаменталисты считали их модернистами.
Возможно, синтез - не подходящее слово, для великой традиции, которая разрабатывалась в течении тысячелетия Средних веков. Скорее, это было глубокое христианское осмысление греческой философии и морали. Это не было подобно зайцу, прилипнувшему к морковке, но зайцу, евшему и переваривающему морковку.
6 и 7. Ренессанс и Реформация
Две силы, разделившие пряди каната, которые Средние века сдерживали вместе. Мы больше не живем в средние века, в первую очередь из-за Ренессанса и Реформации.
Ренессанс пытался вернуться к Греко-Римскому классицизму и гуманизму, без средневековых добавок схоластической философии и теологии. Реформация пыталась вернуться к более простому, до-средневековому христианству Нового Завета, христианству, без добавок в виде греческого рационализма, римского легализма и институционализма, которые, по мыслям реформаторов, развратили Католичесую Церковь. Сегодня, с высоты наших лет, мы называем Ренессанс и Реформацию прогрессивными движениями, потому что они вывели нас из средневековья и привели к современному миру. Однако мыслители тех времен считали себя частью ностальгических или возвратных движений, чистых движений: Ренессанс возвращался к Эллинизму, Реформация к Гебраизму.
Это деление до сих пор с нами. Гебраизм и Элленизм, сердце и голова, воля и разум, до сих пор разделены. Неудачная попытка Ницше найти общий центр у этих двух сил(которые он называл «Дионисическими» и «Аполлоническими», в честь греческих богов земли и неба, света и тьмы, растительности и солнца), привела его к сумасшествию. По дороге к безумию, блеск был сброшен, как искра с разрушительного огня. Все это верно как для нашей цивилизации в целом, таки и для Ницше в частности. Я не прославляю безумца, но Ницше был пророком и зеркалом безумия нашей цивилизации, и мы можем многому у него научиться.
8. Просвещение
Сам термин просвещение таит в себе иронию; духовно, век просвещения был самым темным в истории. Сциентизм и рационализм заменили веру; сердце человеческое сузилось и застыло в подчинении своим собственным богам, изобретениям своиз собственных рук. Г.К. Честертон был абсолютно прав, когда говорил о трех эрах в нашей истории — античной, средневековой и современной(до-Христианской, Христианской и пост-Христинской), суммируя все её развитие в трех предложениях: «Язычество было самой большой вещью в мире; Христианство еще больше; а все, что появлялось после - было сравнительно мало».
Рационализм просвещения как бы срезал всю верхушку греческих идеалов, оставив только дно; отрезал мудрость, оставил логику, превратил разум в рассуждение. С этим новым, хорошо отлаженным, инструментом, можно было завоевать мир. Научный метод стал инструментом для нового summum bonnum(наивысшего блага), нового смысла жизни: «завоевания природы человеком». Александер Поуп подытожил веру Просвещения в двух строках:
«Темнотой был мир окутан – Бог сказал: Да будет Ньютон!»
9. Романтизм
Романтизм девятнадцатого века и его философское дитя, Экзистенционализм, был реакцией на Просвещенческий рационализм, восстанием сердца против головы. Но как Просвещенческая голова была подрезана и секуляризированна, так и Романтическое сердце было подрезанно и секуляризированно. Оно было чувстсвом вместо воли, и старалось соотноситься с природой, а не с Богом.
10. Современность
Куда мы теперь идем? Почти все соглашаются с тем, что мы находимся в конце эпохи, возможно, на грани нового осевого периода. Мы оставили позади Новое время так же, как и оставили позади Античность. Мы «Постмодерн». Но мы пока что не знаем, что это означает.
Существуют лишь два выхода из нашего уникального эксперимента — жизни, без набора объективных ценностей — вовращение или разрушение. С того момента, как сани начинают свой путь по скользкому склону, двигаясь прямо к бездне, они могут либо затормозить, либо разбиться; и никакая реторика о «прогрессе» не сможет предупредить об этом. Если мы умрем, крики «прогресс», также не воскресят нас к жизни.
Однако наш диагноз дает нам возможность надежды. Мы пришли из места, близкого к дому; следовательно, существует возможность вернуться. Наша болезнь не полностью наследственная. Конечно же, в нас есть гораздо глубокая наследственная болезнь. Она называется «Первородный грех», и для неё необходимо лекарство, гораздо более глубокое, чем философия, которое было нам предоставленно, и которое вместе с тем является «самым глубоким рассказом, когда либо сказанным».
Но здесь, на природном уровне, тоже есть лекарство, есть надежда, дом, чтобы вернуться. Это наша собственная человеческая природа. Четыре кардинальные добродетели[5] — являются сердцем естественной нравственности, и они неикоренимо присутствуют в нашей глубинной природе. Эта природа слаба и поврежденна грехом, но она не уничтожена. Природная добродетель не может спасти наши души, но она может спасти нашу цивилизацию, и это не будет подвигом. Но эта природная, естесственная добродетель может спасти нас только в том случае, если мы будем знать и практиковать её.
На надестественном уровне также есть надежда, потому что на этом уровне также есть дом, из которого мы пришли и это - Рай — несмотря на то, что дорога назад возможна только с благодатью. С того момента, как мы однажды были дома, есть дом и есть нажежда, возможность вернуться — или, возможно, что-то еще лучше. Дорога в Рай это три Теологические добродетелями, которые стоят над естесством — Вера, Надежда и Любовь; и счастье или блаженство, которое исходит от них.
Перевод - М.А. Гринзайд
Кант (из серии «Столпы неверия»)
Примечание переводчика: В данной статье доктор Крайфт рассматривает философию Канта в самых общих чертах. Некоторые её положения могут быть поняты из статьи в неправильном смысле. Лучше перед её прочтением уже быть знакомым с философией Канта. Поэтому, мы настоятельно рекомендуем Вам в оригинале прочитать кантовскую «Критику чистого разума».
Немногие философы в истории были такими нечитабельными и сухими, как Эммануил Кант. Тем не менее, мало кто оказал столь разрушительное воздействие на человеческую мысль.
Рассказывают, что Лампе, преданный слуга Канта, внимательно прочитывал каждую вещь, опубликованную своим хозяином, но когда философ опубликовал свою самую значительную работу, Критику чистого разума, Лампе начал её читать, но и так не закончил, потому что, как он сказал, если бы он полностью прочитал её, то попал бы в психиатрическую лечебницу. С тех пор, многие студенты испытывают схожие чувства.
Кроме того, этот абстрактный профессор, разбирающий в абстрактном стиле абстрактный вопрос, я считаю, - первичный источник идеи, которая подвергает веру (и поэтому душу) большей опасности, чем любая другая; идея о том, что истина субъективна.
Простые горожане его родного Кенигсберга, где он жил и писал в последней половине XVII века, понимали это лучше, чем профессиональные ученые, так, они назвали Канта "Разрушителем и называли своих собак в его честь.
Он был уравновешенным, приятным и благочестивым человеком, настолько пунктуальным, что его соседи сверяли часы завидев его за совершением ежедневных прогулок. Главное намерение его философии было благородным: восстановить человеческое достоинство посреди скептического мира, поклоняющегося науке.
Следующая история делает это намерение понятным. Однажды Кант посетил лекцию материалистического астронома, которая была посвящена месту человека во вселенной. Когда ученый завершил свою лекцию словами: Теперь вы видите, с точки зрения астрономии человек представляется незначительным, Кант возразил: Профессор, Вы забыли самое главное, человек является астрономом.
Больше, чем любой другой мыслитель, Кант дал толчок типично современному повороту от объективного к субъективному. Это может звучать многообещающе до тех пор, пока мы не узнаем, что это значило для Канта сведение самой истины к нашей субъективности. Эта кантовская идея привела впоследствии к катастрофическим последствиям.
Если нам когда-нибудь доводилось вести беседу о вере с неверующими, то мы знаем из собственного опыта, что в наше время наиболее частое препятствие к вере это не какое-то интеллектуальное препятствие. Не проблема зла или догмат Троицы является этим препятствием, но предположение, что религия в принципе не может иметь отношение к фактам и объективной истине; что любая попытка убедить другого человека в истинности своей веры объективной истинности, всеобщей это немыслимая самонадеянность.
Дело религии, следуя данному подходу, - практика, а не теория; ценности, а не факты; нечто субъективное и личное, а не объективное и общественное.
Догма здесь выступает в качестве дополнения, и дополнения плохого, ведь догма воспитывает догматизм. Религия, таким образом, равняется этике. А так как христианская этика очень похожа на этику основных мировых религий, не имеет значения являешься ли ты христианином или нет; можно ли тебя считать хорошим человеком вот, что важно(Люди, которые в это верят, считают что любой человек, кроме Адольфа Гитлера и Чарльза Мэнсона[6] хороший).
Наибольшую вину за подобный образ мыслей несет именно Кант. Он помог похоронить средневековый синтез веры и разума. Кант заявлял, что его философия избавится от претензий рассудка, чтобы создать комнату для веры как будто бы вера и рассудок были не союзниками, а заклятыми врагами. В кантовской философии,лютеровский развод между разумом и верой доходит до заключительной стадии.
Кант полагал, что религия не может быть делом рассудка, аргументации или даже знания; никакие свидетельства не могут выступать в пользу религии. Это допущение глубоко повлияло на умы большей части людей, занимающихся религиозным образованием (составителей катехизисов, преподавателей богословия) сегодня. Эти люди отвернулись от голых костей веры, объективных фактов, записанных в Писании и обобщенных в Апостольском Символе Веры. Они совершили развод между верой и рассудком, и поженили её на популярной психологии, потому что они последовали за кантовской философией.
Две вещи наполняют мою душу удивлением и благоговением, признавался Кант: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. То, перед чем человек благоговеет, наполняет его сердце и направляет его мысль. Заметьте, удивление у Канта вызывают только две вещи: не Бог, не Христос, не Творение, Воплощение, Воскресение и Суд, но звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Звездное небо надо мной это известная современной науке физическая вселенная. Кант низводит все остальное до субъективности. Моральный закон не вовне, но внутри, не объективен, а субъективен; не Естественный Закон, исходящий от Бога, с объективным понятием добра и зла, а закон человеческий, по которому мы сами выбираем себе ограничения.(Но если мы сами себя ограничиваем, то ограничены ли мы на самом деле?). Таким образом, мораль всего лишь субъективное понятие. У неё нет никакого содержания, кроме Золотого Правила (Кантовский Категорический императив).
Если бы нравственный закон исходил от Бога, а не от человека, утверждает Кант, то человек не был бы свободен в смысле автономности. Так оно и есть, затем философ утверждает, что человек должен быть автономен, следовательно моральный закон исходит не от Бога, а от человека. Церковь идет от той же предпосылки, что и Кант: моральный закон исходит от Бога, следовательно человек не автономен. У него есть свобода следовать или не следовать закону, но у него нет свободы создать закон.
Хотя Кант и считал себя христианином, он отрицал нашу способности знать о существовании: (1) Бога, (2) Свободной воли и (3) Бессмертия. Он утверждал, что мы должны жить, как если бы эти три идеи были истинными, потому что если мы будем верить в них, то мы будем серьезно относится к нравственности. Это оправдание веры чисто практическими аргументами является ужасной ошибкой. Кант верит в Бога не потому что он истинен, а потому что он полезен. Почему тогда не верить в Санта Клауса? Если бы я был Богом, то я бы предпочел честного атеиста нечестному теисту, и Кант, на мой взгляд, именно нечестный теист, потому что не существует иной причины честному человеку поверить во что либо, кроме истинности предмета веры.
Люди, пытающиеся преподнести христианскую веру в кантианском смысле как систему ценностей, а не как истину, никогда не имели успеха в длительной перспективе. Почему, с таким значительным числом соревнующихся систем ценностей на рынке, кто-то должен предпочесть христианский вариант системам более простым, не имеющим за собой теологического багажа и таких неудобных нравственных запросов?
Кант проиграл итоговое сражение, покинув поле фактов. Он верил в величайший миф века Просвещения (Ироническое название): что ньютоновская наука пришла к нам надолго и, чтобы выстоять, христианству требовалось найти себе новое место в новом умственном ландшафте, сформированным новой наукой. Единственными оставшимся местом была субъективность.
Из этого следовало игнорирование или интерпретирование в качестве мифа сверхъестественных и чудесных заявлений традиционного христианства. Стратегия Канта была такой же как и у Рудольфа Бультмана, отца демифологизации и человека, который как никто другой ответственен за учеников католических колледжей, потерявших веру. Многие профессора богословия следуют за его теориями критицизма, которые сводят библейские свидетельства о чудесах к простым мифам, ценностям и благочестивым толкованиям.
Вот что Бультман сказал по поводу предполагаемого конфликта между наукой и верой: Научная картина мира останется с нами и отстоит свои права у любой теологии, конфликтующей с ней, какой бы внушительной та не была. Примечательно, что сама научная картина мира ньютоновской физики, принятая Кантом и Бультманом как нечто абсолютное и неизменное, сегодня практически повсеместно была отвергнута самими учеными!
Основной вопрос, которым задается Кант: Как мы можем знать истину? Ранее он придерживался ответа, данного Рационализмом, и гласящего, что мы можем познать истину интеллектом, а не чувствами и что интеллект обладает своими собственными врожденными идеями. Затем он прочитал Эмпириста Дэвида Юма, который, по словам философа: разбудил меня от догматического сна. Как и остальные Эмпиристы Юм полагал, что мы можем познать истину только чувствами и что у нас нет врожденных идей. Но допущения Юма привели его к выводам Скептицизма, отрицания того что мы в принципе можем знать истину. Кант считал недопустимым как догматизм Рационализма так и скептицизм Эмпиризма, и искал третий путь.
Такой третий путь был известен со времен Аристотеля. Им была философия Реализма, здравого смысла. По Реализму, мы можем познавать истину как чувствами так и интеллектом, если они будут должным образом работать вместе, как два лезвия ножниц. Вместо возвращения к традиционному реализму, Кант разработал совершенно новую теорию познания, которую обычно называют Идеализмом. Он называл её своей Коперниканской революцией в философии. Её простейшее название Субъективизм. Она заключается в переопределении истины как субъективной, а не объективной.
Все предшествующие Канту философы предполагали, что истина объективна. Это совпадает с тем, что мы обычно имеем виду под истиной: знание о том, что есть, соответствие мышления объективной реальности. Некоторые философы (как Рационалисты) думали, что мы можем достичь этой цели только через рассудок. РанниеЭмпиристы (как Локк) думали, что мы можем достичь её с помощью чувств. Позднейшие, скептические Эмпиристы думали, что мы в принципе не можем её достичь. Кант отрицал допущение, общее для всех соревнующихся философий, он отвергал то, что мы вообще должны достигать её, что истина означает соответствие объективной реальности. До сих пор предполагалось, что все наше знание должно соответствовать объектамно мы добьемся большего, если предположим обратное, что объекты мысли должны соответствовать нашему знанию.
Кант утверждал, что все наше знание субъективно. Что ж, это утверждение само по себе субъективно? Если да, то знание этого факта также субъективно, и так далее, и мы в итоге оказываемся сведены к бесконечному зеркальному залу. Кантовская философия является идеальной философией ада. Возможно, проклятые коллективно верят в то, что они не находятся в аду, все просто происходит в их изображении. И возможно оно так и есть; возможно, это и означает ад.
Переводчик - М. Гринзайд.
Никколо Макиавелли (из серии «Столпы неверия»)[7]
Никколо Макиавелли (1496-1527) стоял у истоков современной политической и общественной философии, его идеи привели к одной из самых радикальных революций в истории человеческой мысли. Сам философ прекрасно понимал степень своей радикальности. Как первооткрыватель нового мира, он сравнивал себя Колумбом, как предводитель нового избранного народа, призванный вывести его из подчинения моральным идеям к обетованной земле силы и прагматизма, он сравнивал себя с Моисеем.
Произведенная Макиавелли революция может быть сведена к шести пунктам.
Все предыдущие политические мыслители видели добродетель целью политической жизни. Хорошим обществом представлялось то, которое состоит из хороших людей. До Макиавелли не было никаких противоречий между личной и общественной добродетелью. После Макиавелли, политика перестала быть искусством добра, но стала искусством возможностей. И его влияние здесь трудно переоценить. Впоследствии, все крупнейшие общественные и политические мыслители (Гоббс, Локк, Руссо, Миль, Кант, Гегель, Маркс, Ницше, Дьюи) полностью отвергли добродетель как цель, сразу после того как Макиавелли опустил планку и почти все начали приветствовать новое мачтовое знамя.
Макиавелли утверждал, что традиционные нравственные императивы были подобны звездам; красивые, но слишком отдаленные, чтобы освещать наш земной путь. Вместо них нам необходимы фонари рукотворные; иными словами, достижимые цели. Мы должны отталкиваться от земли, а не от небес; от того, что люди и общества реально делают, а не от того, что они должны делать.
Сущность макиавеллевской революции заключалась в оценке идеального по действительному, вместо оценки действительного с позиции идеального. Идея для него ценна только в случае её практичности; поэтому мы можем назвать Макиавелли отцом прагматизма. Получается, что не только цель оправдывает средства, причем любые средства, которые работают, но и средства оправдывают цель, в том смысле, что стоит стремиться к цели только если существуют практический способ её достижения. Иными словами, новым summum bonnum, или наивысшим благом стал успех. (Макиавелли звучит здесь не просто как первый прагматик, но и как первый американский прагматик).
Макиавелли не просто понизил нравственные предписания; он упразднил их. Он был больше противником морали, чем прагматиком. Он видел единственным отношением нравственности к успеху стояние на его пути. Философ учил, что для успешного государя обязательно знать, как быть не хорошим (Государь, глава 15), как нарушать обещания, лгать, жульничать и воровать.
Из-за таких бесстыдных взглядов, некоторые современники Макиавелли считали Государя книгой, напрямую внушенной дьяволом. Но современные исследователи смотрят на неё, отталкиваясь от науки. Защищая философа, они утверждают, что Макиавелли не отвергал нравственность, а просто написал книгу на другую тему. Он написал книгу о том, что есть, а не о том, что должно быть. Они даже восхваляют его за отсутствие лицемерия, подразумевая, что морализм есть не что иное, как лицемерие.
В этом заключается современное недопонимание лицемерия, которое воспринимается как не осуществление человеком того, что он проповедует. В таком понимании все люди лицемеры, пока они не прекратят поучать. Мэтью Арнольд[8] определял лицемерие, как дань, которую порок платит добродетели. Макиавелли был первым, кто перестал платить даже эту дань. Он превзошел лицемерие не тем, что поднял практику на уровень поучения, а тем, что опустил поучение до уровня практики; тем, что согласовал идеал с действительностью, а не наоборот.
На самом деле, он проповедует Папаша, не поучай(Poppa, dont preach)[9] как и недавняя рок песня. Можете ли Вы представить Моисея, говорящего Богу на горе Синай Папаша, не поучай? Или деву Марию, говорящую то же самое ангелу? Или Христа в Гефсиманском саду, говорящего это вместо Отец, да будет не моя, но Твоя воля.? Если Вы можете, то Вы представляете ад, потому что наша надежда на рай обусловлена тем, что эти люди сказали Богу: Папаша, поучай. Мы неправильно определили лицемерие. Лицемерие это не когда ты не осуществляешь то, что проповедуешь, но когда ты не веришь в это. Лицемерие это пропаганда.
По этому определению Макиавелли был почти что изобретателем лицемерия, потому что он был практически изобрел пропаганду. Он был первым философом, который через пропаганду надеялся обратить весь мир.
Макиавелли считал, что суть его жизни духовная борьба против Церкви и её пропаганды. Он верил, что любая религия результат пропаганды, чье влияние длится между 1,666 и 3,000 годами. Он также верил, что Христианство прекратит свое существование раньше конца мира, около 1666 года, уничтоженное или варварским захватом с Востока (откуда, где сейчас Россия), или смягчением и ослаблением Христианского Запада изнутри или из-за того и другого вместе. Его союзниками были все безразличные к вере христиане, любящие своё земное отечество больше, чем небесное, Цезаря больше, чем Христа, общественный успех больше, чем добродетель. Именно на них он нацеливал свою пропаганду. Полностью раскрыв цели, Макиавелли погубил бы свое дело, сознайся он в атеизме, погубил бы безвозвратно. Поэтому он избегал явной ереси. Но его целью было разрушение Католической подделки, а средством агрессивная секуляристская пропаганда (За это его можно, с некоторой брюзгливостью, считать отцом современных средств массовой информации).
Он заметил, что для того, чтобы контролировать человеческое поведение, и через это управлять историей, требуется два инструмента: перо и меч, пропаганда и оружие. Тем самым и умы и тела могут быть завоеваны, а целью его была власть. Макиавелли считал, что все в человеческой жизни и истории определяется лишь двумя силами: силой (virtu) и случайностью (fortuna). Таким образом, простейший способ достижения успеха увеличение силы и уменьшение случайности. Он заканчивает Государя шокирующей картиной: ибо счастье женщина; чтобы подчинить его себе, необходимо обращаться с ним грубо; оно охотнее покоряется людям способным на насилие, нежели людям холодного расчета (глава 25[10]). Иными словами, секрет успеха в своего рода изнасиловании.
Для цели подчинения, оружие нужно также как и пропаганда, и Макиавелли здесь хищник. Он верил, что Главнейшими основами устройства государств всякого рода служат хорошие законы и хорошо организованные войска, так как без хорошо организованного войска в государствах не могут поддерживаться и хорошие законы, и где хорошо организовано войско, там существуют обыкновенно и хорошие законы (глава 12). Говоря словами Мао Цзэдуна, справедливость определяется дулом пистолета. Макиавелли верил в то, что вооруженные проповедники почти всегда торжествуют, а безоружные обыкновенно погибают (глава 6). В таком случае, Моисей должен был использовать оружие, о котором Библия не сообщила; Иисус, величайший безоружный проповедник, погиб; Он был распят на кресте, и не воскрес. Но Его послание завоевало мир через пропаганду, через оружие интеллектуальное. Это была война, в которой Макиавелли намеревался участвовать.
Общественный релятивизм также имеет свои корни в философии Макиавелли. Он не признавал никаких законов выше тех, что были приняты в разных обществах, и так как эти законы и общества началом своим имеют силу, а не мораль, как следствие моральное базируется на аморальном. Логика была следующей: Нравственность может исходить только от общества, так как нету ни Бога, ни Богом данного универсального естественного закона. Но каждое общество возникло путем революции или насилия. Так, Римское общество, источник римского права, возникло путем убийства Ромулом своего брата Рема. История человечества начинается с того, что Каин убивает Авеля. Отсюда следует, что основание закона беззаконие. А основание нравственности безнравственность.
Утверждение это имеют ту же силу, что и его предпосылка, которая как и весь общественный релятивизм, включая тот, что сегодня властвует умами писателей и читателей почти всех социологических книжек, на самом деле является лишь скрытым атеизмом.
Макиавелли критиковал христианские и классические идеалы благотворительности схожим образом. Он спрашивал: каким образом вы получили те блага, что хотите отдать? Путем эгоистической конкуренции. Все блага получены за счет других. Если мой кусок пирога увеличиться на определенную часть, то кусок других станет на ту же часть уменьшится. Таким образом, бескорыстие зависит от корысти.
Утверждение это базируется на материализме, потому что духовные блага не уменьшаются, от того, что ими делятся или их раздают, и, с другой стороны, приобретая их, я никого ничем не обделяю. Чем больше денег я получу, тем меньше их будет у Вас, и, чем больше я раздам, тем меньше будет их у меня. Но любовь, истина, дружба и мудрость увеличиваются, а не уменьшаются, когда их с кем-то разделяешь. Материалист этого просто не видит, и не заботится об этом.
Макиавелли верил, что все мы по природе своей эгоистичны. Для него не существовало таких вещей, как врожденная совесть или нравственное чувство. Следовательно, единственным способом, способным заставить человека вести себя нравственно, была сила, фактически, тоталитарная сила, необходимая для принуждения человека действовать против своего естества. Современный тоталитаризм, таким образом, также восходит к Макиавелли.
Если человек по природе своей эгоистичен, то только страх, а не любовь, может привести его в движение. Так, Макиавелли писал: замечу, что полезнее держать подданных в страхе[потому что] люди скорее бывают готовы оскорблять тех, кого любят, чем тех, кого боятся; любовь обыкновенно держится на весьма тонкой основе благодарности и люди, вообще злые, пользуются первым предлогом, чтобы в видах личного интереса изменить ей; боязнь же основывается на страхе наказания, никогда не оставляющем человека. (глава 17).
Самая поразительная вещь в этой жестокой философии состоит в том, что она властвует современными умами, правда только лишь путем сглаживания или замалчивания своих темнейших сторон. Последователи Макиавелли смягчили его нападки на нравственность и религию, но они не вернулись к идее личностного Бога или объективной и абсолютной нравственности, как основе общества. Макиавеллевское сужение пришло к расширению. Он просто снёс верхний этаж здания человеческой жизни; нету Бога, только человек; нету души, только тело; нету духа, только материя; нету надо, только есть. Однако это раздавленное здание казалось (через пропаганду) Вавилонской Башей, тюремное заключение казалось освобождением от несвободы в оковах традиционной морали, вроде вытаскивания ремня из крепления.
Дьявол не сказка; он искуснейший психолог и стратег, и он абсолютно реален. Аргументация Макиавелли одна из самых успешных неправд, распространяемых Сатаной. Всякий раз когда мы бываем искушаемы, он использует эту ложь, для того, чтобы зло казалось добрым и желанным; чтобы его (зла) рабство казалось свободой, а свобода славы детей Божиих[11] казалась рабством. Отец лжи любит говорить не маленькие лжи, а Большую Ложь, для того, чтобы перевернуть истину верх дном. И ему это будет сходить с рук, пока мы не нанесем удар по убежищу Вражеских шпионов.
Переводчик -М. Гринзайд.
ВОЛЯ БОЖЬЯ И ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ[12]
Когда мы оказываемся перед необходимостью сделать выбор, сколько правильных решений Бог предусматривает в каждом отдельном случае? Одно или несколько?
Мы молимся о мудрости, чтобы узнать волю Божью в вопросах выбора спутника жизни, карьеры, смены работы, переезда, покупки квартиры или дома, учебы, в выборе друзей, места для проведения отпуска, вложений денег или в любом другом случае, когда нам нужно принять решение, большое или малое. И вот, перед нами открывается много разных дорог, одну из которых нам предстоит выбрать. Есть ли среди них та единственная, которую Бог предусмотрел для нас? Если так, то как узнать, какая именно?
Задаваясь этим вопросом, многие из нас и не подозревают, что в решении данной проблемы нам могут помочь христиане прошлого с их богатым опытом. Христианская мудрость, явленная в жизни и учениях святых, указывает на два момента, относящиеся к данному вопросу.
Во-первых, нам нужно помнить, что Бог не только знает и любит нас в общем, Он также заботится о каждой мелочи в нашей жизни. Нам нужно жить согласно Его воле во всем, большом и малом.
Во-вторых, Он дал нам свободную волю и разум, и потому Он хочет, чтобы мы пользовались тем, что нам дано, в том числе, и в принятии решений. Это традиционное понимание выражено в известном высказывании святого Августина: «Люби Бога и [потом] делай что хочешь».
Другими словами, если вы искренне любите Бога и желаете исполнять Его волю, то, поступая согласно своему желанию, вы будете исполнять волю Божью.
Приведенные выше два момента на первый взгляд противоречат друг другу. Но поскольку в каждом из них содержатся великие истины, какой из них мы будем придерживаться при решении вопроса о том, предусматривает ли Бог только одно правильное решение для нас?
По-моему, первый и наиболее очевидный ответ звучит так: все зависит от человека, задающего этот вопрос. Мы склонны к тому, чтобы выпячивать одну сторону истины, игнорируя ее другую сторону. В данном случае это применимо к обеим точкам зрения. Все ереси в истории богословия укладываются в подобную схему: к примеру, подчеркивается божественность Христа в ущерб Его человечности, или Его человечность в ущерб божественности; точно так же и Его божественная суверенность противопоставляется свободной воле или свободная воля превозносится над божественной суверенностью.
Что касается того, как узнать Божью волю, существует пять основных принципов, применимых ко всем ее аспектам. Эти принципы имеют отношение и к нашему вопросу. Вот они.
1. Всегда начинайте с того, что знаете наверняка. Судите о неизвестном по известным вам фактам, о неопределенном -- по тому, в чем вы уверены. В Эдемском саду Адам и Ева пренебрегли этим принципом, не вняли ясной заповеди Бога и Его предупреждениям и соблазнились на предлагаемого дьяволом «кота в мешке».
2. Позвольте вашему сердцу учить вас. Позвольте любви Божьей просвещать ваш разум в познании Его воли. Об этом принципе Иисус говорил фарисеям в Иоанна 7:17. (Как бы ни хотели современные богословы объяснить это место Писания по-другому.) Фарисеи задали вопрос Иисусу, как им понимать Его слова. Он преподал им первый принцип герменевтики (науки о толковании): «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении». Святые понимали Библию лучше, чем богословы, потому что они понимали ее автора — Бога, любя Его всем своим сердцем и всем своим разумением.
3. Пусть сердце будет мягким, а разум тверд. В своих делах и поступках мы должны быть «мудры как змеи и просты как голуби», изобретательны, как лисы и покладисты, как собаки. Мягкость сердца не исключает твердости разума, и наоборот, твердость разума не исключает мягкости сердца. Чувствовать мы должны подобно «либералам с кровоточащими сердцами», а мыслить — подобно «застрявшим в болоте консерваторам».
4. Как в тригонометрии, все знаки Божьи должны выстроиться в один ряд. Таких знаков, по меньшей мере, семь: (1) Писание, (2) учение церкви, (3) человеческие ресурсы (созданные Богом), (4) соответствующая ситуация или обстоятельства (которыми Он управляет по Своему провидению), (5) совесть, наш внутренний датчик правды и лжи, (6) наши личные наклонности, желания, инстинкты, а также (7) молитва. Проверьте ваше решение, принеся его пред лице Господне. Если один из семи знаков не подтверждает его, откажитесь от задуманного. Если все семь не противоречат ему, тогда поступайте согласно своему решению.
5. Посмотрите, присутствуют ли при этом плоды духа, особенно первые три: любовь, радость и мир. Если вы ощущаете гнев, тревогу или беспокойство, отсутствие любви и радости, недостаток мира, вряд ли можно говорить об уверенности в том, что вы исполняете Божью волю. Определение воли Божьей само по себе не должно быть чем-то застывшим, хрупким, пугающим, а — поскольку это также входит в планы Божьи о нас — полным любви, радости и мира, более похожим на игру, чем на войну, на переписку возлюбленных, чем на сдачу заключительного экзамена.
Вернемся к нашему вопросу. Если Бог предопределил мне только один правильный выбор, то мне нужно найти его. Если нет, мне можно расслабиться и позволить себе ошибаться. Вот ключ к решению этой задачи.
Ответ зависит от того, каким человеком вы являетесь. Я предполагаю, что многие из читающих эту статью (1) католики, (2) ортодоксы, верные учению церкви, (3) консервативные и (4) харизматичные личности. У меня много друзей — далеких, близких и очень близких — которые подпадают под это определение. Фактически, я и сам соответствую перечисленным выше характеристикам.
И я говорю из собственного опыта, утверждая, что такие люди имеют сильную склонность к определенному типу характера или типу личности — что само по себе ни хорошо, ни плохо — который нуждается в развитии определенных характеристик больше, чем другие. Тип личности с противоположными характеристиками будет нуждаться в развитии других качеств.
Расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью
И первый ключ к решению, основанный на исключительно личном наблюдении за подобного рода людьми, заключается в том, что часто наше — само по себе очень хорошее — желание найти совершенную Божью волю делает нас невыносимыми людьми. Неверующие смотрят на нас с сожалением: мы не способны расслабиться, остановиться и ощутить аромат Божьих роз, насладиться жизнью, дарованной нам Богом. Часто мы выглядим испуганными, раздраженными, страшно серьезными и ранимыми — короче говоря, людьми, которые не лучшим образом отражают суть веры.
Я никоим образом не предлагаю, чтобы ради неверующих мы поступились бы хоть йотой наших убеждений. Я просто говорю, что мы — люди.
Сходите на футбол. Получите удовольствие от еды и питья. Позвольте себе иногда быть легкомысленными. Поиграйте со своими детьми, развлекитесь с ними — и с женой. Имейте в запасе хорошие шутки. Прочтите юмористическую повесть. Съездите в Италию.
Теперь — второй ключ к решению. Большинство христиан, включая святых, на самом деле, не обладали способностью, которую мы обсуждаем, — сделать правильный выбор в каждом конкретном случае. Это бывало, но не часто. Как могло случиться, что правильный ответ на очень важный вопрос приходит не часто? Мог ли Бог оставить почти всех нас в таком беспомощном состоянии?
Третий ключ к решению вопроса — Писание. В нем много примеров — большинство из них включают в себя чудо, и многие очень впечатляют — того, как Бог являл Свою волю в особых случаях. Но эти случаи описаны как чудеса, как нечто особенное, необычное.
«Евангелие здоровья и благосостояния», основанное на принципе: «исповедай и получи» — небиблейское, точно так же, как и представление о том, что мы должны найти всего один правильный ответ в каждом конкретном случае. Причина здесь все та же: нам не было дано такого всеохватывающего обетования. Неясность и неуверенность, так же, как и боль и бедность часто сопровождали жизнь святых, героев Писания и последующих поколений верующих.
Единственное, что было гарантировано всему человечеству, это то, что Евангелие освобождает нас от греха (и его последствий — смерти, вины и страха), но не от страданий и неуверенности. Если бы Бог хотел, чтобы наши пути были просты и безошибочны, Он бы, несомненно, сказал нам об этом.
Четвертый ключ к решению состоит в том, что Бог и в самом деле нам дал: свободную волю. Для чего? Тому множество причин — к примеру, чтобы наша любовь была бесконечно более полноценной, чем инстинктивная, несвободная, животная привязанность. Но, по-моему, есть еще одна причина. Как учитель, я знаю, что иногда мне приходится скрывать ответы от моих учеников, чтобы они могли найти их самостоятельно и таким образом оценить и запомнить их лучше — и, кроме того, поупражняться в рассуждении и поиске ответов.
«Дайте человеку рыбу, и вы накормите его на день, научите его рыбачить, и вы накормите его на всю жизнь». Бог дал нам и рыбу, и свободу рыбачить, чтобы мы могли самостоятельно поймать много рыб, больших и маленьких.
Разум и свободная воля всегда идут рука об руку. Бог создал и то, и другое, и это часть Его образа в нас. Он наделил откровением свыше как разум, снабдив его догмами, так и волю, направляя ее Своими заповедями.
Подобно тому, как Он не дал всех ответов, даже в богословии — в вопросах о том, как применять догмы и как выводить из них следствия, - точно так же Он не дал всех ответов в практическом руководстве и в вопросах нравственности — в том, как применять заповеди и как выводить из них следствия. Но Он снабдил нас тем, с помощью чего мы можем это сделать — разумом и совестью, и не будет доволен, если мы закопаем наши таланты в земле вместо того, чтобы пустить их в оборот и взрастить их в себе до Его второго пришествия.
Что касается образования, всегда существует возможность впасть в крайности. Можно стать слишком современным, слишком эмпирическим, слишком прагматичным, слишком бесструктурным. Но есть и другая возможность — быть слишком классическим, слишком негибким. Студенты нуждаются и в том, чтобы проявить инициативу, творчество и оригинальность.
Закон Божий краток. Он дал нам десять заповедей, а не десять тысяч. Почему? Почему бы не расписать их во всех подробностях? Потому что Он хотел свободы и разнообразия.
Для чего, по-вашему, Он создал так много людей? Почему не одного человека? Потому что ему нравятся разные люди. Он хочет, чтобы Его хор пел в гармонии, но не в унисон.
Я знаю христиан, которые развивают внутреннее самопознание, пытаясь лучше узнать себя, и часто используют сомнительные [изотерические] методики типа эннеаграммы или восточного медитирования — и делают это для того, чтобы иметь возможность в каждом конкретном случае принять правильное решение, именно такое, какое хочет от них Бог.
Я считаю, что намного правильнее думать больше о Боге и о ближнем, и меньше о себе, не концентрироваться на себе, а следовать инстинктам, не пытаясь понять все. Любящим Бога, соблюдающим Его заповеди, дана возможность пользоваться свободой.
Мне нравится иллюстрация Честертона о детской площадке на вершине горы, обнесенной забором, возведенным для того, чтобы дети могли играть, не боясь упасть. Вот почему Бог дал нам Свой закон: не для того, чтобы мы беспокоились, но ради безопасности, чтобы мы могли играть великие игры жизни, любви и радости.
Каждому из нас присущи инстинкты и желания. Конечно же, грех извращает и то, и другое. Он влияет как на наш разум, так и на тело; и, тем не менее, мы должны следовать нашим физическим инстинктам (к примеру, тем, которые сообщают нам о голоде или о самосохранении), а также инстинктам разума (таким, как любопытство и логика). Я считаю, что Бог хочет, чтобы мы следовали велению нашего сердца.
Конечно, если Джону больше нравится Мэри, чем Сьюзен, у него больше причин думать, что Бог ведет его к женитьбе на Мэри, а не на Сьюзен. Почему бы нам не применить этот принцип ко всем другим случаям, когда нам нужно сделать выбор?
Я не считаю, конечно, что мы не можем ошибаться сердцем, или что греховное поведение может быть оправдано сердечными желаниями. Я также не думаю, что единственное, чему нужно следовать — это сердце. Но ведь наши сердца созданы Богом — как физические сердца с аортами и клапанами, так и духовные сердца с их желаниями и волей.
Наши родители не безгрешны, однако же Бог дал нам их в качестве руководителей. Так и сердца наши могут быть достойными того, чтобы следовать их желаниям, несмотря на то, что они склонны к ошибкам и грехам. Если мы любим Бога, мы можем руководствоваться желаниями своего сердца. Того же, в чьем сердце нет любви к Богу, проблема распознавания Его воли и вовсе не интересует.
И вот пятый ключ к решению вопроса. Если мы следуем совету Августина: «Люби Бога и делай что хочешь», обычно мы ощущаем величайший мир и утешение. Мир — признак Святого Духа.
Я знаком с некоторыми людьми, которые оставили христианство, потому что им не хватало этого мира. Они пытались быть супер-христианами во всем и просто не вынесли такого давления. Им нужно было читать послание к Галатам.
Теперь о шестом ключе к решению. Если у Бога только единственный правильный выбор во всем, что вы делаете, то это должно быть применимо к любому вопросу. Это означает, что Бог хочет, чтобы вы знали, что убирать в первую очередь — кухню или спальню, что поставить на стол сначала — тарелку или блюдце. Вы понимаете, что если довести этот принцип до его логического завершения, все это смешно и не применимо к жизни, и, конечно же, это совсем не то, чего хочет от нас Бог, ведь такая жизнь вовсе не похожа на то, что описано в Библии и что мы знаем о жизни святых.
Ключ номер шесть заключается в том, что хорошим может быть не только одно решение, хорошего много. Даже для одного и того же человека часто хорошими могут быть два и более решений.
Добро подобно узорам в калейдоскопе. Правильных дорог много. Дорога к пляжу и дорога в гору будут одинаково хороши, потому что Бог ждет нас и там, и там.
Добро многоцветно. Только полнейшее зло лишено красок и многообразия. В аду же нет ни красок, ни личности. Подобно свинцу, души плавятся в одном котле, перевариваясь во чреве сатаны. На земле больше всего похожи друг на друга тюрьма и армия, но не церкви.
Разберем конкретный пример, когда разные решения могут быть одинаково хороши. Он касается половых отношений между супругами. Если вы не выходите за рамки закона Божьего — не изменяете, не проявляете насилия или эгоизма, не применяете противоестественных средств, таких как контрацепция, — тогда все позволено. Используйте свое воображение.
Глупо считать, что Божья воля в том, чтобы мы только так проявляли любовь в браке, и не иначе. Воля Божья в том, чтобы проявлять любовь, это очень хорошо, это Его воля. Он хочет, чтобы мы сами решили, какими нам быть — нежными или безудержными, порывистыми или спокойными, такими, какими мы есть, а не вымышленными героями книг, предписывающих нам быть кем-то еще.
Ключ номер семь поясню на примере моего собственного опыта. Я пишу роман впервые и потому учусь, как это делать. Первое, что я сделал — я отдал Его в руки Божьи, сказав Ему, что хочу сделать это для Его Царства, и верю, что Он руководит мною.
Затем я просто следую своим собственным интересам, инстинктам и неосознанным движениям души. Я даю возможность истории создаваться самой, а действующим лицам быть такими, какими они есть. Бог не останавливает меня и не подталкивает. Он не делает мое домашнее задание за меня. Но Он, как хорошие родители, рядом.
Мне кажется, что жизнь подобна роману. Жить — все равно, что писать роман о своей жизни, о себе (своими решениями мы формируем себя, подобно скульптору). Главным, является, конечно, Бог, Он — главный скульптор. И Он использует разных людей, чтобы достичь разных результатов. Он — главный автор и каждой библейской книги, но каждая из этих книг отражает личность автора не хуже, чем любая светская литература.
Бог — универсальный рассказчик. Ему нужны разные истории. Он хочет, чтобы вы благодарили Его за ту уникальную историю, которую вы пишете сами, принимая решения свободным сердцем. Потому что ваше сердце и Его вечный план — не две разные вещи, но две стороны одной медали.
Нам не понять эту глубочайшую тайну жизни, потому что мы видим только обратную сторону вышивки. Но в небесах, я уверен, мы будем прославлять и благодарить Бога более всего за то, как смело, чудесно и рискованно Он доверил нам управление нашей жизнью — точно так же, как это делают родители, когда учат своего молодого сына водить машину.
Нам нужно научиться делать правильный выбор, потому что в небесах перед нами будут стоять более серьезные задачи. Там мы будем руководить ангелами и царствами.
Бог, наделив нас свободной волей, говорит каждому из нас: «Да будет воля твоя». Некоторые из нас возвращаются к Нему со словами: «Я хочу, чтобы исполнилась Твоя воля». Это и есть исполнение первой и наибольшей заповеди. И затем, когда мы поступаем так, Он обращается к нам и говорит: «А теперь, да будет твоя воля». Он пишет историю нашей жизни росчерком пера, водимого решениями нашей свободной воли.
Питер КРИФТ
БОЖИЙ ОТВЕТ НА СТРАДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА[13]
Каков Божий ответ на страдания человека? Этим ответом должно быть не что-то, а кто-то, ибо проблема (страдание) адресована не чему-то, а кому-то: почему Бог делает что-то или не делает чего-то.
Подобные вопросы, подвергающие сомнению Божью благость — не просто интеллектуальное упражнение. Это либо бунт, либо слезы, сродни тем, с которыми малое дитя смотрит на отца, вопрошая: «Почему?»
И это не просто философское «почему». Это не просто выражение эмоций в дополнение к слезам, это вопрос, который возникает в контексте взаимоотношений. И обращен он к Отцу, а не в безвоздушное пространство.
Когда ребенок падает и ушибается, он нуждается не столько в объяснении, сколько в утешении. А это как раз то, что мы имеем: утешение от Отца в лице Иисуса: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9).
Божий ответ на проблему страдания — не просто слово, но Слово; не идея, но Личность. Мысли абстрактны, личности же конкретны. Мысли — это знаки; они обозначают нечто более высокое, чем они сами, нечто реальное.
Потому и ответ не может быть просто идеей, он истинен, глубок и полезен, потому что иначе это будет только еще один знак, еще одна мысль, еще один перст — подобно перстам, указующим на другие персты, как наличие веры в вере, надежды в надежде, влюбленности в любви. Королевство зеркал.
Он не только здесь, но и сейчас. Он, искомый ответ, не только конкретен и реален в нашем мире, но и является составной частью нашей истории в личном и глобальном смысле. Его и наша история — едины. Божий ответ — не просто безвременная, вечная истина, но единственное и неповторимое катастрофическое событие, столь же реальное, как и история, описанная в газете сегодняшнего дня.
Это, конечно, самая известная, самая часто рассказываемая история в мире. Но она также и самая необычная, не теряющая свою необычность, свое благоговение, не только здесь, но и в вечности, где ангелы с трепетом взирают на то, от чего мы зеваем.
И, как это ни странно, она служит единственным ключом, который подходит к замку нашей страдальческой жизни, открывая наши нужды. Мы нуждались в хирурге, который пришел и вскрыл наши раны окровавленными руками. Он дал нам не просто плацебо, пилюлю или хороший совет. Он дал нам Себя. Ответ не просто слово, но Слово; не идея, но Личность.
Он пришел. Он вошел в пространство и время, и в страдание. Он пришел, как влюбленный. Любовь превыше всего жаждет близости, присутствия, единения. Не счастья. «Лучше несчастным с ней, чем счастливым без нее», — таковы слова влюбленного.
Он пришел. Это основополагающий факт, высокая истина, которая —единственная — удерживает нас от пули в висок.
Он пришел. Иов этим удовлетворился, несмотря на то, что Бог, придя, не дал ему ни одного ответа на тысячи мучивших его вопросов. Но Он сделал самое важное, дав самый важный дар: Себя. Это дар влюбленного.
Снизойдя к нашим слезам, нашему ожиданию, нашей темноте, нашему агонизирующему одиночеству, нашему воплю и недоумению, нашему плачу: «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня?», Он пришел прямо в этот плач.
Войдя в наш мир, Он вошел также и в наше страдание. Он сидит рядом с нами в машине, застрявшей в снегу. Иногда Он помогает нам завести машину, но даже если и не делает этого, Он там. И только это и имеет значение.
Стоит ли переживать о машинах, успехах, чудесах или продолжительности жизни, если Бог — рядом? Он рядом с нами в самых низинных участках нашей жизни, покрывая их, как вода.
Вы разбиты? Он разбит вместе с вами. Вы отвержены? Вас презирают не только за злое, но и за доброе, или даже за попытку сделать добро? Он был «презрен и умален пред людьми».
Вы скорбите? И эта скорбь хорошо вам знакома, она ужасающе часто посещает вас? Говорите ли вы себе: «О, нет, только не это! Я больше не могу!» Он был «муж скорбей, изведавший болезни». Вас не понимают люди, от вас отворачиваются? Они «отвращали от Него лицо свое», как от отверженного, от прокаженного. Вашу любовь предали? Ваши нежнейшие отношения разорваны? Он тоже любил и был предан теми, кого любил. «Пришел к своим и свои Его не приняли».
Иногда нам кажется, что жизнь проходит мимо, оставляя нас на обочине, увлекая в пучину ненужности и забвения. Он тоскует вместе с нами. Его тоже не замечают в мире. Его страдающая любовь отвержена.
Его последователи часто сами виновны в этом; они сделали Его имя соблазном, особенно среди избранного народа. Как иудею найти дорогу к Нему через сломанные копья кровавых предубеждений? Мы почти лишили возможности Его собственный народ любить Его, видеть Его таким, как Он есть, без дыма сражений и холокоста. Присутствие — признак любви.
Как Он смотрит на нас сейчас? С постоянной скорбью, но не с презрением. Мы раним Его. В Его кресте тысяча девятьсот гвоздей. Мы, Его возлюбленные, долгожданные, страстно желанные, все время холодны и корректны, все время держимся на расстоянии. А Он все еще вынашивает наш мир, как курица, которая высиживает яйцо, как мать, у которой все ее возлюбленные дети обратились против нее. «Оставит ли мать грудное дитя? Даже если и она оставит, Я не оставлю тебя».
Он рядом с нами не только в страданиях, но и даже и тогда, когда мы грешим. Он не отворачивает Свое лицо от нас, несмотря на то, что мы отворачиваемся от Него. Он терпит нашу духовную коросту и наши шрамы, наши насмешки и хохот, нашу ненависть и высокомерие только для того, чтобы быть с нами. Присутствие — признак любви.
Нисходит ли Он в наш ад? Да. Незабываемая строка от Кори Тен Бум из глубины нацистского лагеря смерти: «Как глубока не была бы пропасть, Его любовь еще глубже».
Нисходит ли он в насилие? Да, подвергаясь ему и оставляя нам выбор, который до сего дня только некоторые мужественные души осмелились сделать; наиболее заметен в нашем веке даже не христианин, а индус.
Нисходит ли он в безумие? Да, и в эту тьму тоже. Даже в безумие суицида? Может ли Он быть и там? Да, может. «И тьма не затмит от Тебя». Он открывает или творит свет даже там, во тьме безумия — возможно, не до будущего мира, но до освобождения через смерть.
Ибо самая темная дверь в мире поддалась, и свет свыше устремился в наш мир, освещая нам путь, ведь Он изменил значение смерти. Он не просто воскрес из мертвых, Он изменил значение смерти, а значит, и значение всех маленьких смертей, всех страданий, приближающих смерть и приводящих к ней.
Смерть, как рак, проникает в жизнь. Каждый день мы теряем часть жизни — здоровье, силы, молодость, надежды, мечты, друзей, детей, саму жизнь — все это медленно утекает, как вода сквозь наши дрожащие от безнадежности пальцы. Мы ничего не можем сделать, самые отчаянные наши попытки не могут удержать жизнь.
Не утекает только та жизнь, которая уже вся разлилась водой. Не разбиваются только те сердца, которые тщательно возводят маленькие преисподние самоконтроля без любви, коконы безопасности, респектабельного эгоизма, чтобы оградить себя от периодически накатывающихся волн печали, которые рано или поздно постигают всех нас.
Он пришел в жизнь и смерть, и все еще приходит. Он все еще здесь. «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мат. 25:40).
Он здесь. Он в нас и мы в Нем; мы — тело Его. Он задыхался в печах Освенцима. Над ним насмехались в советские времена. Его разрывали на части в тысячах легальных и безопасных лагерях смерти для нерожденных детей, разбрасывая по всему миру, и эти частички слишком малы, чтобы нам видеть их и переживать о них.
Он предан забвению в мире, больше чем кто-либо еще. Он — Тот, кого нам нравится ненавидеть. Он исполняет то, к чему призывал: Он обращает другую щеку под наши удары. Это как раз то, чем является любовь, что она делает и что она получает взамен.
Любовь привела Его сюда. Только любовь. Мухи, жужжащие у креста, удары римского молотка, разрывающие гвоздями Его нежную мягкую плоть, бесконечно более жестокие удары от Его собственного народа, не знающая пощады ненависть, ударяющая по сердцу — за что? За любовь. Бог есть любовь, точно так же, как солнце — это огонь и свет, и Он не может не любить, как солнце не может не светить. Он не всегда утирает слезы, но Он плачет вместе с нами.
Следовательно, когда мы чувствуем, что жизнь нас бьет по голове или по сердцу, мы знаем — мы должны это знать — что Он с нами, принимает эти удары. Каждая наша слеза становится Его слезами. Он, быть может, еще не осушил наши слезы, но Он плачет вместе с нами. Хотели бы мы, чтобы Он отер с наших очей слезы, в то время как Его очи полны ими?
Он пришел. Он здесь. Это очень важно. Если Он не исцеляет все наши раздробленные кости, изломанные жизни, разбитую любовь сейчас, то Он Сам, как преломленный хлеб, нисходит в наши обстоятельства, питая нас. И показывает нам, что мы можем использовать саму нашу изломанность, чтобы питать тех, кого мы любим.
Поскольку мы — Его тело, мы также хлеб, преломленный за других. Наша несостоятельность помогает исцелить жизни окружающих; наши слезы помогают утереть слезы с их очей; будучи ненавидимы, мы помогаем тем, кого мы любим. Когда те, кого мы любим, кладут трубку, не дослушав нас, мы не прекращаем с ними общение. Его присутствие с нами позволяет нам быть с теми, кто отказывается от нас.
Вероятно, Он даже там, где страдают животные, если, как Писание, кажется, говорит, мы каким-то образом ответственны за них, и они страдают вместе с нами. Он не только наблюдает за падением на землю каждой «малой птицы», но и страдает вместе с ней.
Все наши страдания превращаются в Его труд, наши страсти в Его действие. Вот почему, по мнению Паскаля, Он учредил молитву: чтобы наделить творение достоинством причинности. Мы и в самом деле Его тело; Церковь — это Христос, в том смысле, в котором мое тело — это я. Вот почему апостол Павел говорит, что он восполняет в плоти своей недостаток скорбей Христовых за Тело Его (Кол. 1:24).
Итак, ответ Божий на проблему страдания — не только событие 2 000 летней давности, но это то, что происходит и сейчас в нашей жизни. Решением проблемы наших страданий являются сами страдания! Все наши страдания могут стать частью Его труда, величайшего труда, когда-либо совершаемого, труда спасения, труда, которым мы помогаем нашим любимым обрести вечную радость.
Каким образом? Это может произойти при одном условии: если мы верим. Вера — это не просто разумный выбор, который мы делаем; это соглашение с Ним. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Согласно Евангелию от Иоанна, верить — означает принимать (Ин. 1:12), принимать то, что Бог уже сделал. Его часть труда завершена (Он сказал на кресте: «Совершилось»). Наша часть — принять этот труд и позволить Ему совершить работу в нас и через нас, в том числе и через наши слезы. Мы возносим наши печали к Нему, а Он и в самом деле принимает их и использует настолько действенно, что мы замерли бы от восторга, если бы узнали, как именно.
Христианин видит страдания, как и все остальное, в совершенно другом свете, в совершенно другом контексте, чем неверующий. Он рассматривает их и все остальное в контексте отношений между Богом и им, как дар от Бога, приглашение от Него, призыв к действию, нечто общее между Богом и им. Все относительно.
Неверно считать, что я имею отношение к объекту, а Бог находится где-то на заднем плане; это Бог является Тем, к Кому я имею отношение. Все между нами и Богом. Природа — это не просто природа, но творение, Божье творение. Рождение детей — это произведение потомства. Я сам — это Его образ, не мой, но Его, взятый мною взаймы. Наши страдания становятся трудом любви.
Итак, что же такое страдание для христианина? Это приглашение Христа последовать за Ним. Христос взошел на крест, и мы приглашены к тому же самому кресту. Не потому, что это крест, но потому что это Его крест. Страдания благословенны не потому, что это страдания, но потому что это Его страдания.
Не страдания служат объяснением для креста; крест служит обстоятельством, которое объясняет страдания. Крест сообщает это новое значение страданию; теперь это не только между Богом и мною, но также и между Отцом и Сыном. Первое «между» вознесено к Троице в обмен на второе. Христос позволяет нам быть участниками Его креста, потому что это означает позволение участвовать в обмене с Троицей, разделять глубокую внутреннюю жизнь Бога.
Фрейд говорил о двух наших абсолютных потребностях — в любви и в труде. Обе теперь удовлетворены в том, чего мы больше всего боимся — в страдании.
Труд — ибо наши страдания становятся opus dei, работой Божьей, работой по строительству Его Царствия.
Любовь — ибо наши страдания становятся трудом любви, трудом искупления, спасающим тех, кого мы любим.
Истинная любовь, в отличие от популярных сентиментальных подделок, желает страдать. Любовь — это не «лямур». Любовь — это крест.
Мы начали с проблемы исключительно страдания, со креста без Христа. Но нам нельзя впадать и в противоположную, такую же ошибочную крайность — Христос без креста. Взгляните на распятие. Святой Бернард Клеровский говорит, что всякий раз, когда он это делает, пять ран Христа кажутся ему губами, произносящими: «Я люблю тебя».
Таким образом, чтобы решить проблему страдания, Иисус совершил три вещи.
Во-первых, Он пришел. Он страдал вместе с нами.
Во-вторых, став человеком, Он изменил смысл страдания: теперь это часть Его искупительного подвига. Наши смертные муки становятся муками рождения в рай, не только для нас самих, но также и для тех, кого мы любим.
В-третьих, Он умер и воскрес. Умерев, Он заплатил цену за грех и открыл для нас небеса; воскреснув, Он превратил пропасть смерти в двери, конец в начало.
Воскресение было настолько важно для учеников Христа, что когда Павел благовествовал в Афинах, жители этого города подумали, что он проповедует о двух новых богах — об Иисусе и воскресении.
Третье дело — воскресение. Это не просто меняет все в мире. Многие соболезнования начинаются со слов, вроде: «Я знаю, что ничто не может вернуть дорогого вам человека, но…»
И не важно, что будет сказано дальше, не важно, сколь утешительной будет психология, которая последует за этим «но», человеку, потерявшему близких, христианство говорит нечто такое, что все остальное делает тривиальным, нечто такое, что более всего жаждет слышать скорбящий: Бог может вернуть наших дорогих к жизни и сделает это. Воскресение существует.
Какое это имеет значение? Дело все в том, дана ли нам вечная и бесконечная радость или же вечная и бесконечная печаль. Воскресение было настолько важно для учеников Христа, что когда Павел благовествовал в Афинах, жители этого города подумали, что он проповедует о двух новых богах — об Иисусе и воскресении (анастасис) (Деян. 17). Павел также говорил: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор.15:14,19).
По воскресении, когда уже не будет больше слез, мы — невероятно! — будем оглядываться на наши печали и смеяться, не насмешки ради, но от радости. Да мы и сейчас порой поступаем так же.
После того как тяжкая тревога улеглась, серьезная проблема решена, тяжелая болезнь исцелена, сильная боль отпустила, ретроспективно прошлое выглядит совсем по-другому, не таким, каким оно казалось, когда это было в будущем, в перспективе, или в настоящем, в момент переживания. Помните смелое высказывание святой Терезы, которая говорила, что в раю самая несчастливая земная жизнь будет выглядеть как всего лишь одна ночь в неудобном отеле!
Если вам трудно в это поверить, если вы считаете, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, знайте, что даже атеист Иван Карамазов понимал, в чем состоит эта надежда. Он говорил:
«Я убежден как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми…»
Но почему же тогда Иван остается атеистом? Потому что, несмотря на то, что он верит, он не принимает этого. Он не сомневающийся, он бунтарь. Как и его герой, Великий Инквизитор, Иван обвиняет Бога в том, что Он недостаточно добр. В этом глубочайший источник неверия: не разума, а воли.
История, которую я рассказал, самая древняя и самая известная из историй. Потому что это первоначальная история любви, история, которую нам больше всего нравится рассказывать.
Толкин говорит: «Из всех рассказываемых историй эту человек считает наиболее истинной». Она читается между строк в сказках, и потому мы находим сказки так странно неотразимыми. Ее красиво и глубоко пересказывает Кьеркегор во второй главе «Философских фрагментов», в истории о царе, который любил и добивался расположения скромной крестьянской девушки. Она символически передана в величайшей поэме любви, в Песне Песней, любимой книге мистиков.
Само ее очарование служит признаком истинности. И в самом деле, как могла эта сумасбродная мысль, это волнующее желание прийти на ум и сердце человека? Как могло создание, лишенное пищеварительной системы, пожелать пищи? Как могло создание, лишенное качеств, присущих мужчине, пожелать женщину? Как могло создание, лишенное разума, пожелать знаний? И как могло создание, лишенное возможности общаться с Богом, возжелать Бога?
Давайте вернемся немного назад. Мы начали с тайны, не просто с тайны страданий, но с тайны страданий в мире, который сотворен любящим Богом. Каков выход у Бога в этой ситуации?
Божий ответ на этот вопрос — Иисус. Но Иисус не вышел из нашей ситуации, Он вошел в нее. Вот почему так важна доктрина о божественности Христа: если на кресте страдал не Бог, а просто хороший человек, тогда Бог вне этой ситуации, вне креста, вне страданий. И если Бог вне ситуации страданий, тогда у Него нет выхода. Как Он может сидеть на небе и не обращать внимания на наши слезы?
Как мы видим, есть только одна веская причина не верить в Бога: грех. И Бог Сам отвечает на этот аргумент, но не словами, а делами и Своими слезами. Иисус — это слезы Бога.
Из книги Making Sense Out of Suffering by Ignatius Press
Питер КРИФТ
СИЛА В НЕМОЩИ[14]
«Когда я немощен, тогда я силен»; «сила совершается в немощи». Такие стихи часто цитируются как ключи к духовному росту, но понимаем ли мы в действительности, что они означают? Может ли кто-нибудь это понять? Да. Если бы мы совсем не могли этого понять, Бог не сказал бы это нам. Бог слов на ветер не бросает. Это великая тайна, но тайна – это не то, что невозможно понять вообще, это то, что мы не можем понять нашим собственным разумом, без откровения от Бога. Кроме того, тайну невозможно постигнуть полностью, но частично мы можем кое-что понять. Частичное понимание не является абсолютной тьмой. «Мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». Ключом к пониманию тайны силы, которая совершается в немощи, является крест Христа. Без Креста эта истина является не тайной, но абсурдом, тьмой. Не являясь христианами и не зная ни Христа, ни истины о Кресте, некоторые люди, такие как великий китайский поэт и мистик Лао-Цзы, очевидно, понимали тайну силы, совершающейся в немощи, довольно глубоко, по крайней мере, некоторые ее аспекты. Возможно, они смогли постичь аналогичные и родственные тайны, но не эту конкретную тайну. Или, возможно, они и понимают её через Христа и Его крест, хотя не осознанно и не ясно. Откуда нам знать, насколько далеко распространяются границы Креста? Его объятья очень широки. Христос является "светом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир" (Ин. 1:9), посредством естественного откровения, естественной мудрости и естественного закона, известного нам по совести. Когда Лао-Цзы, или Сократ, или Будда приходили к глубокому познанию некоторых вечных истин, они делали это в свете Христа, вечного Логоса, изначально воплотившегося Слова и откровения Божьего. Он является все Тем же, но не по человеческой, воплощенной природе. Любая истина – это Его истина. Но воплотившийся Иисус представляет собой наиболее полное откровение Бога, Его лицо, обращённое к нам в максимальной близости. Мы можем узнать о человеке намного больше, смотря на его лицо, а не на спину или ноги. Итак, давайте посмотрим на это окончательное, наиболее полное, абсолютное откровение Бога, которое мы имеем, - на Христа и Его крест, чтобы попытаться пролить свет на этот парадокс силы, проявляющейся в немощи. Вопрос заключается в следующем: «Каким образом немощь делает нас сильными посредством Креста?» или «Каким образом немощь Креста делает нас сильными?» Это два разных вопроса. Первый из них – теоретический, и на него нельзя ответить. Второй – практический, и на него имеется ответ. Первый вопрос звучит так: «Как это действует? По какой сверхъестественной, духовной технологии механизм немощи производит продукт силы? Как действует Крест?» Богословы работают над этим вопросом на протяжении почти двух тысяч лет, и до сих пор нет четкого консенсуса в христианском мире, нет очевидного, адекватного ответа; есть только аналогии. Согласно общепринятой аналогии св. Ансельма Кентерберийского, дьявол завладел нами, а Христос заплатил выкуп, чтобы вернуть нас Себе. Ранние отцы Церкви приводили аналогию космической битвы: сначала Христос вторгся на оккупированную врагом территорию, то есть Землю, затем, в Великую Субботу, спустился в подземный мир и одержал победу над дьяволом и силами греха и смерти. Ещё существует простое, но восхитительное высказывание проповедника из Южной ассоциации баптистов свободной воли: «Сатана голосует против вас, а Иисус голосует за вас и Его голос становится решающим». Эти метафоры полезны, но они являются лишь символами, подобиями. Если мы едва понимаем, как работает электричество, откуда нам знать, как действует искупление? На второй вопрос, однако, можно ответить более точно. Это практический вопрос: «Как я должен жить, как я должен вести себя в отношении немощи? Как я должен применять Крест в моей жизни?» Ведь Крест присутствует в моей жизни. Это не есть нечто странное. Это воплощение всеобъемлющей истины, а не просто событие, отдаленное от меня в пространстве и времени, произошедшее один раз для всех сразу, в Израиле в 29 году н.э., на расстоянии тысяч километров и двух тысяч лет. Это событие, которое продолжает происходить внутри меня, или, вернее, это я нахожусь внутри него. Существуют две равнозначные и вместе с тем противоположные ошибки при ответе на вопрос: «Каким образом я могу применять таинство Креста в моей жизни?». Это гуманизм и квиетизм, активность и пассивность. Гуманизм утверждает, что основа всего - действия человека, что мы должны бороться и преодолевать немощи, неудачи, поражения, болезни, смерть и страдания. Мы должны превозмочь Крест. Но, в конце концов, мы никогда не сможем этого сделать. Гуманизм – это Дон Кихот, скачущий верхом на лошади, чтобы сразиться с танком. Квиетизм, или фатализм, утверждает следующее: «Принимай всё с терпением». Другими словами, не будь гуманистом. Ступай «мягко в эту спокойную ночь», не«борись с тем, что свет угасает». Христианство более парадоксально, чем просто отказ от гуманизма или принятие за истину точки зрения фатализма. Существует такая же парадоксальная двойственность христианских взглядов на вопросы бедности, страданий и смерти. Бедность следует преодолевать и искоренять, но она же является благословением. Помогать бедным в избавлении от разрушительного действия их бедности является одной из важнейших христианских обязанностей. Если мы отказываемся делать это, то мы не можем называться христианами и быть спасенными (Мф. 25:41-46). Тем не менее, именно богатые достойны жалости и жалки, как мать Тереза поразительно сказала Гарварду: «Не называйте мою страну бедной. Индия - не бедная страна. Америка – вот бедная страна, она бедна духовно.» Богатому человеку очень трудно спастись (Мф. 19:23), в то время как нищие духом, то есть те, которые желают быть нищими, те, которые отделены от роскоши, блаженны (Мф. 5:3). Такое же парадоксально двойственное отношение имеет христианство к смерти. Смерть, с одной стороны, является великим злом, "последним врагом" (1 Кор. 15:26), последствием греха и наказанием за грех. Христос пришел, чтобы победить ее. В то же время смерть является дверью в вечную жизнь, в небо. Это золотая колесница, которую посылает великий король, чтобы забрать свою невесту Золушку. Страдание также является парадоксом. С одной стороны, мы должны облегчать страдания, а, с другой стороны, они благословенны. Святые являются таковыми главным образом по двум причинам: они имеют героическую любовь и сострадание к своим ближним, то есть, они делают все возможное, чтобы облегчить страдания других. Но также они любят Бога настолько сильно, что принимают и проходят через свои собственные страдания героически и даже радостно. Они как борются со страданием, так и принимают его. Они более активны, чем гуманисты, и более смиренны, чем квиетисты. Каждое из трех проявлений, - бедность, смерть и страдания, - является одним из видов немощи. Проблема немощи является более обобщенной, всеобъемлющей проблемой. Страдание, например, не является само по себе таким же невыносимым как немощь, так как мы охотно принимаем родовые боли, если шли на это по доброй воле и если это находится в нашей власти, но даже небольшую боль и неудобства, такие как задерживающийся рейс или ушибленный палец, мы находим возмутительными и невыносимыми, если они навязаны нам против нашей воли. Мы предпочли бы пробежать километр по доброй воле, чем быть вынужденными пройти один квартал. Кьеркегор говорил: «Если бы у меня был покорный слуга, который, попроси я у него стакан воды, принес бы мне чашу, в которой находится утонченный букет из самых дорогих в мире вин, я бы уволил его, чтобы научить, что истинное удовольствие состоит в том, когда твоя воля исполняется». Альфред Адлер, независимый последователь Фрейда, разошелся со своим учителем в основополагающем вопросе о том, что является главным человеческим желанием; Адлер обнаружил, что это не удовольствие, как считал Фрейд, а власть. Фома Аквинский косвенно соглашается с этим, потому что, когда он рассматривает и разоблачает всех идолопоклоннических и неадекватных претендентов на должность высшего человеческого счастья, то есть все то, что мы ищем кроме Бога, то отмечает, что нас привлекает власть, потому что она нам кажется наиболее благочестивой. (Это, однако, обманчивая позиция, потому что сила Божья – в Его благости.) «Власть» является ответом св. Августина на вопрос, почему он, будучи мальчиком, воровал жесткие, несъедобные и непродаваемые груши. Он не желал ни удовольствия, ни денег, а власти не быть под законом "не укради", власти не подчиняться закону и, очевидно, ожидал, что это сойдет ему с рук. Ограничения терзают нас. Да, но, по сути, мы сами являемся ограниченными. Мы, в конце концов, создания, а не Создатель; конечны, как ни крути, а не бесконечны; смертны, а не бессмертны; невежественны, а не всезнающи. Все это является проявлениями немощи, а не случайными слабостями, которых можно избежать; немощью врожденной и необходимой для нашего существования как созданий. Негодуя на ограничения, предписываемые немощью, мы негодуем на то, кем мы являемся. Прежде чем попытаться найти ответ на вопрос о силе, действующей в немощи, мы должны сначала рассмотреть проблему немощи более глубоко и ясно. Существуют три вида немощи; все они являются родственными, но отличными друг от друга. Во-первых, есть определенная немощь в том, чтобы быть вторым, исполнять партию второй скрипки, делать что-либо в ответ на чье-либо действие, быть ведомым, а не ведущим, повиноваться, а не отдавать приказы. Наше недовольство этим является безумием, ибо Сам Бог имеет в Себе эту немощь! От века Сына подчиняется Отцу. На земле Он вел Себя так же, как и в вечности. "Он, находясь в жутком климате окраин Своих владений, делал то же самое, что вечно делал дома, во славе», - сказал Джордж Макдональд. Никто никогда не был более послушным, чем Христос. Поэтому послушание - это не признак неполноценности. Делать что-либо в ответ, петь вторым голосом, исполнять партию второй скрипки не было унизительным для Христа, Который, являясь Богом истинным от Бога истинного, был идеальным повинующимся. В этом заключается один из самых поразительных и радикальных поворотов в истории, о которых когда-либо слышал мир и который до сих пор его не понял. Женщины по-прежнему остаются недовольными тем, что они женщины, тем, что биологически им необходим мужчина для зачатия, тем, что они нуждаются в мужской защите и руководстве, потому что они думают, что это делает их неполноценными. Дети считают возмутительным послушание родителям, и граждане страны выступают против того, чтобы повиноваться законной власти, по той же причине: они думают, что это послушание подчеркивает их неполноценность. Но это не так. Христос являлся и является равным Отцу во всем, но Христос подчинялся и даже сейчас подчиняется Отцу. Различие между исполняемыми ролями не является различием в достоинстве. «Немощь» послушания исходит не от неполноценности, но от равенства в достоинстве. Дети также должны подчиняться родителям. Тем не менее, ни морально, ни духовно дети не являются неполноценными по сравнению с родителями. Повеление подчиняться не унижает, но освобождает, если мы говорим о послушании «во Христе». В мире правит власть и сила, и сильные унижают слабых. Там послушание действительно является признаком неполноценности власти. Но не в церкви. Здесь все по-другому. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не пришел чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:25-28). Иисус был равен Отцу, но подчинялся Ему. Если бы мы поняли и оценили этот простой, но революционный факт, у нас был бы новый мир. Не тот древний мир, где господствовало рабство и угнетение, не современный западный мир, в котором царит разрушение и беспорядок, неестественное выравнивание и возмутительная конкуренция. Лучше бы мы любили. Любовь придает силы. «Немощь» Христа в повиновении Отцу делала Его сильным, потому что это было повиновение любви. Если бы Христос не подчинился воле Отца, поддавшись искушению сатаны в пустыне, он потерял бы Свою силу, как Самсон, и бессильно уступил бы врагу. Его послушание было знаком Его божественности. Так же дело обстоит и с нами: если мы полностью послушны Отцу, то становимся участниками Божественной сущности. Ибо покаяние, вера и крещение, - три инструмента этого преобразования, - являются формами подчинения. Намзаповедано покаяться, веровать и креститься. Вторая форма «слабости» применима только к нам, а не ко Христу, но также является тем, против чего нельзя бунтовать. Это наша ограниченность, наша тварность. Мы были созданы. Поэтому мы зависимы от Бога во всем, в самом нашем существовании и в том, что из него вытекает. Бог владеет нами. (Поэтому самоубийство является кражей.) Никто не обладает такими полномочиями, как Бог. Ни одно из творений, даже наивысший архангел. Никакое творение не является всемогущим, равно как никакое творение не является совершенно бессильным. Даже ангел не может создать Вселенную или спасти душу, и даже через песчинку может проявиться Бог, она может вызвать раздражение стопы и ума и стать решающим фактором для начала сражения и войны. Во всей вечности никакое творение не может исчерпать глубины Божьи и завершить изучение Его любви. Бог всегда будет больше. Мы никогда не потеряем несравнимое удовольствие от смирения, поклонения нашему Герою. Как глупо сетовать на то, что мы «немощны». И как глупо обижаться на Бога и природу за компенсацию этой немощи через взаимозависимость, солидарность, сотрудничество, бескорыстие. Мы несем бремена друг друга, тем самым исполняя закон Христов (Гал. 6:2). Я думаю, что фраза «закон Христов» означает больше, чем просто подчинение заповедям Христа, я думаю, что это означает жить жизнью Христа. Я думаю, что закон Христов больше походит на закон всемирного тяготения, чем на законы какой-либо страны. Падающее яблоко подчиняется закону всемирного тяготения, и, нося бремена друг друга, мы исполняем закон Христов. Брак является ярким примером того, как люди носят бремена друг друга. Мужчины нуждаются в женщинах, как Бог отметил при сотворении: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18). И женщины нуждаются в мужчинах. Как мужчины, так и женщины, сегодня часто недовольны этой потребностью. Это является бунтом против закона Христа, который вписан в закон человеческой природы. Сама сущность Бога, о которой говорится в Бытие 2:27, описывается как «мужчина и женщина». Наконец, существует третья форма немощи, с которой мы имеем право бороться, – греховная немощь и ее последствия. Это хорошо - быть ограниченным во времени, но не быть падшим. Все мы люди с нарушениями, мы находимся не в нашем естественном состоянии. Мы все время боремся с тем, что из себя представляем, ведь то, кем мы являемся, не есть естественное наше положение, это не то, что Бог задумал. Недовольство нашей нравственной и духовной немощью косвенно свидетельствует нашему знанию о том, что есть нечто лучшее, стандарт, которым мы измеряем себя, свою жизнь и наш мир и видим, что они оставляют желать лучшего. Именно наша память об Эдеме вынуждает нашего нынешнего возлюбленного конфликтовать с миром, с этой пустыней «к востоку от Эдема» (Быт. 3:24). Именно по причине того, что мы морально немощны, нам заповедано молиться так: «не введи нас в искушение», то есть, в испытания и трудности. У каждого из нас есть свой предел. Если бы Бог не сократил дни великой скорби, даже святые не смогли бы выстоять и спастись (Мф. 24:22). Мы немощны не только морально, но и интеллектуально: невежественны, глупы, безрассудны. Грех это не просто глупость, как учил Платон, и, конечно, его причина есть не только невежество; невежество не является причиной греха, этоследствие греха. Наше тело также немощно из-за греха. После того как душа провозгласила независимость от Бога, источника жизни и силы, тело стало слабым, потому что оно стало менее зависимым от души, источника его жизни. Смерть, таким образом, является неизбежным результатом греха. Это похоже на магнит. Бог - это магнит, который удерживает два железных кольца, - душу и тело, - вместе. Уберите магнит, и кольца рассоединятся. Как только мы отделяем себя от Бога, нам не остается ничего другого, как только умереть. А когда мы с Богом, нам не остается ничего другого, как только жить вечно. Мы должны принять послушание Отцу как нашу первую «немощь», и мы должны принять свою ограниченность в качестве второй «немощи», но должны ли мы также считать нормой нашу третью «немощь», нашу греховность? И да, и нет. Грех подобен раку. Если мы больны раком, мы должны принять этот факт нашим разумом, а не нашей волей. Мы должны признать правду, но не соглашаться с тем, что рак есть добро, потому что это не так. Мы принимаем это теоретически, но не практически. На практическом уровне мы должны бороться с ним. То же самое относится и к греху. Людей часто смущает этот момент. Даже такой умный человек, как Карл Юнг, очевидно, снизошел до этой смертельной ошибки, когда сказал, что мы должны «принять нашу собственную темную сторону, наши тени». Нет! Богу пришлось умереть и претерпеть адские муки, чтобы избавить нас от этой темной стороны. Как мы можем посметь «принять» ее, когда святой Бог объявил ей вечную войну? Как смеем мы занимать нейтральную позицию, когда мнение Бога на этот счет более, чем конкретное? Как смеем мы, возомнив себя Чемберленом в Мюнхене, играть с изобретениями геенны? Только одна участь ждёт такую духовную немощь. Ищите это в Откровении 3:16. Пусть никто не пытается съесть то, что Бог извергнул из Своих уст. Теперь я осмелюсь пролить свет на более глубокие, опасные области нашей проблемы. Наша немощь становится нашей силой тогда, когда Бог входит в нашу немощь. Подобно врачу, который вводит пациенту обезболивающее, чтобы он стал пассивным и не прыгал на операционном столе, Бог ослабляет нас для того, чтобы проводить операции на нас, иначе это было бы невозможно. Это особенно верно в отношении смерти. Смерть – это радикальная операция, и для нее мы должны быть под общим наркозом. Бог хочет проникнуть в наши сердца, в нашу внутреннюю сущность. Наше сердце должно прекратить биться, чтобы была сделана операция. Тот же принцип работает в меньшей степени и до наступления смерти, в маленьких «смертях». Сначала Богу приходится одолеть нас для того, чтобы спасти нас от утопления, так как мы упрямо изворачиваемся. Он должен выбить игрушки из наших рук, чтобы наполнить их Своими радостями. Пока что все понятно. Этот принцип достаточно хорошо известен. Но когда мы обращаемся к мистикам и читаем их странные высказывания о том, чтобы «стать ничем», когда немощь достигает своей наивысшей точки, мы качаем головой в непонимании и недоверии. Тем не менее, рассуждения мистиков о «ничтожестве» перед Богом - это не что иное, как тот же принцип, доведенный до своего логического завершения. Если сила Божья наполняет нас, когда мы немощны, и величие Бога наполняет нас, когда мы смиренны, то вся полнота Божья наполняет нас тогда, когда мы ничтожны. Но мы должны видеть различие между двумя видами этого «ничего». Восточные мистики говорят, что душа есть «ничто», потому что она не реальна. Они смотрят сквозь «иллюзию» индивидуальности. Очевидно, они говорят, что нас вовсе не существует, есть лишь Бог. Если вы пантеист, то для вас Бог – это все. Но это не есть истина, так как Бог создал нас отличными от Себя. Вместо этого, «ничто» для христианина-мистика обозначает ничтожество в отказе от собственной воли и самосознания. "Не моя воля, а Твоя да будет" – это фундаментальная формула святости, а не только мистики. В этом нет ничего особенно мистического. Но когда, восхищаясь Богом и находясь в предвкушении блаженства небес, удостоенный такой чести мистик теряет сознание себя, он сам себе кажется ничем, потому что больше не смотрит на себя, только на Бога. Но, конечно, он все еще существует, ведь для осуществления акта самозабвения он должен быть кем-то. Так кто забывается? Не Бог, конечно, ибо Всеведение забыться не может. Христианин-мистик находит блаженство в этой абсолютной немощи вплоть до становления «ничем», ибо это и есть полное доверие, абсолютный покой в Божьих руках, в объятиях Аввы, Папы. Все тревоги и заботы исчезают. Это полное смирение. Точно так же, как гордость является первым грехом, грехом демоническим, смирение является первой добродетелью. Гордость – это не преувеличенная оценка своего достоинства, ибо это есть тщеславие. Быть гордым - значит брать на себя роль Бога, утверждать, что я - Бог. «Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах», - говорит сатана, оправдывая свой бунт, в «Потерянном Рае» Мильтона. Это и есть формула гордости. Гордость есть совокупность слов «да будет воля моя». Смирение означает «да будет воля Твоя». Смирение – это сосредоточенность на Боге, а не на себе. Смирение – это не чрезмерно низкое мнение о себе. Смирение – это самозабвение. Смиренный человек никогда не скажет вам, насколько он плох. Он слишком занят, думая о вас, чтобы говорить о себе. Поэтому смирение является таким радостным, и оно так близко к блаженному созерцанию небес, где мы будем настолько очарованы Богом, что забудем себя полностью, как мистики. Совместив подчиненную волю («не Моя воля, но Твоя да будет») и полное самозабвение, мы, возможно начнем понимать, почему мистики находят несравненную радость в становлении «ничем». Это то таинственное волнение, которое мы испытываем, когда поем о Святом Духе: «Вей, вей, наполни Собою все / Пусть будет во мне лишь дыханье Твое». Очень трудно говорить об этом блаженстве. Иногда это звучит весьма странно. Легко понять это неправильно. Это невозможно объяснить обычным языком. Это похоже на влюбленность. Это и есть влюбленность. Это не идея, которую можно объяснить. Это опыт, который нужно пережить, или, по крайней мере, в который нужно проникнуть с открытым разумом и открытым сердцем. Какое отношение к этому имеет Крест? Кроме того, что Крест избавил нас от греха, он раскрыл сущность блаженства внутри божественной Троицы, Дух самоотверженной любви между Отцом и Сыном, глубокую тайну внутренней жизни Бога. Крест, который Бог воткнул, словно меч, в Землю на Голгофе, держится Им за рукоять на небесах. Небеса ковали его лезвие. Крест начал войну с грехом и смертью во времени, но объявил мир и жизнь в вечности. «Не моя воля, но Твоя да будет» - это не только самое трудное, что мы можем сделать (вот, что грех сделал с нами), но и самое радостное и свободное (это то, что подарила нам благодать). Бесчисленные эксперименты снова и снова доказывали лишь одно: когда мы стремимся к счастью, исполняя роль Бога, беря в свои руки власть и управление, мы в конечном итоге оказываемся несчастными, и неважно, добились мы того, чего хотели, или нет. Ибо, добившись своего, мы начинаем скучать, а не добившись, разочаровываемся. Но когда мы становимся ничем, совершенно немощными, когда мы говорим от всего своего сердца: «Не моя воля, но Твоя да будет», мы находим величайшее счастье, радость и мир, которые едва ли возможно найти в этом мире. Однако, несмотря на бесчисленные эксперименты, подтверждающие эту истину, мы все еще пробуем найти счастье вне Бога и вне подчинения Богу, тем самым постоянно отвергая принадлежащую нам по праву радость. Другими словами, мы поступаем безумно. Грех - это безумие. В сердце ислама лежит эта могущественная истина, которую мы только что наблюдали. «Ислам» обозначает два понятия: «подчинение» и «мир» (родственное слово - «шалом»). Подчинение Богу («Аллаху», «Единственному») является путем к миру. Данте описал это в пяти словах, которые Томас Элиот назвал самой совершенной и глубокой фразой из всей литературы: "Подчиняясь Ему, мы обретаем покой». Эта немощь является сущностью силы Божьей, тайной всемогущества Бога. Бог является всемогущим не потому, что Он может создать Вселенную и творить чудеса. Бог является всемогущим, потому что Он есть любовь, потому что Он может повиноваться Сам Себе, потому что Он может быть слабым. Только христианин может понять тайну всемогущества. Бог, проявляясь лишь в одной из Своих ипостасей, не может быть абсолютно всемогущим. Только Троица, только Бог, который может постоянно отдавать Себя Себе, может быть всемогущим. Обычно мы думаем об Отце, как об источнике всемогущества, но для этого необходимы все три лица. Всемогущество возникает только тогда, когда присутствует Дух, Который есть любовь между Отцом и Сыном. Когда этот Дух входит в нас, вся Троица входит в нас, и живет Своей жизнью в нас и через нас. Славный Крест вечной Троицы и кровавый Голгофский крест сливаются воедино в наших душах и жизнях, когда мы принимаем участие в радости божественной любви и страданиях божественного искупления.
Питер КРИФТ
РАЙ[15]
Камо грядеши? Куда идешь? Этот вопрос очень существенный для путешественника. А мы, живущие, все путешественники. Смерть всех нас зовет и всеми нами движет. Стабильность — всего лишь иллюзия. Поэтому тот, кому иллюзии не по душе, должны задать себе вопрос: Камо грядеши?
Если рай не является ответом на этот вопрос, то вся наша вера тщетна, а Иисус — просто глупец. Если ответ — рай, то во всем мире нет ничего важнее его. На самом деле, мир — всего лишь преддверие (утроба) рая.
Но почему же тогда мы так мало о нем говорим, в том числе и с церковной кафедры? Почему нам твердят наши «ведущие богословы», что нам нужно перестать витать в облаках и смотреть под ноги? Почему размышления о небе считаются возмутительной безответственностью по сравнению с размышлениями о политике?
Потому что эти ведущие богословы на самом деле ведомые, ибо они плотно следуют за современным миром. Фактически, все у них вверх тормашками: лицом они погрузились в грязь, а ногами грозят небу в своем бунтарстве. Они хотят превратить христианство, которое в учении его Основателя совершенно четко было учением веры, надежды и милосердия, религией не от мира сего, — в учение мира сего. У правых (с их электронной церковью) — в религию процветания и успеха, у левых (с их либеральным богословием) — в религию политических революций.
Но эти подделки приносят лишь кратковременное удовлетворение. Процветание со временем приедается. Количество самоубийств в Швеции примерно в тысячу раз выше, чем на Гаити. И даже интерес к революциям в конце концов проходит. Ведь ни одна революция не может вынести свой собственный успех. Всякая революция оборачивается новой тиранией, и Екклезиастов цикл вновь повторяется: все возвращается на круги своя, подобно тучам после дождя.
Даже не верящие в рай скептики носят в себе сердце, скроенное по райским меркам
Вопиюще важная, потрясающе прекрасная истина о человеке заключается в том, что в его сердце есть пустота (дыра), размером в небо, и ничто иное не может заполнить ее. По сути, мы тратим жизнь на то, чтобы наполнить Большой Каньон бисером. Как сказал Августин: «Ты создал нас для Себя, и наши сердца не успокоятся, пока они не обретут покой в Тебе».
Это величайшее из записанных изречений, кроме библейских, потому что в нем открывается тайна нашего предназначения, нашего счастья или несчастья. Оно не просто старомодное, оно несет в себе жуткую угрозу. Оно срывает пластырь с наших ран и показывает, как ничтожны наши фальшивые божки в сравнении даже с нашими собственными сердцами. Такое обращение с идолами никогда не приводило людей в восторг. Вспомните, как они поступали с пророками.
Но мы должны ободриться. Даже не верящие в рай скептики носят в себе сердце, скроенное по небесным меркам. Карты тасованы, и игральному кубику придано утяжеление, утяжеление любовью небес. Amor meus, pondus meum, говорил Августин: «Любовь моя — бремя мое». Сила гравитационного притяжения любви влечет сердце скептика в направлении к небесам, в то время как антигравитация греха тянет его назад.
Часто приходится иметь дело с разумом, который попался в ловушку словесных предубеждений. Начните говорить о небесах — и вы услышите в ответ насмешки. Но если вы начнете говорить о таинственной неудовлетворенности жизнью даже тогда, когда все идет хорошо, — особенно тогда, когда все идет хорошо, — вы услышите ответ человеческого сердца, даже если уста его будут говорить обратное.
Никто не мечтает о пушистых облаках и бесполых херувимах, но все страстно жаждут небес. Никто не стремится к таким небесам, которые мы себе представляем, но все страстно желают того, о чем написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».
Наш дом — небо
Мы все еще дети, но никак не можем понять этого. Среди нас нет взрослых. Становясь старше, мы просто меняем наши игрушки на другие: теперь у нас бизнес вместо биты, секс вместо санок, власть вместо игрушечных пистолетов. Когда придет время умирать, наш Отец позовет нас: «Иди сюда, малыш. Оставь свои игрушки, пора домой».
Небо — это наш дом. И нам не будет он казаться каким-то странным, далеким или неестественным, напротив, он будет совершенно естественным. Ведь небо — это то, для чего мы созданы. Вся наша литература направлена на поиски его: это тот «дом», который ищет Одиссей, Эней, Фродо и заблудившийся инопланетянин. Размышление о небесном — это не эскапизм. Эскапизмом, или попыткой уйти от действительности, является как раз мирской образ мыслей. Небо — это наш дом.
Люди считают мысли о небесах эскапизмом только потому, что они боятся, как бы небесные мысли не отвлекли их от того, чтобы жить хорошо здесь и сейчас. Но все как раз наоборот, и жизнь святых и Самого Господа только подтверждает это. Те, кто поистине любят небо, больше других делают на земле. И это понятно. Ведь те, кто любят родину, будут старательнее трудиться в изгнании, чтобы это место напоминало им о родине. «Да придет Царствие Твое… и на земле, как на небе».
Беременная женщина, которая планирует родить ребенка, заботится о нерожденном младенце; женщина, которая планирует аборт, не беспокоится о нем. Дороги, которые куда-то ведут, содержатся в хорошем состоянии; о тех же, что приводят в тупик, никто и не переживает. Если рассматривать жизнь как путь в небо, часть славы небесной будет отражаться на этой дороге, пусть даже в качестве предвкушения: мир наполнен ожиданием великолепия Божьего и каждое событие отражает вечность. Но если все течет в дренажную канаву смерти, то эта жизнь всего лишь мутный поток грязной воды, и каким бы удобным мы ни сделали барахтанье в нем, все это так и останется суетой сует.
Каков путь к радости?
Существование небес, желание небес, природа небес, актуальность небес — все эти вопросы очень важны. Но есть один вопрос, который жизненно необходим, вопрос, по сравнению с которым спасение мира от атомного холокоста кажется просто тривиальным. Вот этот вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» Если мы достаточно честны, чтобы взглянуть через врата смерти, вечная радость и вечное мучение представляются нам как единственно возможные исходы. Какая дорога приведет к радости? Что нужно для того, чтобы получить билет на небо? Где отыскать Путь, Истину и Жизнь?
С тревогой сообщаю, что я задавал этот вопрос не одной сотне студентов-католиков, и едва ли половина из них дали мне ответ. Это означает, что церковное религиозное образование не просто не оправдало себя, но более того — оно находится в катастрофическом состоянии. Большинство ответов, которые я получил, звучали так: «Бог милостив ко всем», либо так: «Вообще-то, я неплохой человек».
Если кто-то из читающих эту статью еще не знает правильного ответа, во имя любви Божьей откройте Библию и изучите ее, пока не наступил час заключительного экзамена! Чтобы сэкономить ваше время — а вдруг вы умрете раньше, чем откроете Библию — я процитирую предельно простой ответ Бога на самый важный в мире вопрос о том, как попасть на небеса: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься» (Деян. 16:31).
Питер КРИФТ
АД[16]
«Да ну его, этот ад!», — говорит современный человек. Из всего христианского учения ад, конечно же, менее всего популярен. Неверующие просто игнорируют его, слабые христиане ищут предлог, чтобы не говорить о нем, для атеистов же он служит предметом нападок.
Некоторые из них (такие как Бертран Рассел в своем известном эссе «Почему я не христианин») утверждают, что Иисус был плохим учителем нравственности, поскольку Он, несомненно, верил в ад. (Расселовское эссе, между прочим, может стать отличным чтением для христианина. Мой коллега, с которым я жил в комнате, почти потерял веру в Бога, но прочтя вышеупомянутое эссе, сказал следующее: «Если таковы аргументы против христианства, лучше я останусь христианином».)
Почему мы считаем, что ад существует? Не потому, что мы жаждем мести. «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». Тогда почему же? Просто потому, что нам об этом сказано Самим Христом.
Бытует популярное заблуждение, что Иисус говорил только слова утешения и что страх ада начинается лишь с посланий святого Павла. Согласно тексту истина в обратном: Иисус в Своих проповедях часто говорил об адском пламени и вечном осуждении, в то время как почти все отрывки, в которых видят какую-то надежду универсалисты (они верят, что, в конце концов, все будут спасены) принадлежат апостолу Павлу.
Конечно, страх ада — не основной мотив. Но как сказал Джордж Макдональд, «пока нас окружают дикие звери, лучше бояться, чем чувствовать себя в безопасности». Божья благость принимает даже «низкие» мотивы страха ада во спасение, если это лучшее, на что мы способны. Бог открывает объятья всем блудным сыновьям. Он не настолько высокомерен, как некоторые из Его противников. На войне (как и в любви) все средства хороши. А жизнь — это и то, и другое.
Существование ада — производное двух других доктрин: существования рая и свободной воли. Если есть рай, тогда должен быть и анти-рай. Если есть свободная воля, мы можем поступать согласно ей или злоупотреблять ею. Всякий, кто отвергает ад, должен также отвергнуть либо рай (как и поступает западный секуляризм), либо свободную волю (как это делает восточный пантеизм).
Наличие ада и рая делает жизнь значительной. Рай без ада — как жизненная драма без остроты. Клайв Льюис однажды сказал, что он не встречал ни одного, кто бы верил всем сердцем в рай, не веря при этом в ад. Высота горы измеряется глубиной ущелья, величие спасения — ужасом того, от чего мы спасены.
Но что такое ад? Распространенное представление о демонах, весело тыкающих вилами в нераскаявшихся грешников, не соответствует библейскому образу огня.
Огонь разрушает. Геенна — слово, которым Иисус описывает ад, - это ущелье вне Иерусалима, в котором иудеи непрерывно сжигали мусор. И делали они это потому, что то место было осквернено племенами, которые приносили там человеческие жертвы.
Ад — это вечное испепеление самого себя. Ад — не есть вечная жизнь в муках, это нечто гораздо более страшное: вечное умирание. Тот, кто идет в ад, как говорил Клайв Льюис, «уже не человек, но то, что осталось от человека».
Образы, которыми Писание рисует ад, ужасны, но это всего лишь символы. А то, что они символизируют, еще ужаснее, чем сами символы. Духовный огонь страшнее материального огня; духовная смерть страшнее физической. Боль утраты — утраты Бога, источника радости — бесконечно ужаснее, чем любые мучения. Все, кто знает Бога и испытал Его радость, понимают это. Святых не нужно пугать огнем, им достаточно сказать об утрате.
«Всю вашу жизнь недостижимый экстаз парит вне власти вашего сознания. Приближается день, когда вы пробудитесь, чтобы обнаружить, без всякой надежды, что вы настигли его, или что он был в пределах досягаемости для вас, а вы утратили его навсегда» (Клайв Льюис).
Иисус не описывал ад во всех подробностях. Он говорил о том, что ад существует, что он ужасен, и каждый может попасть туда. Одним из тех, кто туда попал, был Иуда, потому что Иисус сказал о нем: «Лучше бы тому человеку не родиться».
Если в аду не будет людей, для чего тогда Иисус так много и так настойчиво предупреждает о нем? Он не приводит статистику, сколько человек там окажется. На вопрос Его учеников: «Неужели мало спасающихся?», Он отвечает не предварительными прогнозами, а убедительным обращением к их воле: «Подвизайтесь войти».
Иисус говорит, что «широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими»; но «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Здесь имеется в виду следующее: нельзя попасть в рай ни по факту своего рождения, ни будучи хорошим человеком, ни путем постоянного усовершенствования.
Но слово «немногие» здесь не означает, что меньше половины человечества будет спасено. Потому что Бог разговаривает с нами как Отец, а не статист. Даже если один сын погибнет, это уже слишком много, а остальных спасенных — слишком мало. Добрый пастырь, оставляющий девяносто девять овец в безопасном месте и идущий спасать свою потерянную овечку, считает, что даже 99 процентов спасенных — это слишком мало.
Самый важный вопрос об аде, как и о рае, это практический вопрос: какой путь туда ведет? Речь, конечно, идет о том, что происходит внутри. Фактически, раем и адом может быть одно и то же — а именно, любовь Божья, переживаемая как ее противоположность противящейся душой. Точно так же одна и та же опера или рок-концерт могут вызывать противоположные чувства у сидящих рядом зрителей.
Адский огонь может быть создан из самой любви Божьей, воспринимаемой как мучения теми, которые ненавидели Его. Он может быть самим светом Божьей истины, ненавидимым и напрасно отвергаемым теми, кто возлюбили тьму.
Представьте себе человека в аду — а лучше его дух — бесконечно гонящегося за своей собственной тенью, в то время как свет Божий все время освещает его сзади. Если бы он повернул к свету свое лицо, он был бы спасен. Но он отказался это сделать, отказался навсегда.
Точно так же, как мы можем обрести рай скрытой и открытой верой («Святой Сократ, молись о нас», — говорил Эразм), так же и в ад можно попасть без открытого бунта. И это ужасная — и крайне необходимая — истина, преподанная Клайвом Льюисом в «Расторжении брака» и Чарльзом Уильямсом в «Сошествии в ад». Мы можем медленно сместиться, сползти и даже соскользнуть в уютном сне в ад. Все посланники Божьи, все пророки говорят об этом.
Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы слышать истину об аде вновь, просто потому, что это правда, потому, что ад существует. А также из жалости. Ибо если впереди просвечивает пропасть, самым безжалостным делом будет говорить путешественнику: «Мир, мир, но мира нет». Из любви к Богу и человеку, давайте говорить истину об аде!
Конечно же, над нами будут глумиться, называть нас требующими расплаты, манипуляторами или фундаменталистами. Пусть будет так. Иногда кажется, что разделить с Господом Его святое унижение мы боимся больше, чем самого ада. Но все это небольшая плата за спасение хотя бы одной, бесконечно драгоценной души. И, кроме того, это дело, которое нам поручено.
From Fundamentals of the Faith by Ignatius Press
Питер КРИФТ
Есть ли Секс на Небесах?[17]
Речь, произнесённая Питером Крифтом в Гамильтонском Зале, Колумбийского Университета, 21 октября 1996 и спонсированная Августиновским Клубом.
Первая часть речи была записана с магнитофонной ленты. Остальное было сканировано по одноимённой книге доктора Крифта.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможно, Вы скептически думаете: действительно ли эта тема серьёзна? Или - это только мистификация? Ответ: это серьёзно. Итак, прежде чем я попытаюсь ответить на вопрос, я хочу оправдать вопрос.
Есть семь причин, почему это - очень хорошая тема.
Прежде всего, секс и небеса - две вещи, которые всех нас очень интересуют - две вещи, которых все мы желаем, два великих вопроса.
Во-вторых, хорошо объединять великие вещи. Очень редко эти две вещи соединялись. Если Вы не соединяете вещи, Вы получаете хаос вместо космоса. Вы не имеете целостного мировоззрения. Вы не созерцаете прекрасного, не объединяете разнообразие. Разве только с точки зрения физики вселенная объединена пространством, временем и материей?
В-третьих, это - две большие головоломки , две большие тайны. Ни одна из них не ясна. Небеса слишком далеки, чтобы их ясно видеть, а секс слишком близок, чтобы его ясно видеть. И так как мы любим тайны [? а это две больших головоломки]. Паскаль говорит в Мыслях, что человеческая ситуация находится всегда в середине между двумя крайностями или несколькими крайностями: слишком много света, слишком мало света; слишком большое расстояние, слишком маленькое расстояние, [?] слишком. Габриель Марсель говорит, что самые большие вопросы в философии - тайны, а не проблемы. То есть вещи, которые не могут быть в принципе полностью решены или разрешены, потому что мы - близко к ним: "соединение тела и души'', "почему мы влюбляемся?". Как случилось, что ни один философ никогда адекватно не ответил на эти вопросы? Потому что Вы не можете получить ощущение дистанции.
В-четвертых, это не только два великих желания и две великие тайны, которые мы соединили, они - два великих факта. Они велики онтологически, они - велики метафизически, они - велики объективно. Мы не только глубоко исследуем их, но каковы они есть, что они значат это [? очень] глубоко.
В-пятых это - хороший вопрос, потому что есть сопротивление этому вопросу - двойное сопротивление. Прежде всего, многие люди думают, что секс - слишком земная тема, чтобы соединить его с небесами. Они стыдятся этого - это не достаточно религиозно. Другие чувствуют противоположно, что небеса - слишком религиозная тема, чтобы соединить их с сексом. Они стыдятся, как будто это - религиозное вмешательство в секс. Некоторые люди, я полагаю, не хотят небес, если на небесах нет никакого секса, а другие люди не хотят секса, если это - небеса [?].
На шестом месте, это - хороший вопрос потому, что это очень конкретный вопрос. Это - вопрос ребенка. Это - честный вопрос. Большинство вопросов, которые задают современные богословы, безопасны потому, что они неопределенны и банальны. Я однажды написал целую книгу: «Всё, что Вы когда-либо хотели узнать о Небесах, но никогда не мечтали спросить», потому что моя дочь, которой было тогда около шести лет, задала мне вопрос: "Когда моя кошка умрёт, она будет на небесах?"
И я сказал, "А почему бы нет?"
И она сказала, "Она будет счастлива там?"
"Конечно: это не были бы небеса, если бы Вы там не были счастливы".
"Хорошо, она не счастлива, если она не ест. Мы должны были бы покупать кошачью еду".
"Хорошо, если она не может быть счастливой, если она не ест, значит, купим кошачью еду".
"А откуда мы возьмём кошачью еду? Её сделают на фабрике? Я думаю, что фабрики уродливы. Есть ли на небесах фабрики? "
Я сказал, "я так не думаю".
"Сделает ли Бог так, чтобы это случилось?"
Теперь - философия. [?]
На первой неделе моего пребывания в колледже, мой сосед по комнате, задал мне богословский вопрос, который сначала не показался мне серьёзным, но потом мы думали об этом до четырех часов утра: пукали ли Адам и Ева до (грехо)падения? Это - очень хороший вопрос. Это - очень конкретный вопрос. Вы вовлечены в добро и зло, красоту и уродство, и субъективное и объективное, и принципы эстетики, и историчность Падения и, "как Вы знаете что-нибудь так или иначе",- всё от этого простого, прямого вопроса. Так, это - такой вопрос.
Наконец, это - хороший вопрос, потому что это задаёт окончательный вопрос о сексе: идёт ли всё это вверх? Есть ли это знак? Имеет ли это значение? Можете ли Вы смотреть вдоль него, так же как смотрите на него? В этом возможно больше значения, чем Вы думаете?
Я оправдал вопрос. Но теперь я должен оправдать попытку [? ответов] на вопрос, потому что это могло бы показаться также слишком таинственным и слишком близким и слишком огромным отвечать кроме как предположительно. Я не пытаюсь доказать что-нибудь; я действительно пытаюсь дать разумные, но не абсолютно определенные ответы.
Я намереваюсь использовать научный метод. Как Вы отвечаете на вопрос? Я думаю, что лучшим методом для того, чтобы отвечать на вопросы, является некоторый вариант научного метода, который означает, что прежде всего Вы формулируете вопрос, во-вторых, Вы собираете подходящие данные, в-третьих, Вы выдвигаете гипотезу; в-четвёртых, Вы проверяете гипотезу по данным, не по[? идеологии]. В этом - различие между хорошей и плохой наукой: гипотеза, проверяется по данным или, наоборот, идеологически?
Хорошо, Вы можете сказать, какие данные мы имеем об этом? Прежде всего, мы знаем множество вещей о сексе из нашего настоящего опыта. И, во-вторых, ортодоксальные Иудеи, Христиане и Мусульмане говорят, что мы имеем данные о небесах - божественное откровение. Так, если мы смешиваем философию и богословие, беря наши теологические данные как, по крайней мере, гипотезу, потому что даже [?] это, мы не можем доказать, что это не так, так давайте исследовать возможности, как если бы это так и есть, мы получаем двойную базу данных. Оба источника данных [?] доступны по причинам, которые я указал прежде: опыт небес, который мы имеем - слишком мал: это - слишком далеко [?] намёки и предположения.
Опыт секса, который мы имеем, - слишком близок: нам недостаёт дистанции, однако он есть.
Итак, давайте начнём: Есть ли секс на небесах?
Мы [?] вводимся в этот вопрос, отвечая на предыдущий вопрос. Сократ сказал бы, подождать минутку, в то время как я спрашиваю: что есть секс? Что есть небеса? Хорошо, это отнимет много времени, чтобы ответить на второй вопрос и почти столь же много времени, чтобы ответить на первый вопрос. Так давайте начнём с первого вопроса.
(Это была расшифровка речи с магнитофонной ленты. Далее – текст из книги).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Мы не можем знать то, чтó есть "X-на-Небесах", если мы не знаем, каково X. Мы не может знать то, каков секс на Небесах до тех пор, пока мы не знаем, каков сам секс. Мы не может знать каково на Небесах имя секса, если мы не знаем, чем же является секс на земле.
Но разве мы не знаем? Думали ли мы над чем-то другим больше в течение многих и многих лет? Что еще доминирует над нашими фантазиями, во сне и наяву, безостановочно двадцать четыре часа в сутки? Что еще заполняет наши телешоу, романы, игры, рубрики светской хроники, книги по самоусовершенствованию и психологии, если не секс?
Нет, мы не слишком много думаем о сексе; мы думаем едва ли не обо всём вокруг секса. Мечтая, фантазируя, чувствуя, экспериментируя - да. Но честно, думая "смотря-в-лицо" - почти никогда. Нет никакой темы в мире, в которой есть больше жара и меньше света [1].
Поэтому я хочу начать с четырех отвлечённых философских принципов о природе секса. Они абсолютно необходимы не только для здравомыслия о сексе на Небесах но также и для здравомыслия о сексе на земле, цель, по крайней мере столь же отдаленная как Небеса отстоят от нашего сексуально суицидального общества [2]. Тот факт, что секс является публичным, не означает, что он является зрелым и здоровым. Тот факт, что есть тысячи книг на тему "как делать это" не означает, что мы знаем “как”; фактически, это означает противоположное. Когда трубы у всех протекают, то люди покупают книги по слесарному делу [3].
Мои четыре философских принципа будут казаться странными или даже шокирующими для многих людей сегодня. Однако они являются совсем не радикальными или даже оригинальными; они - просто первобытная банальность, известная всем предсовременным обществам; нормальная, солнечная страна сексуального здравого смысла голосованием "демократии мертвых" [4]. Всё же с другой стороны они являются "радикальными", в этимологическом смысле слова: они - наши сексуальные корни, и наше искоренённое общество роет вокруг в поисках сексуальных заменителей корней как свинья роет в поисках трюфелей. Оно не нашло их. Этот факт должен по меньшей мере заставить нас остановиться и взглянуть назад на нашу "мудрую кровь" [5], на наши корни. Вот - четыре из них.
Первый Принцип: Секс - это то, что Вы есть, а не то, что Вы делаете
Предположим, что Вы увидели книгу с заголовком "Сексуальная жизнь монахини" [6]. Вы, вероятно, предположили бы, что это непристойная, полная сплетен история о туннелях, соединяющих женские и мужские монастыри, о тайных свиданиях позади главного престола, и о маскировке беременности под опухоль. Но это - совершенно надлежащий заголовок: все монахини имеют сексуальную жизнь. Они - женщины, а не мужчины. Когда монахиня молится или действует милосердно, она молится или действует, а не он. Её обет безбрачия запрещает сексуальный контакт, но он не может запретить ей быть женщиной. Во всем, что она делает, её сущность играет свою роль, и её секс (пол) такая же часть её сущности как её возраст, её раса, и её чувство юмора.
Вводящая в заблуждение фраза "заниматься сексом" (означающая "(иметь) сексуальный контакт") создана только недавно. Конечно монахиня "имеет секс": она особь женского пола. Призывники часто пишут в графе анкеты "секс" не слово "мужчина", но "время от времени" или "пожалуйста!" Шутка была бы непонятна предыдущим поколениям. Значение лингвистического изменения состоит в том, что мы упростили секс в вещь, которую надо делать, а не (понимаем его как) качество нашего внутреннего существа. Это стало вещью внешностей и внешнего чувства, а не личности и внутреннего чувства [7]. Таким образом, даже о мастурбации говорят "заниматься сексом", хотя это - совсем наоборот: отказ от реальных отношений с другим полом (сексом).
Слова "мужественность" и "женственность", означающие нечто бóльшее, чем просто биологические качества, свойственные мужчинам и женщинам, были редуцированы от архетипов до стереотипов. Традиционные ожидания, что мужчины будут мужчинами, а женщины будут женщинами, сбиты с толку, потому что мы больше не знаем, что ожидать от мужчины и женщины. Всё же, хотя и сбитые с толку, ожидания остаются. Наши сердца желают, даже в то время как наши умы отклоняют, старых "стереотипов". Причина в том, что старые стереотипы были ближе к нашим врожденным сексуальным инстинктам, чем новые стереотипы. Мы имеем сексистские сердца даже тогда, когда мы имеем юнисексные (годные для лиц обоего пола) головы. Доказательство этого утверждения? Больше людей привлечено к старым стереотипам, чем к новым. Ромео всё ещё хочет жениться на Джульетте.
Основная ошибка в старых стереотипах была их слишком жёсткая связь между сексуальным бытием и социальным деланием, их привязка сексуальной идентичности к социальным ролям, особенно для женщин: чувство того, что как-то не по-женски быть доктором, адвокатом, или политическим деятелем. Но противоядием к этой болезни является не смешение сексуальных идентичностей, но расположение их в нашем бытии, а не в нашем делании.
Таким образом, мы можем сломить социальные роли, не ломая сексуальные идентичности. На самом деле, человек, уверенный в своей внутренней мужественности, намного более пригоден для выполнения традиционно женской деятельности, такой как работа по дому и забота о ребенке, чем тот, кто связывает свою сексуальность со своей социальной ролью.
Если наш первый принцип принят, если сексуальность - часть нашей внутренней сущности, тогда из этого следует, что есть сексуальность на Небесах, будем ли мы действительно "заниматься сексом" и будем ли мы действительно иметь сексуально различные социальные роли на Небесах.
Второй Принцип: Альтернативой Шовинизму
не является Эгалитаризм
Две самые популярные философии сексуальности сегодня кажутся полностью противоположными друг другу; всё же на самом основном уровне они находятся в согласии и обе одинаково ошибаются. Эти две философии - старый шовинизм и новый эгалитаризм; и они кажутся полностью противоположными. Ибо шовинизм
(a) видит один пол (секс) выше другого, "второго", пола. [8]
Это - обычно мужской пол, но есть всё больше студенческих женских шовинистских голосов в современной какафонии [9]. Это предполагает
(b), что полы по сути отличны, отличны по своей природе, а не по социальному соглашению.
Эгалитаризм пытается полностью не соглашаться с (a) ; он думает, что, делая это, он не соглашается к тому же и с (b). Но это означает, что он соглашается с шовинизмом в
(c),- в неустановленной, но принятой предпосылке, что все различия должны быть различиями в ценности,
или, соотносительно, что единственный путь для того, чтобы две вещи были равными по ценности, состоит в том, чтобы быть равными по природе. Обе философии видят одинаковость или превосходство как единственные альтернативы. Именно из этого предположения (что различия есть различия в ценности), шовинист утверждает, что полы являются различными по природе, поэтому они различны по ценности. И именно из того же самого предположения эгалитарианин утверждает, что поскольку полы не различны по ценности, поэтому они не являются различными по природе.
Шовинизм:
(c)
и (b)
поэтому (a)
Эгалитаризм:
(c) и
не (a) поэтому
не (b)
Как только эта предпосылка разоблачена, легко видеть как глупы оба аргумента. Конечно не все различия - различия в ценности. Собаки - лучше, чем кошки, или кошки лучше, чем собаки? Или - они различны только по соглашению, а не по своей природе? Шовинист и эгалитарианин должны читать и поэтов, и бардов, и мифотворцев, чтобы найти третью философию сексуальности, которая является и более нормальной и бесконечно более интересный. Это не отрицает ни очевидной рациональной истины, что полы равны в ценности (как думает шовинист), ни столь же очевидной инстинктивной истины, что они врожденно различны (как думает эгалитарианин). Красота в том и другом, и в их различии: vive la difference! (да здравствует различие!)
Если сексуальные различия естественны, они сохранятся на Небесах, поскольку "благодать не разрушает природу, но совершенствует её" [10]. Если сексуальные различия только по-человечески и социально условны, Небеса удалят их, как Они удалят экономику и пенитенциальную систему (систему наказаний), и политику. (Не многие из нас имеют гарантию занятости после смерти. В этом - одно из преимуществ быть философом.) Все эти вещи случились после и из-за (грехо)Падения, но сексуальность была частью изначального Божия "пакета": "плодитесь и размножайтесь" [11]. Бог может разрушить то, что мы делаем, но Он не разрушает то, что Он делает. Бог создал секс, а Бог не делают никаких ошибок.
Часто цитируемое утверждение Св. Павла, что "во Христе ... нет мужеского пола, ни женского" [12] не означает, что нет никакого пола на Небесах. Так как это (сказанное) относится не только к Небесам, но также и к земле: мы - "во Христе" ныне [13]. (На самом деле, если мы не "во Христе" теперь (ныне), то для нас нет никакой надежды на Небеса!). Но ныне, теперь мы являемся мужчинами и женщинами. Его (Ап. Павла) цель, намерение в том (чтобы сказать), что наш секс не определяет нашу "вохристовлённость" ("наше пребывание во Христе"); Бог - наниматель равных возможностей при приёме на работу. Но Он нанимает созданных Им мужчин и женщин, а не существ среднего рода, созданных нашим воображением.
Третий Принцип: Секс Духовен
Это не означает "неопределенно набожный, бесплотный и идеалистический". "Духовный" означает "вопрос духа", или души, или психэ, а не тела. Секс - между ушами прежде, чем - между ногами. Мы имеем сексуальные души [14].
По некоторой странной причине люди потрясены понятием сексуальных душ. Они не только не соглашаются; идея кажется им крайне незрелой, суеверной, отвратительной и немыслимой. Почему? Мы сможем ответить на этот вопрос, только сначала ответив на противоположный вопрос: почему эта идея является разумной, просвещенной и даже необходимой?
Эта идея - единственная альтернатива как материализму, так и дуализму. Если Вы - материалист, нет просто никакой души, для которой пол был бы качеством. Если Вы - дуалист, если Вы полностью разбиваете душу и тело, если Вы видите человека как призрак в машине [15], тогда одна половина человека может полностью отличаться от другой: тело может быть сексуальным без того, чтобы сексуальной была душа. Машина - имеет сексуальные свойства, призрак их не имеет. (Это - почти полная противоположность истины: призраки, когда они являются людям, имеют сексуальную идентичность от их личностей, их душ. Машины её не имеют.)
Никакой эмпирический психолог не может быть дуалистом; очевидность психосоматического единства является неодолимой [16]. Никакая пропитывающая особенность как тела, так и души не изолирована от другого; каждый звук в душе отдаётся эхом в теле, и каждый звук в теле эхом отдаётся в душе. Пусть отвержение дуализма будет первой предпосылкой нашего аргумента.
Второй предпосылкой является ещё более очевидный факт того, что биологическая сексуальность является врожденной, естественной, и фактически пропитывающей каждую клетку тела. Она не социально обусловлена, не обусловлена договором или экологией; она является наследственной.
Неизбежный вывод из этих двух предпосылок в том, что сексуальность является врожденной, естественной, и пропитывающей всю личность, как душу, так и тело. Единственный способ избежать этого вывода это - отрицать одну из двух предпосылок, которые логически делают его необходимым,- отрицать психосоматическое единство или отрицать врожденную телесную сексуальность.
В свете этого простого и непреодолимого аргумента, почему этот вывод, является не только чуждым, но и шокирующим для столь многих людей в нашем обществе? Я думаю, что только по двум причинам. Первая - просто неверное понимание, вторая - серьезная и существенная ошибка.
Первой причиной была бы реакция против того, что неправильно видится как моносексуальное стереотипное представление о душе. Слова "полностью мужская душа", чтобы ни значила мужественность, или "полностью женская душа" кажутся нереальными и слишком упрощенными. Но это не то, что подразумевается под сексуальностью души. Скорее в каждой душе - используя Юнговские термины - есть anima и animus, женственность и мужественность; так же, как в теле, одно преобладает, но другое также присутствует [17], Если доминирующий пол души не тот же, что и пол тела, мы имеем сексуальное несоответствие, кандидата на операцию по смене пола тела или души, (операцию) земную или Небесную. Возможно, Небеса обеспечивают такие изменения так же, как они обеспечивают все другие необходимые формы исцеления. В любом случае, воскресшее тело совершенно выражает его душу, и поскольку души врожденно сексуальны, то тело будет совершенно выражать истинную сексуальную идентичность его души.
Вторая причина, почему понятие сексуальных душ звучит странно для многих людей, может быть в том, что они в действительности придерживаются скорее пантеистического, чем теистического представления о духе как о чём-то недифференцированом или даже бесконечном. Они думают о духе как о чём-то просто превосходящем или оставляющем позади все различия, известные телу и чувствам. Но это не христианское понятие ни о духе, ни о бесконечности. Сама бесконечность не недифференцирована в Боге. Называть Бога бесконечным это не значит сказать, что Он - всё вообще и ничто в частности: это значит смешивать Бога с Каплей! Бесконечность Бога означает, что каждый из Его положительных и определённых атрибутов, таких как любовь, мудрость, власть, справедливость и верность, являются неограниченными.
Дух не менее дифференцирован, чётко артикулирован, структурирован или сформирован, чем материя [18]. Тот факт, что наш собственный дух может страдать и радоваться гораздо больше, более тонко и изысканно, и гораздо более разнообразным образом, чем это может тело, - этот факт должен быть свидетельством сложности духа. Об этом же должен свидетельствовать и тот факт, что психология никак не ближе к точной науке, чем анатомия.
Различия вообще, и сексуальные различия в частности, увеличиваются, а не уменьшаются, когда Вы продвигаетесь по космической иерархии. (Да, есть космическая иерархия, если Вы не можете честно полагать, что устрицы имеют бóльшее право съесть Вас, чем Вы имеете право съесть их.) Ангелы настолько же выше нас в дифференцировании, насколько мы выше животных. Бог бесконечно дифференцирован, поскольку Он - Автор всех различий (дифференциаций), всех форм.
Каждый акт творения в библейской книге Бытия есть акт дифференцирования - света от тьмы, земли от моря, животных от растений, и так далее [19]. Творение есть формирование, а формирование есть дифференциация. Материализм полагает, что различия в форме - в конечном счёте иллюзорная видимость; единственной корневой реальностью является материя. Пантеизм также полагает, что различия в форме в конечном счёте иллюзорны; единственной корневой реальностью является универсальный Дух. Но теизм полагает, что форма реальна, потому что Бог создал её. И любая положительная реальность, имеющаяся в творении, должна иметь свою модель в Творце. Мы в конечном счёте должны будем заявить о сексуальности Самого Бога, как мы увидим в дальнейшем.
Четвертый Принцип: Секс является Космическим
Задавались ли Вы когда-нибудь вопросом почему почти все языки кроме английского приписывают сексуальность вещам? Деревья, скалы, суда, звезды, рога, чайники, круги, несчастные случаи, поездки, идеи, чувства - все они, а не только мужчины и женщины, являются мужскими или женскими. Не полагали ли Вы всегда легкомысленно, что это была конечно простая проекция и персонификация, чтение нашей сексуальности в природе, а не скорее чтение собственной сексуальности природы вне её? Не приходило ли вам иногда на ум, что это могло бы быть как раз напротив, что человеческая сексуальность происходит из космической сексуальности, а не наоборот, что мы - локальное приложение универсального принципа? [20]. В противном случае, пожалуйста серьезно рассмотрите эту идею теперь, ибо она является одной из самых старых и наиболее широко поддерживаемых идей в нашей истории, и одной из самых счастливых.
Это - счастливая идея, потому что она помещает человечество в более человечную вселенную. Мы как раз впору; мы не уроды. Каковы мы, таково также и всё остальное, хотя по-разному и в разной степени. Мы являемся, если использовать средневековый образ, микрокосмом, маленьким космосом; вселенная является макрокосмом, тем же самым образцом, написанным крупно. Мы больше походим на маленькую рыбку внутри большой рыбы, чем подобны сардинам в банке. Именно вселенная-машина является нашим проектированием, а не человечная вселенная.
У нас здесь нет времени, чтобы применить эту идею, столь чреватую последствиями, к другим аспектам нашего существа, сказать о космическом расширении сознания и воли, но многие философы привели доводы в пользу этого заключения [21], и более глубокие глаза, чем глаза разума, кажется, настойчиво утверждают это. Но мы можем применить это к сексуальности здесь. Это означает, что сексуальность идёт всё время вверх и всё время вниз по космической лестнице.
На "нижнем" конце - "любовь среди частиц": гравитационное и электромагнитное притяжение. Этот маленький электрон "знает" разницу между протоном, которого он "любит", и другим электроном, который является его соперником. Если бы он не знал разницы, он не вёл бы себя так сознательно, двигаясь по орбите вокруг своего протона и отталкивая другие электроны, и никогда наоборот.
Но, скажете Вы, я думал, что это было из-за пропорциональной результирующей двух просто физических сил углового момента, которая стремится увеличить её прямизну за пределы орбиты, и биполярного электромагнитного притяжения, которое стремится бросить его сильным движением вниз к его протону: слишком сильное стремление вовне для столкновения и слишком большая сила столкновения для стремления вовне. Совершенно верно. Но что даёт Вам право назвать физические силы "простыми"? И как Вы объясняете вторую из этих двух сил? Почему существует это притяжение между положительным и отрицательным зарядами? Это столь же таинственно, как и любовь. Фактически, это и есть любовь. Ученый может сказать Вам, как это работает, но только любящий знает почему.
+++
От переводчика: Отрывок из блаж. Августина "О граде Божием",11,XXVIII:
"Если бы мы были животными, то мы любили бы плотскую жизнь и всё, что отвечает чувству плоти; это было бы для нас достаточным благом, и мы, довольствуясь этим благом, не домогались бы ничего другого. Также точно если бы мы были деревьями, мы, конечно, ничего бы не любили движением чувства, хотя казались бы стремящимися к тому, если бы были более плодовиты. А будь мы камнями, или волною, или ветром, или пламенем, или другим чем в том же роде без всякого чувства и жизни, и в таком случае у нас не было бы недостатка в некотором стремлении к своему месту и порядку. Ибо нечто подобное любви представляет собой удельный вес тел, по которому они или опускаются от тяжести вниз, или по лёгкости стремятся вверх. Удельный вес также уносит тело, как любовь уносит душу, куда бы она ни уносилась. Итак, поелику мы люди, созданные по образу Творца своего, которого и вечность истинна, и истина вечна, и любовь вечна и истинна, и который сам есть вечная и истинная и достолюбезная Троица, неслиянная и нераздельная; то в тех вещах, которые ниже нас, но которые сами не могли бы ни существовать каким бы то ни было образом, ни удерживать какой-либо вид, ни стремиться к какому-нибудь порядку, или удерживать его, если бы не были сотворены Тем, коему свойственно высочайшее бытие, который высочайше премудр, высочайше благ,- в этих вещах, неустанно пробегая всё сотворённое Им, мы должны разыскивать как бы некоторые следы Его, отпечатленные Им в одном месте более, в другом менее..."
+++
Секс Наверху
Секс "присутствует наверху" так же как он "присутствует внизу". Дух не менее сексуален, чем материя; напротив, все качества и все контрасты более богаты, более остры, более реальны когда мы поднимаемся ближе и ближе к архетипу реальности - Богу. Бог Библии не монистический пудинг, в котором различия свалены в одну массу, или свет, который затмевает все конечные светы и цвета. Бог - сексуальное существо, самое сексуальное из всех существ.
Это кажется шокирующим людям, только если они видят секс только как физический, а не духовный, или если они Унитарии, а не Тринитарии (т.е. представляют себе Бога Унитарным, а не Триипостасным). Отношения любви между Отцом и Сыном внутри Троицы, отношения, от которых Святой Дух вечно исходит, являются сексуальными отношениями. Это похоже на человеческие сексуальные отношения, от которых ребёнок происходит во времени; или скорее эти отношения походят на божественные. Сексуальность является "образом Божиим" согласно Писанию (см. Бытие 1:27), и чтобы B было образом A, необходимо, чтобы А некоторым образом имело все качества, отображаемые в B. Бог поэтому - сексуальное существо.
Есть поэтому секс на Небесах, потому что на Небесах мы близко к источнику всего секса. По мере того, как мы поднимаемся по Лестнице Иакова, ангелы всё меньше видятся как существа среднего рода, как херувимы с поздравительной открытки и всё больше как Марс и Венера.
Другая причина, что мы более сексуальны на Небесах, в том, что все земные извращения истинной сексуальности преодолены, особенно главное извращение, эгоизм. Сделать самого себя Богом, желать эгоистичного удовольствия как summum bonum (величайшего блага), значит не только потерять Бога, но также и потерять удовольствие и самого себя, и потерять славу и радость секса. Иисус не просто сказал "Ищите прежде Царствия Божия", но также добавил, что "всё это приложится", когда мы поставим первые вещи первыми [22]. Каждая история бывает самой походящей, когда сначала положен фундамент.
C. К. Льюис называет это принципом "первой и второй вещи" [23]. В любой области жизни, при помещении вторых вещей первыми, теряют не только первые вещи, но также и вторые вещи, а при помещении первых вещей первыми выигрывают не только первые вещи, но и вторые вещи также. Так, относиться к сексуальному удовольствию как к Богу значит потерять не только Бога, но и сексуальное удовольствие тоже.
Самое высокое удовольствие всегда бывает при самозабвении. Самость всегда портит своё собственное удовольствие. Удовольствие походит на свет; если Вы захватываете его, Вы теряете его; если Вы пробуете налить его в бутылку, Вы получаете только темноту; если Вы позволяете ему проходить, Вы улавливаете славу. Самость имеет встроенный, богообразный замысел самоисполнения через самозабвение, удовольствия через бескорыстность, экстаз через ekstasis, "исхождение-из-себя". Это не самосознающее самопожертвование делателя добрых дел, но спонтанное, непроизвольное великодушие любящего.
Этот принцип, что самое большое удовольствие есть самоотдача, графически иллюстрируется половым актом и самим строением половых органов, которые нужно отдать друг другу, чтобы выполнить его. На Небесах, когда эгоцентричные извращения полностью устранены, все удовольствия увеличиваются, включая сексуальное удовольствие. Включает ли это физическое сексуальное удовольствие или нет, пока не известно, будет видно.
Приложение Принципов: Секс на Небесах
В самом важном и очевидном смысле есть конечно секс на Небесах просто потому, что есть люди на Небесах. Как мы видели, сексуальность, подобно расе и в отличие от одежды, является основным аспектом нашей идентичности, как духовной, так и физической. Даже если бы секс не был духовным, на Небесах был бы секс по причине воскресения тела. Тело не ошибка, которая должна быть исправлена, и не тюремная камера, из которой надо освободиться, но божественное произведение искусства, предназначенное, чтобы показать вовне душу, как душа должна показать вовне Бога, в блеске и славе и переливании через край щедрого изобилия.
Но есть ли на Небесах половые сношения? Если мы имеем физические половые органы, для чего мы будем использовать их там?
Не для делания детей. Земля - колония для размножения; Небеса - родина.
Не для брака. Слова Христа к Саддукеям относительно этого совершенно ясны [24]. Именно в отношении брака мы "как ангелы". (Отметьте, что не говорится, что мы подобны ангелам каким-то иным образом, типа отсутствия физических тел.)
Может ли там быть другая функция, в которой делание детей и брак могут быть поглощены и преобразованы, aufgehoben (упразднены)? Всё на земле аналогично чему-нибудь на Небесах. Небеса ни просто устраняют, ни просто продолжают земные вещи. Если мы применим этот принцип к половым сношениям, мы получим заключение, что это половое общение на земле - тень или символ полового общения на Небесах. Можем ли мы размышлять о том, каково это может быть?
Это могло бы конечно быть духовным общением - и, вспомним, это включает сексуальное общение, потому что секс духовен. Это духовное общение означало бы кое-что более определенное, чем универсальное милосердие. Это было бы общение с сексуальным дополнением; кое-что мужчина может иметь только с женщиной, а женщина только с мужчиной. Мы созданы полными посредством такого союза: "Не хорошо быть человеку одному" [25]. И Бог не просто разрывает Свой замысел для человеческого исполнения.
Отношения не должны быть ограничены одним на Небесах. Единобрачие это - для земли. На земле, наши тела являются частными [26]. На Небесах, мы будем совместно использовать секреты других без стыда и добровольно (по своему собственному желанию) [27]. В Общении Святых промискуитет (близость, смешение, разнородность) духа является добродетелью.
Отношения не могут распространяться на всех людей противоположного пола, по крайней мере не таким же образом или не в такой же степени. Если бы они действительно простирались на всех, они относилось бы к каждому по-другому просто, потому что каждый отличен сексуально так же, как и другими способами. Я думаю, что должны быть некоторые особые "родственные души" на Небесах, по отношению к которым мы задуманы, чтобы чувствовать особую сексуальную любовь к ним. Это было бы Небесным решением земной загадки того, почему в мире Джон из всех людей влюбляется в Мэри, а не в Джейн, и почему романтичные влюблённые чувствуют, что их любовь предопределена "в звёздах", "сотворена на Небесах" [28].
Но это будет отличаться от романтичной любви на земле тем, что это будет свободным, не управляемым; от души к телу, не от тела к душе. Это также не будет ощущаться помимо или вопреки отношению к Богу, но кaк часть его или следствие его: Его замысел, волна Его жезла. Это также будет полностью не самостным и не эгоистичным: этическая ценность agape, соединённая со страстью eros'а [29]; agape без внешнего, абстрактного закона и обязательства, и eros без эгоизма или животных импульсов (побуждений).
Но может ли это когда-нибудь принять форму физических половых сношений? Мы должны исследовать этот вопрос, не для того, чтобы польстить сексуальной мономании современности, но потому что это - честный вопрос о чём-то, имеющем большое значение для нас теперь, и потому, что мы просто хотим знать всё что мы можем о Небесах.
Поскольку есть тела на Небесах, способные есть и которые можно потрогать, как тело воскресшего Христа [30], то есть возможность физического взаимодействия. Но почему возможность могла бы быть реализована? Каковы его возможные цели и значения?
Мы знаем о Небесах с помощью земных ключей. Попробуем прочитать все ключи в земном (сексуальном) общении. Есть три уровня смысла: нижечеловеческий или животный; сверхчеловеческий, или божественный; и собственно человеческий. (Все три уровня существуют в нас, людях.)
Животные причины для (сексуального) общения включают (1) сознательный импульс к удовольствию и (2) не сознательный импульс сохранения вида. Оба отсутствовали бы на Небесах. Поскольку, хотя там на Небесах имеются невообразимо великие удовольствия [31], не ими мы управляемся. И вид исполнен в вечности: нет потребности в размножении.
Сверхчеловеческие причины для общения включают (1) идолопоклонническую любовь к возлюбленной(му) вместо Бога и (2) любовь Данте-Беатриче к возлюбленной(му) как к образу Бога. Что касается первого, то, конечно, нет никакого идолопоклонства на Небесах. Никакие подмены Бога даже не могут соблазнить, когда присутствует Сам Бог. Что касается второго, то земной(ая) возлюбленный(ая) был(а) окном к Богу, зеркалом, отражающим божественную красоту. Именно поэтому любящий был столь поражён. Теперь, когда присутствует реальность, зачем всматриваться в зеркало? Импульс обожания нашёл свой совершенный объект. Кроме того, даже на земле эта любовь ведёт не к (сексуальному) общению, но к безумному увлечению (одержимости). Данте ни желал, ни совершал (сексуального) общения с Беатриче.
Собственно человеческие причины для (сексуального) общения включают (1) осуществление моногамного брака и (2) желание выразить личную любовь. Что касается первого, то на Небесах нет никакого брака. Но что относительно второго?
Я думаю, что вероятно будут миллионы более адекватных способов выразить любовь, чем неуклюжий экстаз совместного прилаживания двух тел подобно частям мозаики. Даже наиболее удовлетворяющее земное (сексуальное) общение между супругами не может в полной мере выразить всю их любовь. Если возможность (сексуального) общения на Небесах не реализуется, то только по той же самой причине, по которой земные любовники не едят конфет во время (сексуального) общение: у них есть нечто лучшее, чем заняться [32]. Вопрос о (сексуальном) общении на Небесах походит на детский вопрос, можете ли Вы есть конфеты во время (сексуального) общения: забавный вопрос только с точки зрения взрослого. Конфеты - одно из самых больших детских удовольствий; как могут они представить себе удовольствие, настолько интенсивное, что оно сделает конфеты несущественными? Только если Вы знаете обе (вещи), Вы можете их сравнивать, и все те, кто испытал как удовольствия от (сексуального) физического общения с земным возлюбленным(ой) и удовольствия от духовного общения с Богом, свидетельствуют, что просто нет никакого сравнения.
Небесное прочтение земной загадки секса
Это духовное общение с Богом есть экстаз, на который намекают все земные общения, физическое или духовное. Это - основная причина того, почему сексуальная страсть настолько сильна, настолько отлична от других страстей, столь чревата намёками глубоких смыслов, которые поистине не поддаются нашему пониманию. Никакие простые практические потребности не объясняют этого. Никакие простые животные импульсы не объясняют этого. Никакое животное не влюбляется, не пишет глубоких романтических стихов и не видит секс как символ конечного смысла жизни потому, что животное не сотворено по образу Божию. Человеческая сексуальность является этим образом, и человеческая сексуальность является предвкушением той самоотдачи, той потери и обретения себя, той уникальности-во-множественности, которая является сердцем жизни и радости Святой Троицы. Именно этого мы жаждем; именно поэтому мы трепещем, чтобы стать вне нас самих в другом, целиком отдать нас самих, душу и тело: потому что мы - образы Бога - сексуального существа. Мы любим другой пол потому, что Бог любит Бога.
И эта земная любовь столь страстна потому, что Небеса полны страсти, энергии и динамизма. Мы правильно отрицаем, что Бог имеет страсти в пассивном смысле, будучи движимым, управляемым, или обусловленным ими, также как мы. Но думать о любви, которая сотворила миры, о любви, которая стала человеческим, выстраданным отчуждением от самой себя и умерла для спасения нас, мятежников, о любви, которая излучается из поразительной радости Иисуса в повиновении воле Его Отца и которая сияет в глазах и жизни святых - думать об этой любви как о менее страстной, чем наши временные и обусловленные страсти, "является самой бедственной фантазией" [33]. И этот попаляющий огонь любви является нашим предназначенным Супругом (Мужем), согласно Его собственному обещанию! [34].
Секс на небесах? Да, и не бледное, абстрактное, всего лишь мысленное его отражение. Отражением является земной секс, а наша жизнь — это процесс развития, процесс роста, чтобы мы могли стать частью естества, тем Небесным огнем, который способен выносить жар и радость Небесного огня.
Примечания
1. Для некоторого просветления см. Stephen Clark, Мужчина и Женщина во Христе (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1980); Frank Sheed Общество и Здравомыслие (New York: Sheed &Ward,1953), глава. 8; C. S. Lewis, Любовь (The Four Loves) (Нью-Йорк: Harcourt, Brace Jovanovich, 1960); Jerry Exel, Секс и Дух (Berkeley, Calif.: Genesis Publications, 1973); Robert Farrar Capon, Постель и стол (New York: Simon & Schuster, 1965).
2. George Gilder, Сексуальное Самоубийство (New York: Quadrangle, 1973).
3. Exel, Секс и Дух, p. 6.
4. G.K. Chesterton, Ортодоксия (Нью-Йорк: Dodd. Mead, 1946), p. 85.
5. Flannery O'Connor, Мудрая Кровь (Нью-Йорк: Harcourt, Brace , 196Z).
6. Capon, Постель и стол , p. 12.
7. Exel. Секс и Дух, p. 8.
8. Simone de Beauvoir, Второй Секс (Нью-Йорк: Knopf, 1953).
9. Mary Daly, Гин-экология: Метаэтика Радикального Феминизма (Boston: Beakon Press, 1979); Una Stannard, Госпожа Мужчина (San Francisco: Germain Books, 1977); Kathy Ferguson, Однородное Общество и Женственность:
Диалектика Освобождения (Westport, Conn.: Greenwood, 1980); Zillah Eisenstein, Радикальное Будущее Либерального Феминизма (Нью-Йорк:
Longmans, 1981).
10. Св. Фома Аквинский, Summa Theologiae, 1, 1, 8 ad 2.
11. Быт 1:28.
12. Гал 3:28.
13. Гал 2:20.
14. Exel, Секс и Дух, глава I.
15. Gilbert Ryle, Понятие Разума (Нью-Йорк, Лондон: Hutchinson's University Library, 1949).
16. Gilbert Ryle , Понятие Разума.
17. C. G. Jung, Структура и Динамика Души (Нью-Йорк:
Pantheon Books, 1960), p. 345.
18. C. S. Lewis, Чудо (Нью-Йорк: Macmillan, 1955), стр. I08-l:.
19. Бытие 1:4, 7, 10, 18, 21, 25, 27.
20. К.С. Льюис, Мерзейшая мощь (Нью-Йорк: Macmillan, 1969), p.315; Переландра (Нью-Йорк: Macmillan, 1965), стр 200-1.
21. О древней версии, см. Платона, Timaeus , 30b и следующие, 34b и следующие. О современной версии, см. Тейярда де Шардена, Феномен Человека (New York: Harper & Row, 1961), книга 1, глава 2 (стр. 5305).
22. Мф 6:33 (KJV).
23. К. С. Льюис, "Первые и Вторые Вещи" в: Бог под судом (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1970), стр 278-81.
24. Мф 22:30
25. Быт 2:18.
26. Это - бедствие (бич) Республики Платона; например, в 464e.
27. C. К. Льюис, Страдание (Нью-Йорк: Macmillan, 1962), p. 61.
28. Питер Крифт, Небеса: Самое сильное сердечное желание (Сан-Франциско: Ignatius Press, 1989), стр 107-8.
29. Anders Nygren, Агапе и Эрос (Лондон: S.P.C.K., 1953)
30. Ин 20:27.
31. Пс 16:11.
32. C. К. Льюис, Чудо, p. 160.
33. C. К. Льюис, Чудо, стр 92-93
34. Осия 2:16-20; Исаия 54:5.
Отправлено по почте "/" из Клуба Августина в Колумбийский Университет с разрешения Питера Крифта.
Июль 1997
Приложения
Приложение 1.
Бюллетень Ватикана от июля 2004 о Творении и Эволюции
Человеческие Личности, Созданные по Образу Божию.
9. Две темы сходятся, чтобы сформировать библейскую перспективу. Во-первых, весь человек рассматривается как созданный по образу Божию. Эта перспектива исключает интерпретации, которые определяют местонахождение imago Dei в том или другом аспекте человеческой природы (например, в его прямохождении или в его интеллекте) или в одном из его качеств или функций (например, в его сексуальной природе или в его господствовании над землёй). Избегая и монизма и дуализма, Библия даёт вúдение человека, в котором духовное понимается как одно из измерений наряду с физическими, социальными и историческими измерениями человека.
10. Во-вторых, рассказы о творении в книге Бытия проясняют, что человек не создан как изолированный индивидуум: "сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их" (Быт 1:27). Бог поместил первых людей в зависимость друг от друга, каждого с партнёром другого пола. Библия утверждает, что человек существует в отношении, в связи с другими личностями, с Богом, с миром, и с самим собой. Согласно этой концепции, человек не изолированный индивидуум, но личность - по сути соотносительное существо. Далекий от утверждения чистого актуализма, который отрицал бы его неизменный онтологический статус, существенно относительный характер самого imago Dei составляет его онтологическую структуру и основание для осуществления его свободы и ответственности.
2. Мужчина и женщина
32. В Familiaris Consortio, Папа Иоанн Павел II утверждает: "Будучи воплощённым духом, то есть душою, выражающей себя в теле, и телом, образованным бессмертным Духом, человек призван к любви именно в этой своей единой целостности. Любовь объемлет человеческое тело, тело же имеет участие в духовной любви" (11). Созданные по образу Божию, люди призваны к любви и общению. Поскольку это призвание реализуется особым способом в прокреативном (плодоносящем) союзе мужа и жены, различие между мужчиной и женщиной - основной элемент в конституции людей, сотворённых по образу Божию.
33. " И сотворил Бог человека по образу Своему; по образу Бога сотворил его; мужчину и женщину сотворил их" (Быт 1:27; ср. Быт 5:1-2). Согласно Священному Писанию, следовательно, imago Dei (образ Божий) проявляется, с самого начала, в различии между полами. Можно сказать, что человек существует только как мужчина или женщина после того, как реальность человеческого условия существования проявляется в различии и множественности полов. Следовательно, далёкое от того, чтобы быть случайным или вторичным аспектом индивидуальности, это различие является конститутивным для идентичности человека. Каждый из нас обладает способом быть в мире, видеть, думать, чувствовать, участвовать во взаимном общении с другими людьми, которые также определены их сексуальной идентичностью. Согласно Катехизису Католической церкви: “Сексуальность влияет на все аспекты человеческого личности, в единстве её души и тела. В особенности она касается эмоциональности, способности любви и продолжения жизни и, в более общем плане, способности устанавливать общение с другими” (2332). Роли, относимые к тому или другому полу, могут изменяться во времени и пространстве, но сексуальная идентичность личности не является культурной или социальной конструкцией. Она принадлежит особому способу, в котором существует imago Dei (образ Божий).
34. Воплощение Слова усиливает эту специфику. Он принял условия человеческого существования во всей их полноте, приняв один пол, но Он стал человеком в обоих смыслах этого понятия: как член человеческого сообщества, и как мужчина. Отношение каждого ко Христу определено двумя способами: оно зависит от собственной сексуальной идентичности и сексуальной идентичности Христа.
35. Кроме того, воплощение и воскресение расширяют изначальную сексуальную идентичность imago Dei (образа Божия) в вечность. Воскресший Господь остается мужчиной, когда Он сидит сейчас по правую руку от Отца. Мы можем также отметить, что освященная и прославленная личность Матери Божией, теперь принятая с телом в небеса, продолжает быть женщиной. Когда в Послании к Галатам 3:28 Св. Павел объявляет, что во Христе все различия - включая различия между мужчиной и женщиной - должны быть стерты, он утверждает, что никакие человеческие различия не могут препятствовать нашему участию в тайне Христа. Церковь не последовала за Св. Григорием Нисским и некоторыми другими Отцами Церкви, которые полагали, что сексуальные различия как таковые будут аннулированы воскресением. Сексуальные различия между мужчиной и женщиной, конечно проявляя физические признаки, фактически превосходят чисто физические пределы и касаются самой тайны личности.
36. Библия не даёт никакой опоры понятию естественного превосходства мужского пола над женским. Несмотря на их различия, оба пола обладают врожденным равенством. Как Папа Иоанн Павел II написал в Familiaris Consortio: "Прежде всего важно подчеркнуть равное достоинство и ответственность женщин с мужчинами. Это равенство реализуется уникальным образом во взаимной самоотдаче друг другу и обоих детям, что присуще браку и семье... В сотворении человеческого рода "мужчиной и женщиной" Бог дает мужчине и женщине равное личное достоинство, наделяя их неотъемлемыми правами и обязанностями, свойственными человеческой личности" (22). Мужчина и женщина одинаково созданы по образу Божию. Оба они - личности, наделённые разумом и волей, способные направлять свои жизни через осуществление свободы. Но каждый делает это своим отличительным способом, свойственным их сексуальной идентичности, так что христианская традиция может говорить о взаимности и взаимодополняемости. Эти термины, которые в последнее время стали несколько спорными, являются тем не менее полезными в утверждении, что мужчина и женщина каждый нуждается в другом, чтобы достигнуть полноты жизни.
37. Безусловно, изначальная дружба между мужчиной и женщиной была глубоко повреждена грехом. Через чудо на свадебном пире в Кане (Ин 2:1 и слл.), Господь наш показал, что Он пришёл, чтобы восстановить гармонию, которую Бог предназначал при создании мужчины и женщины.
38. Образ Божий, который должен быть найден в природе человеческой личности как таковой, может быть реализован особым образом в единении между людьми. Так как это единение направлено к совершенствованию божественной любви, христианская традиция всегда подтверждала значение девственности и безбрачия, которые способствуют целомудренной дружбе в среде человеческих личностей, в то же самое время указывая на эсхатологическое исполнение всей созданной любви в несозданной любви Святой Троицы. Именно в этой связи Второй Ватиканский Собор обрисовал аналогию между общением божественных ипостасей между собой, и тем (общением), которое люди призваны установить на земле (ср. Gaudium et Spes, 24). Хотя конечно истинно, что единение между людьми может быть реализовано разнообразными путями, Католическое богословие сегодня утверждает, что брак составляет высокую форму общения между человеческими личностями и одной из лучших аналогий Триипостасной жизни. Когда мужчина и женщина объединяют свои тела и души в установке полной открытости и самоотдачи, они формируют новый образ Божий. Их соединение в одну плоть не просто соответствует биологической потребности, но намерению Создателя в том, чтобы привести их к тому, чтобы разделить счастье бытия по Его образу. Христианская традиция говорит о браке как о высоком пути святости. "Бог есть любовь, и в Себе Самом Он переживает тайну личного любовного общения (тайну общения и любви). Создавая мужчину и женщину по Своему образу..., Бог вписывает в человечество мужчины и женщины призвание и, следовательно, способность и ответственность любви и общения" (Катехизис Католической церкви 2331). Второй Ватиканский Собор также подчеркнул глубокое значение брака: " Христианские супруги в силу таинства брака, знаменуют и разделяют тайну того единства и плодотворной любви, которая существует между Христом и Его Церковью (ср. Еф. 5:32). Супруги таким образом помогают друг другу, чтобы достигнуть святости в их супружеской жизни и рождении и воспитании детей (Lumen Gentium 11; ср. Gaudium et Spes 48).
Приложение 2. РЕГЕЛЬСОН Лев Львович
Религия Святой Троицы и единство человечества.
…нужно сказать несколько слов о духовной природе и роли женственности. Первообраз мужского и женского начал – не в Лицах Св. Троицы, но в двух модусах бытия божественной природы. Согласно общепризнанному в Православии учению св. Григория Паламы (Византия, 14 век), единая природа Трех Лиц в самой себе не проявлена, не сообщима, непостижима для тварных существ; но та же природа как бы изливается за пределы самой себя, становясь проявленной, сообщимой и постижимой – в этом своем модусе она именуется нетварной, или Божественной Энергией. Божественная Энергия может разделяться на множество лучей или потоков, как показало ее схождение в виде огненных языков на апостолов в день Пятидесятницы... При этом Церковь предостерегает: не отождествлять Энергию Бога с Самим Богом – Энергия божественна, но Бог не есть Энергия, Бог есть “Кто”, Энергия есть “Что”. Это предостережение не всегда бывает услышанным. Как правило, рассуждающие о Св. Духе фактически говорят не о Третьем Лице Троицы, но именно об “излучаемой” Святой Троицей Божественной Энергии, которая переживается верующими в благодатном опыте. Отсюда и распространенная, хотя и никогда не принятая Церковью ложная тенденция связывать Третье Лицо Троицы с женским началом. Мы можем высказать богословское предположение (теологумен), что Энергия действительно есть первообраз женственности по отношению к Троице-Единице, которая по отношению к собственной Энергии есть первообраз начала мужского: “И сотворил Бог человека по образу Своему... мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1:27).
Отсутствие разработанного учения о Божественной Энергии порождало серьезные ошибки в учении о человеке. Так, св. Григорий Нисский, последовательно развивая представление о человеке как образе и подобии Бога, пришел к следующему неожиданному выводу: поскольку– утверждает св. Григорий – в Св. Троице женского начала нет, т.е. вообще нет принципа или первообраза различения полов, то сотворение женщины является лишь временным и вынужденным отклонением от Божественного замысла о человеке, в предвидении предстоящего грехопадения. Человек, по его мнению, задуман как существо, лишенное пола, которое должно было размножаться каким-то неизвестным нам способом, подобно ангелам; грехопадение оставило возможность только животного способа размножения, для чего якобы и была сотворена Ева. Отсюда вытекало, что по мере исцеления и преображения человеческой природы половое различие будет каким-то образом снова устранено. Эти фантастические выводы, противоречащие всему человеческому опыту, свидетельству Писания и христианскому культу Богородицы – могли быть преодолены только с помощью учения о Божественной Энергии. Но Григория Паламу от Григория Нисского отделяло ровно 1000 лет...
Поскольку первообраз мужского начала – Сам Триединый Бог в Своей сокровенной сущности, в тайне внутритройческих отношений, то осуществление соборности есть прежде всего мужская задача. Можно сказать, что воля и способность к соборности есть суть мужского начала; выяснение вопроса о роли женственности в перспективе соборности есть нерешенная задача, оставленная для будущего; путь к ее решению, видимо, открывает духовный опыт преп. Серафима. Откровение о Боге как Триедином несовместимо с представлением о Его внутренней, внутрисоборной закрытости или замкнутости: Триединый Бог немыслим без излияния вовне Света внутритройческих отношений. Бог есть Любовь (1 Ин. 4:8) в Своей внутренней сущности; Бог есть Свет (1 Ин. 1:5) – как излияние этой сущности вовне. В этом и только в этом смысле можно говорить о женском начале в Боге: как Энергии по отношению к Сущности – но это женское начало безлично, не ипостасно. Предположение о существовании нетварной женской личности – есть тяжелое религиозное заблуждение, которое заводит в безысходные тупики весь путь становления человеческой личности. Это заблуждение и вытекающие из него практические ошибки были глубоко и трагически пережиты “новым религиозным сознанием” России, начиная с Владимира Соловьева: здесь могут быть также упомянуты Н. Федоров, Д. Мережковский, С. Булгаков, из нецерковных мистиков – Д. Андреев. Великая заслуга этого уникального и грандиозного духовного движения – постановка самых глубоких и актуальных вопросов человеческой жизни; но позитивное решение этих проблем – еще впереди; в числе этих проблем – истинное соотношение мужского и женского начал.
Если по отношению к Богу-Троице женственна Его Энергия, то тем более женственной по отношению к Нему является тварная природа, весь сотворенный мир. И только в сотворенном мире может впервые появиться женская личность. Хотя процесс персонализации женского начала происходит медленнее и в каком-то смысле по другому, чем у мужчин, но стремление женщины подняться на качественно новый уровень личностного бытия стало одним из главных творческих вызовов нашей эпохи. Эммануэль Мунье пишет об этом:
“Нескончаемо продолжаются рассуждения о ее (женщины) псевдотайне, непреходящей и исторически изменчивой. Но ни мужское самодовольство, ни мстительность женственности не способны прояснить сути проблемы. Однако верно и то, что наш социальный мир – это мир, созданный мужчиной и для мужчин, что резервы, заключенные в женском существе, принадлежат к тому ряду, из которого человечество еще не черпало в массовом порядке. Как раскрыть эти запасы во всей их полноте, не заключая женщину в тюрьму ее функций, как приобщить ее к миру, а мир к ней, какие новые ценности и условия предполагает этот проект, – все это множество вопросов и задач должен решить тот, кто придаст полный смысл утверждению: женщина тоже является личностью” (Э. Мунье, стр. 118).
В свете догмата о Св. Троице становится понятно, почему становление женщины как личности, обретение ею своего истинного места в бытии оказывается неосуществимым до того или без того, чтобы свое истинное место в бытии обрел мужчина. Во всяком случае, нельзя считать случайным, что в христианской Церкви, как правило, духовность мужского типа исторически предшествует распространению мистической практики женского типа. Так, мужественный тринитарный дух эпохи Вселенских Соборов проявился несколькими веками раньше, чем начала утверждаться онтологически женственная исихастская духовность. Попытка Патриарха Филофея Коккина преодолеть односторонность исихазма встретила глубокий отклик на Руси в лице Сергия Радонежского; но в самой Византии эта попытка в целом закончилась неудачей. В конечном счете только этим можно объяснить загадочное отсутствие воли к сопротивлению у многочисленных жителей осажденного Константинополя. Поразительный контраст с мощным призывом Сергия, за полвека до этого поднявшего Русь на священную войну против татарского ига! Но практика преп. Сергия была не столько завершением исихазма, сколько началом нового этапа духовного становления христианского человечества. Если мистика мужского типа основана на соборном сотрудничестве с Богом и активном, сознательном, деятельном уподоблении Ему, то исихастская традиция прежде всего требует от подвижника забыть обо всем тварном и стать как бы чистым сосудом для восприятия Божественных Энергий. Также и в католицизме первоначальная практика “подражания Христу” в последние столетия отступила на второй план перед культом Его Пресвятой Матери. В России тринитарная, глубоко мужественная духовность преподобного Сергия предшествовала и в какой-то мере подготовила подъем “серафимовской” духовности 19 века.
10. Новое откровение женского начала.
Новые аспекты женской духовности, возможно, откроются в связи с одним из самых ярких и таинственных образов Откровения Иоанна: “И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее месяц из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения” (Откр. 12:1-2). В католических храмах этот сюжет часто встречается на иконах и фресках как изображение Девы и Богородицы Марии. Но против такого истолкования есть серьезные возражения. В православном богословии Богородица переживается как личностное средоточие Божественных энергий; по учению Григория Паламы, она стала как бы раздаятельницей этих энергий; ни одно из Божественных Действий уже не совершается помимо нее. Напротив, “жена, облаченная в солнце” представляет собой скорее средоточие тварного космоса. Может быть, именно с ней связано то “рождение твари к новому состоянию”, о котором пророчествовал Феофан Затворник. Кроме того, подчеркнуто, что “она кричала от болей и мук рождения” – признак, как бы специально отличающий ее от Марии, которая, согласно древнему церковному преданию, рождала “безбольно”.
Критическое эссе
Введение
Ко времени первой записи этой маленькой книги, двадцать лет назад, я перечитал все, что опубликовал Льюис, и у меня накопилось достаточно заметок для четырех таких книг. Но когда я предложил этот более длинный первый вариант книги моему первому издателю, он ответил: «Нам нравится Ваша книга, но, думается, что звезда Льюиса взошла уже давно и вскоре должна закатиться. Его время закончилось. Через двадцать лет никто не будет читать К. С. Льюиса».
Сколько пророчеств так и не сбылось! Количество книг о Льюисе умножается почище кроликов или мух, слетающихся на мед. Сравнение оскорбительное, но уместное, поскольку, хотя большая часть многочисленных книг о Льюисе — честные и заслуживающие уважение произведения (яркое исключение — мерзость запустения у Джона Беверслиуса в его книге «Льюис и поиски рациональной религии»), значительную их часть читать не стоит, потому что они только испортили уже сказанное Льюисом намного более эффективно, чем смогли бы это сделать любые его пересказчики и комментаторы.
И, действительно, я думаю: общеизвестная истина, что, чем более совершенны первоисточники, тем бледнее и незначительнее вторичные источники. В моей собственной области — философии — эта истина почти всегда оправдывается: книги о Сократе, Платоне, Августине, Паскале, Джеймсе, и Керкъегоре (наиболее интересных философах, обладающих превосходным стилем) почти всегда глупы и утомительны, в то время как книги об Аристотеле, Канте, Гегеле или Марксе (тупых философах с ужасным стилем) веселые, проблемные и полезные. Наиболее ярким примером является Библия. Самая волнующая книга, когда-либо написанная, породила глупейшие комментарии. Таким образом, глупость и обилие второстепенных источников о Льюисе — еще одно свидетельство его величины.
Зачем читать тогда эту книгу? Есть три характерных признака, которыми не обладает большинство других книг о Льюисе. Во-первых, она не подводит итоги его деятельности и произведениям, а только знакомит с ними начинающих студентов и читателей, выступая в роли свахи. Это образец продавца. Во-вторых, она обладает достаточным здравым смыслом, чтобы использовать везде, где только можно, слова Льюиса вместо своих. Я думаю, половина слов в книге, имеющих какое-то значение, состоит из цитат. И, в-третьих, она короткая.
Если бы я должен был переписать эту книгу сегодня, я бы исправил, по крайней мере, еще одно, в дополнение к нескольким стилистическим поправкам. Я полагаю, что был слишком пылок, чтобы быть бесстрастным и таким образом найти какие-то недостатки у писателя, которым я восхищаюсь более, чем кем бы то ни было в этом веке. Учителя обычно имеют склонность к разделению студентов на тех, к кому они особенно благосклонны, — к ним относятся более сурово, — и тех, к которым неблагосклонны, но более великодушны, чтобы вознаградить за неизбежный моральный ущерб. Думаю, я был слишком суров к «Блужданию паломника» и «Dymer», а также слишком озабочен тем, чтобы определить Льюису место где-то посередине между левыми и правыми, отклоняясь назад, чтобы избежать наклеивания ярлыка «консерватора» на него. С политической точки зрения это является верным, о чем ясно свидетельствует отрывок на странице 29 (о том, каким было бы истинное христианское общество). Но с теологической и философской точек зрения Льюис явно враг левых, модернистов, ревизионистов. И даже с политической — он «консерватор» если и не в американском смысле этого слова, то в европейском, буржуазном.
Феномен продолжающейся популярности Льюиса легко объясним. Просто читайте его. «Иди и смотри». Вы обнаружите блестящие достоинства, пронизывающие все его произведения и действующие подобно рыбацкой удочке, которой он цепляет вас за горло: радость, честность, ясность, воображение, объективность, ортодоксальность, конкретность, аналогии с общим опытом, краткость, ум — мне трудно представить себе хотя бы одно важное и необходимое для писателя качество, которое у него бы отсутствовало. Когда кто-либо спрашивает меня: «Как мне научиться хорошо писать?» — я отвечаю: «Подражание. Читайте хороших писателей. Начните с Льюиса».
Более важно, когда они спрашивают: «Как нам стать хорошими христианами в современном мире?» Я отсылаю их к тому же человеку. И я часто вспоминаю его в моих молитвах, благодаря Бога за то, что он подарил человека, который помог спасти больше человеческих интеллектуальных и творческих здравых умов и, возможно, даже душ, чем кто-либо еще из известных мне в этом веке. В этом сущность его величия и его продолжающегося призыва.
Романтический рационалист: Льюис как человек.
Однажды в мрачную эпоху, когда Мир Функциональной Специализации заставил устареть всех универсальных гениев, романтических поэтов, платонических идеалистов, риторических ремесленников и даже ортодоксальных христиан, появился человек (как будто из другого мира, — одного из миров его собственной фантазии, — и был ли он человеком или кем-то, более похожим на эльфа или ангела?), который, мог быть отнесен в качестве любителяко всем вышеперечисленным типам так же, возможно, как и к всемирным передовым авторитетам в своей профессиональной области: английской литературе Средневековья и Эпохи Возрождения. До его смерти в 1963 году ему хватило времени, чтобы создать почти шестьдесят первоклассных работ по истории литературы, литературной критике, теологии, философии, автобиографии, библейским исследованиям, исторической филологии, фэнтэзи, научной фантастике, писем, стихотворений, проповедей, формальных и неформальных очерков, исторических повестей, духовных дневников, религиозных аллегорий, коротких рассказов и детских повестей. Клайв Стейплз был не человеком: он был миром.
Его жизнь лучше всего рассказана им самим. «Настигнут радостью» — удивительно обьективная автобиография — почти философия радости, — которую он сам назвал «удушливо субъективной» — указание на замечательное отсутствие самомнения в уме, который находил почти все очаровывающим, за исключением самого себя. Его биография физически (но не духовно) не богата событиями, но его личность — такое важное аномальное событие в жизни того аномального существа, которым является Человек Двадцатого века, что мы должны детально изучить этого человека до того, как примемся за исследование его произведений.
Один из способов приблизиться к личности писателя — отметить главнейшие источники, оказавшие влияние на его мысли. Для Льюиса таковыми были Платон, Августин, Кант, английские мистики — такие, как Ло и Тэмпл, Джордж Макдональд, Уильям Моррис, Г. К. Честертон, Оуэн Барфилд, Дж. Р. Р. Толкиен и Чарльз Вильямс (последние трое — близкие личные друзья), и то, что он лично знаком со всей западной человеческой историей («от антропоида до агностика») и Вселенной («от атома до архангела»). Будучи настолько не педантичным, что кажется непрофессионалом, он сидит беспечно на этом необъятном наследстве, как будто обнаружить свои энциклопедические знания в любых областях, кроме его самых технических произведений, — неприлично.
Другой способ подвести итог человеческой личности — просто перечислить несколько вещей, которые ему нравятся; нить, связывающая эти вещи вместе, обычно угадывается интуитивно, даже если она не сформулирована. Только в одной повести («Мерзейшая мощь») мы находим Льюиса любующимся столь многими вещами, что даже частичное перечисление их составляет невероятно просторный космос: любовь, старость, юность, веселье, серьезность, будни, одиночество, самозабвение, девушки, старые девы, предзнаменования, руны, яркие цвета, женственность, мужественность, «слабоумные», «нормальные», рождение страдания, антививисекция, холодные дома, демократия, монархия, ветхая и яркая одежда, космическое пространство, неконтролируемое рождение, садоводство, определения, планеты, романтика, принципы, смирение, материнство, средние века, честный скептицизм, немеханические предметы, бороды, аллегории, животные (особенно прирученные медведи и мыши), Бог, леса, фермеры, волшебство, наказание, дружба, обряды, послушание (называемое «танец»), иерархия, погода, чудо, прогулки, органическая жизнь («пот, слюна, выделения»), классическое образование, овощи, ангелы, вера в демонов, рабочий класс, праведный гнев, вино, терпение и загадки.
Связывающая нить должна быть длинной, возможно, лучше всего сформулировать ее просто как любовь к конкретным предметам, к экстраординарным («великолепным, удаленным, ужасным, чувственным или знаменитым вещам») так же, как и к ординарным («подобно фламинго, немецким генералам, любовникам, сэндвичам, ананасам, кометам и кенгуру»). Вселенная так богата, полна и пленительна для него, что он и не испытывает необходимости удалиться в свою собственную субъективность: «Нам нет нужды слушать Папские максимы о том, какие предметы подходят для изучения человечества. Истинное исследование человека включает в себя все». Одним словом, ключ к образу мыслей Льюиса — его объективность, его направленность извне.
Объективность — ключ не только к его психологии, но и к любому жанру его произведений. Поэзия Льюиса, история литературы, критика будет использована здесь в иллюстрациях, поскольку краткое эссе не может дать широкие комментарии к этим жанрам. Люис знал, что его поэзия слишком «безыскусна», чтобы быть модной. Кредо его поэтической программы, так же, как и типичный ее образец — первое стихотворение в книге:
Исповедь
Так груб, что не дано увидеть мне, все то, что видимо поэтам в темноте. Уж двадцать лет как я вовсю смотрю: А вдруг увижу, что навеет вечер еле — один из вечеров — в эфирном сне Больному под наркозом на столе — Напрасный труд. Я просто не могу. И каждый вечер для меня подобен тем Отходу корабля, нагруженного всем, В безмолвии толпы, оставленной… совсем, Изящно, без прощанья, безвозвратно. Как нравится мне то, что Вордсворт знал, Чудак, которому открыта желтизна Соцветий примулы; кого навечно рок Занес в разряд тупиц, не знающих урок, Заставив по готовым жить ответам, И кто сумел использовать при этом Намного лучше, чем бы я сумел Невзрачность скучных тел: павлинов, меда, и Стены Великой, Альдебарана, срезанной травы, Серебряных запруд, на пляже волн, и самоцветов, Форм женщин и коней, Афин, и Трои, Иерусалима.
Объективность — это так же ключ к литературной истории и критике Льюиса. «Первое требование, которое любое произведение искусства предъявляет нам — это капитуляция. Смотри. Слушай. Воспринимай. Убери себя с дороги. Не стоит спрашивать вначале, достойно ли произведение такой капитуляции, ибо, если ты не сдашься, ты не сможешь ничего понять». («Эксперимент в критике»).
Льюис предлагал откровенность и бессодержательность, потому что его Вселенная — это пленум, полнота. Однако необходимо сделать несколько уточнений; выделить определенные темы. Подзаголовок к «Возвращению пилигрима», мрачный и немилосердный, манифест Новообращенного, который Льюис точно отнес к своей худшей книге, тем не менее тонко выявляет его литературные, философские и личные склонности в одном жестоком выпаде: «Аллегорическая апология для христианства, рассудка и романтизма». Сам Льюис является, если выбирать из этих определений, романтическим рационалистом; и христианство, как он, бывало, настаивал, — катализатор, позволивший объединить эти два различных элемента в единое целое в одной душе. Так как эти три составляющих присутствуют у большинства людей и в большинстве его произведений, мы должны исследовать каждую из них в деталях. Первая — романтика, поскольку из трех, как сам Льюис настаивал, «фантазер во мне старше, действует более постоянно и в этом смысле главнее, чем двое других — религиозный писатель или критик».
Романтизм Льюиса концентрировался вокруг переживания, которое он называл «Радостью». Он рассматривал «Радость» на двух уровнях: первый — психологическое описание, а затем религиозная интерпретация. Введение в «Блуждании паломника» впервые описывало переживание как
одно из сильнейших стремлений. У него два отличия от других. На первом месте, хотя чувство желания — острое и даже мучительное, однако, чувствуется: даже само по себе желание — уже наслаждение… На втором месте — странная тайна, связанная с объектом этой Страсти: каждый из предполагаемых объектов Страсти не удовлетворяет ее требованиям.
Религиозная интерпретация следует далее:
Мне кажется поэтому, что, если человек следует этой страсти, преследуя ложные объекты до тех пор, пока их ложность не обнаружится, а затем решительно бросая их, он должен прийти, наконец, к ясному осознанию того, что человеческая душа была создана, чтобы наслаждаться некоторыми объектами, которые никогда не будут даны полностью, более того, невозможно даже представить их себе как данные в нашем настоящем образе субъективного и вневременного опыта. Эта Страсть была в душе, словно «Опасная осада» в замке короля Артура — кресло, в котором мог сидеть только он один. («Блуждание паломника»).
Она написана так, как если бы Льюису было пересажено неугомонное сердце Августина, и является хорошим изложением его собственной духовной автобиографии.
Глава Льюиса «На небесах» в «Страдании» переложила переживание на такой соблазнительный язык, что длинная цитата становится необходимой:
Вы могли заметить, что книги, которые вы действительно любите, связаны вместе скрытой нитью. Вы очень хорошо знаете, что есть общее свойство, которое заставляет вас любить их, хотя вы и не можете выразить его словами, но большинство ваших друзей не видят его вовсе и часто удивляются: почему, любя это, вы также любите то. Опять же, вы часто останавливались перед некоторыми ландшафтами, в которых, казалось, воплотилось то, что вы искали всю вашу жизнь, и затем поворачивались к другу, который появлялся, чтобы посмотреть, что же вы увидели, — но при первых же словах между вами — зияющая пропасть, и вы осознаете, что этот ландшафт значит что-то совершенно другое для него, что он преследует чуждое вам видение и не питает никакого интереса к невыразимому впечатлению, которым вы увлечены. Даже в ваших любимых занятиях не всегда ведь была некая скрытая притягательность, о которой другие, как ни странно, не имеют представления, нечто, недоступное отождествлению, но зато всегда были, на грани исчезновения от начала до конца, запах резаного дерева в мастерской или хлопанье воды о борт судна? Разве не все дружеские отношения на всю жизнь родились в тот момент, когда, наконец, вы встретили другое человеческое существо, у которого был некоторый намек (хотя слабый и неопределенный даже в лучшем случае) на что-то, что вы страстно желали от рождения, и что, в потоке других желаний и во всех кратковременных затишьях между шумными страстями, ночью и днем, год за годом, от детства до глубокой старости вы ищете, за чем следите, к чему прислушиваетесь. Все эти вещи, так глубоко овладевшие вашей душой, есть, но намекают об этом лишь мимолетными впечатлениями, никогда не обещая полного осуществления, отзываясь эхом, замирающим, едва коснувшись вашего уха. Но если оно действительно станет явным, если оттуда когда-нибудь придет эхо, которое не замрет, но зазвучит нарастая, — вы узнаете это. И, вне всякого сомнения, вы скажете: «Здесь, наконец, есть то, ради чего я был создан». Вы не можете рассказать друг другу об этом. Это скрытая подпись каждой души, непередаваемое и неукротимое желание, то, что мы желали раньше, чем встретили наших жен или завели наших друзей, или выбрали нашу работу, и что мы все еще будем желать на нашем смертном ложе, когда разум не будет знать больше ни жены, ни друга, ни работу. Пока существуем мы, оно существует. Если мы теряем его, мы теряем все.
Религиозное решение Льюиса этой психологической головоломки даже более волнующее, чем она сама:
У вашей души странная форма, потому что она — дупло, созданное, чтобы вписать отдельную опухоль в бесконечные контуры божественной субстанции, или ключ, чтобы открыть одну из дверей в многоквартирном доме. Каждый из спасенных когда-либо познает и восславит какой-то один аспект божественной красоты лучше, чем могли бы какие-либо другие создания. Зачем же еще были созданы личности, и этот Бог, любящий каждого бесконечно, любит каждого по-разному?.. Несомненно, беспрестанные, успешные, хотя и всегда незавершенные попытки каждой души передать свое уникальное видение всем другим (благодаря чему земные искусство и философия — лишь смешные подражания) — так же среди целей, ради которых была создана личность. Всю вашу жизнь недостижимый экстаз парит вне власти вашего сознания. Приближается день, когда вы пробудитесь, чтобы обнаружить, без всякой надежды, что вы настигли его или что он был в пределах досягаемости для вас, а вы утратили его навсегда. («Страдание»)
Если тех, у кого было подобное переживание, немного, то тех, кто чувствовал его так глубоко, меньше, и тех, кто не только его чувствовал так глубоко, — еще меньше, тех, кто не только чувствовал, но и выразил его так волнующе, — еще меньше, как и тех, у кого есть рациональная струна на их скрипке, а тех, у кого рациональная струна такая же крепкая, как и романтическая, — практически не существует. (О Льюисе, тем не менее, не скажешь, что он практически не существует!) Он прослеживает свой рационализм от своего учителя Кёрка («Великий удар»). Легко увидеть, почему он это делает, из его описания их первой встречи:
Я начал «вести беседу» в заслуживающей сожаления манере, которую я приобрел на тех ежедневных вечеринках… Я сказал, что был удивлен «пейзажем» Суррея: он был намного более «дикий», чем я ожидал. «Стоп! — воскликнул Кёрк с внезапностью, которая заставила меня подпрыгнуть. — Что ты подразумеваешь под внезапностью и какие основания у тебя были не ожидать этого?» Я ответил, что не знаю, какие, все еще «ведя беседу». Когда ответ за ответом он превратил в клочья, мне, наконец, стало ясно, что он действительно хочет знать. Он не вел беседу, не шутил, не пытался меня унизить — он хотел знать. Я был ошеломлен, пытаясь найти настоящий ответ. Достаточно было нескольких попыток, чтобы показать, что у меня нет ясного и четкого представления, соответствующего слову «дикость», и что, насколько я имел какое-то представление вообще, «дикость» была единственно неподходящим словом. «Разве ты не видишь, — сделал вывод «Великий удар», — что твое замечание было бессмысленно?» Я приготовился чуть-чуть надуться, предполагая, что предмет разговора сейчас будет унижен. Никогда еще в своей жизни я не ошибался более. Проанализировав мои термины, Кёрк приступил к рассмотрению моего предложения целиком. На чем основываются (но он произнес это «озновываются») мои ожидания относительно флоры и геологии Суррея? Были ли это карты, или фотографии, или книги? Я не смог предъявить ничего из этого списка. Мне никогда не приходило в голову, упаси Боже, что мои мысли должны на чем-то основываться…
Если когда-либо человек подходил близко к осуществлению чисто логического бытия, этим человеком был Кёрк. Родившись немного позже, он стал бы логическим позитивистом. Мысль о том, что человеческие существа будут упражнять свои голосовые органы не для коммуникации или открытия истины, а для каких-то иных целей, была для него абсурдной. («Настигнут радостью»)
Смешение романтического и рационалистического было далеко от автоматического. Был необходим катализатор, достаточно сильный для того, чтобы примирить две очень разные силы. Перед своим обращением к христианству он признался:
два полушария моего мозга были в острейшем противоречии. На одной стороне — море поэзии и мифа со многими островами, на другой — гладкий и поверхностный «рационализм». Почти все, что я любил, — я полагал вымышленным, почти все, в реальность чего я верил, я считал жестоким и бессмысленным. (там же)
Этот союз, отнюдь не приводящий к компромиссу оба компонента, усиливает их: романтизм его последней мифической беллетристики — и взрослой, и детской — несравненно более зрелый, интеллигентный и философски глубокий, чем в «Dymer», его первой публикации, скучной и непонятной романтической поэме. Но диалектическое умение и теологически точное попадание в цель его позднейших обвинителей опозорили безжизненную технику и так называемую узколобость «Блуждания паломника». И романтическая, и рационалистическая его зрелость вытекает из его христианской зрелости.
Личность писателя часто так же очевидна в его стиле, как и в его содержании, и здесь Льюис также и рационалист, и романтик. Ясный стиль представляется почти автоматическим результатом английского классического образования, полученного Льюисом, по которому «понять смысл предложения из Цицерона — не самый великий интеллектуальный подвиг, но передать его на английском так, чтобы звучало по-английски, — это такая строгая дисциплина, что оригинальное сочинение на родном языке с этого времени кажется приятным развлечением». (там же) У Льюиса типично британское стилистическое великолепие, которое сочетает лучшее из англо-саксонского (ясность, протота, непосредственность, сила, каменно-твердые существительные и яркие стрелоподобные глаголы) с лучшим из латыни (логика, равновесие, изящество, гармоническая структура) в синтезе экономии, точности и обманчивой легкости. Однако в словах Льюиса есть как любовь, так и ясность и уравновешенность. Фактически, даже в его филологии он — романтик: «Уроки в словах» — не только безмерно ученое, но также безмерно «симпатизирующее» словам сочинение. И снова — один из его учителей, в наивысшей степени достойный доверия, описан в следующих строчках: «О Мильтоновской строке «Троны, власти, княжества, добродетели, государства» он сказал: «Эта строка делает меня счастливым на неделю». Я ничего подобного раньше не слышал». (там же)
Одна вещь, которая делает Льюисовский стиль христианства таким привлекательным, — его манера выражения: конкретная, яркая, свободная от болтовни и полная солидных материй. Вместо того, чтобы сказать: «Нам необходимо духовное перерождение», — он говорит: «Сейчас мы подобны яйцу. Но мы не можем продолжать свое неопределенное существование, оставаясь только заурядным славным яйцом. Мы должны вылупиться из яйца или плохо кончим». («Просто христианство») Теологическая глубина часто замаскирована простотой выражения, например: «В то время, как в других науках инструменты, которые вы используете, — это предметы, находящиеся вне вас (предметы типа микроскопа или телескопа), инструмент, посредством которого вы видите Бога, — это ваша собственная личность» (там же). Льюисовская стилистическая простота может сделать даже туманнейшую дымку понятной и соотносящейся с заурядным опытом. В нижеприведенных трех предложениях — триединство:
Бог — это то, чему он молится, цель, которую он пытается достичь. Бог — это также вещь внутри него, которая продвигает его, — движущая сила. Бог — это также дорога или мост, вдоль которой он продвигается к той цели. Так что вся тройная жизнь трех-личностного Существа действительно продолжается в этой обычной маленькой спальне, где обычный человек произносит свои молитвы. (там же)
Льюис знает, что одна метафора может сказать больше, чем тьма абстракций; например, об индивидуальности и церкви он говорит:
Предметы, являющиеся частями одного организма, могут очень отличаться друг от друга, а предметы, не являщиеся таковыми, — могут быть очень схожи. Шесть пенни — существуют совершенно отдельно друг от друга и очень похожи; мой нос и мои легкие — очень разные, но они единственно схожи в том, что являются частями моего тела и участвуют в его общей жизни. Христианство рассматривает человеческие индивидуумы не только в качестве членов группы или пункта в списке, но как органы в теле — отличающиеся один от другого и вносящие каждый то, что не может внести другой. (там же)
Льюис принял стилистический совет Честертона:
Если вы говорите: «Социальная польза неокончательных приговоров осознается всеми криминологами как часть нашего социологического продвижения к более гуманному и научному взгляду на наказание», — вы можете продолжать говорить подобное часами, при этом серое вещество в вашем черепе едва ли будет работать. Но если вы начинаете: «Я хочу, чтобы Джон отправился в тюрьму, и чтобы Браун сказал мне, когда Джон выйдет», — вы обнаружите с трепетом ужаса, что вынуждены думать. («Ортодоксия»)
Льюис отпугивает многих читателей тем же качеством, которое привлекает других: простая честность. «Его подход настолько прям, что многие авторитеты для действующих наверняка его друзей и влиятельных людей посоветовали бы против него», — замечает Чэд Уолш. Фактически, один из моих студентов бросает ритуально башмаком в «Проблему страдания», а другой отказывается «жить в одном мире с этим человеком». (Я не знаю, обдумывает ли он сделку с дьяволом или высадку на луну в качестве альтернативы). Ниже — два ключевых примера непопулярно честных подходов к непопулярным доктринам:
В наши дни мы очень боимся даже упоминания небес. Мы боимся насмешек над «пирогом в небесах» или того, что скажут, будто мы пытаемся «избежать» обязанности созидания счастливого мира здесь и сейчас, мечтая о счастливом мире где-либо еще. Но одно из двух: или «пирог» на небесах есть или его нет. Если нет, тогда христианство — ложь, поскольку эта доктрина сплетена в единое сооружение. Если есть, тогда мы должны считаться с этой истиной, подобно многим другим: полезна ли она на политических собраниях, или нет. («Страдание»)
Описания «чудес» в Палестине первого столетия — или ложь, или легенды, или история. И если все или наиболее важные из них — ложь или легенды, тогда утверждения, которые христианство выдвигает в течение последних двух тысяч лет, — просто ложь. Нет сомнения, они могли даже содержать благородные чувства и моральные истины. Так обстоит дело с греческой мифологией, так же со скандинавской. Но это совершенно различные вещи. («Чудо»)
Остроумие Льюисовского стиля защиты может оскорблять так же, как и привлекать. Хотя он явно получает удовольствие, продираясь сквозь неопределенные мнения модных аксиом, его сатирическая шпага обычно вложена в ножны, поскольку он занимается более изложением истин, чем опровержением лжи. Но в этих ножнах — острое лезвие. Подумайте над этим обменом в «Возвращении пилигрима»:
«Но как вы узнали, что Господа нет?» «Кристофор Колумб, Галилей, земля круглая, изобретение книгопечатания, порох!» — воскликнул Г-н Энлайтмент таким громким голосом, что пони испугался. «Прошу прощения», — сказал Джон. «Да?» — откликнулся Г-н Энлайтмент. «Я не совсем понимаю», — сказал Джон. «Почему? — Это же ясно, как день, — отозвался собеседник. — Ваши люди в Пуритании верят в Господа, потому что у них нет преимуществ научной подготовки. Например, сейчас, я осмелюсь сказать, для тебя будет новостью услышать, что земля круглая, круглая, как апельсин, мой юноша!» «Ну, я не знаю, будет ли, — сказал Джон, чувствуя легкое разочарование. — Мой отец всегда говорил, что она круглая». «Нет, нет, мой дорогой мальчик, ты должно быть не так его понял. Хорошо известно, что каждый в Пуритании думает, что земля плоская. Не может быть, чтобы я сделал ошибку в таком вопросе. На самом деле, это даже выходит за рамки данного вопроса. И потом, есть палеонтологические свидетельства». «Какие же?» «Вот почему тебе в Пуритании говорят, что Господь создал все эти дороги? Но ведь это совершенно невозможно, потому что старики могут вспомнить время, когда дороги были не так хороши, как сейчас. И, более того, ученые нашли по всей стране следы старых дорог, бегущих в совершенно различных направлениях. Вывод очевиден». Джон ничего не сказал. «Я сказал, — повторил г-н Энлайтмент, — что вывод очевиден». «О, да, да, конечно», — сказал торопливо Джон, слегка краснея.
Более часто остроумие — безобидно и приятно:
Меня предупредили, чтобы я даже не поднимал вопроса о бессмертии животных, иначе я окажусь в компании, состоящей из одних старых дев. У меня не было возражений против такой компании. Я не думаю, что девственность или старость заслуживает презрения. И меня также не легко смутить шутливыми вопросами типа: «Где Вы поместите всех москитов?» — вопрос, на который нужно отвечать на таком же уровне, подчеркнув, что, если худшее сходится с худшим, то можно было бы удобно объединить небеса для москитов и ад для людей. («Страдание»)
Но честность торжествует над остроумием. Он пользуется своим остроумием так умеренно, что кажется, будто стесняется его, но его честность — вездесуща, вынуждая даже на признание в нечестности (точно так же, как смирение подразумевает признание в нашей гордыне). Он пишет Дороти Сэйерс, что «учение никогда не кажется мне более неясным, чем сразу после того, как я удачно защитил его». И он раскаивается, что победил в правой битве неправым оружием в «Вечерней молитве защитника»:
От всех моих неудачных поражений и О! много больше От всех побед, которые, кажется, я выиграл; От мудрости, мелькнувшей от Твоего имени, По которой, пока ангелы плачут, люди смеются. От всех моих доказательств Твоей божественности, Ты, который упорно не даешь мне знака, избавь меня. Мысли — это всего лишь монеты. Позволь мне не верить Стершемуся изображению твоей головы вместо тебя. От всех моих мыслей, даже от моих мыслей о Тебе, О Ты, Прекрасное Безмолвие, снизойди и избавь меня. Владыка узких врат и игольного ушка, Забери у меня всю мою дрянь, чтобы я не умер. Похороны великого мифа: Нападки Льюиса на современность
Три главные струны льюисовской скрипки — Романтизм, Рационализм и Христианство — соответствуют трем главным жанрам его произведений — литературной критике, богатой поэтическими образами беллетристике и апологетике. Во всех трех жанрах есть общая тема «ссоры влюбленного с миром» современности. Перед тем, как мы рассмотим все три по отдельности, нам следует изучить эту общую тему, поскольку именно она является главным источником исторического Значения Льюиса.
У немногих людей (и еще меньше у христиан) есть такая искренняя, такая свежая, такая языческая любовь к миру и, однако, у немногих (и еще меньше у современников) есть такая искренняя, такая свежая, такая христианская враждебность к миру, который он описывает в таких выражениях:
Как бы далеко вы ни ушли, вы найдете машины, переполненные людьми города, пустые троны, лживые произведения, бесплодные постели, людей, сведенных с ума ложными обещаниями и озлобленных подлинной нищетой, поклоняющихся железным творениям своих собственных рук, отрезанных от своей матери-земли и от Небесного Отца… Тень темного крыла над всем Теллусом. («Мерзейшая мощь»)
Их приспособления, сберегающие труд, умножают скучную, тяжелую работу; их афродизиаки делают их импотентами; развлечения надоедают им; быстрое производство пищи оставляет половину из них голодающими; а их изобретения для сбережения времени изгнали досуг из их страны. («Блуждания паломника»)
Что могло послужить причиной тому, чтобы человек, который был скорее удивляющимся ребенком, чем старомодным дряхлым ворчуном, разыгрывал пророка Амоса, выступающего против современного мира?
Одна причина, заставляющая его, по крайней мере, не бояться так поступать, — это его честность. Его интересует не то, что является новым, но только то, что истинно. В «Ошеломленных радостью» он вспоминает, как Оуэн Барфилд
сделал короткую работу о том, что я назвал моим «хронологическим снобизмом», — некритическое предположение о том, что все устаревшее является следовательно дискредитированным. Вы должны выяснить, почему оно устарело. Было ли оно когда-либо опровергнуто (и если да, то кем, где и насколько убедительно) [тень Великого Удара!] или оно просто отмерло, подобно моде? Если последнее, то это ничего не говорит ни о его истинности, ни о ложности. От наблюдения за этим кое-кто приходит к осознанию того, что наша собственная эпоха — также «период», и, конечно, у нее, как и у всех периодов, есть свои характерные иллюзии. Они, вероятнее всего, таятся в тех широко распространенных предположениях, которые настолько глубоко укоренились в эпохе, что никто не осмеливается нападать и никто не чувствует необходимости защищать их.
Если первая причина допускает расхождение Льюиса во взглядах с современностью, то вторая — собственный «хронологический снобизм» современности — даже требует его. Этот человек так досконально знаком с «данными величия», что его коллеги никогда не переставали удивляться вездесущему блеску узнавания в его глазах, когда бы и кто бы ни процитировал строчку из классической, средневековой или ренессансной литературы, — и вряд ли можно было бы рассчитывать на то, что он сохранит терпение при бесцеремонном отстранении прошлого, как одного огромного недостатка или даже как более низкой ступени эволюционной лестницы. Льюис видит современность из более удаленной перспективы, и ему не нравится то, что он видит: «мы боготворим как божественную историю, которую создали более отважные поколения, так и проститутку Фортуну и забываем, что человечество не проходит сквозь фазы, как поезд через станции… Какими бы мы ни были, такими мы и остаемся».
Третья и наиболее существенная причина льюисовской антисовременной полемики — его убежденное несогласие с основной космологической моделью самой современной мысли — предполагаемого «происхождения мира», рассматриваемая более по форме выражения, чем по содержанию — словно очки, сквозь которые, а не на которые мы смотрим. Такой аксиомой является универсальный эволюционизм, и Льюис предлагает ему почтительные, но окончательные похороны в эссе «Похороны Великого Мифа» и на протяжении всего своего творчества. Исследование его полемики — главное не только для того, чтобы понять Льюиса, но и для того, чтобы дать оценку современности.
Главный философский аргумент Льюиса против этого мифа — то, что он содержит самоопровержение:
Этот Миф просит меня верить, что разум — просто непредвиденный и непреднамеренный побочный продукт бессмысленного процесса на одной из стадий его бесконечного и бесцельного становления. Содержание этого Мифа таким образом выбивает у меня из-под ног единственную почву, на которой я бы мог, возможно, верить в его истинность. Если мой собственный разум — продукт иррационального, если то, что мне кажется яснейшими рассуждениями, — только способ, которым создание, подобное мне, вынуждено чувствовать, — как же я могу доверять моему разуму, когда он говорит мне об эволюции? («Похороны Великого Мифа»)
Этот миф, фактически, принят не на рациональных основаниях, но с определенной долей условности:
Если бы популярный эволюционизм был не Мифом (как он воображает себя), а интеллектульно узаконенным в общественном мнении результатом научной теоремы, он бы возник после того, как теорема стала широко известной. На деле же мы видим нечто в корне отличающееся. Наиболее ясные и изящные поэтические выражения Мифа появились до того, как было опубликовано «Происхождение видов» (1859) и задолго до того, как оно установилось в качестве научной ортодоксии… в «Гиперионе» Китса и «Круге» Вагнера. (Там же)
Если вода стоит слишком долго, она приобретает неприятный запах. Сделать из этого вывод, что все, долго простоявшее, должно стать подпорченным, — значит стать жертвой метафоры… Квадрат гипотенузы не покроется плесенью, если будет и дальше равняться сумме квадратов двух других сторон. («Яд субъективизма»)
Я предоставляю на рассмотрение положение, по которому то, что так настойчиво навязало данное состояние общественного мнения человеческому уму, является новым архетипическим образом. Это образ старых машин, вытесненных новыми и лучшими. Поскольку в мире машин новое чаще всего действительно лучшее, а старомодное и в самом деле — неуклюже. («De Descriptione Temporum»)
Какой же философией истории Льюис заменяет эволюционную теорию в его собственных исторических исследованиях? Никакой!
Относительно всего, что может быть названо «философией истории», я безнадежный скептик. Я ничего не знаю ни о том, каково будущее, ни даже о том, будет ли оно вообще… Я не знаю, в I или V акте находится сейчас человеческая трагикомедия, а наши теперешние беспорядки — от младенчества или от старости. (Там же)
Некоторые полагают, что дело историка — проникнуть по ту сторону очевидного беспорядка и разнородности и уловить простой интуицией «дух» и «смысл» его периода. С некоторым колебанием и с огромным уважением к великим людям, думавшим иначе, я полагаю верным, что мы должны воздерживаться от подобных деяний. Я не могу убедить себя, что такой «дух» или «смысл» намного более реальны, чем картинки, которые мы видим в огне… «Каналы» на Марсе исчезают, когда мы достаем более сильные линзы. [И любой читатель «Шестнадцатого века» или «Отвергнутого образа» знает, что у Льюиса были сильные линзы!] («История английской литературы XVI в. за исключением драмы»)
Нет на земле беспристрастного судьи над различными эпохами, поскольку вне исторического процесса не стоит никто; и, конечно, никто не порабощен им так полно, как те, кто принимают существование нашей собственной эпохи и более ни одного периода, исключая заключительную и неизменную платформу, с которой мы можем видеть все другие эпохи объективно. («Размышление о псалмах»)
Что же тогда остается делать историкам? Некоторые идеи можно получить из собственной практики Льюиса. Он представляет разум другой эпохи с ее собственной точки зрения, с такой симпатией и пониманием, что читатель осознает: он представляет не чуждый объект, а часть себя самого. Один типичный пример из «Отвергнутого образа»:
Каждый мальчик, выйдя из школы, не замечая того, ознакомлен с определенным уровнем знания… (включая) ковку лошадей, лесоводство, стрельбу из лука, соколиную охоту, сев хлеба, покрытие крыш соломой, пивоварение, выпечку хлеба, ткачество… и практическую астрономию. Данные конкретные данные перемешались с правом, риторикой, теологией и мифологией, воспитав взгляды, весьма отличающиеся от наших собственных. Высокие абстракции и утонченные выдумки вытеснили наиболее приземленные подробности. Им было бы трудно понять современного человека, который, хотя и «интересуется астрономией», не знает ни кто такие Плеяды, ни где их искать на небе. Они говорили с большей готовностью, чем мы, о крупных универсалиях, таких, как смерть, перемены, судьба, дружба или спасение; но также и о поросятах, хлебе, сапогах и лодках. Разум метался с большей легкостью туда и обратно между этими умственными небом и землей. Туча средних обобщений, висящих между ними, была тогда намного меньше. Они говорили о чем-то как ангелы, а о чем-то — как матросы и конюхи, но никогда не говорили как клерки или авторы газетных передовиц.
Льюис советует не возвращаться к средневековой модели, но уважать ее:
Я только предлагаю соображение, которое может заставить нас относиться ко всем моделям верным образом, уважая каждую из них и не обожествляя ни одну. Мы не можем долее отгонять мысль о том, что смена моделей — простое продвижение от ошибки к истине. Ни одна модель не является каталогом конечных подлинных сущностей, и ни одна — простой фантазией, потому что каждая из них отражает преобладающую психологию эпохи почти настолько же, насколько и состояние знания в эту эпоху. Едва ли какая-то батарея новых фактов могла бы убедить греков, что вселенная имеет свойство настолько им противное, как бесконечность; вряд ли любая такая же батарея могла бы убедить современника в иерархичности вселенной. («Отвергнутый образ»)
Льюис сам вплотную подошел к философии истории, определив место существенным изменениям человека от средневекового до современного в качестве одной из субъективизаций,
это великое движение интернализации и последовательное возвеличение человека и заполнение внешнего космоса, в которой заключена в такой значительной степени психологическая история Запада… человек с его новыми возможностями стал богатым, как Мидас, но все, к чему он прикасался, погибло и покрылось льдом. (Там же)
И вот результат: настоящее положение обнаженного, изолированного субъекта и математического бесценного космоса в явном противоборстве. Льюис погружается еще на один шаг в философию истории в полной надежд интерпретации настоящего кризиса как юности, но не дряхлости: это сомнение, которое превращает детскую веру в авторитет во взрослое убеждение на основе опыта:
Может ли быть, что Сила, которая управляет нашими видами, в данный момент проводит дерзкий эксперимент? Могло ли быть преднамерено, чтобы вся масса людей сейчас двинулась вперед и овладела для себя высотами, которые были однажды прибережены для мудрецов? Должно ли различие между мудрым и глуповатым исчезнуть потому, что, как ожидается, все станут мудрыми? Если так — наше настоящее продвижение ощупью, с ошибками — было бы всего лишь увеличением страданий. («Чудо»)
Просто христианство: Религиозная философия Льюиса.
Хотя откровенно религиозные произведения Льюиса составляют только часть, и, возможно, не самую большую, его вклада в литературу, эта глава, рассматривающая его религиозную философию, будет самой длинной. Почти каждая тема его скорее дидактической беллетристики открыто разрабатывается в его религиозных и философских эссе или в трех его главных методических книгах: «Чудо», «Страдание» и «Человек отменяется». Здесь нет необходимости объяснять «взгляд на мир и жизнь» в рамках беллетритики Льюиса или за их пределами: он явственно проступает из его эссе и методических книг.
Содержание этой философии, говоря одним словом, — «просто христианство». Значение термина выясняется из предисловия к знаменитым беседам на радиовещании БиБиСи времен войны, собранным под этим заголовком:
Я не делаю тайны из моей позиции. Я самый обычный прихожанин английской церкви, не особенно «благородный», не особенно «низкий», не особенно какой-то еще. Но в этой книге я не пытаюсь никого обратить в мою веру. Даже когда я стал христианином, я думал, что самое лучшая и, возможно, единственная услуга, которую я мог бы оказать моим неверующим соседям — это объяснить и защитить веру, которая была общей почти для всех христиан во все времена… то, что Бакстер называет «простым» христианством.
Уникальная личность Льюиса добавила к этому традиционному содержанию смесь воображения, ясности и честности, которые я назвал «романтизмом», «рационализмом» и «объективностью» соответственно. И, в-третьих, я полагаю, здесь ключ к образу мыслей и его философии.
В своем простейшем значении «объективность» — это психологическая позиция заинтересованности скорее объектом, нежели субъектом. Льюис называет даже эмоции объективными в этом смысле, потому что «мы в действительности не заботимся об эмоциях, эмоции — это наш интерес к чему-то еще». Он заметил (мудро), что психологическое здоровье требует, чтобы основной объект нашего интереса был больше нашей собственной персоны:
Даже в общественной жизни вы никогда не произведете хорошее впечатление на других до тех пор, пока не перестанете думать о том, какое впечатление вы на них производите. Даже в литературе и искусстве ни один человек, который беспокоится об оригинальности, не будет никогда оригинальным, поскольку, если вы просто стараетесь говорить правду (не обращая внимания на то, насколько часто она была сказана прежде), вы, в девяти случаях из десяти, станете оригинальным, не заметив этого. [Конечно, здесь кроется причина замечательной оригинальности и самого Льюиса]. Этот принцип проходит через всю нашу жизнь, от начала и до конца. Отбросьте свое «Я», и вы найдете вашу настоящую личность. («Просто христианство»)
Тот же принцип применим и к религии. Льюис на собственном опыте убежден, что
в глубочайшем одиночестве есть прямая дорога за пределы собственного «Я», общение с чем-то, что, отказываясь отождествляться с каким-либо объектом чувств или чем-то, в чем мы испытываем биологическую или социальную необходимость, или чем-то вымышленным, или каким-либо состоянием наших собственных умов,- провозглашает себя полностью объективным. Намного более объективным, чем тело, поскольку, в отличие от него, не прикрыто одеждой в наших чувствах; обнаженное потустороннее, лишенное образности (хотя наше воображение приветствует его сотней образов), неизвестное, неопределенное, желанное. («Настигнут радостью»)
И обожаемый, обожаемый с «совершенно бескорыстным самозабвением объект, который уверенно заявляет на это права, просто будучи тем, что он есть». Поскольку «можно что-то уважать не за то, что оно может сделать для нас, но за то, что оно собой представляет». Как сказал Честертон, одна из наиболее прагматических человеческих потребностей — быть больше, чем просто прагматик.
Точка зрения объективности избавляет нас от тягостной божественной задачи сотворения, подразумеваемой нашей собственной субъективностью, предоставляя взамен скромную, более веселую и человеческую задачу познания его. Созерцатель может получать наслаждение от мира потому, что он теряет себя в нем и таким образом, как это ни парадоксально, находя и себя и мир,- активист пытается завоевать мир и теряет его в самом себе и не находит таким образом ни себя, ни подлинный мир. Другими словами, мы можем обладать Вселенной, только отказавшись от обладания; она откроет нам свою красоту только в том случае, если мы позволим ей быть самой собой, чудесно независимой от нас. Как говорили Рэнсому планетарные эльдилы в «Переландре»:
Миры, хотя ими и управляют люди и ангелы, существуют ради самих себя. Воды, по которым вы не плыли, фрукты, которые вы не сорвали, пещеры, в которые вы не спускались, и огонь, сквозь который не могут пройти ваши тела, не ждут вашего прихода, чтобы напустить на себя видимость совершенства, хотя они будут подчиняться вам, когда вы придете. Бессчетное количество раз я вращался вокруг Арбола, пока вас не было, и те времена не были необитаемыми. В них них был собственный голос, а не только мечта о дне, когда вы проснетесь. Они так же находились в центре… Центр там, где Малельдил. Он везде. Успокойтесь, бессмертные малыши. Вы не являетесь голосом всех вещей и в местах, куда вы не можете прийти, нет вечной тишины. Ничья нога не проходила и не пройдет по льду Гланда; никто не поднимет глаза на Кольца Лурги, и Железная равнина Нерувала целомудренна и пуста. Однако не просто так боги непрерывно обходят поля Арбола. Да будет он благословен!
«Объективность» — это больше, чем психологическая позиция для Льюиса, это так же и философия человеческого знания:
Возможно, самый безопасный способ постановки его такой: мы должны бросить привычку говорить о «человеческом уме». Где мысль строго рациональна, она должно быть в каком-то смысле не нашей, а космической или суперкосмической. Она должна быть чем-то, не запертым внутри наших голов, а находящимся уже «снаружи» — во Вселенной или за ее пределами, таким же объективным, как материальная природа, или еще более объективным. Если все, что мы принимаем за знание, не иллюзия, мы должны считать, что в процессе мышления мы не считываем рациональность в рациональной Вселенной, но отвечаем на рациональность, которой пропитана Вселенная. Поскольку если наш разум абсолютно чужд реальности, то все наши мысли, включая и эту, ничего не стоят. Мы должны тогда допустить существование логики у реальности; мы должны, если только у нас вообще должны быть какие-то моральные нормы, допустить существование у нее моральных норм также. И нет оснований не делать то же в отношении стандартов красоты. («De Futilitate»)
В конце концов, «объективность» — это не только психология и эпистомология, но еще к тому же и космология, и космос, который в ней открывается, более заполнен на небесах и на земле, чем воображают в наших философиях. Объект постоянной полемики Льюиса — это ревизионист, «обезьяна в штанах, которая никогда не сможет постичь, что Атлантика — это нечто большее, чем просто огромная масса холодной соленой воды».
Сила такой (ревизионистской) критики лежит в словах «просто» или «ничего кроме». Он видит все факты, но не смысл. Совершенно искренне поэтому он утверждает, что видит все факты. Но там ничего больше нет, если исключить смысл. Он, таким образом, в отношении к материалу, попавшему ему в руки, находится в положении животного. Вы могли заметить, что большинство собак не понимают, когда им показывают пальцем. Вы указываете пальцем на еду на полу, а собака, вместо того, чтобы глядеть на пол, обнюхивает ваш палец. Палец для нее — это только палец и больше ничего. Ее мир — одни голые факты и полное отсутствие смысла. И в период, когда преобладает фактический реализм, мы находим людей, умышленно стимулирующих у себя этот собачий образ мышления… И всегда будут доказательства, и каждый месяц новые, чтобы показать, что религия — только психологична, правосудие — только самозащита, политика — только экономика, любовь — только похоть, сама мысль — только церебральная биохимия. («Транспозиция»)
Вы не можете всегда смотреть сквозь вещи. Когда смотришь сквозь что-то, все дело заключается в том, чтобы что-нибудь увидеть сквозь это. Хорошо, что окно должно быть прозрачно, потому что улица или сад за ним непрозрачны. А что, если бы вы могли видеть сквозь сад тоже?.. Если вы видите сквозь все, тогда все прозрачно. Но прозрачный полностью мир — невидимый мир. Видеть сквозь все — то же самое, что ничего не видеть. («Человек отменяется»)
Нам никогда не следует спрашивать о чем-либо: «Оно реально?» — поскольку реально все. Собственно вопрос : «Что реально?» («Письма Малькольму»)
Роль христианского апологета непопулярна сегодня, в первую очередь, не из-за непопулярности христианства, а из-за непопулярности апологетики. Льюис избегает столкновения со Сциллой и Харибдой апологетики благодаря своей простой рациональной объективности. Он не является ни надменным военизированным инквизитором, ни смущенным апологетом, который, кажется, верит в свой собственный продукт менее, чем в чужой. Он не разделяет ни прошлый комплекс превосходства христиан, ни их нынешний комплекс неполноценности. Он делает это просто спрашивая: «Это правда?» — а не «Ново ли это?»
Некоторые теологические работы для меня похожи на опилки — из-за способа, которым авторы могут продолжать дискутировать, насколько определенные позиции приспособлены к современной мысли, или благодетельны по отношению к социальным проблемам, или «имеют будущее», но никогда прямо не спросят, на каких основаниях мы должны считать их подлинным изображением некоторых объективных реалий. Как будто мы больше старались определить, чем узнать. Неужели у нас нет Иного, с которым можно было бы считаться? (там же)
Так как Льюис осмеливается быть «христианским рационалистом», мы можем предвидеть, что он нам даст в качестве основания для его веры. Эти основания не рационализация, это основания, найденные им только для того, чтобы убедить людей в том, что сам он принял на совершенно других основаниях. Впоследствии он признался: «Я не религиозный тип. Я хочу, чтобы меня оставили одного, чтобы чувствовать себя хозяином самому себе, но когда оказывается, что факты против, я вынужден уступить» (там же). Он уступает «лягаясь и борясь», «самый сопротивляющийся новообращенный во всей Англии». Рационализм, который он проповедует, — тот самый рационализм, который он практикует.
Апологетика Льюиса сводится к одному центральному аргументу в защиту христианства, одной дороге в Господний город, от которой ответвляются все остальные дороги, одному ключу от парадней двери, который отпирает весь многоквартирный дом. Центральное утверждение христианства: Христос — Бог.
Это утверждение настолько потрясающее, — парадокс и даже ужас, с которым нас можно легко убедить воспринимать все слишком легкомысленно, — что возможны только два взгляда на этого человека. Или он был сумасшедшим лунатиком особенно отвратительного типа, или Он был и есть точно тем, что Он сказал. Середины здесь нет. Если летописи делают первое предположение неприемлемым, вы должны подчиниться второму. И если вы это сделаете, все остальное, утверждаемое христианами, становится заслуживающим доверия. («Проблема страдания»)
Часть положений имеет тенденцию ускользать от нас незамеченной, потому что мы слышали их так часто, что больше не понимаем, о чем они. Я имею в виду требование простить грехи — любые грехи. Если только рассказчик не Бог, это действительно так же нелепо, как и смешно. Мы все можем понять, когда человек прощает оскорбления, нанесенные ему самому. Вы наступаете мне на ногу и я вас прощаю, вы крадете мои деньги, и я вас прощаю. Но что прикажете делать с человеком, которому самому не наступили на ногу и которого не обокрали, заявившим, что он вас простил за то, что вы наступили на ногу другим и украли деньги у других? Ослиная глупость — это самое доброе определение, которое мы можем дать его образу действий. Однако именно то, что сделал Иисус… В устах другого говорящего, не Иисуса, эти слова означали бы то, что я могу рассматривать единственно как глупость и самомнение, непревзойденное более ни одним из героев Истории. Однако (странная, важная вещь) даже на его врагов, читающих Писание, оно обычно не производит впечатление глупости или самомнения. Тем более на непредубежденных читателей.
Сейчас я пытаюсь предотвратить настоящую глупость, которую может кто-нибудь сказать и которую люди обычно говорят о Нем: «Я готов принять Иисуса как великого морального учителя, но я не принимаю его претензию быть Богом». Это единственное, что мы не должны говорить. Человек, который был бы просто обыкновенным человеком и сказал бы то, что сказал Иисус, не был бы великим моральным учителем. Он был бы или сумасшедшим одного уровня с человеком, заявившим, что он яйцо-пашот — или он был бы Дьяволом из ада. («Просто христианство»)
От этого вида православной христианской апологетики всеохватывающие критические выпады отделываются обычно в наши дни словом «консервативный». Определение, конечно, чересчур просто. «Пугало для недалеких умов» — не логичность, но сверхупрощенная категоризация, и, менее всего заставляющие задумываться категории политически сознательного и политически меняющегося поколения — «либеральный» и «консервативный» (часто только замена многосложными словами определений «новый» и «старый»). Льюис выше подобных категорий, как и наиболее выдающиеся христиане его или любого другого поколения. Поскольку Льюис — ни христианский консерватор, ни христианский радикал, но радикальный христианин. Его «Просто христианство» радикально на тех же самых основаниях, на каких оно и ортодоксально: оно скорее обращается к своим корням (источникам), чем дает жизнь новым ветвям. Если «консервативный» означает «надежный» или «скучный», льюисовское «просто христианство» не консервативно, но дерзко, то, что Честертон назвал «романтикой ортодоксальности». Термин «консервативный», собственно, принадлежит политике, и его используют в других сферах по аналогии (аналогия, обычно вынесенная далеко за пределы его значения). Можно ли Льюиса назвать «консерватором» в собственном смысле этого слова?
Он — не знаток политики и знает это, таким образом, данный вопрос не имеет большого значения, разве что в отношении к его апологетике. Ответ должен быть отрицательным. Его наиболее методичное заявление относительно отношений между христианством и современной «раз-два» («левой-правой») политикой следует ниже:
Христианство не имеет и не претендует на то, чтобы иметь, детальную политическую программу… точно так же, Новый Завет, не вдаваясь в детали, дает нам достаточно ясный намек на то, каким следует быть обществу, полностью христианскому. Возможно, он дает нам больше, чем мы можем взять… Если бы такое общество существовало в действительности, и вы или я его посетили, я думаю, мы ушли бы со странным впечатлением. Мы бы почувствовали, что его экономическая жизнь — очень социалистическая и, в этом смысле, «передовая», но семейная жизнь и кодекс поведения — скорее старомодны, возможно, даже церемонны и аристократичны. Каждому из нас понравилась бы какая-то часть, но, боюсь, очень немногим понравилось бы все. Это именно то, что каждый ожидал бы, если бы христианство было общим проектом для механизма человечества. Мы отделились от общего проекта разными путями, и каждый из нас хочет доказать, что его собственная модификация первоначального проекта — сам по себе проект. Вы обнаружите это снова и снова во всем, что касается подлинного христианства, каждый, кого привлекли его кусочки, захочет их выбрать и оставить остальные… Ясное знание этих трюизмов было бы фатальным и для политических «Левых» и для политических «Правых» современности. [курсив мой]. (там же)
Льюиса называли консервативным или реакционным так же из-за его отношения к науке (особенно те, кто пишет слово «Наука» с заглавной буквы). Клайд Килби заметил: «некоторые убеждены, что Льюис подсознательно боится науки, потому что она ведет к разрушению того, что они называют его теологическим догматизмом» («Христианское слово Льюиса»). Это обвинение так же голословно an ad hominem, как и ответ, что критик подсознательно боится религии по причине своего научного догматизма! Обвинение в «антинаучности» сделано главным образом на основе двух его книг «Бравый новый мир» — похожей на повесть, «Мерзейшая мощь» и «Человек отменяется», которые разделяют эту точку зрения систематически. Я предлагаю читателю возможность самому оценить справедливость этого обвинения, просто цитируя три ключевых абзаца из «Человек отменяется», на которых оно основывается:
Есть что-то, что объединяет волшебство и прикладную математику и, в то же время, отделяет и то и другое от мудрости ранних веков. Для мудреца старого времени кардинальной проблемой был вопрос: как сделать душу соответствующей действительности, и решением было знание, самодисциплина и добродетель. Для волшебства и прикладной математики точно так же проблема заключается в том, как подчинить реальность желаниям людей, и ее решение — в технике.
То, что мы называем властью человека над природой, оказывается властью, развиваемой одними людьми над другими с помощью природы, используемой в качестве своего инструмента. Приближается заключительная стадия, на которой человек с помощью евгеники, предродового сохранения, образования и пропаганды, основанной на совершенной прикладной психологии, добьется полного контроля над собой. Человеческая природа будет последней частью природы, которая сдастся человеку… но они (усовершенствованные люди) — вообще не люди, они — искусственные создания. Последнее завоевание человечества окажется уничтожением человека.
Могу сказать, ничто не помешает некоторым людям описать эту лекцию как нападки на науку. Конечно, я отвергаю это обвинение. Но я могу пойти дальше. Я даже верю, что спасение может прийти от самой науки… Можете вы представить себе новую физику, непрерывно сознающую, что «естественный объект», созданный анализом и абстракцией — не реальность, а только вид, и всегда корректирующую абстракции? Возрожденная наука, которую я имею в виду, не будет делать даже с минералами и овощами то, что современная наука угрожает сделать с самим человеком. Когда она объяснилась, она не будет оправдываться… Ее последователи не будут щедры на слова «только» и «просто».
«Просто христианство» Льюиса определенно не «консервативно», но радикально в своем взгляде на человека, его достоинство и его судьбу:
Серьезное дело — жить в обществе вероятных богов и богинь, помнить, что самая скучная и неинтересная личность, с которой ты разговаривал, может однажды стать существом, которое, если бы ты увидел его сейчас, вызвало бы у тебя поклонение, или к тому же ужас и моральное разложение, существом, которое ты сейчас встречаешь (если вообще встречаешь) только в ночных кошмарах. На протяжении всего дня мы, в определенной степени, помогаем друг другу в достижении той или другой из этих целей. Именно в свете тех подавляющих возможностей, с приличесвующим им благоговением и осторожностью, нам следует вести все наши дела друг с другом, все дружеские отношения, все любовные связи, все игры, всю политику. Нет ординарных людей. Вы никогда не говорите с простым смертным человеком. Нации, культуры, искусства, цивилизации — смертны, и их жизнь по отношению к нашей — что жизнь комара. Но бессмертны те, над кем мы подшучиваем, с кем работаем, на ком женимся, кого унижаем и эксплуатируем — бессмертны ужасы или постоянное великолепие. («Бремя славы»)
Но, даже более поразительно, чем это, «просто христианство» предлагает нам надежду на бессмертие души, но и воскресение тела, не просто Новые Небеса, но так же и Новую Землю:
В этой точке дрожь и благоговейный трепет нисходят на нас, когда мы читаем летописи. Если эта история — ложь, она, по меньшей мере, намного более странная, чем мы ожидали, и к ней нас не смогли подготовить ни философская «религия», ни психические исследования, ни популярные суеверия. Если эта история истинна, тогда полностью новый тип бытия возник во Вселенной. Тело, живущее по этому новому типу, по-иному соотносится с пространством и, возможно, со временем, но никоим образом не отрезано от всех связей с ними. Картина не та, что мы ожидали увидеть. Это не картина бегства от любого и каждого вида природы в какую-то необусловленную и выходящую за всякие пределы жизнь. Это изображение новой человеческой природы, и новой Природы вообще, приведенной в существование. Старое поле пространства, времени, дела и чувств должно быть выполото, вскопано и засеяно для нового урожая. Нас это старое поле может утомить, Бога — нет. Полезно помнить, что даже сейчас чувства, отвечающие на различные вибрации, допускают нас в совершенно новые миры переживания, что многомерное пространство может отличаться, почти за гранью осознания, от пространства, которое мы сейчас осознаем, но не отрицаться им, что время для нас может не всегда быть линейным и необратимым, как сейчас, что другие части организма природы могли бы когда-нибудь повиноваться нам, как повинуется сейчас наша кора головного мозга. Дух и Природа в нас — в раздоре, это — наша болезнь. Ничего из того, что мы еще можем сделать, не даст нам возможности представить полное ее излечение. Некоторые впечатления и намеки на чувства, имеющиеся у нас — в Святых таинствах, в случае употребления чувственных образов великими поэтами, в лучших образцах сексуальной любви, в нашем ощущении земной красоты. Но полное выздоровление абсолютно за пределами наших сегодняшних представлений. Мистики дошли в своем созерцании Бога до точки, у которой чувства изгоняются, следующей точки, с которой они будут поставлены на место, насколько мне известно, никто не может достигнуть. В нашем настоящем положении странника достаточно возможности (больше, чем хотело бы большинство из нас) для воздержания, самоотречеия и умерщвления наших естественных желаний. Но за аскетизмом должна стоять мысль: «Кто доверит нам подлинную ценность, если нам нельзя доверить даже такую, которое может быть испорчена? Кто доверит мне духовное тело, если я не могу контролировать даже мое земное тело?» Эти маленькие и тленные тела, которые у нас сейчас, были нам даны так же, как пони даются школьникам. Мы должны знать, чтобы справиться: не потому, что мы можем в один прекрасный день вовсе избавиться от лошадей, а потому, что когда-нибудь мы сможем скакать верхом без седла, уверенные и радостные на тех великолепных скакунах, тех окрыленных, сияющих и потрясающих мир конях, которые, возможно, уже сейчас ждут нас с нетерпением, бьют копытом землю и храпят в королевских конюшнях». («Миражи»)
Несмотря на эту радикальную надежду, Льюиса часто называют религиозным консерватором из-за серьезности, с которой он принимает традиционные, но в данный момент непопулярные доктрины такие, как рай и ад и существование дьявола. Некоторые полагают, что она — Льюисовское выражение склонности к фантазии и род извращенного желания (принятие желаемого за действительное), привлекающие его к этим догмам, другие называют ее просто «определенным болезненно-скрытым ликованием при отстаивании старомодной и непопулярной позиции» (эти слова из провокационной книги Алана Ватта «Смотри: Дух») Но она ни то и ни другое, она «объективность. Там, где мы сталкиваемся с трудностями, мы всегда можем рассчитывать на встречу с открытием. Там, где есть маска, мы надеемся на игру» («Отражение в псалмах»). Льюис скорее пытается выяснить, чем истолковать в благоприятную сторону, замалчивая недостатки, те аспекты христианских утверждений, которые кажутся наиболее невероятными, отталкивающими или удивительными, потому что он достаточно непредубежден, чтобы хотеть знать и желать скорее видоизменения, чем просто подтверждения своих предыдущих мнений. Вот одна из причин, почему читатели находят его утомительным. Каждый хвалит непредубежденность и готовность к пересмотру собственного мнения, но когда Льюис пересматривает атеизм на христианство, пантеизм на теизм, «христианство на водичке» на «просто христианство» по достаточно объективным причинам, и его личность тем временем «брыкается и борется», — это называют принятием желаемого за действительное и теологичесикм догматизмом! Непредубежденность часто кажется улицей с односторонним движением.
Наиболее непопулярная доктрина в христианстве — определенно, ад. Хотя Льюис, как и все здравомыслящие люди считает, что ад «отвратителен» и «нестерпим», и признается: «Я бы заплатил любую цену, чтобы иметь право сказать честно: «Все будут спасены», — он находит необходимым добавить:
«Но мой разум возражает мне: без их желания или с ним? Если я говорю: «Без их желания», — я сразу ощущаю противоречие: как может высший добровольный акт самоотречения быть недобровольным? Если счастье существа заключается в самоотречении, никто не может осуществить этот самоотказ, кроме него самого (хотя многое может помочь ему сделать это), и он может отказаться… Если я говорю: «С их желанием», — мой разум отвечает: «Как, если они не будут уступать?» («Страдание»)
Есть, однако, смягчающие моменты, которые делают доктрину почти терпимой. Хотя христианство настаивает на существовании ада, мы вольны истолковывать его природу как нечто совершенно отличное от огня или серы:
Мы, следовательно, свободны — так как эти две концепции, в ходе развития, подразумевают одно и то же — думать о вечных муках не как о приговоре, навязанном человеку, но как о простом факте человеческого бытия, каким он и является.
Помните, в притче, спасенные идут в место, приготовленное для них, тогда как осужденные идут в место, никогда вообще не предназначавшиеся для человека. Войти в рай — значит стать более человечным, чем Вам когда-либо удавалось в земном существовании, войти в ад — значит быть изгнанным из человечества. То, что было брошено (или бросилось само) в ад — не является человеком: это «останки».
Характерная черта потерянных душ — их отказ от всего, что не является просто ими самими. Наш мнимый эгоцентрист пытается превратить все, что он встречает, в часть или придаток самого себя. Склонность к другому, которая и является той самой способностью наслаждаться добром, охладевает в них, за исключением некоторого рудиментарного контакта с внешним миром, в который тело все еще втягивается. Смерть уничтожает этот последний контакт. У него есть желание — жить целиком в самом себе и использовать наилучшим образом то, что он там находит. А находит он там — ад. (Там же).
Вот где объективность с лихвой! Прямая противоположность Сартровскому «ад — это другие люди» — так же «нет выхода», «нет другого». Возможно, такой ад, хотя и нестерпим, но понятен, но как быть с дьяволом? С тех пор, как, кажется, каждый прочитал «Письма Баламута», непременно задается вопрос:
Вы действительно хотите в такое время заново представить нашего старого друга дьявола — рога и копыта и все остальное? — Ну, я не знаю, в какое время надо с ним иметь дело. И я не разбираюсь в рогах и копытах. («Просто христианство»)
Доктрина о существовании сатаны и его падении не относится к вещам, которые — мы знаем — не являются истинными, она противостоит не фактам, открытым учеными, но простому смутному духу общественного мнения, в котором мы, случается, живем. Сейчас я придерживаюсь очень невысокого мнения об общественном мнении. Каждый, в своей собсственной сфере, знает, что все открытия были сделаны и все ошибки исправлены теми, кто игнорирует общественное мнение. Вы можете сказать, что жизненная сила искажена, — если Вас это оскорбляет меньше, — там, где я говорю, что живые творения были испорчены злым ангельским существом. Мы имеем в виду одно и то же, но я нахожу более легким верить в миф о богах и демонах, чем в одно из гипотетических абстрактных существительных. («Страдание»).
Ужасные антитезы Рая и Ада, Бога и Сатаны, являются, тем не менее, не просто «разменной монетой» льюисовского мира мифа и воображения, или даже его мира апологетики, для него они — «волнующие и действующие реалии». Парадоксально, что именно непривлекательные сейчас догмы простого христианства делают его мир если не привлекательным, то, по меньшей мере, притягивающим с непреодолимой силой, как обнаруживает Джейн в «Мерзейшей мощи»:
Зрелище Вселенной, которое открылось перед Джейн в последние несколько минут, было необычайно неистовым. Оно было ярким, дерзким и неотразимым. Образность глаз и колес из Ветхого Завета в первый раз в ее жизни получила какую-то возможность осмысления. Если бы ей когда-нибудь и случилось задаться вопросом, могло ли это все быть реальностью, после того, чему ее учили в школе, называя это «религией», она бы отложила эту мысль в сторону. Расстояние между этими волнующими и действующими реалиями и памятью, скажем, о толстой миссис Димбл, говорящей свои молитвы, было слишком велико. Для нее эти вещи принадлежали к разным мирам. С одной стороны — кошмары в снах, восторг послушания, щекочущий свет и звук из-под директорской двери и великая борьба с нависшей опасностью, с другой стороны — запах церковной скамьи, ужасные литографии Спасителя (почти семи футов высотой, с лицом чахоточной девушки), смущение от конфирмационных занятий, суетливая любезность священников.
Рай и Ад — не эскапизм: они делают землю не менее, а более важной для Льюиса. Жизнь приобретает новую глубину, и ее приговор вызывает ужас:
Мы живем не в том мире, где все дороги — радиусы круга, и где все они, если следовать по ним достаточно долго, постепенно стягиваются все ближе и ближе и, в конце концов, встречаются в центре; а, скорее, в мире, где каждая дорога каждые несколько миль разветвляется на две, и каждая из этих двух еще на две, и каждый раз на развилке вы должны принять решение. («Расторжение брака»)
Как есть один Лик над всеми мирами, даже просто видеть который — радость, которую ничем нельзя смазать, так на дне всех миров замерло в ожидании другое лицо, и одно лицезрение его — страдание, от которого никто, видевший его, не может оправиться. И хотя, кажется, есть — и в самом деле были — тысячи дорог, по которым люди могли бы обойти весь мир, но нет ни одной, которая бы не приводила раньше или позже к блаженному или ужасному зрелищу. Мы ходим каждый день по лезвию бритвы между этими двумя невероятными возможностями. («Переландра»)
Сильное содержание — и, скорее, пугающее, чем утешающее:
Я совершенно согласен, что Христианская религия со временем становится невыразимым утешением.. Но она не становится им с самого начала, в начале — уныние, описанное мною, и вообще бессмысленно пытаться прийти к утешению без того, чтобы сначала не пройти через уныние. В религии, как и в войне и во всем остальном, утешение — единственное, что вы не можете получить, если ищете. Если вы ищете истину, вы можете найти утешение в конце — но если вы ищете утешение, вы не найдете ни утешения, ни истины — в начале только лесть и принятие желаемого за действительное, а в конце — отчаяние. («Просто христианство»)
На Льюиса был наклеен ярлык «консерватора» так же из-за его «морализма». Он моральный абсолютист, и многое из его антисовременной полемики направлено потив морального релятивизма: например, аргумент reductio ad absurdum в «Чуде», который приводит к выводу: «Если натурализм истинен, выражение «я должен» значит то же самое, что и «я страстно хочу»; и его аргумент, исходящий из внутреннего противоречия, против «моральных реформаторов, которые, сказав, что «добро» означает: «то, что обусловлено нравиться нам», продолжают весело рассуждать: может это и к лучшему, что что-то еще будет обусловлено нравиться нам. Что, ради всего святого, они имели в виду, говоря «лучше»? («Письма») Однако его абсолютизм охватывает также и факты культурного релятивизма:
Национальный взгяд на мораль — это столько же составная часть Вечной Нравственной Мудрости, сколько и Истории, Экономики и т.д. во всем. Таким же образом в голосе диктора — столько же точно от человеческого голоса, сколько от приемника… Он обусловлен аппаратом, но не производится им. А если бы производился, если бы знали, что в микрофоне нет человеческого существа, нам не было бы нужды уделять внимание новостям. («Просто христианство»)
Более того, нравственность для Льюиса не является целью сама по себе, в этом смысле он не моральный абсолютист:
Хотя сначала кажется, что в христианстве все связано с моралью, все вращается вокруг правил и обязанностей и вины и добродетели, но оно ведет вас дальше, уводит за пределы всего этого. Христианство напоминает страну, где о подобных вещах не говорят иначе как только в шутку. Каждый здесь наполнен тем, что мы бы назвали добротой, как зеркало заполнено светом. Но они не называют это добротой. Они вообще никак это не называют. Они и не думают об этом. Они слишком заняты тем, что смотрят на источник, из которого оно исходит. Но это совсем недалеко от того места, где дороги пересекают границу нашего мира. Ничьи глаза не могут видеть далеко за пределами его: глаза огромного количества людей могут видеть дальше, чем мои.
[Однако] Бог, может быть, больше, чем моральная доброта, по крайней мере, Он — не меньше. Дорога к земле обетованной проходит мимо Синая. Нравственный закон, может, для того и существует, чтобы быть нарушенным, но никакого нарушения нет, если человек вначале не признал власти его требований над собой, а затем пытался изо всех сил соответствовать им, справедливо и честно глядя в лицо факту своей неудачи. (там же)
Последний и, на мой взгляд, совершенно бесполезный заряд, выпущенный в Льюиса как в консервативного апологета «просто христианства», — это то, что он настолько рационален, что не замечает человеческие страсти, так объективен, что не замечает человеческую субъективность, короче говоря, что ему недостает экзистенциальной многомерности. Это впечатление читатели получают только из его систематических работ, но его автобиография, более того, его «Письма к Малькольму» и его собранные посмертно «Письма» и более всего «Grief observed» показывают, что Льюис мог не только понимать опыт через теологию, но мог также понимать теологию через опыт. Сколько христиан может похвастаться превосходством в обоих случаях?
Перед своей женитьбой и мучительной болезнью его жены, закончившейся смертью, отраженной в «Grief observed», он смог написать о смерти своего ближайшего друга:
Ни одно событие так не подкрепляло мою веру в загробный мир, как сделал [Чарльз] Вильямс одним фактом своей смерти. Когда представление о смерти и представление о Вильямсе встретились в моем уме, мое представление о смерти изменилось. («Письма»)
Но в «Grief observed» он замечает, что
Трудно быть терпеливыми с людьми, которые говорят: «Смерти нет» или «Смерть не имеет никакого значения». Смерть есть. И все имеет значение. И что бы ни случилось, все имеет последствия, и оно и они окончательны и необратимы. Вы можете сказать также, что рождение не имеет значения. Я поднимаю глаза к ночному небу. Есть ли что-нибудь более определенное во всех этих огромных пространствах и временах, чем то, что, даже если бы мне было позволено искать ее лицо, ее голос, ее прикосновение, я бы нигде не нашел их? Она умерла. Она мертва. Трудно узнать это слово? Сказать «N. Мертв» значит сказать: «Все прошло». Это часть прошлого. А прошлое — это прошлое и то, что означает время, а время само по себе — еще одно имя смерти.
Он переживает не только смерть, но и сомнения:
Раньше или позже я должен поставить перед собой вопрос, выраженный простыми словами: какие у нас основания, за исключением наших собственных безрассудных желаний, верить, что Бог, по стандартам, которые мы можем понять, — «добро»? Не предполагают ли все свидетельства от первого лица прямо противоположное?
Господи, это твои настоящие условия? Неужели я смогу увидеть N снова только если я научусь так сильно любить тебя, что меня не будет больше заботить, увижу я ее или нет? Рассуди, Господи, каково это для нас. Что бы обо мне подумали, если бы я сказал мальчишкам: «Никаких ирисок сейчас, но когда вы вырастете и вам уже не захочется никаких ирисок, вы получите сколько вашей душе будет угодно»?
Но он спрашивает не только Бога, но и самого себя, и его объективность в конечном итоге побеждает:
Этот случай слишком очевиден. Если мой дом обрушился от одного толчка, значит, это был карточный домик. Вера, которая «принимает в расчет эти вещи», — не вера, а воображение… играющее с безобидными фишками, названными: Болезнь, Боль, Смерть и Одиночество… Вы никогда не узнаете, насколько сильно вы во что-то верите, пока его истинность или ложность не станет делом жизни или смерти для Вас… Я думал, что доверял веревке, пока вопрос, сможет ли она удержать меня, не стал жизненно важным для меня. Сейчас он стал таковым, и я обнаружил, что не доверяю ей.
Но здесь два вопроса. В каком смысле она [моя вера] может быть карточным домиком? Потому ли, что вещи, в которые я верю, — только видения, или потому, что мне только кажется, что я им верю?
Не являются ли все эти замечания бессмысленными болезненными муками человека, который не может смириться с фактом, что он ничего не может сделать со страданием, кроме как перестрадать его? И сейчас я пришел к мысли, что передо мною вообще не стоит никакой практической проблемы. Я знаю две великие заповеди, и мне бы лучше ладить с ними… А то, что осталось, — это проблема, связанная не с тем, что я мог бы сделать. Она целиком о влиянии чувств, побудительных мотивов и других подобных вещах. Эту проблему перед собой я ставлю сам. Я вообще не верю, что ее передо мною ставит Бог.
Льюис выходит не со скептицизмом, не с утешением, но с «объективностью», с которой он начал, сделав существенно важной благодаря переживанию, но переживанию победоносно выступающему за свои пределы:
Мое представление о Боге — не божественное. Его надо время от времени разбивать в дребезги. Он разбивает его Сам. Он — величайший иконоборец. Могли бы мы не говорить, что это разрушение представления о Боге — один из знаков Его присутствия? Воплощение — высший пример. Он оставляет все предыдущие представления о Мессии лежащими в руинах. Большинство оскорблено иконоборчеством, и блаженны те, кто не оскорблен… Вся действительность — иконоборческая. Земная возлюбленная, даже в этой жизни, непрерывно разрывает границы вашего представления о ней. И вы хотите, чтобы так было, вы хотите ее со всем ее сопротивлением, со всеми ее недостатками, всеми ее неожиданностями. Вот она реальность в ее устойчивости и независимости… Не мое представление о Боге, а Бог. Не мое представление о N, а N. И, также, не мое представление о моем соседе, а мой сосед.
Здесь Льюис не нов: переживание в «Grief obsrved» не противопоставляется теологии «Чуда»:
Люди сопротивляются переходу от понятия абстрактного и негативного божества к живущему богу. И я не удивлен. Отсюда берут начало глубочайшие корни Пантеизма и протеста против традиционной образности. Ее ненавидели, в сущности, не за то, что она изображала Его как человека, но за то, что она изображала Его как короля или даже как воина. Пантеистический Бог ничего не делает и ничего не требует. Он здесь, если хотите, словно книга на полке. Он не будет преследовать Вас и не будет никакой опасности, если когда-нибудь небеса и земля скроются от его взгяда. Если бы он был истинным, тогда мы могли бы действительно сказать, что все христианские образы царствований были историческими случайностями, от которых наша религия должна быть очищена. Для нас большое потрясение, когда мы обнаруживаем, что они необходимы. Вы были потрясены точно так же и прежде в связи с менее важными предметами: когда шнурок подергивался в вашей руке, когда что-то дышало у вас за спиной в темноте. Так и здесь: потрясение приходит точно тогда, когда трепет жизни передается нам по путеводной нити, за которой мы следуем. Всегда шокирующе встретить жизнь там, где, как мы думали, мы были одни. «Смотри!» — мы кричим. — «Оно живое!» И поэтому именно в этом месте так много помех для вашего продвижения вперед — я бы сделал так сам, если бы мог — и не продвинулся бы сам с христианством. «Безличный Бог»? — прекрасно. Субъективный Бог красоты, истины и добра, в нашей собственной голове — еще лучше. Бесформенная жизненная сила, пронизывающая нас, огромная мощь, которую мы можем выпустить — лучше всего. Но сам Бог, живой, тянущий за другой конец веревки, возможно, приближающийся с бесконечной скоростью, охотник, король, муж — это совершенно другое дело. Вот тогда приходит момент, когда дети, игравшие в грабителей, внезапно утихомириваются: был ли это настоящий шаг в ад? Вот тогда приходит момент, когда люди, барахтавшиеся в религии (люди в поисках Бога!) внезапно отступают. Полагаете, мы действительно нашли Его? Мы никогда не хотели сказать, что она придет к такому! Или — еще хуже — полагаете, Он нашел нас?
Другие миры: беллетристика Льюиса
Тот факт, что многих удивляет, когда христианские апологеты пишут насыщенную богатыми поэтическими образами беллетристику, изумлял Льюиса. "Я не думаю, что сходство между христианским и просто воображаемым переживанием случайно. Я считаю: все (в своей области) отражает небесную истину, и мысленный образ — не в самой малой степени". Однако, можно подумать: сходство между фантазией и христианством заключается в том, что оба они являются формами эскапизма (т.е. бегства от жизни); и поэтому Льюис предлагает критическую реабилитацию как первой, так и последнего.
1) Фантазия — это эскапизм только в том смысле, в каком вся беллетристика — бегство от реальных фактов. Нападать на фантазию — значит нападать на беллетристику; защищать беллетристику — защищать фантазию. Оправдание Льюиса заключается в том, что мы ищем расширения нашего бытия. Мы хотим быть чем-то большим, чем только самими собой. Каждый из нас от природы видит весь мир с одной точки зрения… молча соглашаясь уступить этой особенности на чувственном уровне, — другими словами, не учитывать перспективу — было бы безумием… Но мы хотим избежать иллюзий перспективы также и на более высоком уровне… Человек, который довольствуется быть только самим собой и, следовательно, менее личностью, заключен в тюрьму. («Эксперимент в критике»)
Фантазия далека от отупления и опустошения реального мира, она углубляет его: «Человек ведь не презирает настоящий лес, а все настоящие леса немного заколдованы». («На перекрестке трех путей писания для детей»)
2) Фантазия реалистична в своей собственной манере: «В природе есть нечто, заставляющее нас выдумывать гигантов, то, для чего подходят только они». Говорящие звери — всего лишь маски для Человека, карикатуры, пародии, созданные природой, чтобы разоблачить нас». Именно так называемый реализм, а не фантазия, лелеет принятие желаемого за действительное, бегство от жизни и обман: «Я никогда не рассчитывал на то, что реальный мир будет подобен волшебным рассказам. Вспоминаю, что я ожидал, будто школа будет похожа на школьные истории». (там же)
3) Фантазия — традиционно человеческая форма, поскольку
до недавнего времени почти все истории были [нереалистичными]… Так же, как все люди (за исключением скучных), беседуя, рассказывают не об обыденном, но о том, что выходит за пределы нормы, а Вы упоминаете о том, что видели жирафа в Petty Cury, но не вспоминаете об увиденной там же студентке-выпускнице, так и авторы повествуют об исключительном. ("Эксперимент в критике")
Поэтому я «становлюсь, не раскаиваясь, на сторону человеческого рода против современных реформаторов. Пусть будут злые короли и казни через обезглавливание, сражения и подземные тюрьмы, великаны и драконы, и пусть злодеи будут, как и должно, убиты в конце книги». («На перекрестке трех путей писания для детей»)
4) Фантазия от природы предназначена не только для детей:
Связь волшебных рассказов и фэнтэзи с детством носит частный и случайный характер. Надеюсь, каждый читал эссе Толкиена, посвященное волшебным рассказам, которое является, возможно, важнейшим вкладом в данный предмет из всех уже кем-либо сделанных. Если действительно читали, то вы уже знаете, что в значительном большинстве случаев, независимо от времени и места, волшебный рассказ не создавался специально для детей и для их удовольствия. Он устремился к детской, когда вышел из моды в литературных кругах, точно так же, как перекочевала в детскую вышедшая из моды мебель в викторианских домах.
Критики, трактующие слово «взрослый» как выражение одобрения, а не как чисто описательный термин, не могут сами быть взрослыми. Беспокоиться о процессе взросления, восхищаться взрослым за то, что он взрослый, краснеть от подозрения в ребячливости, — подобные черты поведения — приметы детства и отрочества.
Современный взгляд, мне кажется, предполагает ложную концепцию роста. Нас обвиняют в замедленном развитии, потому что мы не утратили вкусы, имевшиеся у нас в детстве. Но, разумеется, задержки развития заключаются не в отказе от забвения старого, а в неспособности добавить новое. Дерево растет, потому что оно прибавляет новые кольца; но поезд не будет расти от того, что он оставил за собой одну станцию и пыхтит к следующей. Если бы сущностью и свойством роста было оставлять за спиной участки земли и покидать станции, почему же мы останавливаемся на «взрослом»? Почему бы слову «старческий» не быть в равной степени выражением одобрения? (там же)
Тем не менее, беллетристика Льюиса — не просто фантазия; он один из тех немногих писателей, которые осмеливаются придумать миф. «За пределы безмолвной планеты", «Переландра», «Мерзейшая мощь» были изданы как повести, но, в действительности, они являются тремя частями одного мифа», — заметил Чэд Уолш. Что он имел в виду?
Замечу в начале, что для Льюиса «миф» не антонимичен «истине». Есть особый род истины в хорошем мифе, который, хотя и отличается, но, в действительности, правдив не менее, а более, нежели факт: волшебный рассказ может быть правдивее, чем констатация факта. Мы можем понять данный род истины только из опыта чтения или прослушивания великого мифа, подобного тем, которые создали Льюис или Толкиен: когда вы закрываете книгу и выглядываете еще раз из окна своей квартиры, в подавляющем большинстве случаев вам становится очевидно, что вы не только не вернулись от вымысла к реальности, но, наоборот, обратились от более реального мира — к менее реальному. «Уничтожение безверия по доброй воле» требуется для мира не внутри мифа, а вне его. Как бы мы смогли объяснить эту силу, подталкивающую интеллектуальную волю к вере, если бы миф не обладал определенным родом истины? Толкиен объясняет ее таким образом: «Если он [литературный творец] действительно добивается качества, которое справедливо может быть описано следующей словарной дефиницией: «внутренняя логичность реальности», то трудно представить себе, как это может быть, если произведение не содержит в определенной степени примесь этой реальности». («О волшебных историях»)
Льюисовское объяснение в «Переландре» само по себе мифично. Рэнсом открывает, что миф для одного мира — реальность для другого, что на Переландре до падения не было различия между мифом и фактом, и что
Существует некая аура, окружающая разумы так же, как и космос. Вселенная едина: это паутина, где вдоль каждой паутинки обитает разум, огромная перешептывающаяся галерея, в которой (благодаря непосредственному воздействию Малельдила), хотя и ни одно известие не проходит без изменений, но и ни один секрет не может быть строго сохранен. В разуме падшего Архона, под властью которого стонет наша планета, память о Глубоких Небесах и Богах, с которыми он однажды общался, все еще жива. Более того, в самой материи нашего мира следы божественного содружества не совсем утрачены. Воспоминания проходят сквозь кромешную тьму и растворяются в воздухе. Музы на самом деле существуют. Слабейшее дуновение, как говорит Вергилий, доходит даже до отдаленных поколений. Наша мифология основывается на более чистой реальности, чем мы себе это представляем, но также и удалена от нее практически бесконечно.
Но как хороший миф может быть более реальным, чем «реальный мир»? Ключом к пониманию является платоническое определение Льюисом символизма в «Аллегории любви»:
В самой природе мысли и языка заключается способность представлять нематериальное в выражениях, рисующих визуальные образы. Хорошее или счастливое всегда было высоким, как небеса, и сияющим, как солнце. Зло и страдание были глубоки и темны с самого начала… Было бы величайшей глупостью спрашивать, как эта почти супружеская пара разумного и неразумного сперва шла вместе. Вопрос по существу заключается в том, как они могли когда-либо идти порознь. Эта фундаментальная равнозначность нематериального и материального может использоваться разумом в двух направлениях: с одной стороны, вы можете оттолкнуться от нематериального факта, такого, как страсти, действительно вами испытываемые, а затем создать зрительный образ для их выражения… Это аллегория… Но есть и другой путь для использования данной равнозначности, который почти противоположен аллегории, и который я бы назвал сакраментализмом или символизмом. Если наши страсти, будучи нематериальными, могут быть отображены в материальном образе, тогда вполне возможно, что наш материальный мир с его отличительными свойствами — отображение невидимого мира… Попытки прочитать что-либо еще сквозь его воспринимаемые чувствами имитации, увидеть архетип в копии — вот что я подразумеваю под символизмом или сакраментализмом… Аллегорист отходит от того, что ему дано — его собственных страстей, — чтобы рассказать о том, что нереально по общему представлению, — о вымысле. Символист отталкивается от данного ему, чтобы найти нечто более реальное. Выражая другими словами это различие: для символиста именно мы и есть аллегория.
Та же книга объясняет «более высокий реализм» Спенсера в таких выражениях:
«Волшебная королева» жизнеподобна в ином смысле: она подобна самой жизни, а не ее продукту. Вещи, о которых мы в ней читаем, не подобны жизни, но, тем не менее, опыт ее чтения уподобляется жизненному процессу… Его поэтика действительно выуживает источники, которые не дают с легкостью перескочить к другой мысли. Он делает воображаемые внутренние реалии такими обширными и простыми, что в большинстве случаев мы их обычно не замечаем — так же, как напечатанные крупным шрифтом названия материков ускользают от нас на карте, — слишком большие, чтобы привлечь наше внимание, слишком очевидные, чтобы быть замеченными.
У Льюиса три собственных находки в области мифа: его понимание природы мифа как такового на страницах литературной критики (таких, как вышеприведенные); его симпатия к средневековому космологическому мифу в «Отвергнутом образе»; и его творческое использование средневекового мифа в качестве основы для своего собственного мифического вымысла. И сейчас мы рассмотрим эту последнюю область.
Льюис в наибольшей степени известен благодаря своей откровенно религиозной беллетристике. Но «Письма баламута», «Расторжение брака», «Возвращение пилигрима» — все скорее аллегоричны, чем мифичны, и, в действительности, принадлежат более к апологетике, чем к беллетристике. Однако, относительно своей научно-фантастической трилогии, он утверждает: «простое ощущение того, что продолжаются удивительные экстраординарные вещи, было движущей силой после Сотворения… Я никогда не начинал свои произведения с послания или морали: история сама навяжет вам свою мораль». («Нереальные сословия») В отличие от большинства писателей-фантастов, Льюис пишет не просто об иных мирах, но об иных мирах: он мастер присущего исключительно этому жанру качества — способности расширять наше знание. Достаточно одного очень маленького, но типичного примера: вкус фруктов на Переландре:
Он настолько отличался от всех других вкусов, что, казалось, было просто нелепостью называть его вкусом вообще. Это было словно открытие совершенно нового вида наслаждения, что-то неслыханное среди людей, не поддающееся никаким исчислениям, за пределами любых договоренностей. На земле ради одного его глотка были бы развязаны войны и преданы целые нации. Его невозможно было бы хоть каким-нибудь образом классифицировать. Когда он [Рэнсом] вернулся в мир людей, он никогда не мог нам сказать, острым был этот вкус или сладким, соленым или пряным, жирным или горьким. «Ничего подобного», — это все, что он мог сказать в ответ на такие расспросы… Ему показалось, что будет лучше больше не пробовать. Наверное, переживание было настолько полным, что повторение было бы вульгарностью — так же, как и вторая за день просьба послушать ту же симфонию.
Более важным «расширением знания» является его понимание «внешнего космоса» скорее как заполненного, нежели пустого.
Сейчас, с уверенностью, которая никогда затем уже не покидала его, он видел планеты, — «земли», как он мысленно называл их, — просто дырами или щелями в живой ткани небес,.. образованными не усилением, а ослаблением окружающего сияния… если… — он нащупывает мысль… — если видимый свет не является также дырой или щелью, просто редуцированием чего-то иного. Чего-то, относящегося к светлым неизменным небесам так же, как небеса относятся к темным, мрачным землям… Да и как, действительно, могло бы быть иначе с тех пор, как из этого океана вышли миры и все живое в них? [Рэнсом] думал, что океан был бесплоден — но сейчас видел, что из его чрева вышли все миры… Космос — неверное название для него. Прежние мыслители были мудрее, называя его просто небесами. («За пределы молчаливой планеты»)
Хотя эти произведения — повести, а главные герои — люди, наиболее удачный элемент в трилогии — эльдилы. Льюис сделал в отношении ангелов то же, что Толкиен сделал в отношении эльфов. Как он сам отметил, «ничего менее похожего на «ангела» поп-арта трудно было бы себе даже представить». Следующий отрывок, заключающий в себе одновременно и описание, и объяснение, говорит об их природе; он проиллюстрирует также гармоническое сочетание средневековой космологии и современной физики в его новом космическом мифе. Когда Рэнсом спрашивает малакандрианского «сорна», есть ли тела у эльдилов, тот отвечает:
Тело — это движение. Если оно происходит c одной скоростью — вы чувствуете запах, если с другой — вы слышите звук, с третьей — видите изображение, а с четвертой вы не слышите, не обоняете и не замечаете тело никаким иным образом. Но заметь, Малыш, что… крайности сходятся … Если движение быстрее, то движущееся тело оказывается в двух местах сразу, но если бы движение было еще быстрее — это трудно объяснить, поскольку ты не знаешь многих слов, — видишь ли, если ты совершаешь его все быстрее и быстрее, в конце концов движущееся тело будет находиться во всех местах сразу… И далее, то, что является высшей формой тела, движется настолько быстро, что находится уже в состоянии покоя, - это настолько совершенное тело, что оно перестает быть телом вообще. Но мы не будем говорить об этом. Начнем с того, что ближе к нам, Малыш. Самое быстрое из того, что воспринимают наши чувства, — свет. На самом деле мы видим не свет, а освещенные им тела, движущиеся медленнее, чем он. Таким образом, для нас свет — на границе восприятия, это последнее, что мы видим, затем тела становятся слишком быстро движущимися для нас. Но тело эльдила — быстрое, как свет, движение. Можно сказать, что его тело создано из света, но не из того, что является светом для эльдила… Его «свет» — движение еще более быстрое и нами вообще не воспринимаемое. То, что мы называем светом, для него является веществом, напоминающим воду, зримым, которого можно коснуться и в которое он может окунуться, и даже скорее темным, если оно не освещено более быстро движущимся телом. А то, что мы называем твердыми предметами — плоть и земля — для него кажутся более прозрачными и видны хуже, чем наш свет, более похожи на облака, и — почти ничто. Для нас эльдил — тонкое, полуреальное тело, которое может проходить сквозь стены и камни, а с его точки зрения он проходит сквозь них потому, что он твердый и плотный, а они словно облако. То, что для него — истинный свет, заполняющий небеса, чтобы освежиться от которого он погружается в солнечные лучи, для нас — черное ничто в ночном небе. (там же)
«Пока мы лиц не обрели» — это не миф в космическом смысле, хотя в заголовке и указано: «миф, рассказанный [Купидоном и Психеей]». Это «реалистическое» (историческое) повествование о противоборствующих мифах: мифе о греческом боге света, в рассуждении Аполлона, и мифе об Унгите, темном боге крови и таинств Дионисия. Бог света оказывается недостаточно основательным, а Унгит, как нам доказывают, — мудрее. И, хотя нам необходимо избегать того, что Льюис называл «личной ересью» (то есть читать произведение через призму личности писателя, а не наоборот), можно отметить очевидное сходство с собственной дилеммой Льюиса «рационализм-романтизм», его предпочтением романтики и его каталитическим решением через более высокие откровения. Последнее и является предметом исследования данной книги. Некто, говорят, однажды спросил у Бертрама Рассела, что бы он сказал Богу, если бы после своей смерти обнаружил, что Бог действительно существует. Рассел ответил, что спросил бы его, почему он не предоставил нам чуть больше доказательств. На этот замечательный вопрос Льюис дает удивительно логичный ответ: «Я прекрасно понимаю, почему Боги не говорят с нами открыто и не позволяют нам ответить. До тех пор, пока из нас можно вытянуть такие слова, почему они должны слушать этот лепет, который, как мы думаем, что-то значит? Как они могут встретиться с нами лицом к лицу, пока мы лиц не обрели?»
В «Хрониках Нарнии» заключен другой мифический космос, более простой, но, на мой взгляд, даже более удачный, чем в научно-фантастической трилогии. Эти семь книг написаны для детей, и главные герои в них — дети; но, по собственному льюисовскому утверждению, любая повесть для детей, если ее не могут прочитать с пользой и удовольствием взрослые, — является хорошей детской книгой, а продуктом снисходительного отношения взрослого, попыткой «угостить ребенка вещью, рассчитанной на то, чтобы понравиться ему, но написанной с равнодушием или презрением. Ребенок, я уверен, видел бы это насквозь». Льюис относился к детям с уважением, в отличие от многих современных детей:
«О, Сьюзан, — сказала Джилл, — в настоящее время ее ничего не интересует, за исключением нейлона, губной помады и приглашений. У нее всегда был веселый вид и стремление быть взрослой». «Действительно, взрослая, — сказала Леди Полли, — хотела бы я, чтобы она выросла. Она растратила все свои школьные годы, желая дорасти до ее нынешнего возраста, и она потратит всю оставшуюся жизнь в попытках удержаться в этом же возрасте. Все ее мысли заключаются в том, чтобы как можно быстрее ворваться в глупейший период ее жизни, а затем оставаться там как можно дольше». («Последняя битва»)
Кэтлин Нотт назвала книги «Нарнии» «опасными» (еще ни один автор, более, чем она, не симпатизирующий Льюису, не издавался), поскольку они содержат не только слабые нападки на современные недостатки, подобно приведенным выше, но так же, сверх всего, теологическую аллегорию, расстраивающую родителей, которым эта повесть нравится, но и вызывает в них опасение, что дети могут подсознательно подхватить некоторые религизные идеи. (Как обнаружил сам Льюис, «молодой атеист не может быть слишком осторожен в своем чтении»). Даже Толкиен находил их «слишком аллегоричными». Однако их мораль не навязывается. Льюис применяет на практике то, что проповедует: надо позволить «картинам рассказать вам свою собственную мораль, поскольку мораль, присущая им, будет исходить от духовных корней, которые вам удалось извлечь в течение всего хода вашей жизни» («На перекрестке трех путей писания для детей»).
Возможно, именно поэтому книги «Нарнии» пользуются успехом у такого огромного количества читателей, у которых потерпели поражение его формально апологетичекие эссе и даже его откровенно религиозные аллегории. Или, возможно, как говорит Льюис,
причина, по которой страсти Аслана (лев — символ Христа) временами трогают людей больше, чем реальная история в Евангелии, — та, что она уводит людей из-под контроля их тюремщика. При чтении реальной истории роковое знание, что каждый должен чувствовать именно так, а не иначе, мешает этому чувству. (Письма)
Или еще, возможно, простая замена имени «Бог» на «Аслан» или «Малельдил» позволяет нам видеть за затемненной и инкрустированной завесой не только скучной осведомленности и религиозных ассоциаций, но также наиболее удобного из всех идолов, — слово «Бог». Космос Нарнии истинен в том же мифическом смысле, как и в трилогии: он слит воедино как мир в самом себе, целостный, логически последовательный и удивительно непроизводный. В нем самом так много реальности, что даже нет необходимости поднимать вопрос о реальности вне его, о его связях с более поздней реальностью. Несколько названий глав из семи книг, выбранные наугад, передадут часть их атмосферы: «Глубокая магия из глубины веков», «Обаяние Крайнего Запада», «Слово, заслуживающее сожаления», которая, будучи высказана, разрушила бы весь мир рассказчика, оставшись только сама по себе. Льюис осмеливается описать без претенциозности «уставшую звезду», «льющийся свет, который можно пить» и ту стену в конце мира, где небо опустится на землю. «Последняя битва», последняя и величайшая из семи книг, просто взрывает свои границы; никогда, я уверен, не существовало детской истории, подобной этой. Подобно ее Артурианскому предшественнику (ее заголовок взят из знаменитой последней главы Мэлори), ее тема — архетипический Конец Света, Конец Старого Порядка. Время великанов приходит, небеса падают, и Аслан зовет домой звезды в обратном ходе процесса Сотворения (которое Льюис также осмелился описать в «Племяннике чародея»). Сюжет, ведущий к такой развязке, параллелен сюжету «Мерзешей мощи»: люди, узурпировавшие место Бога, «обрушили Глубокие Небеса на свои головы».
Проблема, тем не менее, та же, что и в «Пока мы лиц не обрели» — божественное молчание; и страх такой же, как и в «Замеченном горе» — космический садист, «этот ужасный страх, что Аслан придет — и окажется, что он не похож на Аслана, в которого мы верили и на которого надеялись, как если бы однажды взошло солнце черного цвета, и это было бы концом всего». Но его заключающие небеса глубоки, как яма, из которой он и является спасением: полное отчаяние ведет к полной радости. Эта книга более, чем какие-либо другие, — апофеоз льюисовских работ. Ее темы — главные для него, ее художественные средства — наиболее удачные у него, и ее индивидуальность — это его индивидуальность.
Несмотря на собственное критическое утверждение Льюиса, что оценивающая и, особенно, враждебная критика — эта одна из самых трудных и менее всего вознаграждаемых литературных задач, я бы хотел рискнуть и сделать несколько общих суждений о его беллетристике. Согласно общепринятым нормам, самое слабое место в льюисовской беллетристике — это, определенно, его характеристики. Он делает все возможное менее всего в интимных и личных сценах; он описывает своих злодеев лучше, чем своих героев, проклятие лучше, чем спасение, странных людей лучше, чем обычных, обитателей других планет лучше, чем землян, и даже эльдилов лучше, чем человеческие существа. Он похож на феодального французского крестьянина, который знал лучше географию ада, чем Франции. Следующая проблема — это его рационализм. Стиль, так подходящий к апологетическим эссе, как льюисовский, едва ли мог быть подходящим для беллетритики. Из-за чрезмерной рациональности произведений Льюиса создается впечатление, что его характеры все слишком рациональны. Хуже того, он часто дает причины вместо мотивов, редко пытаясь даже осознать существование подсознательной мотивации, и, кажется, часто использует своих персонажей скоре в качестве носителей философской идеи, часто посредством рациональных, разъяснительных бесед, чем как объекты авторского интереса к ним самим.
Такое основательное обвинение может быть удовлетворено равноценной основательной защитой, и у Льюиса она есть: его повести относятся к совершенно особому виду, отличающемуся от тех, которые обычно пишутся в наши дни:
Было бы очень удобно не называть такие произведения повестью. Можно назвать их, если хотите, очень специфической формой повести. И в том и в другом случае заключение будет одинаковым: их нужно судить по их собственным правилам. Нелепо осуждать их за то, что они редко содержат глубокие и чуткие характеристики. Они и не должны их содержать, а если бы и содержали, то это было бы их неудачей. Каждый хороший писатель знает: чем более необычны место действия и события его истории, тем незначительнее, более заурядными и типичными должны быть его персонажи. Поэтому Гулливер — это банальнейший маленький человек, а Алиса — заурядная маленькая девочка. Если бы они были более заметными, они бы разрушили свои книги. Древний Моряк сам по себе очень обычный человек. Рассказывать, как чудные вещи находят необычных людей, намного более необычно: тот, кто должен видеть странные картины, сам не должен быть странным. («О научной фантастике»)
Льюис писал не «реализм», но эпически — «высокий реализм». Стелла Гиббонс сказала:
Я бы хотела, чтобы Льюис писал «правильные» повести в современном оформлении, но, возможно, его ум, впитывавший со времен его детства саги и мифы, не мог бы удовлетвориться современными людьми и их маленькими драмами. Его, кажется, постоянно посещали реалии, лежащие по ту сторону видимого мира. («Образная манера письма» в «Из других миров»)
В этом типе спенсеровской, платоновской, архетипической, мифической беллетристики сюжет, как мы его называем, является действительно единственной сетью, посредством которой мы можем уловить еще что-то. Настоящая тема может быть (а, возможно, обычно и является) чем-то, не имеющим последовательности, отличающимся от процесса и более всего похожим на состояние или качество. Существование великанов, других миров, опустошение космоса — примеры, которые мы встречаем на своем пути. Заголовки некоторых рассказов иллюстрируют данный вопрос достаточно хорошо. «Колодец на краю света» — может ли человек написать рассказ к этому заголовку? («О рассказах»)
Поэтому «Переландра» не о Рэнсоме или его приключениях, не о Падении, но о Переландре; а «Мерзейшая мощь» — о той ужасной силе! Льюис выжигает свои архетипы в наших умах, подобно визуальным образам Ингмара Бергмана: какой читатель сможет забыть Эдем с плавающими островами на Переландре или антиутопию (из «Мерзейшей мощи») всепланетной машинной стерилизации всей органической жизни, лунной «свободы от природы»? Льюис осмеливается описать даже Бога словами огромной мощи, наводящей на размышления, как, например, в следующих строках:
— Там, снаружи, должно быть, холодно, — сказал Димбл. Все думали об этом: о жесткой траве, куриных насестах, мрачных местах в глубине лесов, могилах. Потом о том, что солнце умирает, и о земле, скованной и задохнувшейся в безвоздушном холоде, о черном небе, освещенном одними звездами. А потом не будет даже звезд: горячечная смерть вселенной, абсолютная и окончательная чернота небытия, из которой природа не знает возврата. Другая жизнь?.. Но прежняя жизнь ушла, каждый ее час и день ушел. Сможет ли даже Всемогущий вернуть их назад? Куда и отчего уходят годы? Человек никогда не поймет этого. Предчувствие плохого усилилось. Возможно, здесь ничего невозможно понять.
Сатурн, который на небесах носит имя Лурга, остановился в Голубой комнате. Его дух окутывал дом, или даже всю Землю, с холодной давящей силой, которая могла бы спрессовать самую орбиту Теллуса в вафлю. («Мерзейшая мощь»).
Но повесть не может быть вся эпической. И, хотя в многочисленных льюисовских комбинациях романтизма с рационализмом, воображения с философией есть роскошные комбинации, в малом, в таких деталях, как дидактические беседы, читатель часто чувствует, что его наставляют. Льюис полностью никогда так и не разрешил свой основной дуализм рационализма и романтизма: его философия наилучшим образом заключена в его философских работах, а в его сильнейших беллетристических произведениях философия так хорошо скрыта за простой красотой повествования или окружающей обстановки, что извлечь ее невозможно.
В конце концов, давая критические характеристики Льюису, мы не должны забывать его высший успех: немного писателей-беллетристов или апологетов, и намного меньше читателей и того и другого жанра, изобразили так неотразимо притягательно Бога, как это осмелился сделать Льюис. Бога, более далекого от Бога слабосильных семинаристов, нельзя даже представить: царственного, мужественного и великолепного. Как и Аслан, «конечно, он не является надежным, но он хороший».
Последний динозавр: Историческое значение Льюиса
Даже по стандартам беллетристики, религиозные произведения Льюиса — величайшие в его творчестве, ибо величайшими являются их герои и сюжеты. Его достижения в области религии находят удивительную параллель, я считаю, в Керкьегоре, удивительную потому, что Льюис слишком объективен и рационалистичен, чтобы можно было назвать его «экзистенциалистом», но параллель имеет под собой множество оснований.
Первым из них является тот факт, что Льюис, подобно Керкьегору, жил и писал согласно максиме «чистота сердца — когда страстно желаешь только одного»; а этим одним для него, как и для Керкьегора, было «простое христианство». Подобно этому философу, Льюис презирал гегелианскую попытку «превзойти христианство» и релятивизировать его. Парадоксальным результатом было то, что «простое христианство» — на первый взгляд более узкое — оказалось необъятным, как космос. Льюису не было необходимости искать его в более обширных сферах: он знал, что оно само включает в себя другие сферы. Как сказал Честертон в своей притче «Мир шиворот-навыворот», не церковь находится в мире, но мир в церкви.
Прекрасно подвел итог деятельности Льюиса Остин Фаррер:
он подкрепил позитивное изображение силы христианских идей морально, образно и рационально (добро, красота, истина: какие еще есть вечные ценности?) Сила его притягательности заключается в многосторонности его труда. («Христианский апологет» из книги «Освещенный Льюис»)
Кто сможет превзойти Льюиса во всех трех отношениях? Какой христианин может сделать христианство морально более убедительным, образно более волнующим и рационально более убедительным? Наличие множества струн на его скрипке только улучшает звучание каждой в отдельности. Профессиональное проповедничество, к примеру, почти всегда плохое проповедничество. И благодаря непрофессионализму Льюиса, разностороннему его высочайшему мастерству, он — один из немногих религиозных писателей, которых читают и малообразованные слои, и интеллектуалы, поэты и философы, консерваторы и либералы, католики и протестанты, христиане и нехристиане. Хотя многие общаются с более обширной аудиторией, далеко не все имеют дело с аудиторией настолько разнообразной.
Современный человеческий кризис — и с этим, кажется, согласны все — кризис дезинтеграции, отчуждения. Собственное человеческое бытие расколото, оторвано от своих источников и центра, разум отчужден от сердца, естественные науки от гуманитарных, аналитическая философия от экзистенциальной (мореплаватели пересекли пролив и забыли забрать свои корабли), производя на свет все больше и больше людей-компьютеров или психоделоманьяков. Романтичесикй рационализм Льюиса показывает, что два ментальных полушария могут сосуществовать счастливо и плодотворно в одном человеке и одной философии.
Убежден: сам Льюис настаивал бы на том, что его важнейшее и единственное достижение менее всего оригинально: он заново представил «просто христианство» эпохе, которая так рьяно взялась за постройку современного христианства, что, кажется, почувствовала скуку уже при закладке фундамента. В эпоху религиозных коктейлей Льюис принимает свой напиток неразбавленным: он против смеси «христианство на водичке». В эпоху религиозных пионеров и пограничных христиан Льюис — наиболее интеллигентный и одаренный воображением хранитель фасада дома и лучшее опровержение насмешливого утверждения, будто бы христианин двадцатого века может быть или честным, или интеллигентным, или ортодоксальным, или даже сочетать в себе любые два из этих трех качеств, но никогда не объединяет в себе все три.
Льюис определенно не является Аквином двадцатого века. Не будучи ни профессиональным философом, ни профессиональным теологом, он не предлагает ни новой философии, ни новой теологии. Но он более чем добился той скромной цели, которую поставил перед собой. Он «делает свое дело» — то дело, которое обычно делается только второ- и третьесортными писателями (и, что более важно, второ- и третьесортными мыслителями). Это важное дело, поскольку он говорит с интеллигентными слоями, а не со скучными учеными, занятыми поисками оригинальности. Его популярность среди ученых учреждений минимальна в эпоху, требующую прежде всего оригинальность. Он не может сравниться в радикальной оригинальности с движениями типа христианства смерти Господней или марксистского христианства. Интересуются, однако, могли бы эти движения увидеть дневной свет, если бы их авторы «увидели свет», то есть узнали льюисовское «просто христианство», вместо «христианство-и-вода» или «христианство-и-огонь», против которых они выступают.
Подобно Керкьегору, Льюис кажется многим новатором тем, что отличается от эпохи. И так же, как в случае с Керкьегором, льюисовское отличие от своего времени обычно неверно понимается благожелательно настроенными умами эпохи, которые хотят сказать ему единственный известный им комплимент, обычно неверно понимают льюисовское отличие от нее. Он наполовину серьезен, когда говорит: «Все, что я делаю, — это вспоминаю, как могу, что моя мама, бывало, говорила мне на этот счет, восполняю это несколькими моими собственными сходными мыслями и, таким образом, создаю то, что было бы строгой ортодоксией в 1900-х годах, и это кажется им возмутительно авангардной чепухой».
Однако подлинная оригинальность Льюиса не может быть скрыта, даже если он отрицает ее. Важнейший парадокс: человек, который так последовательно отрицает оригинальность, должен быть так же последовательно высоко оценен за нее. Этот факт, взятый вместе с другим, соотносящимся с ним, что христианские писатели, стремящиеся быть оригинальными наиболее отчаянно, добиваются успеха меньше всего, пишут чрезвычайно скучные книги и создают перепевки Канта, Гегеля, Маркса, Фрейда или Тейлора, — выявляет нечто не просто о Льюсе, но так же и об оригинальности. Снова цитируем собственное льюисовское утверждение:
Ни один человек, который беспокоится об оригинальности, никогда не будет оригинальным, тогда как если Вы просто стараетесь говорить правду (не обращая внимания на мелочи, как об этом часто говорилось прежде), в девяти случаях из десяти вы станете оригинальным, даже не заметив этого. Этот принцип проходит насквозь через всю нашу жизнь, от начала до конца. Отбросьте свое «я», и Вы найдете свое подлинную сущность. («Просто христианство»)
Я обнаружил, что большинство читателей, не любящих Льюиса, не любят его с неистовой силой. Они находят его утомительным, анархичным, даже нестерпимым. Когда основания для подобной неприязни анализируются, обычно они сводятся к одной из следующих:
1) «он слишком рационалистичен» (то есть, он выдвигает неудобные требования к тому, на чем, как мы осмеливаемся утверждать, основываются наши мысли;
2) «он слишком романтичен, слишком сентиментален» (то есть, когда его выражение чувства не сентиментально, критик должен предпочитать или сентиментальное выражение, или несентиментальное осознание, или никаких чувств вообще);
3) «он слишком фантастичен» (то есть, слишком богат воображением для меня, всегда знающего границы реальности);
4) «он слишком моралистичен» (то есть, я не могу принять его суровую суть, когда существует такое изобилие привлекательных оправданий);
или 5) «он слишком религиозен». Это последнее можно назвать только конечным несогласием сразу же, как только становится ясно, что Льюис не "религиозен", но "благочестив". Еще раз Керкъегор предлагает параллель со своим представлением об "оскорблении": те, кто следовали за Великим Нарушителем наиболее близко, всегда были ближе всего к его священной непопулярности. Яростное сопротивление, которое Льюис вызвал в критиках, подобных Кэтлин Нотт, точно такое, какое мы ожидали бы, если бы «простое христианство» пришло в постхристианскую Англию.
Более действенной критикой я полагаю то, что Льюис — жертва своей многосторонности. Многосторонний человек несет риск отсутствия единства, тогда как никто не мог бы сказать, что у Льюиса не было принципа единства или что этот христианский центр не связан со многими его сторонами (многие думают: слишком тесно связан, а его работа слишком дидактична), кто-то мог бы сказать, что стороны не связаны друг с другом, что Льюис никогда полностью не разрешил свою юношескую дилемму между рационализмом и романтизмом. Каждая из этих двух сил в нем настолько сильна, что нужен был бы гигант, чтобы сплавить их, а Льюис — эльф, но не гигант. Хотя его рациональная апологетика не испытывает недостатка в воображении, а его полные воображения повести не испытывают недостатка в рационализме, однако эти два элемента не сплавлены полностью во что-то среднее. Даже его огромное воображение полностью не преодолевает абстрактный априоризм его апологетики, и даже его рациональность не преодолевает полностью удаленность от обычной жизни его повестей. Хотя он не испытывает недостатка в человеческой симпатии, его разум испытывает, так что Остин Фаррер должен сказать о «Проблеме страдания»: «Когда мы видим, как хороший человек под воздействием страдания идет к пропасти, мы наблюдаем не нехватку моральной дисциплины, которая должна была бы вступить в силу, мы являемся очевидцами наступления смерти». Важно, что его воображение нуждается в вымышленном выходе: возможно, это указывает на то, что он никогда так полностью и не разрешил свою предхристианскую дилемму («почти все, что я любил, я считал вымышленным; почти все, в реальность чего я верил, я видел жестоким и бессмысленным»)?
Эта критика непосредственно предполагает другое: не означает ли тот факт, что его фантазия вымышленна, нежизнеспособность его образного взгляда на мир в этом реальном мире? Эльдилы неуместны по отношению к забастовкам на метро и справедливым законам об обеспечении жилищем, однако намного более интересны.
Трудно представить себе, что обитатели гарлемских трущоб «родственны» Льюису (хотя для кого это плохо: для Льюиса, или для Гарлема — другой вопрос). Льюис рассказывает нам, как жить в его вымышленных мирах, в средневековом мире, и даже в любом мире («просто христианской» этики), но не тому, как жить в этом мире. Он не предлагает христианской социологии, политики или экономики.
На эту критику можно дать три ответа. Первое и наиболее простое: нельзя ожидать, что один человек будет делать все! Второе, критик безоговорочно предпочитает уместность правде. В-третьих, именно льюисовская неуместность делает его уместным; поскольку, когда «уместность» становится богом, самое уместное — сокрушить идола. В эпохе неуверенности, еще одна звенящая декларация неуверенности, конечно, менее уместна, чем определенность, которую требуют искать ищущие — если только поиски не ради обретения. Открытый ум, подобно открытой двери, необходим, но как способ, а не конец. Как если бы дождавшись прихода ожидаемого гостя, двери оставили открытыми в ожидании его ухода. Открытость истине — это одно; открытость открытости — это совершенно другое. Последнее — это тоже самое, как если бы верить в веру вместо того, чтобы верить в бога, или любить саму любовь, а не человека.
Непопулярность Льюиса в данном случае дает неверное представление о его историческом значении. Принять «простое христианство» — значит покинуть двадцатый век не более, чем принять такое же непопулярное и такое же простое христианство во втором или третьем веках значило отказаться от такой же критической и такой же умирающей эпохи. Одна из причин, по которой современному миру недостает энтузиазма по отношению к христианству, — конечно, та, что сами христиане утратили к нему энтузиазм («лучший аргумент против христианства — сами христиане»). Когда коллективный комплекс неполноценности толкает христиан на состязание, обращаясь к нехристианам: «Посмотри, я такой же, как ты, моя философия жизни на самом деле не отличается от твоей, разве это не удивительно?» — нехристиане совершенно естественно отвечают: «Нет, и, честно говоря, ты мне надоел». Никто не покупает вещь за то, что она похожа на все остальные вещи, а покупают за ее непохожесть на другие.
И я настаиваю на том, что навесить на Льюиса ярлык «консерватора» — значит ввести в заблуждение. Такое определение, стремящееся быть антисовременным, действительно становится жертвой современности и потому, что является современным, а не предсовременным термином, и потому, что оно определяется более через противостояние современности, чем через свои собственные понятия (точно так же, ничто не допускает настолько величия коммунизма, как вся философия антикоммунизма). Бегство Льюиса из этой эпохи и эти ярлыки делают его наиболее уместным в ней, поскольку почти все, способное к формированию и восприятию идей, поляризовано на «консервативное» и «либеральное», кто-то, похожий на Льюиса, является живым доказательством ограниченности этих категорий. Хотя его позицию по содержанию нельзя назвать либеральной, его воображение, его эсхатология, его мистицизм, его космический размах и его уверенность в разуме делают невозможной классификацию его с позиций каких бы то ни было консервативных стереотипов, по крайней мере, в этой стране: грубый реалист крестьянин из Новой Англии, свежая, благочестивая матрона со Среднего запада, циничный и эгоистичный бизнесмен с Востока, фанатичный, склонный к сектанству проповедник с Северо-Запада, или бычеголовый, красношеий фанатик с Юга (может быть, все это карикатуры, но дело в том, что Льюиса даже не поддается окарикатуриванию таким образом).
И «консервативный» и «либеральный» — структуры априори, с человеческой точки зрения — даже с политической точки зрения — сфабрикованные изобретения; и «консервативное христианство» и «либеральное христианство» — это «христианство и …», — человеческая интерпретация. Льюисовское «просто христианство» — это, напротив, божественное вторжение: если необходим ярлык, здесь мог бы быть такой — «христианство конфронтации». И есть другая параллель между Льюисом и Керкъегором: божественное удивление. Бог, который не является ни производной человеческого разума, ни человеческим желанием, ни человеческим еще чем бы то ни было, подкрадывается сзади к нам. Он — Бог чудес, Он Сам — Чудо, нечто, «дающее нам пощечину». Мы должны ответить или приняв его, или отрекшись от него, или избегая его.
Значение Льюиса для XX века, — даже его критики должны с этим согласиться, — по меньшей мере, значение пробного камня, скалы, о которую могли бы разбиться новые философии, христианство, с которым нужно сравнить справедливо и беспристрастно новых христиан. Если новые суда смогут миновать старую скалу, у них будет легкое плавание. Но сотни таких судов пошли ко дну в предыдущих веках, наткнувшись на такую скалу. «Просто христианство» умирало много раз, и всегда хоронило своих могильщиков, оно часто шло к чертям собачьим, и всегда эти собачьи черти оказывались дохлыми (если Честертон позволит мне еще раз позаимствовать у него).
И по меньшей мере, Льюис значителен как «последний динозавр», как он сам представил себя в своей иннаугуральной лекции в Кембридже:
Я сам принадлежу намного больше к старому Западному укладу, чем к вашему. Я бы отдал весьма много, чтобы услышать какого-нибудь древнего афинянина, даже глупого, рассуждающего о греческой трагедии. Он знал бы шкурой столько всего, что мы ищем напрасно. Леди и джентльмены, я стою перед вами почти так же, как мог бы стоять этот афинянин. Я читаю, как родные, тексты, которые вы, должно быть, читаете, как чужеземные. Знаете, почему я сказал, что это утверждение на самом деле не высокомерно: кто может гордиться тем, что бегло говорит на языке отцов или знает дорогу к родительскому дому? Мое устойчивое убеждение, что, для того, чтобы читать Старую Западную литературу, вы должны временно воздержаться от большинства своих ответных реакций и забыть большинство своих привычек, приобретенных в процессе чтения современной литературы. И поскольку это взгляд туземца, я утверждаю, что, даже если защита моих убеждений слаба, факт моих убеждений — это историческая данность, которой вам следует отдать должное. Таким образом, там, где я потерпел бы неудачу как критик, я мог бы быть полезен, как образец. Я даже осмелился бы пойти дальше. Говоря не только за себя, но и за всех Старых Западных людей, с которыми вы можете встретиться, я бы сказал: используйте ваши образцы, пока это возможно. Больше динозавров здесь не будет. («Описание времени»)
Льюисовская сознательная защита традиции могла бы появиться только в конце этой традиции, при ее гибели, когда она вытесняется из новой оппозиции (точно так же теология церкви определилась только из противопоставления с ересью). Если христианство не умирает, старый западный человек есть, и Джон Лаулор мог бы быть прав, говоря о Льюисе: «Это так же определенно, как только может быть, что мы не увидим больше никого, похожего на него». («Учитель и ученик» в «Освещенный Льюис»). Если так, великие умирают навсегда, и мы можем только надеяться, что на смену им придут еще более великие.
Выбранная библиография
При составлении этой библиографии я использовал не научные, а практические средства, чтобы предугадать возможные интересы читателей. В конце концов, я отдал предпочтение при составлении списка книг Американским изданиям перед Британскими, книгам в мягком переплете перед изданиями в твердом — везде, где они были; сортировал книги по жанру; и располагал их внутри каждого жанра не в алфавитном порядке, а в порядке убывания, по моему мнению, интереса к ним и их качества.
Личные
Surprised By Joy: The Shape of My Early Life. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1966. A Grief Observed. New York: Bantam, 1976. Letters, W.H. Lewis, ed. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1966. Letters to an American Lady. Grand Rapids: Eerdmans, 1967.
Литературная история и критика The Discarded Image: An Introduction to Medieval and Renaissance Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1964. A Preface to 'Paradise Lost'. New York: Oxford University Press, 1942. The Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition. New York: Oxford University Press, 1936. An Experiment in Cricitism. New York: Cambridge University Press, 1960. English Literature in the Sixteenth Century, Excluding Drama (Volume III of The Oxford History of English Literature). Oxford: Clarendon Press, 1954. On Stories and Other Essays on Literature. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982.
Исследования по религии Mere Christianity. New York: Macmillan, 1978. The Problem of Pain. New York: Macmillan, 1978. Miracles: A Preliminary Study. New York: Macmillan, 1978. The Screwtape Letters. New York: Macmillan, 1982. The Four Loves. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971. Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer. New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1973. Reflections on the Psalms. New York: Walker & Co., 1985.
Философия The Abolitions of Man. New York: Macmillan, 1978.
Сборники эссе The Weight of Glory and Other Adresses. New York: Macmillan, 1980. God in the Dock. Grand Rapids: Eerdmans, 1968. Christian Reflections. Grand Rapids: Eerdmans, 1968. The World's Last Night and Other Essays. New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1973. Present Concerns. New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1975. Of Other Worlds: Essays and Stories. New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1975.
Стихотворения Poems. New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1977. Narrative Poems. New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1979.
Беллетристика Till We Have Faces: A Myth Retold. New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1980. The Great Divorce. New York: Macmillan, 1978. The Space Trilogy, 3 vols., including Out of the Silent Planet, Perelandra, and That Hideous Strenght. New York: Macmillan, 1986. The Pilgrim's Regress: An Allegorical Apology for Ctristianity, Reason, and Romanticism. New York: Bantam, 1981.
Беллетристика для детей The Chronicles of Narnia, 7 books, including The Lion, the Witch and the Wardrobe, Prince Caspian, The Voyage of the 'Dawn Treader', The Silver Chair, The Horse and His Boy, The Magician's Nephew, and The Last Battle. New York: Macmillan, 1986.
Выбранные вторичные источники Christopher, Joe R. C. S. Lewis: An Annotated Checklist. Kent, OH: Kent State University Press, 1964. Green, Roger Lancelyn. C. S. Lewis, A Biography. New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1974. Schakel, Peter J. Reason and Imagination in C. S. Lewis. Grand Rapids: Eerdmans, 1984. Howard, Thomas. The Achievement of C. S. Lewis. Wheaton, IL: Harold Shaw, 1980. Ford, Paul. Companion to Narnia. San Francisco: Harper & Row, 1980. Purtill, Richard J. C. S. Lewis's Case for the Christian Faith. Grand Rapids: Eerdmans, 1980. Kilby, Clyde. The Christian World of C. S. Lewis. Grand Rapids: Eerdmans, 1964. Schakel, Peter J., ed. The Longing for a Form: Essays on the Fiction of C. S. Lewis. Kent, OH: Kent State University Press, 1977
Примечания
1
Статья взята с английского сайта Питера Крайфта:
(обратно)2
Прим. Переводчика: имеются ввиду особенности Американских церквей.
(обратно)3
Статья взята с английского сайта Питера Крайфта: -more/spiritual-history-101.htm
(обратно)4
Мэтью Арнольд(Matthew Arnold) — английский поэт и культуролог. Скорее всего имеется ввиду его труд «Hebraism and Hellenism»(«Элленизм и Гебраизм»)
(обратно)5
Благоразумие, справедливость, умеренность и мужество.
(обратно)6
Чарльз Мэнсон (Charles Milles Manson), родился в 1934 году, лидер преступного сообщества Семья, члены которого совершили множество жестоких убийств.
(обратно)7
Статья взята с англоязычного сайта Питера Крайфта: The Pillars of Unbelief - Machiavelli
(обратно)8
Мэтью Арнольд(Matthew Arnold, 1822 1888) английский поэт и культуролог.
(обратно)9
Песня, написанная Фрэнком Лоссером (Frank Henry Loesser , 1910 1969) и исполненная Бетти Хьютон (Betty Hutton, 1921 2007).
(обратно)10
Здесь и далее цитаты из Государя приводятся по переводу Н. С. Курочкина (1830 1884).
(обратно)11
Послание к Римлянам, 8 : 21.
(обратно)12
Источник электронной публикации - /
(обратно)13
Источник электронной публикации - /
(обратно)14
Источник электронной публикации - /
(обратно)15
Источник электронной публикации - /
(обратно)16
Источник электронной публикации - /
(обратно)17
Источник электронной публикации - -1-0-1541
(обратно)



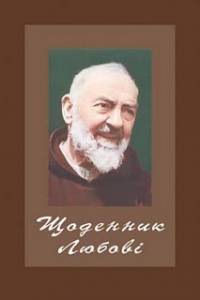



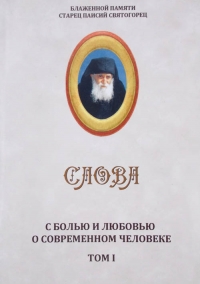



Комментарии к книге «Статьи», Питер Крифт
Всего 0 комментариев