Протоиерей Андрей Ткачев Созревшие нивы. Жизнь в Церкви
Предисловие
Долгая дорога начинается с маленького шага. Это еще древние знали. Кто-то первым сказал, остальные подхватили, с тех пор так и повелось. Кстати, об этом стоит почаще вспоминать тем, кто еще не решается двинуться к цели. Только вот то ли тот первый мудрец был слишком хитрым, то ли просто забывчивым, но он не сказал о другом, — а для тех, кто уже в пути, это «другое» намного важнее.
Дорога не просто начинается с маленьких шагов. Она из них состоит. Каждый новый шаг, каждая новая ступенечка на пути к вершине — это путь длиной в целую вечность. И если идти очень-очень долго, то может показаться, что сам застыл на месте, а меняются, проще говоря, одни колдобины да буераки. И звери разные из зарослей таращатся. И вот тогда-то можно все-все позабыть — и куда шел, и откуда, и зачем, да и есть ли она вообще, эта дорога…
Милые мои христиане, вы ведь понимаете, что я не о пеших турах говорю?
Люди всегда знали, сколь опасно сбиться с пути. И там, где им доводилось пройти, оставляли вехи — жерди, бревна, каменные столбы…
Прошли века, необходимость в каменных столбах, слава Богу, исчезла, а вот вехи в нашей жизни остались — как повороты судьбы, определяющие и наш жизненный путь, и то, как мы смотрим на мир. И зрелым человеком, по-настоящему зрелым, мы называем только того, у кого за плечами немало таких вех.
Есть такие вехи и у любого христианина. Причем их больше, намного больше — и они должны, они просто обязаны быть!
Христиане, любимые мои христиане, вы ведь помните, что каждый из нас — неотделимая клеточка единой Церкви? Ее жизнь — это наша жизнь. Церковь жива и сильна нами. Но и мы живем ее историей, ее памятью. И мы можем обрести новые силы и новую жизнь, если вместе, снова и снова, будем переживать все, что с ней происходит сейчас — и если ни на мгновение не забудем, что происходило в те далекие дни, когда Господь наш ходил по земле. События. Имена. Дни памяти. Дни великой скорби. Дни столь же великой радости. Все они должны пройти сквозь наши души, будто свет через призму, и тогда каждый праздник, каждое имя, каждый след, навсегда оставшийся в людской памяти, снова даст нам возможность вспомнить, почувствовать, задуматься…
Я решил посвятить книгу именно таким вехам. Решил снова рассказать о торжествах, составивших церковный год; об их истинной сути; о событиях, ставших причиной их появления; о людях с великой судьбой, ставших светом и надеждой христианства… Кто слышит о них в первый раз — слава Богу, что услышал. Кто уже знает, пусть вспомнит еще раз, — и пусть напоминает себе снова и снова. Возлюбленные мои во Христе, мне хочется не просто рассказать вам о торжествах и христианстве — я от всего сердца хотел бы разделить с вами свои чувства, свою веру, передать вам частичку моей души. Надеюсь, у меня получится. А там — на все воля Божья.
Братья и сестры, поверьте, мне невыразимо горько, когда на Светлую Пасху мы заботимся лишь о том, чем красить яйца и из какого теста делать куличи. Мое сердце болит, когда тыква на Хэллоуин ребенку милей, чем веточка вербы. А ведь то, как мы относимся к нашим настоящим основам — к нашей истории и культуре, к нашей стране, к нашей религии и вере, — это, в конце концов, и определяет, какими мы станем людьми. Незнание — это, конечно, враг, но справиться с ним довольно легко. Можно в первый раз попасть на праздник — и при этом прекрасно понять его суть. Можно даже не знать смысла тайных обрядов. Если это просто незнание, а не добровольно выбранное невежество, то ничего страшного в этом нет. А вот если второе…
Мне хочется верить, что многие еще просто не выбирали. Между «не знаю» и «не хочу знать» раскидывается бездна. И пока мы еще можем выбирать — а это величайшее благо, поверьте мне, — до этих пор наш путь продолжается. Мы все — ростки. Мы все — грядущие колосья. И только от нас зависит, что будет вокруг — бурьян или цветущая нива.
Я все же верю в хорошее.
Аминь.
Часть I Двунадесятые праздники
Двунадесятые праздники — двенадцать самых важных после Пасхи церковных праздников. Посвящены они событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Одни совершаются постоянно в одни и те же числа (непереходящие), а другие зависят от даты празднования Пасхи (переходящие). Каждому празднику предшествуют дни приготовления (предпразднство) и дни продолжения его воспоминания (попразднство). Перед праздниками Рождества Христова и Успения Церковью установлены посты.
Рождество Пресвятой Богородицы 21 (8) сентября
Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов. День Ее Рождества — день всемирной радости. В этот день исполнились пророчества и чаяния людей — родилась Преблагословенная Дева Мария, предназначенная Божественным Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова, Господа нашего Иисуса Христа.
Рождество Пресвятой Богородицы: за семью стоит бороться
Всего три дня рождения отмечает Церковь: Рождество Христово, Рождество Иоанна Предтечи и Рождество Пресвятой Богородицы — первый двунадесятый праздник в богослужебном году.
О Рождестве Пресвятой Богородицы нам ничего не сообщает Священное Писание. В одном из акафистов Божией Матери говорится о Ней, что Она есть тайна, недоведомая для народов и племен, до времени скрытая. О Ее родителях мы узнаем из Священного Предания. Пусть никого не смущает то, что Библия умалчивает об отце и матери Богородицы, а Предание Церковное нам об этом говорит, — в этом нет ничего удивительного.
Они же были евреи, а у евреев не забываются связи родства, и память не только об отце, деде, прадеде хранится благоговейно в памяти ортодоксального еврея, воспитанного в религиозных традициях, но и память о многих-многих далеких предках, восходящих еще к родоначальникам еврейских колен.
Церковь видела в Божией Матери первейшую ученицу Своего Сына и живой центр, живое сердце Иерусалимской общины.
Поэтому нет ничего удивительного, что имена родителей Богородицы известны Церкви. Звали их Иоаким и Анна. Они, несомненно, были известны Церкви Иерусалимской, которая видела в Божией Матери первейшую ученицу Своего Сына и живой центр, живое сердце Иерусалимской общины. Было известно общине и место их погребения, поскольку евреи хоронили своих мертвых в родовых усыпальницах, на тех местах, которые принадлежали им веками. И вот, у подножия Елеонской горы Гефсиманского сада есть такая родовая усыпальница родственников Богоматери, там погребены Ее родители, о которых мы сегодня неизбежно вспоминаем.
Существует так называемое Протоевангелие Иакова — апокриф, который по имени автора относится к апостолу Иакову, но Церковь отказывает ему в этом достоинстве. Однако Церковь считает, что многие вещи, содержащиеся в этом документе, имели место. Некоторые моменты, связанные с рождеством Богородицы, обстоятельствами Ее жизни, перекликаются с этим апокрифическим сказанием.
В частности, Церковь учит, что Божия Матерь родилась от престарелых родителей, которые зачали Ее и родили после долгих усердных молитв, испытанные крестом бездетности.
Крест бездетности — это нечто совершенно непонятное современному человеку. Ведь современный человек, к сожалению, очень часто не чувствует на себе священной ответственности исполнить заповедь Божию — плодиться и размножаться, оставить после себя потомство. По части блуда современный человек перегнал древних людей, исполнил на себе слова пророка: «Блудить будете, но не размножитесь». Люди сегодня озабочены сексуальными вопросами, но не вопросами оставления потомства.
«Это потом, — говорят, — когда-нибудь, когда мы на ноги встанем, карьеру сделаем…» А потом, растратив силу в блуде и безобразной жизни, приходится искусственно зачинать, иметь дело с пробирками и прочим.
Но не об этом речь, а о том, что Иоаким и Анна, по учению Церкви, не имели детей, а хотели этого. И это жуткая боль, это распятие, это крест, это гвозди, это в буквальном смысле поношение для еврейской семьи. Кроме того, Иоаким и Анна были царского рода, от корня Давидова, и хотели лично поучаствовать в приближении времени рождения Мессии и, не имея детей, очень сильно от этого страдали.
Этими скорбями Господь выжигал из их души неизбежные для каждого человека гордость, тщеславие, какие-то тайные движения души, и они усовершились к старости. Они смирились, покорились воле Божией и достигли праведности. И вот, когда уже им нечего было греховного передавать своему потомству, они родили Дочку.
Самый драгоценный ребенок в нашей жизни — это первенец, как правило, рожденный в юности. Он самый первый, по-особому любимый, но он же зачастую и жертва наших жизненных ошибок и страстных движений души. В него, в первенца, вливаются все наши буйные юношеские порывы, все наши неочищенные от страстей душевные силы.
А вот рожденные в старости дети бывают по-особенному нежны, по-особенному чутки, по-особенному глубоки, их по-особому любят и они сами по себе особенные. Такой была Пресвятая Отроковица Мариам — Дева Мария, будущая Богородица. Рожденная в старости от праведников, испытанных, как золото в горниле, бездетностью, Она родилась, как священный плод не только Иоакима и Анны, но и всего человечества.
Когда мы приходим в какую-то семью, в которой родился ребенок, мы не можем не умиляться этому маленькому существу, невесть как появившемуся на свет.
Это тайна до сегодняшнего дня — как это все происходит? Екклесиаст Премудрый говорит, что мы не знаем, «как образуются кости во чреве беременной» (Еккл. 11:5). Хоть наука нам и показывает это все, и современные средства дают нам возможность смотреть фильмы про внутриутробное развитие, чудо не перестает быть чудом.
За семью стоит бороться. Если исчезнет христианская семья, исчезнет все хорошее, что только есть в этом мире.
Мы приходим в дом к родившей женщине и радостному отцу, поздравляем их, смотрим на младенца и думаем: что же вырастет из этого ребеночка? Мы желаем ему счастья и здоровья — по отсутствию фантазии мы больше пожелать ничего не можем, наши пожелания стандартны и скучны. Мы желаем только богатства, здравия и житейского успеха.
Когда сегодня мы мысленно приходим в дом к Иоакиму и Анне и смотрим на младенца Марию, лежащую в своих детских яслях, мы уже знаем, что будет из этого ребенка. Мы знаем, что Она будет правильно воспитана. Что от отца и матери и от всего еврейского народа, вложившего в Нее все свое стремление к Богоугождению, Она унаследует чистую молитву, и всецелое доверие к Богу, и всецелую преданность Ему. Что этот ребенок вырастет в Ту, Которая сможет стать вместилищем невместимого Бога. Тайна эта выше всяких слов. Но началась она именно тогда, когда в семье престарелых праведников Иоакима и Анны, подобно тому как в семье Авраама и Сарры, родилась Девочка.
Кстати говоря, девочек не сильно жаловали в древние времена и не всегда им радовались. Например, в арабских сказках пишется о том, что, когда рождается девочка, стоит всплакнуть. Две девочки равны одному мальчику, — говорят арабы.
А эта Девочка принесла радость не только отцу с матерью, но и всему миру. Потому что родился Священный Сосуд, Вместилище, Ковчег святыни. Родилась Та, Которая станет дверью, через Нее Всевышний смог спуститься на землю и стать человеком.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — это повод не только напомнить о нашей надежде на молитвы Богородицы, но и повод подумать об обязанностях супругов, о рождении детей, о семейственности, о том духе взаимной любви и согласия, на котором должен строиться каждый христианский дом, каждая христианская семья.
Мы страдаем от разводов, от отсутствия тепла и любви, от неумения жертвовать собой, от этого холода, который свистит в наших домах — вселенского холода, прорывающегося из мира в наши семьи. За семью стоит бороться. Если исчезнет христианская семья, исчезнет все хорошее, что только есть в этом мире.
Воздвижение Креста Господня 27 (14) сентября
Праздник установлен в честь обретения Честного Креста Господня, найти который пожелал святой равноапостольный царь Константин. Решающую роль в поисках сыграла мать императора, святая равноапостольная царица Елена, которая в 326 году отправилась для этого в Иерусалим, где и произошло Обретение Честного и Животворящего Креста Господня.
Воздвижение Креста Господня: Голгофское таинство
Что такое три столетия? С чем их сравнить? Это время, протекшее от Петра I до наших дней. Велик ли этот исторический период? Очень велик. Он огромен не только по годам, часам и минутам, но, главное, по внутренней насыщенности событиями! И эту протяженность такого длительного периода, его событийную загруженность нужно себе представить, потому что именно такой промежуток времени отделяет утрату Креста Христова от его обретения, а значит, и Воздвижения.
Возьмите иные триста лет с небольшим хвостиком или без оного. Всюду это будет одна эпоха или несколько. От открытия Америки до Французской революции примерно столько лет. От Лютеровой реформации до Наполеона примерно столько же.
Может быть, в Китае за это время не успевают смениться династии и не нарушается метрика привычного стиха. Но в христианском мире за триста с небольшим лет проходит невообразимое для обычного сознания количество событий. Таков период времени от Воскресения Христова до обретения Его Креста. Это три столетия, в которые Иерусалим был разрушен до состояния отсутствия камня, лежащего на камне, как и пророчествовалось. Потом город был отстроен, но с другим именем и без восстановления Соломонова храма, а также без памяти о Христовых страданиях и Воскресении. Все самое важное, связанное с городом Давида и Христа — сына Давидова, покрылось двойным слоем: забвения и нарочитого пренебрежения. И именно в эти столетия Церковь переживала период интенсивного роста.
Она, словно дерево, пускала корни в направлении всех сторон света. Она росла тайно, скрыто от посторонних глаз, катакомбно, но она проникала всюду: и в царские палаты, и в лачуги простолюдинов. Она росла без всякой государственной поддержки, напротив — в условиях жесткого государственного неприятия, периодически проявляющегося в гонениях. Но слово Божие не вяжется (2 Тим. 2:9), и со временем втайне молящаяся Церковь стала такой, которую нельзя не заметить. Наконец настало время «Золушке» явиться во всей красе. Гонения утихли, храмы выросли, императоры склонились перед Крестом. Только тогда возникла мысль об обретении Креста Господня.
Пусть это будет первым и одним из главных уроков праздника: внутренний рост Церкви, ее подлинное развитие возможны в условиях попрания или утраты ее самых важных святынь или невозможности открыто эти святыни почитать. Церковь и впоследствии не раз теряла свои святыни, теряла с такой болью и таким позором, что дальнейшая жизнь казалась невозможной. В Софии Царьграда[1] имамы возглавляли молитву мусульман. На заброшенной Софии Киевской при униатах[2] росли деревья, а внутри птицы вили гнезда. На месте московского храма Христа Спасителя зимой и летом еще не так давно парил хлоркой плавательный бассейн[3]. Но Церковь продолжала жить, что-то утрачивая снаружи и чем-то богатея внутри.
Богу всегда нужен какой-то один человек, который не захочет спать посреди общей спячки и не будет страдать беспамятством посреди всеобщего безразличия. Таков закон возрождения, поскольку сразу все возрождаться не способны.
Затем происходил очередной исторический сдвиг, и ситуация менялась. Находилось потерянное, вспоминалось забытое, сияло вновь то, что казалось навеки потускневшим. Чтобы место страданий Христовых увенчалось храмом, а Крест искупления был найден в земле, Бог отыскал добрую в женах — царицу Елену. Богу всегда нужен какой-то один человек, который не захочет спать посреди общей спячки и не будет страдать беспамятством посреди всеобщего безразличия. Таков закон возрождения, поскольку сразу все возрождаться не способны.
Елена предприняла путешествие в Иерусалим. Она нашла место страданий Христа, где в это время находился храм Венеры. Оказывается, храм «покровительницы блудных удовольствий» с бесовской прозорливостью был воздвигнут на Голгофе. Бесовской прозорливостью здесь назван тот умный и злой опыт, согласно которому ничто так не погашает жизнь духа, как разврат. Разврат — оружие почище многих ракет и пушек, поскольку видимо оставляет людей в живых, но невидимо убивает их, делая неспособными ко всякому благому делу.
Вдумайтесь: храм Венеры долгие годы стоял на Голгофе! Блуд мешал евреям овладеть землей обетованной и безопасно путешествовать по пустыне. Блуд мешал им удержаться в земле Израиля, и они ушли в плен, неся на себе наказание за капитуляцию перед ритуальным развратом окрестных народов. Блуд всегда мешает людям верить, молиться и не отчаиваться. Он и ныне входит, как лакомство, во внутренности чрева и растлевает человека, лишая его силы и радости. Блуд — один из главных врагов веры, поэтому храм Венеры на Голгофе возник не случайно. Не случайно он был и разрушен. И велика та, которая приказала сравнять его с землей!
Уже само воспоминание об этом историческом событии должно подсказать нам, что если где-то Крест Христов забыт, или не замечен, или пренебрежен, там с неотвратимостью будет построен, а может, строится уже капище для принесения блудных жертв ложным богам.
Какие интересные уроки! Голгофа попрана врагами Креста, а вера растет и ширится, не боясь ничего. Над Голгофой стоит храм томной «богини», зажигающей огонь в крови обычного человека. Падший дух «выдает себя с потрохами». Блуд на месте святе — его главная радость. Но Бог велит — и приходит святой человек, разрушающий твердыни греха, как кубики, и возвеличивающий веру в Господа.
Разврат — оружие почище многих ракет и пушек, поскольку видимо оставляет людей в живых, но невидимо убивает их, делая неспособными ко всякому благому делу.
Таков наш праздник. Воздвижение Креста Господня роднит нас с галатами, о которых апостол Павел в послании к ним говорит, что Христос словно был распят у них перед глазами (ср. Гал. 3:1). Такова была их вера при первом слышании благовестия — словно пред очами их висел на Кресте невиновный Сын Божий! Так и перед нашими глазами должно произойти Голгофское Таинство в сей праздник. Мы увидим в храме, как Крест возносится и опускается, как он осеняет поочередно все стороны света. Мы сопроводим его освящающее движение многократным «Господи помилуй!». И слова еще одной молитвы в это время пусть зазвучат в душах верных: «Крест восходит — и падают духов воздушных чины! Крест нисходит — и нечестивые все ужасаются, яко молнию видяще крестную силу!»[4]
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко
Крест и Воскресение неразрывно связаны между собой. Каждое воскресение мы с вами поем: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим!» Крест был известен давно, но тогда никто ему не поклонялся, его боялись, само слово «крест» было оскорбительно для слуха римского гражданина, поскольку означало намек на позорную смерть человека, переступившего все законы Божеские и человеческие.
Когда человечество переступило эти законы и стало достойно подобной казни, Христос взял на Себя все его преступления и пошел на Крест, как последний из последних для того, чтобы искупить все человечество. Сегодня мы, вынося крест перед лицом людей, собранных в Храме, смотрим на цену нашего спасения. Цена спасения человеческого — это крестные страдания Господа Иисуса Христа. Он не был обязан страдать на кресте, ничто не вынуждало Его. Это акт любви, добровольный и свободный.
Господь Иисус Христос принес Себя в жертву, и Крест получил высокое достоинство жертвенника. Крест освятился в сознании людей и превратился в знак победы над смертью. Теперь они связаны вместе в сознании человеческом — Крест и Воскресение.
Крест рожден количеством и качеством наших с вами грехов. Позор Креста рожден позором наших беззаконий. Тяжесть Креста рождена тяжестью наших злодейств. Болезненность Креста рождена болезнью всей жизни человеческой, которая после грехопадения стала трудновыносимой.
Благодаря Воскресению Христову Крест освятился и оправдался, как знамя нашего спасения, как жертвенник Нового Завета. Господь Иисус Христос принес Себя в жертву, и Крест получил высокое достоинство жертвенника. Таким образом, Крест освятился в сознании людей и превратился в знак победы над смертью. Теперь они связались вместе в сознании человеческом — Крест и Воскресение.
Мы обрели Честный Крест благодаря блаженной царице Елене. Мы видим на ее примере, как творится история, как появляются люди, в сердцах которых рождаются великие мысли, вдруг озаряющие сердце человека, способного реализовать грандиозную идею.
Представьте себе, что более трех столетий Церковь жила, не имея никаких видимых знаковых святынь. Креста нет, храмов больших нет, ничего нет, есть только катакомбы, подвалы, благовествуемое Евангелие и кровь мучеников, их святые тела, хранимые в тайных местах, воскресные литургии, постоянная угроза лишения имущества, пыток, допросов — и мученичество, мученичество… Так Церковь жила очень долго.
Но вот меняются времена. Наступает пора, когда империя готова склонить свою гордую голову перед новой верой, которая живет и не хочет исчезать. Сначала ведь думали, что христианство — это какая-то блажь. Потом поняли, что оно довольно живуче, и решили его истребить. Истребляли, истребляли — не получается. Надеялись, что само исчезнет — не исчезает. Тогда гордая империя дрогнула.
Елене было уже много лет — семьдесят, а может, и больше. Она была совсем старушкой. На престоле ее сын Константин, правитель империи. Она — царствующая мать и живет в своей резиденции. Вдруг в ее сердце вселяется от Духа Святого мысль — найти Крест, найти это место, где плакал Христос до пота кровавого, где ходили Его стопы. Где это все?
Господь провел большую часть Своей жизни в Назарете и потом, проповедуя, ходил больше по Галилее. Но самое главное Он совершил в Иерусалиме. Смерть мученическая Христова, Его искупительные страдания и воскресение из мертвых произошли в Иерусалиме.
К тому времени Иерусалим на карте мира отсутствовал, да и карт не было. Но если бы и были, его все равно бы там не было. Город был разрушен.
Лет за тридцать до разрушения Иерусалима, Христос плакал о нем, говорил: Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! (Мф. 23:37). Тогда ученики сказали Господу: «Смотри, учитель, какие здания!» Но Он сказал: «Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено». Так и совершилось после распятия Христова и Его Воскресения и после четвертого нежелания еврейского народа признать Христа, водимого своими слепыми, а вернее, зрячими, но злыми поводырями.
Еврейские вожди лучше всех знали, Кого они убили, знали, что Христос воскрес, но Воскресшему не поклонились. Они сознательно погрузили свой народ в бездну богопротивления и запрещали всяческими угрозами апостолам говорить о Воскресшем Христе и вообще упоминать Его имя. Они прекрасно понимали, что совершилось чудо Божие — Начаток умерших, Господь воскрес! Но почему-то приняли странный совет в своем сердце — свой народ удержать от веры и заключить его в тесные рамки своих предписаний законных. И так продолжается до сегодняшнего дня.
Спустя несколько десятилетий, когда были еще живы те, кто кричал в претории Пилату «Распни! Распни Его!», Иерусалим был разрушен. Когда-то он был единственным в мире центром религиозной жизни, в котором поклонялись истинному Богу, и Храм был в городе один на весь мир. Других таких городов не было, хотя храмов было много — в Индии, Египте, Китае. Любая языческая страна так или иначе пыталась украсить себя храмами в честь своих божеств, но Храм истинному Богу был только в Иерусалиме — это было сердце мира.
Когда Христос пришел в мир и совершил дело нашего спасения, воскрес из мертвых и ниспослал Духа Святого на учеников и апостолы пошли проповедовать в мир, Иерусалим, как исполнивший свое дело, был сметен с лица земли. Он сослужил свою службу, и Господь попустил полное уничтожение этого города. Город был не только разграблен, не только сожжен, как это бывает часто во время войн, город был разрушен до основания и развалины были перепаханы плугом. Так что слово Иисуса Христа о том, что камня на камне здесь не будет, исполнилось буквально. Не было ни одного камня, который бы лежал на камне. Все лежало на земле, и земля была пропитана кровью, и, как помет, лежали миллионы трупов, а оставшихся в живых евреев продавали на невольничьих рынках за цену раба, которая есть тридцать сребреников. Тридцать серебряных монет — цена самого дешевого раба. За эту цену продавали оставшихся в живых иудеев, которые не умерли от голода, болезней и не были убиты в уличных боях.
Городу дали новое римское имя — его назвали Элия Капитолина. С таким именем Иерусалим существовал несколько столетий. Туда пришли жить новые люди, возможно, остались и старожилы, знавшие местные предания. Под страхом смертной казни там было запрещено селиться евреям. После разрушения Иерусалима они были рассеяны по всему миру. Некоторые еврейские смелые души, любители града своих отцов, жили там в страхе наказания. Осталась и малая часть христиан. Люди благоговейно хранили в сердце память о святых местах, которые здесь были: где был Храм, где Голгофа, где Господь молился в саду перед страданиями, где Гефсиманский сад, где чья гробница. Это все жило в памяти людей, но уже очень ненадежно: казалось, умри еще один свидетель, и все забудется.
Для того чтобы совершенно предать забвению Господа Иисуса Христа и Его святое дело, которое Он совершил на Голгофе, на месте Его страдания был насыпан большой холм, и на нем язычники построили храм Венеры. Крест был зарыт, все было заровнено, холм насыпан и стояло здание языческого храма, где совершались жертвоприношения идолу.
И Бог вкладывает царице Елене мысль — найти это место, найти этот город, вернуть ему былую славу, возвеличить место искупления человеческого рода. И она предпринимает путешествие, чтобы вернуть этому городу, уже не существующему, его достоинство.
Теперь представьте, что Елена приезжает в Иерусалим и начинает искать место, где был распят Господь Иисус Христос. Находит каких-то людей, которые что-то от кого-то слышали, устраивает расследование. Находит тех, кто доподлинно знает, где это было. Нанимает людей, они копают, уничтожают храм Венеры. Роют днем и ночью. Елена поселяется вблизи места поисков. Ей ставят небольшое жилище, чтобы она могла наблюдать за работами. Она подстегивает рабочих, приплачивает им, чтобы копали не останавливаясь. Неизвестно, сколько нужно было холмов в Иерусалиме перекопать, если он весь в холмах, но она заставляет продолжать работы, она молится, она ждет. Господь дает ей мужество, терпение, настырность, энергию. Вдруг рабочие натыкаются на какое-то дерево: одно, второе, третье. Нашли!
Нашли кресты, крепко сбитые толстыми римскими гвоздями. Нашли три креста, какой из них Господний — кто сейчас разберет? Но, имея веру Божию и водимые благодатью, они думали, что не может Крест Спасителя затеряться среди крестов разбойничьих, он должен как-то проявить себя. И тогда стали искать какого-то чуда, вразумления, как помощи. Слепому нужна помощь.
И Господь совершает чудо. По одним источникам, совершилось исцеление больного, по другим — воскрешение мертвого. На кладбище несли человека, процессию остановили и стали покойника класть на эти кресты. Но, так или иначе, Господь показывает знак — прикосновение к Кресту Господнему возвращает жизнь умершему человеку. Крест получает имя Животворящего. Господь явил очевидное знамение того, что найдена святыня.
Крест впитал в себя силу Божию, потому что по нему Кровь невинная текла, Кровь искупительной Жертвы. И Господь, весь истерзанный так, что не было ни одного целого сантиметра на Его Теле, весь был растянут на этом Древе, и оно все пропиталось Его кровью. Оно не могло не освятиться. И гвозди, и Кровь Господня, и страдания, совершившиеся на нем, превратили Крест в жертвенник, в жертвенник Нового Завета. На жертвеннике приносится жертва, и всякий жертвенник свят, не потому что он сам по себе свят, а он свят благодаря жертвам, которые на нем приносятся. А Крест освятился в силу той Жертвы, Которая была на нем принесена.
Когда Моисею было указание от Бога сделать переносной Храм — скинию, то был там и устав о жертвеннике, о том, как он должен быть устроен. Были указаны размеры и даже дана инструкция насчет лопаток, щипчиков, метелочек, чтобы пепел убирать. Все это очень сложно, все это описывается в Пятикнижии. Там говорится, что жертвенник, на котором сжигаются телеса закланных Богу животных — свят. Жертвенник святыня великая (Исх. 40:10), — говорит Господь. Никто не может прикасаться к этой великой святыне, кроме иереев. Телеса животных, которые сжигаются на жертвеннике — это прообразовательная жертва, потому что никого кровь козлов, волов, овец не очищает. Это символы и образы. Это приготовление человечества к открытию дверей веры. Если эти прообразовательные жертвенники являются великой святыней, то что мы должны сказать о том жертвеннике, на котором принесена та единственная настоящая, искупительная, все удовлетворяющая жертва Христа? Христос приносит Себя как Священник, приносящий Себя же как дар, как жертву на кресте. Крест есть жертвенник Нового Завета. И вот этот Крест найден.
Святое Древо достали из земли и, за многолюдством собравшихся людей, подняли Его высоко вверх при помощи многих сильных рук служителей. Крест подняли над головами людей, и множество собравшихся, не сговариваясь, стали кричать одно и то же, они стали восклицать: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Крест подняли на одну сторону, но люди стояли по кругу, тогда Его подняли на другую сторону, третью, четвертую. Вот так на четыре стороны поднимается Крест, а люди плачут. Они не верят, что это с ними происходит, что это они сейчас здесь стоят, а из земли извлечено это бесценное сокровище — Древо Креста. Невозможно представить себе тогдашнюю радость христиан. Христиане жили во множестве в Иерусалиме, если только слово «множество» подходит к тому месту, которое было весьма негусто населено. Однако их собралось большое количество. От многолюдства некоторые даже не могли увидеть этот Крест. Его нужно было поднять над головами людей, чтобы все, стоящие сзади, тоже увидали это сокровище, из земли извлеченное и вдруг поднявшееся спустя триста лет над головами людей. Люди словно увидели, как будто перед ними распинают Христа, когда над их головами поднялся этот Крест. Это удивительно трепетное зрелище.
Это и есть всемирное воздвижение Креста Христова. С тех пор Церковь разбогатела великим богатством. Долгие столетия богатством Церкви были только мощи мучеников, а все остальное было скрыто и спрятано. И вдруг извлекается из земли нечто чрезвычайно драгоценное, а именно — Крест Господа Иисуса Христа. Елена не просто извлекла Крест, она стала застраивать Палестину храмами, тратить огромные средства на строительство церквей, больниц, приютов, часовен. Этим должна была усеяться Святая Земля, чтобы на всяком месте, связанном с тем или иным священным событием, люди приходили, молились, пели, каялись, очищались. Она поднимает на свои старческие плечи величайший труд миссионерского застраивания Палестины, которая с тех пор усеялась огромным количеством вещественных святынь.
Без крестного знамения — нет христианства. И если человек говорит, что он христианин, но не изображает на себе крестного знамения, то мы можем его сторониться, ибо нет в апостольской вере такого признака — во Христа верить, а крест на себе не изображать.
Христиане всегда на себе изображали крест, нет такого христианина, который бы не крестился. Православные в разные времена крестились по-разному: то двумя перстами, то тремя, иначе крестятся римокатолики, армяне, копты, но везде есть крест. Нет такого христианина, который не изображал бы на себе креста каким-либо образом. Без крестного знамения — нет христианства. И если человек говорит, что он христианин, но не изображает на себе крестного знамения, то мы можем его сторониться, ибо нет в апостольской вере такого признака — во Христа верить, а крест на себе не изображать. Как говорил святой Кирилл Иерусалимский, знаменующийся Крестом является собственностью Распятого.
Когда люди увидали Крест, они стали восклицать: «Господи, помилуй!» И когда мы видим крест над храмом, возвышающийся над нашими головами, то мы тоже вспоминаем о том, почему кресты увенчивают наши святые храмы, чем это куплено и как приобретено. Это приобретено Христовой победой.
Не так славно то, что Христос воскрешал мертвецов, что Мессия открывал слепым глаза, по воде ходил или, ломая хлеб, умножал его для многих, но славно то, что Мессия, Царь Славы, пошел на Крест. Его позор — это наша слава. Именно унижение Христово, Его великий позор, я без преувеличения это говорю, ибо то был великий стыд и великий позор. Позор всех грешников, стыд всех позорников упал на Иисуса Христа. Он был опозорен, обесчещен, избит и измучен, терпел казнь последнего злодея.
Христос был унижен до края, до последней нижней точки, до самой глубины страдания был измучен, и это Его мучение стало нашей славой. Он добровольно лишился всего — с Небес сошел на землю, отказался от славы, от богатства, чудеса на Кресте никакие не творил, был бессилен до полного изнеможения. И это Его бессилие превратилось в могучую силу для всех тех, кто любит Христа Иисуса и верует в Него всем сердцем.
В Первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит: Я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого (1 Кор. 2:2). То есть можно ничего не знать, многого не понимать, но делать одну очень важную вещь — носить перед собою образ Христа Иисуса. Но не Христа, обнимающего деток, и не Христа, запрещающего ветру и морю, и не Христа, проповедующего в храме, а Христа Иисуса распятого. Это самое важное. Он для этого пришел.
В «Символе веры» мы говорим: «Верую и во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия… и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася», и дальше мы сразу же говорим: «Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате». Мы не говорим, что веруем во Иисуса Христа, Который по водам ходил, Который бесов выгонял, мертвых воскрешал. Мы говорим: «Родившегося от Духа Свята и Марии Девы…», а дальше «распятого за нас при Понтийстем Пилате». Больше ничего не надо, все остальное приложится. То есть если ты веришь, что Христос исцелял, но не веришь, что Он страдал и воскрес, то бесполезно тебе верить, что Он воскрешал. А если ты веришь, что Христос страдал и воскрес, тогда все остальное правильно, тогда во все остальное можно верить, но только после этого.
Далее апостол Павел говорит: Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость (1 Кор. 1:22–24). Как надо понимать эти слова? Почему для иудеев соблазн?
Иудеи знают Бога Великого. Бог являлся иудеям как великий. Он горы ломал, и горы горели огнем, когда Господь разговаривал с Моисеем. Он совершал величайшие дела, Он море гнал в одну сторону и в другую, и вел их за Собой. Он кормил их неизвестной пищей — манной, Он совершал перед ними многое-многое. Иудеи, когда им проповедуется Христос, говорят: «Ну что вы, мы верим в Великого Бога, а вы нас заставляете верить в Человека, Которого распяли наши отцы». Но самые великие иудеи верили во Христа, как и мы. Кто это? Это Моисей и Илия.
Нет выше праведников в еврейском народе, чем Моисей и Илия. А они в какого Бога верили? В смиренного! Илия, когда хотел Бога видеть, то Господь прошел перед ним страшным ветром, страшным землетрясением, но не было там Господа. А потом повеяла такая тихая-тихая прохлада, как прохладный ветерок, и там Господь! (См.: 3 Цар. 19:11–13). Господь — как кроткий — являлся Илии и также Моисею. Моисей и Илия настолько любили Господа, что когда на Фаворе Иисус преобразился перед учениками, то они пришли к Нему даже из другого мира, чтобы посмотреть на воплотившегося Христа. Моисей и Илия верят в кроткого Бога, и в Иисусе узнают Мессию.
Язычники же двояки. Половина языческого мира живет для плоти и только для плоти, для удовольствия плоти, для здоровья плоти — только интересами плоти. Вторая половина языческого мира презирает плоть. У них чуть-чуть больше ума, они понимают, что плоть смертна, не вечна, что нужно от плоти освободиться. И они додумываются до таких высоких мыслей, что плоть — это темница души. Нужно сбросить ее, пренебречь ею и искать мудрость. Это лучшая часть язычества.
Так вот, когда этим лучшим язычникам апостолы говорили, что Бог стал Человеком, то одни из них не могли понять, о чем речь, а другие говорили, что это невозможно.
Вот две категории людей — одни слишком умные, другие слишком жестокосердные. Иудеи знамений просят, эллины премудрости ищут. Для иудеев Христос распятый — это соблазн, для эллинов — безумие, а для нас, призванных, неважно кого по национальности, Христос — Божия Сила и Божия Премудрость.
И мы с вами каждый раз делом исполняем нашу веру, когда на себе крест изображаем, когда лобзаем Святое Древо, где бы то ни было начертанное — на иконе, на стене, на святых сосудах, на своей груди перед сном, если целуем крест Господний. Кроме того, у каждого из нас есть свой личный крест, который никто в мире, кроме нас самих, до конца донести не сможет. Друг другу можем только помогать в несении этого креста, но главная тяжесть креста лежит на плечах каждого человека. И нужно свой крест нести смиренно и покорно, памятуя о безгрешном Господе, влачившем на Себе крестную тяжесть на Голгофу.
Вот таким образом мы почитаем Господа распятого и непременно Господа воскресшего. Если бы воскресения не было, то какой был бы смысл крест почитать? Но воскресение засияло на весь мир, и лучами своей славы весь мир освятило. Поэтому мы говорим: — Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и Воскресению. Мы не отделяем креста от Воскресения.
На иконах мы рисуем святых и Богоматерь с нимбами, а Христа рисуем с нимбом особенным, так называемым тройчатым, как бы разделенным крестом. Тень креста ложится на нимб Господний, и он разделен такими полосами, складывающимися в крест. Тройчатый нимб говорит нам, что Христос и во славе Своей креста не чурается и не отказывается от него. На нимбе справа, слева и сверху стоят три греческие буквы — O (омикрон), W (омега) и N (ню), образующие слово «Сущий» — Яхве или Иегова. Сый благословен Христос Бог наш — это имя Божие, потому что Христос есть Бог, ставший человеком. И Его слава с Крестом связана, Его воскресение через Крест пришло.
«Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению, се бо прииде Крестом радость всему миру»[5]. Крест — это слава ангелов, язва демонов, царей держава, христианам всякая благодать. Это действительно Древо Жизни, посреди рая Божьего растущее, а рай Божий есть Церковь Бога Живого — столп и утверждение истины.
У каждого из нас есть свой личный крест, который никто в мире, кроме нас самих, до конца донести не сможет. Друг другу можем только помогать в несении этого креста, но главная тяжесть креста лежит на плечах каждого человека. И нужно свой крест нести смиренно и покорно, памятуя о безгрешном Господе, влачившем на Себе крестную тяжесть на Голгофу.
Посему еще раз, паки и паки, осенившись крестным знамением во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, с благодарностью вспомним о том, что посреди Своих страданий Господь Иисус Христос растерзал рукописание всех человеческих грехов, и наших с вами личных тоже. Все наши грехи убиты на Кресте, сожжены на Кресте, испепелены и развеяны на Кресте. Поэтому если согрешишь и тяжко станет, читай из Евангелия о распятии Господнем, читай канон Кресту, погружайся в тайну Креста, осеняй себя крестом и знай, что Крест Господний сильней всякого греха.
Никто пусть не отчаивается, никто пусть крепко не унывает за безмерие своих слабостей, потому что Крест Господень сильнее всех, и Господь Иисус Христос полюбил нас, простил и очистил, собрал нас со всех распутий всех вместе и создал из нас Церковь.
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря (21 ноября)
После того как Пресвятой Деве Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна решили выполнить свое обещание посвятить дочь Богу. Пригласив родственников и множество молодых дев в Назарет, Иоаким и Анна одели Пречистую Марию в лучшие одежды и с пением священных песней, с зажженными свечами в руках повели ее в Иерусалимский храм. На ступенях храма Отроковицу встретил первосвященник со множеством священников. Здесь же совершилось и первое чудо.
Введение во храм — праздник деятельного восхождения
Наши праздники — события духовные, их нужно праздновать соответствующим образом и понимать суть происходящего. Поэтому у каждого праздника есть период приготовления, назовем его предпразднество, и период попразднества.
Праздник Введения во храм — это праздник деятельного восхождения к Богу. Маленькая девочка Мариам, отделившись от рук Своих родителей, побежала вверх по ступеням Иерусалимского храма, где ждал ее первосвященник. Это есть некий образ нашей жизни.
Идеальная жизнь — это движение вперед и вверх. Там, наверху, нас ожидает Первосвященник, Архиерей грядущих благ, вошедший во Святая Святых Своею Кровью — Господь Иисус Христос, Начальник Нового Завета. Он наверху, а мы движемся к нему снизу вверх, и души наши похожи на маленького ребенка. И мы стремимся на руки к нашему Небесному Царю, что, собственно, и символизируется праздником Введения во храм.
В Псалтири царя Давида есть пятнадцать или шестнадцать так называемых степенных псалмов, или песней степеней (119–133 псалмы. — Прим. ред.). В Иерусалимском храме было шестнадцать ступеней и, поднимаясь на каждую ступень, люди прочитывали или пропевали определенный псалом. Эти псалмы символизируют собой такое деятельное восхождение к Богу. Их нужно читать в праздник, и нужно читать в домах своих.
Я рад тому, что вы любите храм Божий, приходите молиться, потому что человек живет, пока молится. Потом, когда не молится человек, он живет уже по инерции. Когда инерция иссякает и трение о воздух останавливает его, он начинает гнить. Не молящийся человек — это гниющий человек или движущийся по инерции. Поэтому у нас с вами нет больше ничего настоящего, твердого в жизни, кроме молитвы.
Поэтому, пока мы будем молиться, мы худо-бедно будем жить. Когда мы прекратим молиться, откажемся от молитвы — устанем, или соблазнимся чем-то, или будем обмануты диаволом, Бог да сохранит нас от этого, — то сначала мы будем радоваться, что получили некую свободу от духовных упражнений. Все обманутые диаволом и отведенные от Бога сначала претерпевают период такого безумного веселья — наконец-то мы сбросили с себя средневековые узы, мы перестали упражняться в благочестии, мы просто начали жить и радоваться этой жизни. Но это кратковременный период. А потом начинаются настоящие скорби, которые уже не заканчиваются. Покуда молится человек — он жив. Жизнь — это не место наслаждений.
Хотелось бы, конечно, радоваться всегда, но радость обещана только тем, кто исполнил заповеди. Им сказано: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех» (Мф. 5:12). А покуда заповеди не исполнены, человеку предстоят труды и скорби. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина! — говорит апостол Павел. — Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!» (Рим. 2:9–10).
Человек живет, пока молится. Когда он не молится, то живет уже по инерции. Когда инерция иссякает, то он гнить начинает. Поэтому у нас с вами нет больше ничего настоящего, твердого в жизни, кроме молитвы.
Поэтому наша жизнь есть тяжелый путь из Египта в Палестину, из земли рабства в землю свободы. Этот путь не может быть легким, и мы подкрепляемся на этом пути молитвой. Посему я хотел бы, чтобы вы всегда любили Христа, и всегда молились Ему, и всегда призывали сладчайшее имя Девы Марии — нашей Матери во Христе, и Заступницы, и Ходатаицы. И так, этой верой укрепленные и окрыленные, дошли бы до самых ворот Царства Небесного, которые вам, даст Бог, откроются. Потому что, как говорит Иоанн Лествичник, «опирающийся на посох молитвы не упадет, ежели же и упадет, то легко ему будет подняться».
Не знаю, как можно жить, не молясь. Помню, когда-то я посещал одного больного, при смерти, священника, старенького такого протоиерея, которого очень любил, и спросил его: «Отче, а вы молитесь?» А он лежал — он не поднимался уже, — и у него был молитвенник на тумбочке. И он ответил: «А как же, сынок, не молиться? Без молитвы можно и с ума сойти». Я навсегда запомнил эти слова, и тоже считаю, что без молитвы можно с ума сойти. Многие и молящиеся с ума посходили, не без того, конечно. Но чтобы не молиться и остаться в здравом разуме, я не знаю, что нужно сделать и что нужно в себе иметь. Поэтому не сходите с ума, братья и сестры. Дай Бог вам всем здравого разума, здравого духа в здравом теле, а для того любите храм и любите молитву.
Рождество Христово 7 января (25 декабря)
Праздник Рождества Христова был установлен самими апостолами для прославления величайшего события человеческой истории — Христова воплощения. Событие праздника наиболее подробно описано евангелистом Матфеем во второй главе его Евангелия, которое читается в этот день за богослужением. Празднику предшествует Рождественский сорокадневный пост, а продолжается празднование Рождества Христова до 13 января (31 декабря).
Приближаясь к колыбели. Слово в преддверии Рождества Христова
Рождество на пороге, и скоро ангельская песнь возвестит пришествие в мир Христа Спасителя. Мысли тех, кто любит Его, в эти дни прикованы к моменту, когда земная жизнь чудесного Младенца лишь начинается…
Хотели бы вы, забирая новорожденного из роддома, получить в нагрузку книгу с описанием его будущей жизни? Страшно, правда? Вот где страх подлинный и неподдельный.
Книга была бы весьма объемной в том случае, если бы языком Толстого, или Тургенева, или Джойса в ней описывались детство, отрочество, юность; перипетии взросления, привычки, страсти, мечты, друзья; цели достигнутые, идеи реализованные; планы, растаявшие, как Снегурочка; мечты, отлетевшие как сон… Не все доживают до старости, но если старость и не была бы предусмотрена, — все равно книга была бы толстой, возможно — многотомной. Трудно было бы удержаться от того, чтобы не прочесть оглавление или пролистать последние страницы! Что там? Как там? Последний вздох, подпись на завещании, а может: «пропал без вести», «братское захоронение»…
Жизнь каждого человека — это материал как для многотомника, так и для единственного листка с сухими датами. Но, согласитесь, какое это все-таки томительное счастье — оставаться в неведении!
Но книга могла бы быть и тоненькой. Даже не книга уже, а так — тощая тетрадка или папка с двумя листками. Это в случае, если жизнеописание было бы дано в виде сухой биографии — вроде тех, что пишут при приеме на работу или в некрологе: «родился, учился, женился; супруга, дети, имущество; стоял на учете, лечился от… Умер в возрасте N лет». Эта жалкая версия земной биографии, пожалуй, страшней, чем объемная. Все же, когда холм насыпан, крест водружен и лития пропета, лучше оставить по себе подобие романа, нежели подобие жалкого меню в дешевом ресторане.
Жизнь каждого человека — это материал как для многотомника, так и для единственного листка с сухими датами. Но, согласитесь, какое это все-таки томительное счастье — оставаться в неведении! И какое милостивое чудо то, что, принимая в роддоме из рук медсестры драгоценный конверт с пятидневным сокровищем, мы не получаем в нагрузку точного знания о будущей жизни новорожденного! О, возлюбленные! Как ни лезем мы иногда в будущее, как ни стремимся отодвинуть занавеску на окнах земной темницы, — лучше не заглядывать далеко, лучше не знать, что будет завтра.
Но вот теплый праздник в холодную пору года опять привычно приближается к нам: Рождество приближается к нам, и мы через Рождество приближаемся к Богу. Ведь мы идем к колыбели, не правда ли? Мы идем к Новорожденному и Его Матери. И вот теперь нам пригодится все, что было сказано несколько выше.
Мы идем к колыбели Ребенка, жизнь Которого нам известна. Здесь не стоит гадать и спрашивать: что же из тебя вырастет, маленький? Не стоит раскладывать перед дитем книгу, машинку, рабочий инструмент, надеясь, в зависимости от того, к чему ребенок потянется, угадать его судьбу и род занятий, — все уже известно. Разложив перед Сыном Марии много вещей из мира взрослых, мы рискуем увидеть, как Он потянется к рубанку или пиле, которыми будет зарабатывать на хлеб рядом с Иосифом. А потом, возможно, Он возьмет в ручку гвоздь, и никто из нас не ошибется с ответом на вопрос «почему?».
Он пришел страдать, умирать — и потом разрывать смертные оковы. Поэтому в «Символе веры» сразу после слов о вочеловечении идут слова «и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день…» Но страдать нужно будет в возрасте совершенной жертвы, в зрелости. Поэтому нужно будет сначала расти, проходить поступательно детство, и отрочество, и юность, наполняя Собою человеческую природу.
Если люди в толстых книгах описали подробно и увлекательно свое и чужое детство, а Он Свое детство от нас утаил, то не потому, что Его детство было менее интересно, нежели наше. Наоборот, именно уверовав в Него, люди стали способны создавать то, что называется детской литературой. В детстве, в котором долгими веками люди видели только слабость, глупость и лишний рот, совсем не так давно научились видеть свежесть, святость и трогательную наивность. Посольством иных миров стали дети в новое время. Только в новое. И лишь потому, что Он сказал: таковых есть Царство Небесное (Мф. 19:14); и еще потому, что Сам Он был ребенком.
Вот уже много столетий для всех христиан Иисус это Младенец, «в нагрузку» к празднованию Рождения Которого людям выдается книга о Его жизни — Евангелие. И надо идти к Младенцу, помня обо всем, что будет.
Будет крайняя простота в детстве и юности, будет полная неразличимость с миром простых людей. Ведь действовать нужно вовремя — не позже и не раньше. А потом, когда Иоанн проповедью даст знак, поднимется вихрь событий — от Крещения на Иордане до самой Голгофы, и далее до слов: Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28:20).
Он мог родиться в царской палате и в любой роскоши, но родился в пещере, потому что Царство Его не от мира сего.
Никто не дарил и не обещал человечеству больше, чем Иисус Христос. Своим Воскресением Он окрылил человечество надеждой на окончательную победу и подлинную вечную жизнь. Закваску бессмертия Он уже вложил в род наш, но Он и растревожил многих, смутил, измучил загадками, истомил тяжестью вечных вопросов. Люди будут недоумевать о Нем, спорить, злиться, сомневаться. Они будут листать старые книги, размышлять по ночам, вопрошать Небо, отчаиваться. Они будут приходить к вере и отпадать от нее, будут воевать с Ним и потом склоняться перед Ним же, когда благодать растопит лед упрямства. Так будет и при Его жизни, и после Его Вознесения даже до конца истории.
О, Великий Царь родился нам в городе Давида! Это такой Царь, который даже в детстве не будет играть мягкими игрушками. Верите ли, что Он — Царь и даже больше, чем Царь?
Не беря в руки оружия, Христос объявит и возглавит такую войну в истории человечества, какую не под силу вести обычным владыкам и полководцам. Не покидая за время земной жизни Палестины, кроме как однажды в младенчестве, Он после Воскресения, дориносимый[6] Своими служителями, в Тайнах и книгах, в чудесах и знамениях посетит все континенты, содействуя проповедникам и покоряя вере народы. Сегодня повсюду на земле есть следы присутствия Христа и веры в Него.
Он мог родиться в царской палате и в любой роскоши, но родился в пещере, потому что Царство Его не от мира сего. На земле мир (Лк. 2:14) — пропели Ангелы над головами пастухов, но Он добавит потом: Не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34), — потому что любовь Его зрячая; она не смешивает добро и зло, но различает и разделяет, благословляет одно и проклинает другое.
Мы умиляемся детству, страстно влюблены в сильную и здоровую молодость и боимся старости. А Он? Ему не дано постареть. Это не Его чаша. Он должен будет умереть молодым и воскреснуть. Что же до детства, юности и зрелости, то всюду Он — Царь: простой без потери величия; иногда незаметный, как воздух, но такой же необходимый; сильный, хотя и не окруженный страхом.
Рождество: печаль человечества свела с небес Сына Божия
Жестокость мира — от демонов. Разврат мира — оттого что весь человек стал плотью, и только плотью. И радость мира — шумная и надрывная радость, от которой тяжело, как с похмелья, это лишь декорация: аналог репродукции картины на стене, висящей только для того, чтобы закрыть дыру в обоях.
До начала мир пуст. После грехопадения он пуст, как барабан; пуст, как опустошенный вором кошелек. Оттуда, из чрева пустоты, выползает медленная и звенящая тоска — та самая, с которой если кто не знаком, то не сможет понять и ощутить сердцем, чему можно радоваться в Рождество.
Пустой мир — и человек, сдувшийся как шарик. И если надо дальше жить, даже если и не хочется, но придется, то нужно «развеселить себя» чем-то.
Пустота — от грехопадения. Суета и шум — от невозможности сидеть на месте и в тишине. Разврат — от угасания духа, от тотальной власти плоти и невозможности этой власти сопротивляться. А уже злоба — от демонов. В особенности — лукавая злоба, в которой улыбаются и держат паузу. В которой вынашивают замысел и строят планы. В которой жестокость не порывистая, а осмысленная, санкционированная, идеологическая. Что еще есть вокруг, что ускользнуло из списка? Чего не назвали?..
И вот на землю, подпадающую под наше описание, пришел Христос. На развратную от отчаяния землю — пришел Сын Девы, не имевший в Себе греха. На поглупевшую землю пришла Премудрость Божия: туда, где пустота, пришел Тот, в Котором полнота. И поскольку земля из-за демонов стала лукава и жестока, милосердного Христа ждали на земле сети словесных уловок, крики распинателей и плетки солдат претории. Он это знал и все же Он пришел. Не отрекся. Не отказался. Прими благодарный поклон, Спаситель мой и Благодетель.
Пустота — от грехопадения. Суета и шум — от невозможности сидеть на месте и в тишине. Разврат — от угасания духа, от тотальной власти плоти и невозможности этой власти сопротивляться. А уже злоба — от демонов. В особенности — лукавая злоба, в которой улыбаются и держат паузу.
Мы празднуем Рождество, господа! Рождество, говорю, празднуем, товарищи! Братья и сестры, мадам и месье, Воплощение Сына Божия торжествуем!
Нам праздники даны не для воспоминаний о событиях, а для сердечного участия в них — в этих самых празднуемых событиях. По замыслу и в идеале мы не «вспоминаем» и едим, а соучаствуем и веселимся. И если праздник способен приобщить человека к радости пастухов, слышавших ангельский хор, и волхвов, принесших дары, то Рождество способно заострить также и ту тоску дохристианского мира, от которой в томлении издыхало человечество.
Не издыхает ли оно вновь, только уже не как ждущее Искупителя, а как отрекшееся от Него, и, следовательно, более виновное? Предпраздничная тоска. Непонятная пустота, день за днем сосущая сердце. Смутное недовольство всем вообще и ничем конкретно: шуба не греет, покупка не тешит, анекдот не смешит; новости страшат, разговоры утомляют, — знакомо? Если нет, то чему вы радуетесь в Рождество?
Книге нужен переплет и картине — рама. Так и для радости нужен печальный контраст, потому что и сама радость — это ответ Бога на печаль мира. Конкретный ответ на конкретную печаль. Речь не о личной печали, которая у всех своя, а о печали вселенской, которой дышат все без исключения. И благодать, та, что обрезает не крайнюю плоть, но сердце, делает человека внутренне чувствительным не только к движениям Духа, но и к тонкой печали века сего.
Эта печаль погибающего человечества, печаль, мало кем осознанная, но несомненная, свела с Небес Сына Божия. Это Он сжалился, глядя на нашу бедность, на наше угасание, на наше бесплодное ползание в пыли. Он ведь с Отцом и Духом не для того нас создал, чтобы мы жили вот так, как живем обычно. Пропасть лежит между тем, какими мы быть должны и какими стали. И дело нужно было исправить, но не человеческой рукой — слаба она. Дело нужно было исправить рукой Божественной. Рукой, на первых порах — младенческой. Это и есть Рождество.
Чувствуя странную, нездешнюю радость от того, что Он пришел, мы вполне обязаны обрезанным сердцем чувствовать и вкус той трагедии, которая привела к Воплощению, а затем к Крестному страданию Иисуса и Его воскресению. Нечувствие радости есть точный диагноз неверия. И излишний праздничный шум — это лишь звуковая завеса. Рождество хочет тишины. Тишины и простоты. Тишины, простоты и слез. Слез в тишине и радостного ужаса: ужас прогоняет тоску и приносит смысл. Ибо если и есть что-то подлинно ужасное (в смысле не бытовом, но библейском), то это Истина, завитая в пеленки, которую вдруг распеленали.
Пропасть лежит между тем, какими мы быть должны и какими стали. И дело нужно было исправить, но не человеческой рукой — слаба она. Дело нужно было исправить рукой Божественной.
Говорить можно много, и если разговорился, то уже и хочется говорить дальше… Но надо ли? Что скажет человек, когда ангелы поют, да и не поодиночке, а хором! Такое привычное, но совершенно неизвестное празднование. Морозное, елочное, в шарах и лентах, измучившее приближением, оглушающее приходом. Рождество пришло. Пришло Рождество. Пришло…
О благодати, о грехе и о празднике. Несколько слов о Рождестве Христовом
Благодать праздника обличает грех
Рождество у нас и снежно, и морозно, и многолюдно. Но главное — оно благодатно. Как старый сундук, наполненный сокровищами, это архаичное слово таит немало загадок. Несколько слов о благодати, если позволите — всего несколько слов.
Что делает благодать? — Обличает грех. Она врачует, умудряет, утешает. Но вначале — обличает затаившийся грех. А что делает грех, обличенный и проявленный? — Он буянит и дебоширит, как разбуженный бандит во хмелю. Если ангелы радуются, то бесы воют; если бесы хохочут, то ангелы плачут, — и никогда не бывает так, чтобы и те, и другие радовались или плакали одновременно. Не значит ли это, что у праздников, кроме хлопушек, гирлянд и дежурных поздравлений, есть еще одна — болезненная сторона? Как вам кажется, друзья?
Лично я думаю, что если праздник благодатен и проникает внутрь сердца — туда, где грех живет, — то грех просыпается и берет в руку палку, как Каин на Авеля. А если праздник не благодатен (так только — мишура и сопливое сюсюканье), то грех продолжает спать и улыбаться во сне улыбкой сытого людоеда.
Праздник без печали — сущее беснование
Невозможно побывать всюду, но через окошко телевизионного экрана мы можем поглядеть на праздничные площади мировых столиц. А еще можно почитать и послушать, о чем говорят, что поют, какие поздравления произносят. Потом рождаются выводы: вот ими я и хочу с вами поделиться.
«Грех нам друг, а Христа мы не знаем, и убедительная просьба не навязывать нам свое мрачное мировоззрение», — такой текст можно прочесть на лбу у многих.
На Западе — успешные попытки выгнать Христа из Christmas[7]. У нас — небезуспешные попытки Христа на Christmas не пустить. Повсюду же — желание оставить только елку с конфетами и корпоративы. И не есть ли это — желание помириться с грехом и окончить изнурительное противостояние? Ну да. Именно это и ничто иное. «Грех нам друг, а Христа мы не знаем, и убедительная просьба не навязывать нам свое мрачное мировоззрение», — такой текст можно прочесть на лбу и на правой руке у многих. Только текст. Никаких цифр. Кстати, любой текст можно перевести в цифры, но не всякие цифры превращаются в текст. Впрочем, об этом не сейчас.
Настоящие праздники нужны для опечаленного человека, а капля печали необходима для празднующего. Печаль без праздников — путь к самоубийству, а праздники без нотки печали — сущее беснование. Ведь зачем мы солим пищу, зачем добавляем перец, корицу и прочие специи в блюда? Если бы на столе было только сладкое, разве это не было бы пыткой и неестественностью? И разве не печально, что Христос родился для Крестной муки? Ух, показали бы мне вы того, кто виноват в неизбежности Крестной Жертвы и крика: Или, Или! лама савахфани?[8] (Мф. 27:46). Я б ему…
Подхожу к зеркалу и вижу знакомые черты одного из виновников коллективного преступления. Ну и сколько теперь нужно выпить шампанского, чтобы затушить тревогу? Мадам Клико, отворяй подвалы!
Два полюса мира
Мои мрачные теории о войне греха с благодатью, друзья, подтверждаются историей.
Звезда повлекла в путь волхвов. Волхвы растревожили Ирода. Не обрадовали, а растревожили. Вместо того чтобы каяться, благодарить, поклоняться, Ирод решает Христа убить. Что же это такое? Это — действие благодати на осатаневшую душу. Лучи благодати осатаневшую душу только жгут, только мучают: никакого спокойствия, умиления или радости.
За окном — снег и мороз, а в доме у нас — елка в гирляндах. Но думаю я не о них. Я думаю о бесснежных зимах в Палестине; об Ироде, обдумывающем убийство Младенца в комнате дворца; о длинных тенях, которые бросает на стены комнаты горящая перед царем жаровня.
Ирод — это полюс безблагодатности. На противоположной стороне Мария, ангелы, Иосиф. Все остальное человечество — посередине. Блаженный Августин говорит, что весь мир помещается между двумя крайними состояниями: любовь к себе до ненависти к Богу, и — любовь к Богу до ненависти к себе. Эти слова глубоки, и размышлять о них можно долго.
Празднуя Рождество
Я мучаюсь, друзья, от участившихся требований практической пользы. «Чего ты хочешь добиться? Зачем ты это говоришь и в чем смысл твоих слов?» — приходится слышать все чаще. Как будто так уж легко объяснять смысл, к примеру, музыки и доказывать ее необходимость. Но смысл, думаю, в том, что мы не празднуем какое-то «просто Рождество», а празднуем Рождество по плоти Сына Божия, Христа Иисуса.
Смысл еще и в том, что если вы Христа любите, но наполняетесь радостью не полностью: если с недоумением обнаруживаете в себе особую печаль посреди самого торжества или после него, не удивляйтесь. Грех, который в нас, мешает полноте радости, и огонь на душевных алтарях коптит.
Сам праздник способен разбудить в душе нашей нечто до тех пор спавшее и утаившееся. Благодатный праздник, друзья, всегда — опыт углубленного самопознания. Самопознание же — такое занятие, которое вовсе не всегда связано с приятными новинками. Оно скорее пугает или печалит, оно заставляет искать утешения от Духа. И поэтому вникать нужно не только в себя, но и в учение, причем — постоянно (ср. 1 Тим. 4:16).
Если вы с недоумением обнаруживаете в себе особую печаль посреди самого торжества или после него, не удивляйтесь. Грех, который в нас, мешает полноте радости, и огонь на душевных алтарях коптит.
В заключение
Ведет Иосиф под уздцы ослика. Сидит на ослике молодая Мать с Младенцем Иисусом, и все они движутся в Египет, оставляя за спиной Святую Землю. Египет всегда был для евреев символом греха. Но вот, в земле Израиля Христа ищут убить, а в Египте Ему будет спокойно. Странно.
Так грех и святость могут неожиданно поменяться местами в праздник.
Таковы наши праздники, любезные друзья. А каковы ваши?
Рождество: Бог явился во плоти…
Рождество Христово — праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Его ожидали пророки, о нем возвестили Ангелы, о нем вдохновенно говорили апостолы. Среди апостольских посланий, быть может, самым ярким словом о Рождестве является вдохновенный отрывок из Послания Павла к Тимофею, написанный в форме гимна:
И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе (1 Тим. 3:16).Слово «плоть» — многозначное. Часто это синоним понятия «человек» в общем значении, человеческой природы. Слово «плоть» нередко обозначает немощь, тяжесть, ограниченность: Симон назван блаженным, потому что узнал в Иисусе Сына Живого Бога, и не плоть и кровь, а Отец открыл ему это (ср. Мф. 16:16–17). Когда человек отчужден от жизни Божией, то признается, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе (Рим. 7:18).
Что значит «оправдал Себя в Духе»? Это значит, что Воплотившийся Мессия был настолько смирен и прост, что лишь в делах Он познается как Сын Всевышнего и Бог Всемогущий.
И именно поэтому явление Бога во плоти названо Павлом великой тайной благочестия (ср. 1 Тим. 3:16). Через Воплощение Божие наши плоть и кровь, прежде чуждые святости, раздираемые страстями, получают возможность освящения. Именно получают возможность, а не освящаются «автоматически». Через плоть Господа, ставшего нам единосущным, и мы становимся причастниками Божеского естества (2 Пет. 1:4). Открывается возможность освящения не только помыслов и намерений сердечных, но и всего существа человеческого, всего душевно-телесного состава.
Это — тайна, тайна великая. Тайна благочестия.
Что значит оправдал Себя в Духе (1 Тим. 3:16)? Это значит, что воплотившийся Мессия был настолько смирен и прост, что лишь в делах Он познается как Сын Всевышнего и Бог Всемогущий.
Достигнув возраста полной человеческой зрелости, Христос выходит на служение, посреди которого Он врачует всякие болезни, изгоняет демонов, воскрешает мертвых, повелевает стихиями. Дела эти Он совершает всенародно и без каких-либо приготовлений. Силу чудотворения Он дает также учениками Своим, и те одним лишь именем (!) Учителя совершают знамения (см.: Мк. 16:17). В этих обильных делах, каких никто другой не делал (Ин. 15:24), Божество Иисусово было ясно видимо и пробивалось лучами сквозь завесу плоти, как солнце — сквозь облако.
Со стороны ангелов Господь был окружен служением на всем протяжении земной жизни. Его зачатие благовещено Гавриилом. Его Рождение воспето с небес. Его пост в пустыне укрепляем служением ангельским, равно как и слезная молитва в Гефсимании. Воскресение возвещено мироносицам ангелами, и Его Вознесение окружено ангельским предстоянием.
Ангелы светлые, отличаясь несравненно большей силой ума и большей степенью любви к Творцу, чем люди, удивлялись, видя своего Господа воплотившимся, и служили Ему со страхом и одновременной радостью. Они легче и быстрее, чем мы, отличают ложь от истины, и такое благоговейное внимание к жизни Господа Иисуса с их стороны убеждает нас в том, что Иисус есть Бог воплотившийся.
Господь Иисус не пришел исключительно для одних евреев. Радость богопознания и светлую перспективу вечной жизни Он принес для всего человечества. Понести проповедь во все концы мира Он поручил малому числу самых простых учеников Своих. И то, что Церковь Христова не умерла в первые годы бытия своего, то, что она, как могучее дерево, укоренилась и распространила ветви на всю широту земную, есть еще одно неоспоримое доказательство Божественности Спасителя.
Не на острие меча, как Мухаммед и его последователи, не хитростью и мудростью земной, как многие учителя и философы, а в простоте жизни и слова, в силе Духа Святого действовали Христовы ученики. Успех их деятельности заключался не в их личных талантах, а в постоянном Господнем содействии и подкреплении их слова последующими знамениями (Мк. 16:20). Можно повторить вслед за Павлом, что Господь намеренно избрал немощное и ничего не значащее, чтобы сильное и значащее посрамить (см.: 1 Кор. 1:27–29).
До чего же удивительно, что странную веру, пришедшую с небес, выпадающую за пределы всех логических схем, веру, где Дева рождает, где Бог распинаем, где от последователей требуется безропотность в страданиях и любовь к врагам, приняли великие множества самых разных людей! И смягчились сердца, и укротились нравы, и просветлели лица! Сила Христа Воскресшего восторжествовала над грубостью и черствостью миллионов сердец. И поныне она продолжает торжествовать, приводя к покаянию, к благим изменениям блудниц, мытарей и гонителей.
Бог сердца моего (ср. Пс. 72:26) — так может назвать Иисуса всякий человек, вкусивший, яко благ Господь (Пс. 33:9). Верующий готов петь Богу песнь новую: «Кроме Тебя, иного не знаем, имя Твое именуем»[9]. Как тает от любви сердце Суламиты в Песне песней, так тает и горит, горит и тает сердце верующего человека, уязвленное Божественной любовью. От благовония мастей твоих имя твое — как разлитое миро… Влеки меня, мы побежим за тобою… достойно любят тебя (Песн. 1:1–3).
Быть может, лучше прочих доказательств Божественности Спасителя — то чувство нашей умиленной любви к Нему. К Нему, Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения душ (1 Пет. 1:8–9).
До чего же удивительно, что странную веру, пришедшую с небес, веру, где Дева рождает, где Бог распинаем, где от последователей требуется безропотность в страданиях и любовь к врагам, приняли великие множества самых разных людей!
Совершив все, исполнив волю Отца, Христос видимо покинул этот мир. Небо приняло Его до времени Страшного Суда и Второго Пришествия. Приняло не как Еноха и Илию, ибо те — рабы Божии и были взяты, а Он — Господь и вознесся. Вознесшись, Он обещает быть с нами во все дни. И Он управляет миром, поскольку Ему дана всякая власть на небе и на земле (см.: Мф. 28:18–20). Своим Вознесением Христос показывает нам, что Он не от земли, как первый Адам, а с Неба, и что Он — Адам второй. Так и говорит апостол Павел: Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба (1 Кор. 15:47). Кто же еще этот второй человек и Господь с неба, как не Христос, Который пришел в мир и совершил спасение, а затем видимо покинул мир, чтобы прийти для справедливого Суда?
Теперь, собрав воедино все Павловы слова относительно Рождества, что еще нужно сделать нам, как не сказать, преклонив колени, Родившемуся в Вифлееме: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе»?
Просвещенные верою в Тебя, Сладчайший Иисусе, мы на Тебя и надеемся, Тобою хвалимся, в Твоей любви хотим возрастать и укрепляться. Твоя благость да очистит наши ранее содеянные грехи. Она же да удержит нас на будущее от совершения грехов новых.
Твоя милость да не оставит нас и да усладит нас во всякой неминуемой житейской горечи.
С Иосифом служить Тебе считаем мы себя недостойными.
Близ Матери Твоей стать не позволяет нам внутренняя наша нечистота.
Все, включая пастушков, этих смиренных свидетелей всемирной радости, опередили нас в добродетелях.
Но рядом с осликом, волом и овцами позволь нам стоять в ночь Рождества.
Да будем и мы овцами Твоего стада, да будешь и Ты — наш Пастырь. Пастырь добрый, пришедший положить душу за овец (ср. Ин. 10:11).
Рождество Христово: «до» и «после»
В разных культурах слово о Рождестве соединено с разными трудностями. Слово вообще рождается трудно. А если нужно родить слово о Слове, Родившемся от Девы (ср. Ин. 1:14), то немоты можно ожидать от самого говорливого. Сам дай мне слово, Слове Божий, да и в этом году прославится нами Твое Пришествие в мир.
Мы имеем счастье быть окутанными христианством и имеем хамство этого не замечать. У нас разговор о Рождестве как будто легок и привычен. А вот попробуйте сказать о воплотившемся Боге, находясь внутри индуистской культуры, у которой сотни тысяч богов. Эти боги являются среди людей постоянно, они способны к бесчисленным воплощениям и развоплощениям. И не нужно ехать в Индию, чтобы об этом узнать — можно хотя бы побеседовать со знакомым кришнаитом славянского происхождения.
Между тем христианская весть о воплотившемся Боге уникальна и ни к чему не сводима. Вся грандиозность события заключается именно в том, что речь идет о Боге Израиля, о Боге Ветхого Завета, со всеми теми Его качествами, которые мыслятся с непременным страхом. Это Бог, могущий все, то есть Всемогущий. Это Бог Вечный, Всезнающий, не безразличный к человеку, умеющий как любить, так и наказывать. Ему служат солнце и луна. Его Престол, закрывая лица, окружают Херувимы. В травинке видна Его премудрость, а в горных хребтах и морских глубинах очевидно Его всесилие — и именно Он родился в пещере от Девы…
Если мысль мечется между небом, которое есть Престол Божий, и землей, которая есть подножие ног Его (см.: Мф. 5:33–34), если мысль пытается удержать в памяти все, что знает о великом Боге, и соединить эту память с Дитем, положенным в ясли, то нельзя не изнемочь человеку. Человек тогда опускается на колени, точь-в-точь как волхвы на бесчисленных средневековых картинах. Человек не приносит дары и не держит в руках ни ларца, ни посоха. Он просто стоит на коленях перед Младенцем и Девой. Возможно, он уже и не думает, но созерцает.
Рождество — праздник, требующий вначале размышления, затем усталости от последнего и перехода в созерцание. Это глубокий праздник — и над ним нужно стоять, как над колодцем, в котором ночью отражаются звезды. Отсюда все праздничное умиление и вся тишина сочельника[10]. И даже громкий смех детей и взрослых на святках[11] — не более чем разрядка для души, немного уставшей от громадности чуда.
Мы имеем счастье быть окутанными христианством и имеем хамство этого не замечать. У нас разговор о Рождестве как будто легок и привычен.
Да, друзья, от чуда можно устать. Потому что оно большое, а я маленький. Потому что моя душа не всегда готова жить чудом и только чудом, а оно между тем таково, что, поселившись в душе, неумолимо вытесняет из нее прочь все нечудесное. И тогда возникает соблазн любить чудо не «от всея души и от всего помышления», а частично, умеренно и привычно, как пушистую домашнюю зверушку. Этот соблазн — от усталости.
Что уж там индуизм с миллионом воплощающихся и испаряющихся богов! Не намного ли опасней современное «культурное» басурманство, при котором и женщина — не тайна, и роды — не чудо, и дети «заводятся» или сами, как тараканы, или сознательно, как пекинес?
Мария и младенчески беспомощный Бог на Ее руках — это целое Солнце, от которого рождается тепло и текут во весь мир умные лучи. Любовь к этому удивительному вифлеемскому событию должна разрезать жизнь человечества на «до» и «после».
Что значит «до»? Значит, что женщина — объект мужских желаний и своеволия; что ребенок — лишний рот, пока не вырастет; что сама жизнь — мрачная пещера, даже если жить в пространных покоях.
Что значит «после»? Значит, что Одна Дева и Жена (ср. Лк. 1:42) стала вместилищем Тайны, и теперь всех жен в благодарность Той Одной нужно любить, защищать, уважать и быть для них рыцарем. Значит, что ребенок — это умилительно более, чем обременительно. Значит, что поклоняться нужно отныне не грубой силе и фактическому могуществу, а такой силе и такому могуществу, которые способны унизиться до образа раба, и отдать Себя на девические руки, и сопеть безмятежно на этих самых руках. И то, что эти руки будут обнимать отныне всю человеческую историю — тоже значит.
За оконным стеклом вихрем кружатся белые хлопья, хрустит под ногами снег и опять в церквях поют: «Таинство странное вижу и преславное: небо — вертеп, Престол херувимский — Деву»[12]. То есть небо — это не то, что вверху. Настоящее Небо — там, где Бог. Христос родился в пещере — и пещеру сделал небом. До Воплощения только Небесные Силы, да и то не все, были так близко допущены к Божеству, что Господь именовался Сидящим на Херувимах и Ездящим на Серафимах. А теперь Он приблизился к Деве и через Нее так приблизился к нам, что Она превзошла близостью херувимские престолы. Так поют в церквах от лица всех думающих об этом и понимающих это. И каждый из нас может сказать вслед за ирмосом: «Вижу!»
Не намного ли опасней современное «культурное» басурманство, при котором и женщина — не тайна, и роды — не чудо, и дети «заводятся» или сами, как тараканы, или сознательно, как пекинес?
Видишь ли ты это, брат мой и сестра моя? Если не видишь, то не январская пурга мешает тебе и не слабое зрение, но какой-то «-изм»[13] попал в твое нежное око. А может, просто суета, да предпраздничный шопинг, да забот полон рот, да на работе проблемы. Только — знаешь? — никогда суета не закончится и никуда не уйдут проблемы. Они будут мухами жужжать над ухом и появляться ниоткуда, как вездесущая пыль. Особенно если даже раз в год ты не выкроишь кусочек бесценного времени для того, чтобы в удивлении постоять над входом в одну пещеру. Там сопит вол, там слышен стук копыта, ударяющего о каменный пол, там тихо поет Мария. Возможно, Ей подпевают Ангелы, но этого мы с тобой не слышим. В этой пещере скрыто твое и мое главное Сокровище. Оно пока маленькое и нуждается в защите Иосифа. Но вообще-то по-настоящему маленькие — мы. И мы нуждаемся в Нем постоянно.
С Рождеством тебя, брат мой или сестра моя!
Крещение Господне, или Богоявление 19 (6) января
Установление праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О событии его повествуют все евангелисты. Господь Иисус Христос является на Иордане, крещается от Иоанна. В это время сверху слышен голос Отца, а Дух Святой в виде голубя слетает с Небес. Бог являет Себя миру. Освящается водное естество.
Богоявление: начало Евангелия — Иордан
О, Иордан! С какой стороны мне мысленно подойти к тебе?
С востока ли, откуда пришел из пустыни народ, имеющий наследовать землю за твоей границей и которому ты позволил перейти по осушившемуся повелением Бога дну своему (см.: Нав. 3:7–17)?
Или с запада, откуда пробирались к твоим водам люди, желающие крещения Иоаннова? Сложен был тот последний путь, и много опасностей ждало путешественников. Но, видно, силен был голос вопиющего в пустыне (Лк. 3:4), раз рисковали люди быть ограбленными, но шли за духовным сокровищем.
Надо было когда-то одним перейти через Иордан, чтобы вселиться в землю, текущую молоком и медом. Надо было и другим окунуться в Иордан, чтобы уверовать в Того, на Кого Иоанн указывал.
«Начало мира — вода, и начало Евангелия — Иордан»[14].
Христос не ходил среди людей, говоря им громко или на ухо: «Я — Мессия». Очень редко слышим мы в Евангелии голос Иисуса, говорящего о Себе, что Он есть Обещанный и Долгожданный. Нужно иметь свидетельство от другого. И этот другой должен быть человеком, достойным всяческого вероятия, бескорыстным, праведным, ревнующим об Истине. Иоанн был таковым.
Сын священника, рожденный отцом и матерью в старых летах, житель пустыни, он должен был казаться иудеям Ангелом. Они спрашивали, не Илия ли он, не Мессия ли? Он отвечал словами Исаии (см.: Ин. 1:21–23). Слушавшие должны были понимать.
Он пришел во свидетельство, чтобы указать на Того, Кому считал себя недостойным развязать ремень на обуви.
Главное в проповеди Иоанна — покаяние. Ни капли сентиментальности. Один грозный голос, как рык львиный, созывал к нему множество людей со всех пределов земли обетованной. Они шли посмотреть, потолкаться, но им приходилось слушать. Он говорил, и они опускали головы долу. Потом, неся на лице краску стыда, они входили в воду, и он погружал их в нее (крестил) в покаяние и ради веры в Того, Кто имел прийти (см.: Мк. 1:5).
Имевший прийти пришел.
Иоанн узнал Его. Не по словесному или писанному портрету, но по биению сердца, по волнению души, по извещению от Духа Святого.
— Ты ли идешь ко мне? Мне нужно у Тебя креститься! — сказал пророк.
— Оставь сейчас. Нам надлежит исполнить всякую правду, — отвечала Истина (ср. Мф. 3:14–15).
Иисусу нужно чтить закон и почитать пророков. Иоанну надлежит смириться. Так грубых людей Промысл смиряет, ломая их о колено, а смиренные и чистые смиряются сугубо от благодати.
Безгрешный вошел в воду и, как говорит Лука, молился (см.: Лк. 3:21–22). И по молитве Его произошло то, что мы празднуем: «Троицы явление на Иордане бысть». Бог истинный явился как Троица. А Иисус из Назарета явился как Христос.
Христос не ходил среди людей, говоря им громко или на ухо: «Я — Мессия». Нужно иметь свидетельство от другого. И этот другой должен быть человеком, достойным всяческого вероятия, бескорыстным, праведным, ревнующим об Истине. Иоанн был таковым.
Отец проявил Себя голосом.
Сын стоял в воде иорданской.
Дух сошел на смиренное Слово в виде голубя.
Иоанн сказал: Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым (Ин. 1:33). Мы говорим: «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас»[15].
Отец сказал: Сей есть Сын Мой Возлюбленный (Мф. 3:17). В каждом празднике есть догмат и есть назидание. Есть правило для ума и есть закон для поведения. Сей есть Сын Мой Возлюбленный — это догмат.
В Нем Мое благоволение (ср. Мф. 3:17) — это учение о невозможности угодить Богу Небесному, не слушаясь Его воплотившегося Сына. Точно так же скажет апостолам Отец на горе Преображения со временем: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, — и добавит: Его слушайте (Лк. 9:35).
Догмат и заповедь. Заповедь и догмат. Разорви связь — и отделишь душу от тела, то есть совершишь убийство.
Далее у них — разные пути.
Сын Девы (Иисус Христос. — Прим. ред.) уйдет в пустыню, чтобы сразиться с диаволом и впервые дать естеству человеческому возможность отразить все того выпады и удары. Сын Елисаветы (Иоанн Креститель. — Прим. ред.), исполнив службу, вскоре сядет в тюремное подземелье, чтобы не выйти оттуда иначе, как только через пролитие крови и отсечение праведной своей главы от постнического своего тела.
Сын священника умолкнет. Сын Марии подхватит проповедь. Ему должно расти, а мне умаляться, — скажет Иоанн (Ин. 3:30).
Но и Сын Человеческий пришел не для того, чтоб Ему служили, и потому проповедь Свою начнет с повторения Иоанновых слов: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4:17).
Мы же, со склянками и баклажками пришедшие во множестве[16], словно измученные жаждой и добравшиеся до водопоя, что услышим сердцем?
Пришедши за водой, примем Дух, а вместе с Духом — страх ко исправлению. Представим, что нам, а не кому-то другому, сказано устами Иоанна: Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния (Мф. 3:7–8). И да не подумаем говорить в себе: «Мы-де право веруем. Мы хорошие. Мы, мол, ничего такого, а, наоборот, то да се». Сказывает нам Иоанн, что Бог от камней может сотворить детей Аврааму. Еще сказывает, что секира у корня всякого древа лежит. И срублено будет дерево, не принесшее плода. А уж огонь, в котором гореть ему, не угаснет (ср. Мф. 3:9–10). Это тоже для нас сказано.
В каждом празднике есть догмат и есть назидание. Есть правило для ума и есть закон для поведения. Сей есть Сын Мой Возлюбленный — это догмат.
Иисуса, явившего, что Он есть Христос, да возлюбим.
Богу, явившему над водами, что Он есть Троица, верою да поклонимся.
Ну а там уже можно и в полынью скакнуть.
Не простудимся.
Святое Богоявление
«Ты бо еси Бог наш, Иже водою и Духом обновивый обетшавшее грехом естество наше. Ты еси Бог наш, водою потопивый при Ное грех. Ты еси Бог наш, Иже морем свободивый от работы фараони Моисеом род Еврейский. Ты еси Бог наш, разразивый камень в пустыни, и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и жаждущия люди Твоя насытивый. Ты еси Бог наш, Иже водою и огнем пременивый Илиею Израиля от прелести Вааловы»[17].
Вода присутствует во всех деяниях Божиих, и Богоявление — это праздник начала Священного Писания и начала Евангелия.
Когда мы вспоминаем, как Дух Божий в виде голубином носился над Христом на Иордане и сошел на Него, то вспоминаем и голубя, возвестившего Ною окончание потопа. Когда воды, тяжелые, темные, мрачные воды потопа, были полны смерти, когда носились по волнам раздутые трупы беззаконников, и вороны сидели на них, выклевывая глаза, тогда среди этих вод, убивающих грехи вместе с грешниками, прилетел голубок с масличной веточкой в клюве в Ноев ковчег, и забрал его Ной. Это значило, что есть уже сухая земля. Голубь нашел что-то на земле, и принес Ною весть, и пришла милость Божия.
Теперь мы так же видим над Господом Иисусом Духа Божия в виде голубине на Иордане, возвещающего о спасении, потому что водой Господь может и миловать, и губить. «Вода и огонь — это хорошие слуги, но плохие хозяева», — говорят англичане. Они если греют, то греют, а если жгут, то беда. Если моют и питают, то хорошо, а если топят, то тоже беда.
Вода Крещения — это вода спасения. Кроткий Христос пришел на Иордан вместе с грешниками. Иоанн не знал Его, он говорил: «Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1:33), и когда увидал Христа, к нему грядущего, то вострепетал и пожелал сам у Него креститься, потому что, без сомнения, меньший должен креститься у большего. Но Христос для того и пришел, чтобы стать ниже всех, и пошел креститься первым. И Господь, крестившись, вышел из воды, разверзлись небеса, и Дух Святой сошел на Него, и было явление Троицы на Иордане.
Водой Господь может и миловать, и губить. Вода Крещения — это вода спасения.
Праздник Богоявления — это праздник явления Бога как Троицы и Иисуса как Христа. Христос явил Себя как Христос, а Бог явил Себя как троичное единое Божество. Единовременно все три ипостаси явили себя: Сын, в воде крестящийся, Отец, голосом благовествующий, и Дух Святой, сходящий в виде голубине. Одновременно это все произошло, то есть «Троицы явление на Иордане есть», как говорится в одном святом песнопении.
А Иисус явился Христом. Не стал Христом, а явился. Еретики различного толка говорили, что Иисус стал Христом, когда на Него Дух Святой сошел на Иордане. А родила Мария Иисуса-мальчика, и вот этот мальчик рос праведным, хорошим и т. д. Потом Он пошел на Иордан, на Него Дух Святой сошел, и Он стал Христом. А Церковь говорит — явился, а не стал. То есть родился уже Господь. Когда Ангелы пели с небес, то они говорили и Марии, и Иосифу, и пастухам: «Мы возвещаем вам великую радость, родился здесь в Вифлееме Христос Господь» (см.: Лк. 2:10–12). Христом нельзя стать, Христом можно только родиться.
Кстати говоря, антихристом нельзя родиться, им можно только стать. Это очень важно, потому что многие люди говорят: «Антихрист родился, антихрист родился…» Антихрист будет всего лишь человек и никто более, но по глубине лукавой души станет вместилищем диавола и всякой хитрости и злобы, и по гордости захочет соперничать с Христом, занять Его место. Он станет антихристом, когда диавол войдет в него. Он согласится на это избрание, и когда все люди будут готовы поверить в это, тогда это совершится и он станет антихристом. Антихристом нельзя родиться, можно родиться просто ребенком, просто мальчиком, просто девочкой. Антихристом можно только стать, поэтому когда говорят: «Антихрист родился», — не верьте этому, это ерунда, это совершенно бессмысленно с точки зрения Закона Божия.
Есть воля человеческая, эта воля должна быть свободной и должна покориться Господу, а если она покорится диаволу, значит, такова будет ее мера. Итак, Христом нельзя стать, Христом можно только родиться, а антихристом нельзя родиться, им можно только стать. Имейте это в виду, потому что у нас в православной среде постоянно идут эти бесполезные разговоры неграмотных людей. Будьте мудрыми, ибо спасение зависит от веры и мудрости. Спастись трудно, но мудро. Ошибиться легко — совершил глупую ошибку и потом всю жизнь тратишь усилия впустую, а только полезные усилия на пользу человеку.
Христос на Иордане явился и засвидетельствовал, что Он Мессия обещанный. И Отец сказал: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф. 3:17). Потом то же самое произошло на Фаворской горе во время Преображения. Облако на Христа сошло, и апостолы перепугались, и голос произнес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5).
Вода драгоценней всего остального. Вода — это начало мира. Пока вода есть, можно за нефть воевать. Но когда воды не будет, тогда уже про нефть забудут и будут драться за стакан холодной воды.
Иисус явился как Христос, Бог явился как Троица, повторяю еще раз. Это очень важно понять. Потому что мы — христиане — не просто верим в Бога, мы верим в Единого и знаем тайну о Нем, которую Он Сам нам открыл, что Он един, но Он Троица. Он един в трех — три в Одном. Три свидетельствуют на небе — Отец, Слово, Дух Святой. И вот, сии Трое явились на Иордане, проявили Себя, и мы поклоняемся Богу Троице в Единице — и Единице в Троице.
Во имя Троичного Единства мы крещены — во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Не в имена, а во имя — в одно имя, троичное имя. Не сказано было Христом — идите, крестите во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа, или в имена, а сказано: «Крестите во имя…» — одно, потому что один Бог, но троично имя, потому что Бог есть Троица — неслитная, нераздельная, чудотворная. Это все есть предмет догматического богословия, предмет научения христианского, и, конечно, не всегда мы бываем способны к этим разговорам, потому что мы далеко от них отстоим по жизни, по образу мысли. Но в праздник нужно об этом думать.
В сочельник накануне Богоявления совершается первое водосвятие по всем храмам и монастырям: «Днесь вод освящается естество». То есть одно естество, и можно купаться не только в проруби для купания. Если вы нальете ванну и пропоете тропарь Крещения «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…», а потом залезете в эту ванну, в холодную воду или горячую, вы тоже будете принимать освящение, потому что все в одно естество освящается, всякий водный источник.
Вода, которую Господь собирал на второй день и сказал: «Да соберется вода, яже под небесем, в собрание едино…» (Быт. 1:9), вся вода вместе, этот водный резервуар, — он в принципе неизменен по количеству. То есть воды не добавляется в мире и не уменьшается, она в принципе одна, только круговращается в природе: то замерзает, то испаряется, то уходит, то приходит. И все водные ресурсы мира соединены вместе, воедино. И из любого источника освященная вода втекает, так или иначе, в собрание вод единое, в единую мировую водную систему, Богом созданную, и будет благословение Божие на всяком водном источнике. Это очень важно.
Когда люди от хозяйственной деятельности своей и от грехов своих начнут до конца уничтожать свою жизнь, то первыми пострадают моря и реки, водные источники, и там издохнет все живое, всплывет брюхом вверх, и пить нечего будет. Люди будут кусать языки свои. Вода первой отреагирует на грехи человеческие. Как в кровь превращен был Нил, когда Господь Бог забирал евреев из рабства египетского. Сейчас за нефть воюют, а лет через двадцать будут воевать за воду — за Байкал, за Днепр, за Енисей, за Иртыш, за Обь, за Нил, за другие воды. Когда будет такое, если мы еще будем живы-здоровы, если доживем до этого, то мы еще увидим, что войны будут не за уголь и не за золото, а за воду, потому что вода драгоценней всего остального. Пока вода есть, можно за нефть воевать. Но когда воды не будет, тогда уже про нефть забудут и будут драться за стакан холодной воды.
Вода — это начало мира. Вода — это начало Евангелия, посему нужно беречь ее, осторожней к ней относиться, она чувствительна, она впитывает в себя более всего другого благодать Божию. Поэтому мы освящаем ее в день водосвятия не погружением креста, а словами священника: «Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим Святым». Троекратно повторив эти слова, троекратно осенивши воду, Христос через священника освятил эту воду, независимо от того, окунули крест в твою банку или в твою кастрюльку. Мы, конечно, всегда страшно переживаем за свою кастрюльку, свою чашечку, свою баночку.
Такие дни — с разбиранием и собиранием баночек, скляночек, кастрюлек с яблочками, со сливками, с грушками, со всем этим смаком — это экзамен на ваше христианское сознание. Пожалуйста, покажите, что вы никуда не спешите, что те три-четыре минуты, которые вам придется подождать, пока вас пропустят туда, к вашему сосуду с водой, для вас есть маленькая и терпимая жертва. Покажите, что вы не желаете портить себе и другим настроение лишней суетой.
Можно молиться пять часов и за две секунды все потерять, можно трудиться пять лет и за полдня потратить. Набирается долго — теряется быстро.
«Дом Мой, — говорит Господь, — домом молитвы наречется» (Мк. 11:17). Вы помолились, но это не значит, что, закончив, можно шуршать, шуметь, спорить, кричать… Дом молитвы пусть всегда таковым будет. Ты замолк — ангелы продолжают молиться. Потом мы на вечерню придем, ангелы умолкнут, начнут слушать нас, мы опять начнем молиться. Пожалуйста, дорогие христиане, будьте максимально отрешенными от вещей, которые и без того терзают и мучают нас в быту, в ежедневной суете. В праздник Преображения с яблоками, на Пасху с крашенками, на Богоявление с водой, на мучеников Маккавеев с травками-муравками — во все эти дни, пожалуйста, будьте людьми, имеющими страх Божий. Знаю по опыту, и вы тоже должны это знать, что можно молиться пять часов и за две секунды все потерять, можно трудиться пять лет и за полдня потратить. Набирается долго — теряется быстро.
И еще. Хотите искушать Господа Бога, — ставьте опыты: закатывайте банку с водой крышкой, ставьте в дальний угол и через десять лет доставайте ее обратно и пейте, — она будет как свежая, как впервые освященная, потому что это великая святыня. Но лучше не экспериментируйте, а эту воду, свежую, новую, освященную, используйте по назначению, — кропитесь, мойтесь, кропите жилища свои, окатывайтесь с ног до головы или на свежем воздухе, или в ванной у себя. Вода попадет в сточные системы, освящая все и там. Освящать нужно все: и хлеб, и скотный двор в селе, и туалет, и всякие прочие помещения, нужно все окропить, всему сообщить эту святыню.
Сретение Господне 15 (2) февраля
При рождении первого ребенка любая семья богоизбранного народа должна была «выкупать» первенца, жертвуя либо агнца, либо двух голубиных птенцов. Этот обычай поспешила исполнить и Преблагословенная Матерь Богомладенца в сороковой день после Его рождения. У храма ее ожидала удивительная встреча («сретение»), в ознаменование которой праздник и получил свое название. Встретил Их старец Симеон, который, по преданию, входил в число 72 переводчиков («толковников») Ветхого Завета на греческий язык. В то время как Симеон переводил Завет, ему было явление Ангела, и он получил от Бога обещание, что не умрет, пока не увидит обетованного Мессию-Богочеловека.
Видеста очи мои… Слово на Сретение Господне
Один из самых известных псалмов — 90-й: «Живый в помощи Вышняго». У нас он читается в чине шестого часа, на панихидах и погребении. Его мы также читаем, желая оградить себя Божественной помощью в сложных или даже опасных обстоятельствах. Подобным образом он использовался и в иудейской традиции. Его читали на погребениях, в утренних молитвах и в молитвах субботы. Это, кроме прочего, значило и то, что псалом был хорошо известен всем сынам Израиля. Псалом составлен так, что речь в нем ведется от лица наставника, перечисляющего наставляемому различные блага, проистекающие из надежды на Бога. А заканчивается псалом тремя стихами, произнесенными уже от лица Самого Бога. Последний стих звучит так: Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое (Пс. 90:16).
Вчитываясь в рассказ евангелиста Луки о событии, называемом сретением, можно заметить, что Божественное обещание 90-го псалма исполнилось на старце Симеоне. Этот праведный и благочестивый муж был стар и насыщен днями (ср. Пс. 90:16). И было ему обещано Духом Святым, что он не умрет ранее, нежели увидит собственными глазами Христа Господня (Лк. 2:25–26).
А ведь это и было заветным чаянием всех древних праведников. Они хотели жить как можно дольше не для того, чтобы наслаждаться благами этой грустной земли, а для того, чтобы дождаться Искупителя и увидеть Его собственными глазами. Поколение сменялось поколением, праведники с печалью закрывали глаза и с верой уходили в смертную тьму. Свои надежды они препоручали потомству. И именно поэтому бездетность ощущалась как проклятие. Ведь в этом случае не только ты не дожил до пришествия Христа, но и семя твое не укоренилось на земле и не стало причастным радости.
Шли столетия. Вера оскудевала и засорялась земными мечтами о могущественном царе, который должен дать Израилю политическую свободу и земную славу. Только некий «священный остаток», слишком малый числом, чтобы его заметить, жил чистой надеждой и терпеливой молитвой. Первым среди этого остатка был Симеон. До него многие праведники умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались (Евр. 11:13). А рядом с ним, в одно и то же время, жило множество нечестивых и суетных людей, которые, хотя и дожили до пришествия Мессии, не ощутили дня посещения (1 Пет. 2:12) из-за черствости души. И это — урок для всех. Мало жить во времена праведника. Мало находиться вблизи праведника. Все это не будет на пользу, если не будет веры, которую подает Дух Святой.
О Симеоне сказано, что Дух Святой был на нем (Лк. 2:25). Сей Дух предсказал старцу будущую встречу с Мессией. И Сей же Дух повел Симеона в храм, когда Мать Иисусова с Сыном на руках пришла для исполнения законного обряда. Храм Иерусалимский никогда не был пуст. Он был единственным святилищем для израильтян. Иных храмов, кроме Иерусалимского, никто не смел строить. Весь многочисленный народ Израиля исполнял свои обеты и приносил жертвы в этом храме. Для этого туда со всех сел и городов ежедневно, не говоря уже о праздничном многолюдстве, стекались толпы для принесения жертв: жертв повинности, жертв благодарственных, жертв по обету. И в этом многолюдстве Симеон, ведомый Духом, без труда различил Тех, Кого он так долго ждал, — Мать и Дитя. Он подошел к Матери, взял Младенца Христа на руки и произнес ту молитву, с которой теперь мы заканчиваем прожитый день и надеемся закончить жизнь.
В этой молитве он исповедал, что обещанное ему исполнилось. Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов (Лк. 2:30–31). Исполнились и слова 90-го псалма: явлю ему спасение Мое (Пс. 90:16).
Симеон видел прозорливым внутренним взором будущую Голгофскую Жертву. Того, Кто лежал у него на руках, он видел уже распятым за грехи мира. Поскольку именно Крест с распятым на нем Праведником — это и есть спасение, которое Бог уготовал.
То, что Симеон предчувствовал тайну Креста, видно и из слов старца к Марии. Тебе Самой, — сказал он, — оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец (Лк. 2:35). Эти странные слова исполнились, когда Мать-Дева стояла у подножия Креста, терзаясь сердцем о страдании Своего Сына. Так очи, слепнущие от старости, приобретают орлиную зоркость в вещах духовных, если сердце человека очищено верой и терпеливым ожиданием.
Древние праведники хотели жить как можно дольше, чтобы дождаться Искупителя и увидеть Его собственными глазами. Поколение сменялось поколением, праведники с печалью закрывали глаза и с верой уходили в смертную тьму. Свои надежды они препоручали потомству.
Мало сказал Симеон, но вся будущая история мира нашла отображение в его словах. Он предсказал, что Христос просветит язычников; что в Израиле, для которого Он — слава, Ему предстоит стать предметом пререканий. Из-за Него многие падут и многие поднимутся (ср. Лк. 2:34). Слова эти вряд ли можно было понять в то время, но последующая история подтвердила их полностью.
Увидев все, чего так долго дожидался, и сказав все необходимое тем, кто продолжал земное странствование, Симеон покинул землю. Покинул без страха и сожаления. Он видел Мессию! Он шел теперь в темноту шеола, чтобы рассказать Давиду и Соломону, Исаии и Иеремии о том, что обетование исполнилось и время всеобщего освобождения близко. Мария с Иисусом на руках осталась за его спиной. Старец медленно и твердо шел к черте, отделяющей этот мир от мира иного. И об этих его шагах нельзя сказать лучше, чем уже сказано:
Он слышал, что время утратило звук. И образ Младенца с сияньем вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. И. Бродский. СретениеСретение Господне. О Симеоне Богоприимце
Смысл Праздника Сретения Господня заключается в очень многих вещах, в частности — в укреплении веры человеческой во Христа пришедшего, что дается человеку Духом Святым. Никаких нет иных аргументов, всепобеждающих человеческое неверие, кроме благодати Духа Святого. Сколько бы ни набирал человек фактов, подтверждающих то, что Христос есть Господь и то, что Он есть истинный Мессия, пришедший, обещанный, долгожданный; сколько бы он ни отыскивал себе интеллектуальных подпорок, на этом вера стоять не может. Вера стоит на благодати Божией.
Симеон-старец в Иерусалимском храме узнал в младенце Иисусе Мессию, хотя Христос еще не проповедовал, не исцелял, не ходил по водам, не выгонял бесов, не воскрешал мертвых. Впоследствии Господь совершил многое и говорил о том, что, если бы Он не пришел и дел не сотворил, «ихже ин никтоже сотвори, греха не быша имели» (Ин. 15:24), то есть не было бы вины на тех, кто не веровал в Него. Потому что все, что Он сделал, выходит за рамки привычного, и это есть знамение.
Наши добрые дела не столь добры. В нашем «добре» добра настоящего очень мало. Если я делаю что-нибудь доброе тебе, то это значит, что я почему-то подобрел в отношении тебя, и Бог смягчил мое сердце, и я это по любви делаю, а возможно — по корысти, ибо половину добрых дел мы делаем по корысти или по желанию похвалы. Во всяком случае, это не знамение.
Христовы чудеса называются знамением, потому что они имеют смысл не в том, что это дела добрые, а в том, что они указывают на нечто большее, — на то, что Христос и есть Бог, пришедший во плоти, показавший Себя Ангелам, оправдавший Себя в Духе, проповеданный в народах и принятый в мире. Христовы дела знаменуют пришедшее в силе Спасение Божие. И люди видели множество дел Христовых. Если бы не видели, суда бы не имели, но видели и не отплатили Христу верой.
Наши добрые дела не столь добры. В нашем «добре» добра настоящего очень мало. Если я делаю что-нибудь доброе тебе, то это значит, что я почему-то подобрел в отношении тебя, и Бог смягчил мое сердце, и я это по любви делаю, а возможно — по корысти, ибо половину добрых дел мы делаем по корысти или по желанию похвалы.
Да и мы с вами за жизнь свою сколько разных милостей могли бы заметить, если бы были внимательны! Сколько разных чудес смогли бы сложить в копилку памяти, если бы были заметливы, а не легкомысленны!
Многие пользовались от Христа, но не было веры у них в ответ. Симеон еще ничего не видел от Христа, он шел мимо и увидел просто маленького ребенка на руках у его мамы. И он узнает в Нем Мессию, и благословляет Отца, берет на руки младенца Иисуса, произносит свою трепетную молитву предсмертную и уходит умирать без страха.
Эта вера во Христа пришедшего Симеону была дана Духом Святым, а не знаниями, не сопоставлениями пророчеств, не тонким изысканием из сказанного старцами. Можно себе представлять, как некоторым людям дается вера или неверие. Они себе все что-то составляют, сочиняют, плетут, как паук, свои паутины, долго плетут, а потом ветер дунет и все рвется. Плетут опять, плетут, плетут… Опять взяли, тронули и все порвалось — это знание человеческое. А знание Божие видит несомнительное и настоящее и не зависит от внешних условий. Симеон — это человек, который видит перед собой Христа, еще маленького, но истинного Христа.
В Иерусалимском храме было каждый день множество людей, и таких мам с детьми было ежедневно десятки, десятки и десятки, потому что у еврейского народа был только один храм. В синагоге нельзя было ни посвятить младенца Богу, совершив обряд на сороковой день, ни принести священного выкупа — надо было в храм идти.
А сколько людей было в израильском народе? Несколько миллионов как минимум. А сколько детей рождалось каждый день в многомиллионном народе, в котором не было абортов, в котором многодетность воспринималась как Божие благословение, а бездетность — как проклятие? Конечно же, там рождался каждый день не один ребенок, а намного больше.
И, соответственно, каждый день становился сороковым не для одного ребенка, а для многих детей. И все мамы с папами поднимались на ноги, садились на навьюченных животных, на осликов, и ехали, а то и пешком шли в Иерусалимский храм для совершения законного обряда. Приходили туда, платили необходимую сумму денег — пять священных шекелей, приносили жертву, принимали свое дитя обратно из священнических рук, как посвященного Господу, и уходили восвояси.
В Иерусалимском храме никогда не было пусто. Там была постоянная служба. Утренняя жертва курилась на жертвеннике до вечера, вечерняя до утра, постоянно приносились другие жертвы, например — обетные, благодарственные и всякие-всякие. Людей было много постоянно, а в праздники вообще на улице негде было яблоку упасть. Со всего мира съезжались евреи, и в Иерусалиме было не протолкнуться. Там не хватало воды и был заражен воздух от скопления людей, там даже лечь на улице, чтобы поспать ночью, невозможно было из-за многолюдства. Священники приносили столь много жертв, что кровь в святилище доходила до щиколоток. Они ходили босиком и поднимали свои одежды, чтобы не испачкать их кровью жертвенных животных.
Симеон зашел в храм, в котором было полно людей. И он, ведомый Духом Святым, без сомнения, пришел именно к Марии, именно к Ее младенцу. Симеон взял Его на руки и сказал Господу, если говорить сегодняшним языком: «Сегодня, Владыко, ты с миром меня отпускаешь, как Ты сказал, так ты и сделал. Сегодня я дождался и вижу в руках своих Свет во откровение язычников и Славу народа Твоего Израиля».
После этого он благословил Марию и предрек Ей страдания. Она была в недоумении и радости, и в самых разнообразных восторженных чувствах. И он предрек, что душу Ей пронзит оружие, что ребенок сей лежит у Нее на руках на падение и на восстание многих. Что сие дитя будет знаком пререкания и соблазна, что многие о Нем соблазнятся, многие скажут, что это не Он, что не такой Он пришел… Что душу Марии пронзит великая боль. И она пронзила душу Марии в день крестных страданий Господа Иисуса Христа Крестом Голгофским, когда была плоть Христа пробита гвоздями и избита мечами римских солдат. В это время душу Марии пронзало острейшее оружие — страдание за Своего сына. Это все тоже Симеон Ей предрек, потому что это все ему дал сказать Дух Святой. И, произнеся все, что нужно, он пошел умирать.
Говорят, когда умирал Вольтер — известный философ, властитель умов XVIII века, — он метался на подушках и кричал доктору: «Продлите мне жизнь, хотя бы на месяц, потому что я ухожу в ад и я хочу вас всех забрать с собой!» Такие крики раздаются у постели умирающих гордецов и у постели умирающих грешников. Совершенно по-другому умирают праведники, они уходят мирно туда, куда Бог зовет их, и им не страшно умирать, потому что они сделали все и Господь, без сомнения, не забудет их и в вечности.
Христовы чудеса называются знамениями, потому что имеют смысл не в том, что это дела добрые, а в том, что они указывают на нечто большее, — на то, что Христос и есть Бог. Христовы дела знаменуют пришедшее в силе Спасение Божие.
Симеон, когда уходил в смерть, смертную темень, шел туда, где ждали его душу праведники. Конечно же, души грешников и души праведников находятся в разном состоянии. Даже до Воскресения Христова было так, хотя врата ада еще не были разрушены и все праведники, от века почившие, томились в ожидании Искупителя.
Ежедневно умирали праведные души и приходили туда, в эту темную местность, называемую по-еврейски «шеол» — место тоски, место долгого ожидания. Там находился Моисей, там находился Иеремия, там находились Давид, Самуил, там находились многие святые в ожидании Мессии, и каждого вновь прибывшего они спрашивали: «Ну что, ну как?» И каждый вновь прибывший говорил: «Нет! Еще нет, еще не пришел!» И опять приходил новый, и опять говорил, что еще нет! И они говорили: «Будем ждать». То есть самое тяжелое — это ждать, верить и ждать. «Он все равно придет, Он сказал, Он исполнит, Он спасет нас». И они ждали.
И наконец пришел туда Симеон, они посмотрели на него и спросили: «Ну как?» И он сказал: «Пришел! Я видел Его, я держал Его на руках. Он уже здесь. Он уже пришел, и скоро все будет по-другому».
А потом перед Христом вышел проповедовать Иоанн Предтеча и воззвал громким голосом к людям: «Покайтесь!» Голос этот до сегодняшнего дня звучит, он витает в воздухе, и его нельзя заглушить. И если мы только настроимся на волну покаяния, то этот голос тоже нас касается. «Покайтесь, — говорит Предтеча, — ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2). Проповедуя, он передал эстафету проповеди Христу, а сам погиб. Иоанна Предтечу заточили в тюрьму и отсекли ему голову. И он тоже сошел в ад к этим праведникам и сказал: «Да, Он не просто пришел, а Он уже вышел на проповедь, уже начал творить дела Свои, начал учить…»
Симеон, по сути, явился первым проповедником пришедшего Христа для всех томившихся в аду праведников. И нам сегодня тоже он возвещает об этом же самом, потому что кто мы такие?
Мы ягнята, мы овцы… Впрочем, простите, бараны и козлы в том числе. Мы с вами — люди — все эти животные парнокопытные. Мы в лучшем случае овцы, не имеющие пастыря, в худшем случае упертые козлы или дерзкие бараны. Мы с вами приобретаем ценность и смысл и превращаем свою жизнь из хаоса и абсурда, из животного блеяния в человеческое существование только по мере веры во Христа, уже пришедшего.
Мы не ждем, что Он еще только придет, как ждут Его евреи. Мы ждем Его Второго Пришествия. В этот момент многие из сынов Израиля обратятся к Господу Богу и поймут, что Он и есть приходивший однажды, Он и есть ожидаемый во Второе Пришествие. Мы ожидаем Второго Пришествия Христа, и во Христе мы приобретаем смысл жизни и человеческое достоинство.
Симеон, по сути, явился первым проповедником пришедшего Христа для всех томившихся в аду праведников. И нам сегодня тоже он возвещает об этом же самом.
То есть как только мы обретаем Пастыря Доброго, тут же мы превращаемся в овец Его святого стада словесного и становимся настоящими людьми. Как ни странно это звучит, но овца Христова — это и есть настоящий человек. Овечка послушная, которая на плечах у Доброго Пастыря легла, найденная, и никуда уже не убегает.
Поэтому Симеон, узнавший Господа, молится Христу о том, чтобы все люди мира познали Христа, познали Его Духом Святым и, познавши Его, поклонились Ему и нашли в Нем покой, нашли в Нем веру, успокоили во Христе свое мятущееся мятежное сердце.
Успокаивайте свое мятущееся сердце во Христе Иисусе, Господе нашем, который родился от Девы в Вифлееме, обрезан в восьмой день по закону еврейскому и был принесен в храм в сороковой день, на руках Симеона лежал и был благословлен от святого старца. Впоследствии Он вселился в Назарет, где и был воспитан до того возраста, когда вышел на проповедь и позвал нас всех за Собою в Царствие Свое, которому не будет конца. Слава Христу Спасителю со Отцом и Святым Духом!
Будем благодарны также и за то, что Господь нас собирает в храм и дает нам возможность учиться святой молитве, которой мы и спасемся, если продолжим эти упражнения на всю продолжительность нашей жизни. И встретим смертный час с благодарной молитвой и скажем: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром. Аминь!»
Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля (25 марта)
Событие праздника отражено в Священном Писании — апостол и евангелист Лука повествует о том, как Деве Марии явился Архангел Гавриил и принес ей Благую весть (отсюда название праздника) о том, что Она избрана Богом и родит Сына и Бога — Спасителя мира. Этот день — начало тайны Боговоплощения, начало спасения людей.
Благовещение: Дева Мария исправила ошибку Евы
Архангел падший, приняв образ змея, разговаривает с девой, обрученной мужу, и обманывает ее. Это — грехопадение. У жены в раю еще нет имени. Лишь после изгнания из рая Адам даст ей имя Хава, или Ева (см.: Быт. 3:20), что значит «жизнь».
Первое звено греха в человеческом роде, а вместе с ним и косвенная причина смерти — женщина — называется «жизнью», но не в насмешку, а ради пророчества. «Жизнью» должна стать Евина дочка, к Которой тоже придет Архангел, только не падший, а славный. Он придет и скажет: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою (Лк. 1:28). Таких слов никогда не говорили ангелы людям: ни Моисею, ни Илии, как бы ни были велики эти двое, ни кому-то еще.
Моисей, проживший сорок лет во дворце фараона, еще сорок — в горах среди овец и, наконец, еще сорок в пустыне, предводительствуя евреям, описал в кратких словах историю грехопадения[18]. Лука, врач возлюбленный (Кол. 4:14), спутник Павла и апостол от семидесяти (см.: Лк. 10:1), описал Благовещение[19]. Эти рассказы зафиксированы не только в разные времена, но и на разных языках: Моисей писал на иврите, Лука — на греческом. Но, приложенные друг к другу, эти рассказы образуют подобие зеркального отражения. Все главные черты в них тождественны друг другу, и только знак «минус» рассказа Моисея меняется на знак «плюс» в Евангелии.
Если Господу было угодно родиться от Жены, то почему Он не родился сразу от Евы? Зачем нужна была эта длинная, кровавая и запутанная трагедия, называемая историей? Неужели наш мир для Него — подобие театра? Конечно, нет.
Причина в том, что нельзя, невозможно родиться Богу от любой жены. Любой куст может стать Неопалимой купиной, если Бог того захочет, но не всякий человек может быть вместилищем наивысшей благодати. В большинстве случаев куст сгорит в пламени Божества, а говоря евангельски, и мехи прорвутся, и вино вытечет (ср. Мф. 9:17).
Все женщины имеют одну природу, и детородные органы их приспособлены к вынашиванию и рождению. Но не все женщины имеют одни лишь мысли, одну чистоту, одну молитву, одно желание — служить только Единому и больше никому. Господь воплотился и стал человеком, как только нашел Ту, от Которой стало возможно Боговоплощение.
Вся история мира до Рождества, по словам Иоанна Дамаскина, двигалась в сторону рождения человечеством лучшего цветка — Богородицы. И в слове «Богородица», — говорит Дамаскин, — помещается весь Промысл Божий о ветхозаветном мире.
Если Господу было угодно родиться от Жены, то почему Он не родился сразу от Евы? Зачем нужна была эта длинная, кровавая и запутанная трагедия, называемая историей? Причина в том, что нельзя, невозможно родиться Богу от любой жены.
Ради этого — избрание одного человека, Авраама. Ради этого — дарование Аврааму потомства и превращение этого потомства в многочисленный народ. Ради этого — дарование народу Закона[20]: нужно было отделить и оградить этот народ от всех прочих, чтобы в недрах его вырастить Деву, достойную стать Матерью Мессии.
И вот Она родилась.
Уже прошли незаметные для посторонних глаз годы жизни при храме Иерусалимском — годы, овеянные тайной, пронизанные благодатью; годы, прожитые под недремлющим взором Всевидящего Ока. Уже девочка стала девушкой, и в храме больше оставаться было нельзя. Уже обручили Ее вдовцу из Ее же колена, который должен был хранить и оберегать врученное ему сокровище.
Она никогда не была праздной. За годы жизни в храме Она привыкла чередовать молитву с работой, а работу с чтением и богомыслием. И тогда Она тоже была занята делом, когда, не отворяя дверей, в Ее доме появился Архангел Гавриил.
На одних иконах Благовещения Дева прядет. Это скорее символ, чем факт, поскольку в Ее чреве и от Ее кровей для Бесплотного соткалась Плоть. Прядение указывает на это.
На других иконах Она читает. Читает, конечно же, Писание и, быть может, те самые слова, где говорится: Се, Дева во чреве примет и родит Сына (Ис. 7:14).
Так или иначе, книга больше подходит: ее многочисленные буквы, точки и крючочки так похожи на обилие ветвей и листвы на дереве[21], — а Дева Мария исправила Евину ошибку, загладила прежнее непослушание. В листве райского дерева спрятался змей, а в буквах этой Книги таится небесный смысл. Там, у дерева, праматерь была в высшей степени нерассудительна, доверчива, поспешна в решениях. Здесь Мария проявляет сдержанность и мудрость. Она проявляет наличие у Нее духовного опыта, редкого, почти невозможного для Ее отроческих лет.
Совсем недавно тот же Архангел, Гавриил, предстоящий пред Богом (Лк. 1:19), явился в храме священнику Захарии и возвестил о будущем зачатии Предтечи. Тогда старый священник смутился, и страх напал на него (Лк. 1:12). Когда же Дева Мария увидела небесного гостя, Она смутилась и размышляла, что бы это было за приветствие (Лк. 1:29).
Разница очевидна: священник боится, Дева размышляет. Она смотрит на гостя молча, так, словно Она привычна к посещениям сверху. Она молчит и рассуждает в себе. Это проявление дисциплины ума высшей пробы; это аскетическая зрелость высшего порядка.
Никакой мистический экстаз не овладевает Ею помимо Ее воли. Она предельно собранна. Она вслушивается в слова Гавриила, а тот объясняет Деве, что пророчества исполняются. На языке понятий, доступных только уму и сердцу истинных израильтян, чающих утехи Израилевой, Гавриил говорит о рождении Сына, Которому будет дан престол Давида, Который воцарится над домом Иакова и Царству Которого не будет конца.
Дева слушает.
Надо думать, что Она не просто слушает, но слушает и молится, силясь почувствовать, обман ли это, подобный шепоту змея в Раю, или правда Божия. Один раз Она позволяет Себе вопрос: как будет это, когда Я мужа не знаю? (Лк. 1:34). В ответ Гавриил говорит о Духе Святом и о Силе Всевышнего, Которые имеют найти на Нее и осенить Ее (ср. Лк. 1:35).
Дух Святой — это Утешитель, а Сила Всевышнего — это Слово Божие и Сын. Он здесь, Он смотрит на Ту, Которая будет Его земной Матерью. Он ждет Ее согласия. Ведь еще не произошло зачатие. Еще только идет диалог Ангела и Девы. Вся история мира истончилась до слабости нити. Испугайся Дева, скажи: «Я боюсь! Отойди от Меня», — и Ангел отойдет, а история продолжится. Продолжится поиск земной Матери для Безлетного Сына.
Мария не должна отказываться ни из чувства недостоинства, ни из чувства страха. Она должна быть выше Моисея, который, слыша повеление идти в Египет и уводить народ, то ссылается на дефект речи, то спрашивает, что именно ему говорить израильтянам.
Дева отвечает: Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему.
Все!
Двери души Марии раскрыты воле Божией и замыслу о Ней, а через Нее — о всех нас. Человечество в Ее лице сказало Богу: «Да!» Человечество сказало: «Приходи! Приходи тем чудным и неожиданным способом, которым Ты решил прийти».
Вся история мира до Рождества, по словам Иоанна Дамаскина, двигалась в сторону рождения человечеством лучшего цветка — Богородицы. И в слове «Богородица», — говорит Дамаскин, — помещается весь Промысл Божий о ветхозаветном мире.
Бог, уважающий свободу человека, получает человеческое разрешение на то, чтобы творить втайне от праздных взглядов Свои великие дела, открытые и понятные одним только смиренным душам. Об этом скоро Сама Мария пропоет, встретившись с матерью будущего Предтечи: низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем (Лк. 1:52–53).
Наши молитвы в большой части своей повторяют однажды сказанные ангелами слова. Мы поем, вслед за серафимами, на литургии: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф». Мы читаем и поем Трисвятое. Мы начинаем утреню ангельскими словами: Слава в вышних Богу, и на земле — мир, в человецех благоволение (Лк. 2:14).
К Божией Матери мы тоже обращаемся ангельскими словами. Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, — говорим мы Ей вслед за Гавриилом. Эти слова повторяются часто, далеко выходя за рамки праздника Благовещения. Вплотную к ним примыкают длинные похвалы великолепного акафиста Благовещению, каждая строчка которого слаще рахат-лукума:
Радуйся, Лествице, Ею же сниде Бог, Радуйся, мосте, приводяй сущих от земли на Небо… Радуйся, столпе огненный, наставляй сущия во тьме, Радуйся, покрове миру, ширший облака… —все эти похвалы рождены архангеловым голосом и радостью об исполнившихся пророчествах.
А что же сам Гавриил? Исполнив то, что было велено ему, и услыхав слова согласия от Девы, он видел, как зачинается в Ее чреве и принимает плотский образ Господь, и с благоговейным страхом покинул скромный дом в Назарете.
И отошел от Нее Ангел (Лк. 1:38).
Вход Господень в Иерусалим Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи
После воскрешения праведного Лазаря Господь въезжает в Иерусалим на осле, и народ встречает Его как Царя. Это событие описывают все евангелисты. Им открывается последняя страница общественного служения Господа. Сразу после этого начинается Страстная седмица — неделя страданий, издевательств, распятия и смерти ради спасения оставивших своего Бога людей.
Вход Господень в Иерусалим: праздник радости и скорби
Вход Господень в Иерусалим… Мы празднуем священное событие, описанное в Евангелии и предсказанное пророками. Христос вошел в Иерусалим и принял царские почести от народа, Его окружавшего.
О Христе было много толков и кривотолков. «Пророк, пришедший в мир», — говорили о Нем. «Возможно, Царь», — думали о нем иудеи, желая короновать Его, в особенности когда Он накормил много тысяч людей пятью хлебами. Таких царей, конечно же, приятно было иметь. «Обманщик или лжец», — так думали о Нем обезумевшие от своей мнимой мудрости начальники еврейского народа. На самом деле Христос не принимал на земле того поклонения, которого Он заслуживал как Сын Божий и Царь Вселенной. В претории, когда солдаты били Его, кланялись Ему, преклоняли колени, они называли Его «царь иудейский», но это была издевка. Тогда Христос был увит тернием и избит до неузнаваемости.
За неделю до этого Господь входит в Иерусалим. Люди увидели во входящем Христе — Царя. Он въехал в город не на коне, как завоеватель или триумфатор, как это было в обычае у всех народов. Он въехал в Вечный город на осленке, на кротком животном.
Об этом было сказано у пророков. Говорит об этом пророк Захария в девятой главе: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной».
Момент был настолько торжественным, что, быть может, история Израиля могла повернуться иначе.
Вообще о Христе так много сказали пророки, что эти пророчества, собранные воедино, буквально сопровождают всю жизнь Спасителя. Говорится и о Его зачатии и рождении от Девы, о месте рождения, о многих обстоятельствах Его жизни — например, о чудесах, о том, что по Его слову хромой вскочит, как олень, и ясно заговорит немой, откроются глаза слепых, — о Его входе в Иерусалим, о распятии между разбойниками, о многом и многом говорится у пророков. И нет оправдания всем тем, кто веками читал пророков и распял Того, о Ком они говорили.
Один из пастырей-проповедников говорит так: «Если бы мы прочли о молодом офицере-корсиканце, который окончил артиллерийское училище, храбро проявил себя во время уличных боев в одной из европейских столиц, потом захватил власть и разделил ее с двумя подобными ему, затем упразднил их от власти и стал императором, затем хотел завоевать весь мир, а закончил свою жизнь на маленьком острове, разве каждый человек, близко или не очень знакомый с историей Европы, читавший какие-то исторические книги, не узнал бы в этом человеке Наполеона? Ну конечно, узнал бы. Так вот, мы назвали, скажем, шесть-семь-восемь сколь-либо важных событий из его жизни, а о Христе сказано гораздо более — десятки и сотни пророчеств содержатся в Библии». В частности, одно из них — о вхождении в Иерусалим.
Дети, вечно близкие к Богу, вечно приводимые Богом в пример, — ибо Господь говорил: «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3), — дети узнали в Нем Царя. Они восклицали: «Осанна Сыну Давидову!» Они подвигли взрослых стелить по дороге ослику под ноги одежды, срезали пальмовые ветви, которые мы, за неимением пальм, заменяем расцветшей вербочкой, и махали Христу — перед Ним и позади Него, и выражали свою бурную радость.
Фарисеи в это время зеленели, и каменели от злобы, и говорили: «Скажи им, пусть замолчат». Потому что приветствия, обращенные ко Христу, были мессианскими. Никого, кроме Мессии, так приветствовать было нельзя. В ответ на эти упреки Христос говорил: «Если они замолчат, то камни возопиют». То есть момент был настолько торжественным, что, быть может, история Израиля могла повернуться иначе. Они могли узнать Обещанного и Долгожданного, они могли поклониться Ему и признать Его и, быть может, все пошло бы по-другому. Но нет! Конечно же, и Крест был тоже предсказан, и тридневное Воскресение. И народу нужно было только порадоваться малое время, чтобы затем теми же устами через совсем короткое время прокричать: «Отдай нам Варавву, а Этого распни!»
Такие жуткие метаморфозы происходят и в душе отдельных людей, и в душах целых народов. Мы по себе знаем, как часто переменчиво наше сердце, как мечется от любви к ненависти, от поклонения к презрению. Так случилось и с тем народом, который Господь Сам избрал. Но пока Господь принимает от них поклонение и торжественные крики. Глаза Его, впрочем, думаю, были скорбны. Он зрит дальше и вглубь, видит ожидающее Его отвержение, оплевание, осмеяние и распятие. Поэтому Он не прельщается непостоянной любовью волнующегося людского моря.
Мы по себе знаем, как часто переменчиво наше сердце, как мечется от любви к ненависти, от поклонения к презрению. Так случилось и с тем народом, который Господь Сам избрал.
Если люди ищут славу у других людей, желают быть известными и принимать поклонение и торжественные крики, это говорит об их глупости и о похожести их душ на душу сороки, на привычку хватать блестящее независимо от его достоинства.
Христос, конечно же, со скорбью смотрит на тех, кто Его приветствует. Иерусалим принимает Своего Царя. Иерусалим не узнал своего посещения по-настоящему, и об этом Господь плакал ранее, наблюдая за священным городом с высоты Елеонской горы. Господь говорил: «Если бы ты узнал время твоего посещения. Но запрут детей твоих в тебе, и осадой обложат тебя, и побьют живущих в тебе, и придет на тебя многое зло за то, что ты поступаешь неправильно» (см.: Лк. 19:42–44). В таком смысле Господь говорил о грядущем на Иерусалим будущем разрушении, наказании за отвержение Мессии.
Поэтому праздник Входа Господня в Иерусалим радостный, как и все остальные, но и скорбный. Он вводит нас в печальные дни Страстной седмицы, когда человек верующий должен день за днем прожить последнюю неделю жизни Христа на земле. Великий Понедельник, Великая Среда… — все эти дни дают нам возможность ощутить себя близ Спасителя, входящего в Иерусалим на грядущие Ему страдания.
Вознесение Господне На сороковой день после Пасхи
Этот двунадесятый праздник пасхального цикла всегда совершается в четверг шестой седмицы по Пасхе. В те сорок дней, что прошли после Воскресения Господня, Христос несколько раз являлся своим ученикам и укреплял их словом и благодатью для их дальнейшего апостольского служения. В одно из таких явлений Христос сказал ученикам о том, чтобы они собрались на сороковой день после Воскресения в Иерусалиме. После беседы Он вознесся от них на Небо, завершив свое земное служение.
Вознесение — праздник напоминания о Страшном Суде и воздаянии
Дело Христа не заканчивается с Воскресением. Главные этапы дела Христова это воплощение, рождение — Рождество, потаенная жизнь до тридцатилетнего возраста, явление на Иордане как Мессии, трехлетняя проповедь, подтверждающая мессианство чудесами и знамениями, промыслительное отвержение Его еврейским народом, распятие, смерть, Воскресение. Но это не конец.
После Воскресения Христос 40 дней пребывал на земле. Мы не знаем почти ничего об этом сорокадневном пребывании, кроме того, что Он являлся, когда Сам хотел, ученикам. Они постоянно находились в ожидании Его явления. Отрадно думать, что за остальное время Христос мог обойти всю вселенную: легкодвижимый, быстрый, Он мог являться на любом месте. Может быть, Он обошел те места, где потом явятся великие светочи христианства: Фиваиду, например. Возможно, Он являлся и Богоматери.
Число сорок — одно из сакральных в ряду чисел, это некий рубеж. Сорок дней пророк Илия шел до горы Хорив на встречу с Богом, сорок лет евреи странствовали по пустыне. И через сорок дней по Воскресении Христос уходит от земли. Уходит самовластно: без видимых ангельских рук, без колесницы, как Илия, без какой-либо иной поддержки, как, возможно, уходил Енох. Христос Сам покидает землю, благословляет учеников Своих и медленно восходит от них на Небо, заставляя смотреть вверх. Этим Он устанавливает нам некую вертикальную координату. На литургии есть возглас «Горе имеем сердца»: сердце должно быть направлено, устремлено вверх — горе. На этот возглас молящийся народ отвечает: «Имамы ко Господу» — наши сердца у Господа. Этот литургический возглас вполне соответствует празднику Вознесения. Сердце поднимает вверх.
Так они и стояли, мужи галилейские, на этой горе: подняв голову и прощаясь со Христом. Он уходил не быстро, не стремительно, и стал невидим не потому, что растворился или исчез, а потому, что с постепенным удалением от земли все уменьшался в их глазах, пока не скрылся из вида.
Апостолы не могли отвести взгляда от этого зрелища, и только Ангелы заставили их снова посмотреть перед собой, на землю, сказав: Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян. 1:11).
Таким образом, праздник Вознесения — это праздник напоминания о Втором Пришествии и праздник ожидания Страшного Суда. Христос пришел, чтобы взойти на Небо, и взошел, чтобы снова прийти на землю. Он говорил: Не оставлю вас сиротами. Приду к вам еще (ср. Ин. 14:18). Приду к вам, возьму вас к Себе. Он, по сути, устраивает нам небесное жилище: «В дому Отца Моего обителей много, иду приготовить вам место». Он взошел на Небо приготовить нам место. «Когда приготовлю место, паки прииду и возьму вас к Себе, чтобы там, где Я, там и вы были. Идеже есмь аз, и вы будете» (см.: Ин. 14:2, 3).
Число сорок — одно из сакральных в ряду чисел, это некий рубеж. Сорок дней пророк Илия шел до горы Хорив на встречу с Богом, сорок лет евреи странствовали по пустыне. И через сорок дней по Воскресении Христос уходит от земли.
Христос пришел и говорил о Своем отшествии: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему (Ин. 20:17). И никтоже взыде на небо, токмо сшедый с небесе Сын человеческий, сый на небеси (Ин. 3:13). Но и в этом работа Его не прекращается.
Он взошел к Отцу, чтобы умолить Его и чтобы в пятидесятый день был послан на землю Утешитель (см.: Ин. 14:16). Христос ходатайствует перед Отцом как Архиерей, взошедший на небеса, проливший Кровь и со Своей кровью вошедший во Святая святых. Он священнодействует со Своей Кровью, Он ходатайствует за нас и умоляет послать иного Утешителя. Это уже полное откровение Божества в человечестве — насколько можно вместить человечеству в этом мире. Это уже дальнейшее продолжение дела Христова.
В Вознесение мы прощаемся с телесным пребыванием Христа на земле, — кроме Евхаристии, в Евхаристии Христос пребывает телесно. Видимым образом Христос оставляет нас, но говорит нам: «Я с вами и никтоже на вы»[22]. Он напоминает нам и о Втором Своем страшном Пришествии, которое будет уже не смиренным, а грозным, славным и торжествующим: пришествие воздаяния, пришествие суда, награды и наказания.
Праздник Вознесения — это праздник напоминания о Втором Пришествии и праздник ожидания Страшного Суда. Христос пришел, чтобы взойти на Небо, и взошел, чтобы снова прийти на землю.
Так что в Вознесение люди поднимают глаза и понимают, что они небесные существа — существа с небесной пропиской. Человеческое тело появилось там, где его никогда не было. Человеческая природа вошла в Божественные недра. В недра Божества вошел человек во Христе, и Ангелы теперь поклоняются обоженному человеку, видят Владыку воплощенного.
Троица. Святая Пятидесятница На пятидесятый день по Пасхе
Празднование праздника Святой Троицы установлено самими апостолами в память о событии, произошедшем на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения. Это событие — сошествие Святого Духа на апостолов — было предсказано Господом в Евангелии. В день Пятидесятницы апостолы вместе с Пресвятой Девой Марией, некоторыми женами-мироносицами и другими последователями Христа собрались в Сионской горнице. Тогда и случилось это событие, принесшее апостолам дар говорить на разных языках, дар мужества, мудрости, смелости и решительности в деле проповеди Евангелия.
Пятидесятница — День рождения Церкви
День рождения Церкви Христовой — Пятидесятница. Все, что говорит Христос в Евангелии, сказано до излияния Святого Духа на апостолов. Если Моисей в Пятикнижии, начиная от сотворения мира, писал не то, что видел, но то, что открывал ему Бог, то апостолы писали то, что лично видели. Однако писали не сразу, как пишут репортеры, а записывали позже, не доверяясь одной лишь памяти человеческой, но под действием Утешителя, о Котором Христос сказал, что Тот от Моего возьмет и возвестит вам (Ин. 16:14). Итак, притчи Христовы, Его беседы с народом и с отдельными людьми (Никодимом, самарянкой), первосвященническая молитва, чудеса и знамения были произнесены и совершены до Креста и Воскресения. А затем, под действием Духа Святого, они были закреплены в виде текста святыми писателями — Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. В этом смысле интересно обратить внимание на слова Христовы, сказанные Им уже после совершения Искупительного Подвига. Этих слов, если сравнивать с евангельскими словами, немного, и они емки. Вот Христос является Павлу (будущему апостолу, а тогда — гонителю) по дороге в Дамаск. Происходит диалог, о котором даже в Книге Деяний Павел затем упоминает несколько раз. Можно думать, что в последующей жизни своей апостол языков многократно повторял множеству разных слушателей то, что произошло с ним тогда, по пути в Дамаск. Диалог Христа и Павла (в ту пору именуемого Савлом) имеет несколько характерных особенностей.
Люди, бравшиеся за объяснение Апокалипсиса, никогда не дерзали на полное и исчерпывающее его толкование. Они знали, что слово Божие вообще, а последняя книга Библии и подавно, способны выскальзывать с прокрустова ложа «исчерпывающих» объяснений и схем.
Во-первых, Христос называет будущего апостола по имени: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? (Деян. 9:4) Христос знает того, к кому обращается. И само обращение подобно тому, как призывал Бог по имени Авраама или Самуила. Имя призываемого человека повторяется дважды, так, чтобы и внешнее ухо услышало, и «сокровенный сердца человек» (1 Пет. 3:4). Весь человек в своей таинственной сложности призывается. А вот Савл не знает Говорящего с ним. Отсюда вопрос: Кто Ты, Господи? В ответ Господь называет Себя по имени: Я Иисус, Которого ты гонишь (Деян. 9:5). Затем следует еще вопрос: «Что повелишь мне делать?» — и указание Господа на то, как нужно теперь поступить Савлу.
Вот несколько черт, которые мы запомним: Христос знает, к кому обращается; вступая в диалог, Христос называет Себя, открывается; затем звучит повеление — что дальше делать. Эти характерные черты нам пригодятся, когда мы попробуем повести разговор о других словах Христа Спасителя, прозвучавших после Его Воскресения. Речь пойдет об обращении Господа к Ангелам семи Церквей. Слова эти находятся в Откровении Иоанна Богослова, во 2-й и 3-й главах. Послание Христа Церквам имеет одну структуру. Сначала Христос открывает о Себе нечто, именуясь неким новым именем, еще не звучавшим: «Так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч» — или: «Так говорит Первый и Последний». После откровения нового имени Христос говорит, что знает того, к кому обращается: «Знаю твои дела». После этого идет речь, обращенная к конкретному слушателю, которого знает Господь, и речь эта носит обличительный, строгий характер. Вскрываются и именуются недуги, произносятся сдержанные и редкие похвалы. Затем совершается призыв к конкретному образу действий и дается обетование награды для тех, кто исполнит сказанное. Так повторяется семь раз.
Люди, бравшиеся за объяснение Апокалипсиса, никогда не дерзали на полное и исчерпывающее его толкование. Они знали, что слово Божие вообще, а последняя книга Библии и подавно, способны выскальзывать с прокрустова ложа «исчерпывающих» объяснений и схем. Тем не менее были неоднократные попытки увязать обращение Господа к семи Церквам с семью эпохами бытия Вселенской Христовой Церкви, с семью периодами жестоких гонений на христиан во времена до Константина и прочее. Ничего плохого в этих попытках нет, но и ждать от них конечных ответов вряд ли стоит.
Мотив написания данных строк следующий. В Слово Божие нужно всматриваться, словно в зеркало, в поисках своих природных черт и изъянов, требующих исправления. Над каждой страницей можно спрашивать себя: «Где здесь я?» или: «Где здесь обо мне?» Если там нет ничего ни для меня, ни про меня, то стоит ли мне изучать это? Сказанное Господом в отношении Церкви Пергамской или Ефесской было бы для меня бесполезно, если бы смысл сказанного исторически исчерпывался указанной Церковью и конкретной эпохой. Но в том-то и смысл, что сказанное ефесянам касается меня и тебя; сказанное о филадельфийцах тоже относится к тебе и ко мне. Итак, ни на что не претендуя, а также помня твердо, что Апокалипсис не читается в храмах по причине сугубой сложности объяснения, обратим внимание на слова Христа семи Церквам Азии, рожденным проповедью Иоанна Богослова. Это, как мы говорили чуть выше, слова Господа, не просто пришедшего совершить спасение, но слова Господа, уже претерпевшего Крест, умершего и воскресшего, уже восшедшего на Небеса и умолившего Отца послать в мир Утешителя. Это слова Господа, общающегося с уже рожденной, с уже живущей на земле Его Церковью.
Ангелу (считается многими, что епископу, с чем и мы нимало не спорим) Ефесской Церкви Христос открывается как Держащий семь звезд в деснице Своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Господь знает его дела, и труд, и терпение, а также то, что Ангел Ефесской Церкви «не может сносить развратных». Обратим на это внимание. Плохо понятая свобода или, что хуже, корыстно понятая свобода, возвещаемая Евангелием, уже в апостольские времена стала для многих «поводом к распутству». Об этом часто пишет апостол Павел. Более всех учившему о христианской свободе, противоположной игу закона, ему и более всех приходилось настаивать на отличии свободы от вседозволенности. Еретики же, появившиеся чуть ли не сразу, именно идеей свободы оправдывали любые практики, вплоть до самых неудобопроизносимых. О них Петр писал: Произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления (2 Пет. 2:18–19).
В Слово Божие нужно всматриваться, словно в зеркало, в поисках своих природных черт и изъянов, требующих исправления. Над каждой страницей можно спрашивать себя: «Где здесь я?» или: «Где здесь обо мне?»
В Ефесе также испытали некоторых, назвавшихся апостолами, и нашли, что они лжецы. Тоже характерная черта Древней Церкви. Пришел человек и говорит: «Я видел Господа, я был с Его учениками». Начинает рассказывать, его слушают, окружают почетом. По каким критериям отличить истинного свидетеля дел Божиих от возможного проходимца? Нет ни грамот, ни документов, ни фотографий. Нет никаких способов идентификации, столь распространенных ныне. По чудесам? Опасный критерий. Источник чудес — Бог, и святые люди-чудотворцы вовсе не владеют правом творить, что хотят и когда хотят. Единственный критерий — нрав. Древнейший памятник христианской литературы «Учение двенадцати апостолов» говорит, что если некто пришел к вам как пророк и просит денег, он — лжепророк. Если назвался апостолом и пользуется уважением, но задерживается надолго, не идет дальше с проповедью, то он — лжеапостол. Другими словами, корыстолюбивый нрав, желание пользоваться благами и славой есть обличение лжепроповедника. В Ефесе таких распознали.
В Ефесе не только распознали обманщиков и развратников. Там ради Господа трудились и многое перетерпели, были строги и внимательны, но все же не остались без упрека. Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою (Откр. 2:4). Это «оставление первой любви», возможно, есть то самое, знакомое всем привыкание и охлаждение в вере, которое сменяет период первого горения. Все, кто уверовал, горели. Но кто не знает, что такое остывание? Это и есть оставление первой любви. Оно отчасти неизбежно, но оно не невинно. Оно названо падением. «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела».
Прочитав эти строки, мне менее всего нужно думать теперь о Ефесе. Я вспоминаю свои «прежние дела», свой огонь и ревность, свою радость, свою легкость и смелость, которых было когда-то так много. Они как-то боком-боком, незаметно с годами ушли из жизни, уступив место расчетливости, суете, усталости. Призыв Откровения слышу как слово, обращенное ко мне. В случае, если слово будет пренебреженно, Господь обещает вскоре прийти и сдвинуть светильник Ефесской Церкви с его места. Исторически Церкви возрастают и приходят в упадок. Там, где раньше цвело благочестие, ныне может быть полная духовная разруха. И для того, чтобы светильник был сдвинут с места, не обязателен явный грех. Достаточно одного лишь ослабления ревности, затухания огня первой любви. Даже изгнание лжеапостолов и сопротивление разврату недостаточны для церковного здоровья.
Напоследок Христос произносит утешение — утешение специфическое. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу (Откр. 2:6). Ненависть свойственна только тем, кто любит. Кто не умеет любить, тот не умеет и ненавидеть. Толерантный теплохладен, то есть безразличен. Христос же умеет ненавидеть, и хорошо тому, кто ненавидит то же, что и Христос. Очевидно, и любить такой человек будет то же, что Христос любит. Николаиты же, скорее всего, те самые проповедники разврата, прикрывающие распутство словами о любви и свободе. Это ранние извратители Евангелия, во всякой эпохе имеющие своих подражателей.
Кто ведет борьбу с грехом, кто не дает погаснуть огню первой любви и веры, тот во Христе приступит к источнику бессмертия, от которого был отогнан согрешивший Адам.
Слово Христа к Церквам — это слово полководца к воинам. Христос Сам воевал и одержал победу. Поэтому, давая обетования, Он обращается к «побеждающему»: Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия (Откр. 2:7). Кто ведет борьбу с грехом, кто не дает погаснуть огню первой любви и веры, тот во Христе приступит к источнику бессмертия, от которого был отогнан согрешивший Адам (см.: Быт. 3:22–23). Библия совсем не случайно начинается книгой Бытия и заканчивается Откровением. Начинается творением неба и земли и заканчивается видением нового неба и новой земли. Начинается повестью об изгнании человека от древа жизни и заканчивается обещанием вкушения от него. Длинный путь истории завершается в Апокалипсисе. Но завершается он не так, чтобы нам только созерцать завершение. Нам самим указана работа и борьба. Обетования даны «побеждающим».
Перед Троицей: вода и голубь
Когда потоп завершился, Ной стал выпускать из ковчега птиц. Те должны были дать знать о появлении сухой земли. Первым чести следопыта удостоился ворон. Он отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды (Быт. 8:7). Но то ли для ворона было много пищи в виде трупов, носимых волнами, то ли по другой причине, но его полеты ничего не сказали Ною. Следующим пернатым разведчиком был голубь, и его полеты исчисляются цифрой «три».
Вначале голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился в ковчег. Затем он принес в клюве, как некую бескровную добычу, свежий масличный лист. Тогда узнал Ной, что вода сошла с земли. И уже в третий раз улетев, не вернулся обратно голубь. Перерыв между полетами во всех случаях длился семь дней (см.: Быт. 8:6–12).
«Вода» и «голубь», — произнося эти слова, мы должны воскрешать в сознании слова, сказанные о потопе, но не только. Крещение Господне — это тоже библейское событие, в котором участвуют вода и голубь.
Над тихими водами Иордана, как и над мутными и тяжелыми водами потопа, тоже летала безобидная птица. В ее образе видимо для глаз явился тогда Святой Дух (ср. Лк. 3:22). Это не было воплощением Духа, но именно принятие такого видимого образа, который бы связал воедино ту древнюю милость (прекращение водного погубления) и милость новую — явление Бога как Троицы и Иисуса — как Христа.
Теперь вернемся мысленно вновь к ковчегу, удерживая в памяти то, что Дух являлся на Иордане «в виде голубине»[23]. Это подарит нам один очень яркий образ, относящийся к благодати Святого Духа и касающийся всех нас. Голубь Ноя отлетал и прилетал, не сразу найдя место покоя для ног своих. Это ли не образ действия Духа в отношении наших сердец, чаще всего покрытых темными, мертвыми водами?
Мы часто просим, не понимая толком, что же именно просим. Просим, не вкладывая в прошение сердца, как бы «на всякий случай», по готовому тексту и по привычке. Ожидать благодатных действий над собой при таких молитвах не стоит.
Та самая известная стихира «Царю небесный», обращенная к Святому Духу, которая используется как постоянная молитва Утешителю и читается каждый день, кроме периода Цветной Триоди, содержит в себе просьбу: «Прииди и вселися в ны (нас)». «Прииди и вселися, прииди и вселися», — просим мы многие сотни раз в течение года.
«Прииди и вселися», — просят миллионы таких же, как мы, христиан, а Духу все равно некуда вселяться, и Он, как голубь, летает над поверхностью воды, не имея места покоя для ног своих.
С одной стороны, здесь есть наша невнимательность. Мы часто просим, не понимая толком, что же именно просим. Просим, не вкладывая в прошение сердца, как бы «на всякий случай», по готовому тексту и по привычке. Ожидать благодатных действий над собой при таких молитвах не стоит.
Но даже если мы просим внимательно и понимаем, чего, собственно, просим, то и тогда голубь из Ноева ковчега показывает нам, как непросто вселиться Духу Святому в естество человеческое.
Для начала — Ему просто негде опуститься. Есть квартиры, в которых от обилия хлама и грязи негде сесть. Есть стаканы и чашки, в которые никто не нальет воды, чтобы напиться — так они грязны. И есть человеческие души, над которыми Дух Святой может только сверху летать, как летал Он в начале мира над первичным хаосом и водою (см.: Быт. 1:2). Таковы все вообще люди в своем непреображенном и неисправленном состоянии.
Затем, если некие труды ради Бога совершаются, если какие-то слезы о грехах льются, если совершается нечто святое или стремящееся к святости, то Дух находит свежий масличный лист. Это — начатки земли, первые жертвы от первых плодов. И лишь потом, после определенного времени, а не сразу, Дух может найти высохшую землю сердца, на которую можно опуститься.
Начиная с Пятидесятницы мы вновь начинаем взывать к Утешителю: «Прииди и вселися в ны». Нам должно делать это сознательно, постоянно и с верою, доколе не произойдет само вселение, приносящее с собою (по тексту молитвы) очищение от всякой скверны и спасение души[24].
В духовной жизни если чего не просишь, того и не имеешь. Не просишь Духа — не имеешь Духа. А не имея Духа, попадаешь под определение апостола: Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие Духа (Иуд. 1:19). Без толку ждать от таких людей исполнения заповедей. Они способны только на грех, бунт и на презрение к тому, чего не понимают.
Не забудем также и того, что окончательный суд над землей произойдет не раньше, чем Дух Святой станет бездомным в мире людей. Ему некуда будет вселиться, и никто его внутрь души своей и не пригласит, и не впустит. Именно так было и перед потопом, когда сказал Бог: Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть (Быт. 6:3).
Поэтому приступим к умолению Духа, да не уйдет от нас, но паче — да вселится. Да просим с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой (Иак. 1:6).
Преображение Господне 19 (6) августа
Божественная слава вочеловечившегося Христа была не видна не только всем «внешним» людям, но и самим апостолам. На горе Фавор Господь воочию показал свое Божественное происхождение трем самым близким своим ученикам. О событии Преображения рассказывается в трех синоптических Евангелиях: от Матфея (17:1–9), Марка (9:2–8), Луки (9:28–36).
Преображение — предвкушение будущего Царства
Преображение влечет к себе, притягивает взор. Фаворская гора, Господь, сияющий во славе, с Ним небожитель Моисей… вернее, Илия — небожитель, а Моисей — скорее узник ада, освобожденный на время, и трое апостолов — Петр, Иаков и Иоанн.
Праздник Преображения — смыслообразующий, придающий жизни качество осмысленности. Я бы даже сказал, что это целеполагающий праздник наряду с праздниками Рождества и Пасхи.
Праздник Рождества спасительный и смыслообразующий, потому что мы празднуем, что Слово стало Плотью. Бог стал Человеком, воплощение произошло. «Слово плоть бысть и вселися в ны» (Ин. 1:14).
Пасха — это Праздник из праздников, Торжество из торжеств. Христос попирает смерть Своею смертью, которая не была вынужденной и рабской смертью невольной, а смертью добровольной и жертвенной, безгрешной смертью.
То, что в Рождестве с нами Бог и смерть не страшна внутри пасхального сияния, — это, безусловно, смыслообразующие вещи.
Преображение показывает цель человеческого бытия. Преображение — это изменение, некое новое качество. То есть мы — такие, как есть сейчас, — вечно жить не можем. Мы должны будем умереть или измениться, то есть преобразиться.
И преобразиться нужно будет из образа в образ, от славы в славу. Нужно будет совершить некое чудесное изменение, но не личными силами только, а действием благодати Божией. Человек должен будет измениться в образ Христа, Который принял образ наш человеческий, образ раба. Он обнищал таким образом нас ради, для того чтобы мы через Него получили доступ к Его богатству и в Нем обогатились.
На Фаворской горе Христос показал нам Свою предвечную славу, которую Он имеет у Отца, пребывая с Отцом в Отце, потому что Слово всегда с Отцом. Слово есть Бог и Оно всегда у Бога, и Оно имеет славу от Отца равную. Христос показал ту часть славы Своей, которая вместима глазами человеческими, душой человеческой.
Он показал, что Он не просто Учитель, который принес миру новый закон — так сказать, свод новых правил, новый кодекс моральных постановлений. Он не просто Законодатель, пророчески действующий, обновляющий дух человеческий, подвизающий нас на борьбу с нравственной чистотой. Все так, но этого мало.
В празднике Преображения мы предвкушаем смысл будущего Царства. Как говорит Иоанн Богослов, бывший, кстати, тогда на горе Фаворской, мы «увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). Вот это, собственно, и есть Царство Божие. Царство Божие не есть брашно и питие, не есть наслаждение красотами отвлеченными или телесными состояниями. Царство Божие есть радость и мир в Духе Святом и близость ко Христу. Где Христос, там Царство.
Мы видим на святых людях, что они преображаются. Мы видим их сияющими — Серафима Саровского или Сергия Радонежского, например. Мы видим Фаворский свет над головами многих святых. Мы видим людей меняющимися. На иного старичка посмотреть приятно, а на другого, столько же прожившего, глядеть не хочется. Очевидно, что под морщинами одного и другого живет разный опыт. Возможно, в одном живут доброта и теплота, а в другом раздражительность и обида на всех. Не исключено, что в одном Христос живет зачинательно, а в другом ничего, кроме злости и нераскаянных грехов, не живет. И поэтому морщины одного хочется целовать, а от второго хочется отвернуться. Этим внутренним светом светится всякая добрая душа. Святым Духом всякая душа живится и чистотою возвышается.
Преображение показывает цель человеческого бытия. Преображение — это изменение, некое новое качество. То есть мы — такие, как есть сейчас, — вечно жить не можем. Мы должны будем умереть или измениться, то есть преобразиться.
Поэтому праздник Преображения я без сомнения называю таким смыслообразующим, и целеполагающим, и жизнеутверждающим праздником, который напоминает нам слова апостола Павла, что не все мы умрем, но все изменимся. То есть нам всем подобает измениться, преобразиться для того, чтобы жить вечно.
И нужно преобразиться так, чтобы сиять силой Божией, как Господь сиял, когда одежды Его были белы как снег и лицо сияло как солнце. Так и говорится, что праведники просияют в Царстве Отца, как солнце. Можно от противного догадаться, что грешники будут темны и безобразны. Чуждые этого солнечного духовного света, они будут грешны и отвратительны. Да убережет Господь нас всех покаянием и верой от этого безобразного воскресения, которое будет воскресением в суд и в осуждение.
Поэтому в праздник Преображения следует думать не о грушах, сливах, яблоках и прочих фруктах и овощах, благочестиво приносимых в храм. Думайте о Божественных тайнах! Почему Моисей пришел к Христу? Почему пришел к Нему Илия? Что это за фигура Ветхого Завета? Почему Петр, Иаков и Иоанн были на горе? Почему им хорошо было? И почему Петр, Иаков и Иоанн узнали Моисея и Илию, хотя не было ни портретной живописи, ни фотографий — но тут же узнали их? Очевидно, это было в Духе Святом, где все узнают всех. И много-много другого нужно понять, и почувствовать, и обрадоваться многому в праздник Преображения. Для этого нужно читать Святое Писание и усердно занимать молитвой душу во время посещения праздничных служб.
Преображение — предощущение будущего блаженства для верующих во Христа как Сына Божия
Вере противостоит не столько неверие, сколько иноверие. И христианству со всей серьезностью в перспективе будет противостоять не подыхающий атеизм вымирающего европейца, а мощные вероучительные системы ислама и иудаизма.
Это — монотеистические религии, знающие Творца и очень много о Нем, несущие в генетической памяти и в знаках своих преданий большой багаж накопленного опыта.
Мы не спорим с этими верами о том, есть ли Бог, один ли Он, управляет ли Он миром. И они, и мы знаем, что есть, что один, что управляет. Аминь.
Но мы расходимся с ними в вопросе отношения ко Христу.
Еврей Мессию пришедшего не признает, хулит и ждет иного.
Мусульманин Мессию признает пророком, родившимся от Девы, но не Сыном Благословенного.
Христианин верит в «Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век»[25].
Верить в Иисуса, как в «просто пророка», пусть даже безгрешного, христианину не пристало. Вникать же в иудейские хулы — тем паче. Нужно исповедовать Сына сообразно тому, Кто Он есть и как мы научены — «Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Единосущного Отцу, через Которого все сотворено»[26]. И помощь нам в утверждении на камне веры оказывает праздник Преображения.
Этот праздник смыслообразующий и целеполагающий. Он показывает нам, Кто на самом деле есть Тот смиренный Иисус, Который пешком обходил Палестину, беседовал с людьми и ел простую пищу. Он — Царь, имеющий равную с Отцом славу от начала времен. Ему поклоняется ветхозаветный закон в лице Моисея и пророки в лице Илии. Он — свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин. 1:5).
Верующий во имя Его верует не в человека, и не в пророка, и не в ангела, но в Бога истинного, принявшего на себя немощь и ограниченность естества человеческого.
Вере противостоит не столько неверие, сколько иноверие. И христианству со всей серьезностью в перспективе будет противостоять не подыхающий атеизм вымирающего европейца, а мощные вероучительные системы ислама и иудаизма.
Праздник целеполагающий потому, что в нем видим достижение священного края: исполнение пророчеств, смысл Закона и соединение вокруг Христа небесных (Илия), земных (апостолы) и преисподних (Моисей).
Когда Он сияет вечным светом Своим, тогда — исцеление в лучах Его (Мал. 4:2). Когда Он во славе, тогда история закончилась и началось блаженство. Собственно, это и дано было испытать, как некий начаток, трем апостолам и двум пророкам: история закончилась, и люди вошли в Царство вечным светом сияющего Царя.
Вот почему Преображение по смыслу и значению стоит сразу после Рождества и Пасхи.
Рождество — вхождение Бога в мир людей. Слово стало плотью (Ин. 1:14).
Пасха — победа над смертью. Пожерта бысть смерть победою (1 Кор. 15:54).
Преображение — предощущение будущего блаженства, когда спасенные будут жить в Небесном Иерусалиме, не имея нужды в солнце, луне и светильниках, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец (Откр. 21:23).
Мы не в человека верим, которого злые люди унизили, оскорбили и ко кресту пригвоздили. И не в пророка мы верим, который велик и хорош, но безмерно удален от Существа Божия. Мы верим в Слово, в Котором была жизнь, и жизнь была свет человеков (см.: Ин. 1:4). Именно это показывает нам праздник Преображения.
Преображение: Христос собирает живых и умерших
Совершая проскомидию, священник в центр дискоса помещает часть хлеба, именуемую Агнцем. Это тот хлеб, которому предстоит стать Телом Христовым в результате службы и освящения, в результате прикосновения Духа. Вокруг же этого хлеба в особом порядке располагаются частицы в честь Богородицы, Предтечи, всех святых, затем — всех живых и усопших. Таким образом, на дискосе зримо представлено собрание вокруг Христа всего спасенного и спасаемого человечества.
Такое же собирание Христом вокруг Себя живых и умерших мы видим на горе в день Преображения. С тремя земными спутниками и учениками Господь восходит на гору, а там к лучам засиявшей славы Его пришли из царства мертвых — Моисей, а от небес — Илия. И воплотилось то, о чем со временем скажет Павел: «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисусовым преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних» (Флп. 2:9–10).
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5:17). Так говорил Спаситель, проповедуя. И в подтверждение этих слов пришли к нему двое самых славных сынов Ветхого Завета. Как прежде на Синай и Хорив, опять пришли они на гору — Фавор имя ей.
В лице Моисея Христу поклонился закон. В лице Илии с Ним беседовали пророки. Оба они своим явлением показали, что Христос — податель закона и исполнение пророчеств.
Моисею однажды, среди событий великих и едва объяснимых, Бог сказал: Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых (Исх. 33:20). Но вот прошли долгие годы, многие поколения сменили друг друга. Наказания и благословения, предсказанные Моисеем, в свою очередь опускались на головы сынов Израиля. Наконец пришла полнота времени (Гал. 4:4), и на землю пришел воплотившийся Сын Божий. Теперь Моисею стало возможно увидеть лицо Его. Уже не боялся умереть Моисей от этого лицезрения, и не только потому, что тело его уже давно лежало в земле, а лишь душа наслаждалась лицезрением Истины. Но еще и оттого, что не убивает, но греет; не калечит, но животворит Агнец Божий, для того и пришедший, чтобы взять на Себя грехи мира.
Апостолы были в страхе. Если они что и говорили, то это был лепет людей, не понимавших самих себя (см.: Лк. 9:33). Но не так вели себя гости из иных миров. Два величайших пророка вели с Мессией беседу. Они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме (Лк. 9:31). Отвержение Христа старейшинами, осуждение Его на смерть, распятие и Воскресение были предметом их разговора.
Многое, очень многое было открыто Моисею и Илии при земной жизни. Надо думать, что не все, что знали они, было ими сказано. Но еще больше им пришлось увидеть, услышать и узнать здесь — на Фаворской горе — в присутствии трех испуганных Иисусовых учеников.
Моисей столько раз слышал Божий голос! Он слышал его и ушами, и сердцем, ибо Господь говорил с ним как с другом — устами к устам. Теперь он видел прежде Невидимого, и нет на человеческом языке слов, чтобы передать то, что он чувствовал.
Христос, сияющий, как солнце. Люди, поклоняющиеся Ему. Слава Божия, освящающая праведников. Это и есть Царствие Божие, явленное на краткое время малому числу избранных, но ожидающее в конце веков и времен всех, кто записан в Книгу Жизни.
Но Илия смотрел на Христа иначе. Илия не умер. Его возвращения с огромным напряжением ждали сыны Закона. Ведь у последнего пророка сказано: Вот, Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного (Мал. 4:5).
Илии, по мнению мудрецов, должно прийти и, как учат книжники, устроить все (Мк. 9:12), то есть помазать и воцарить Мессию. Поэтому, когда в духе и силе Илии пришел Иоанн с проповедью покаяния, прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? (Ин. 1:19). И среди главных вопросов был и такой: Ты Илия? (Ин. 1:21).
Иоанн тогда сказал «нет», поскольку он не Илия, но глас вопиющего в пустыне (Ин. 1:23). Он пришел приготовить людей к вере через проповедь покаяния. Он — Предтеча первого пришествия, пришествия смиренного и искупительного. А Илии предстоит быть пророком и предтечей Второго Пришествия Христова.
Все это — тайны, скрывшиеся от премудрых и разумных, но открытые впоследствии младенцам (ср. Мф. 11:25). Ныне же Илия смотрит с любовью на Царя Израилева, Который вместе с тем и Агнец — невинный, предназначенный к закланию.
Там, где живет Илия, время движется по-иному. На земле тянутся годы и сплетаются в столетия. А собеседники ангелов — Енох и Илия — могут не замечать их, поскольку живут близ Бога, у Которого тысяча лет — как один день (см.: Пс. 89:5). Но наступит время, когда человечество составит из себя одно греховное целое, подобное сплетенному змеиному клубку. Это будет безмерно возгордившееся и безмерно развратившееся человечество. Оно откажется поклоняться Истине и полюбит ложь. Из среды этого неисцельно больного человечества явится, словно горький плод на ядовитом дереве, человек, любящий себя так же сильно, как любит себя отец лжи — сатана. Этот человек сравнит себя с Христом, и большинство людей не способны будут отличить эту грубую ложь от правды. Вот тогда Илия прервет свои непрестанные молитвы и явится среди людей, чтобы свидетельствовать Истину.
«Истинный Мессия уже приходил, — скажет он народу Израиля. — Тот, кого вы превозносите и на кого надеетесь, — обманщик». Илия не побоится сказать правду. Не побоится он за правду и умереть, подобно Иоанну, пришедшему в одном с Илией духе проповедовать покаяние.
А сейчас он смотрит на сияющее, подобно солнцу, лицо Христа, на одежды Его, ставшие ослепительно белыми, и будущее открывается его пророческому взору более ярко, нежели обычному человеку вспоминается прошлое.
Что же это было там, на горе? Это было Царствие Божие, пришедшее в силе. Так сказал Христос перед Преображением: Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе (Мк. 9:1).
Христос, сияющий, как солнце. Люди, поклоняющиеся Ему. Слава Божия, освящающая праведников. Это и есть Царствие Божие, явленное на краткое время малому числу избранных, но ожидающее в конце веков и времен всех, кто записан в Книгу Жизни.
Один из бывших на горе в тот день — Иоанн — со временем станет зрителем еще более чудных откровений. Он увидит Небесный Иерусалим, о котором скажет, что город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его — Агнец (Откр. 21:23).
Так Агнец, ставший светильником на Фаворе для пятерых избранных, станет источником света для великого множества людей, поющих: «Буди светлость Господа Бога нашего на нас!», «Во свете Твоем узрим свет», «Боже, ущедри нас, благослови нас, просвети лице Твое на нас и помилуй нас»[27].
Произошедшее на Фаворе превосходит всякую цену. Это событие учит нас тому, в Кого же мы, собственно, верим, Кого называем Спасителем.
Это не просто Человек и Учитель. Это — Бог пророков, Податель Закона, сладчайший Собеседник древних праведников, вечное сияние славы Отца, Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного. Это Тот, Кто выше Моисея. Тот, Кому предстоит Илия. Он — Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир.
И будущую надежду проясняет фаворское сияние и о будущем светлом Царстве возвещает нам. И само изобилие плодов, освящаемых в этот день, говорит нам о сладости и радости, о богатстве и красоте будущего и грядущего Царства, которому не будет конца.
И даже фрукты в сей день — источник мыслей для радостного и сладкого богословия. Ведь о Царе прикровенно сказано: Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей (Песн. 2:3).
Успение Пресвятой Богородицы 28 (15) августа
Этот праздник установлен в честь отшествия в мир Небесный Божией Матери. В этот день апостолы чудесно перенеслись в Иерусалим, чтобы попрощаться с Ней. К Своей Матери сошел Сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством Ангелов и Архангелов. На третий день гроб Богоматери оказался пуст. Немного спустя после этого события во время трапезы апостолы беседовали о чудесном исчезновении тела Богоматери из гроба и вдруг увидели Деву Марию, стоящую на Небесах живой, со множеством ангелов, и сияющую неизреченною славою. Апостолы исполнились радости и невольно вместо «Господи, Иисусе Христе, спаси нас», воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам».
Успение: гроб Богоматери священно пуст
Любить Христа можно так, как любит царя верноподданный, живущий за тридевять земель: в лицо не видел, в глаза не смотрел, но сердцем любит. На стену прикрепил вырезку с портретом из журнала, в царские дни работать отказывается.
А вот любить мать царя невозможно иначе, как только будучи вхожим во внутренние царские покои, будучи приближенным к сокровенной от посторонних глаз жизни не царя только, но и семьи царской. Нужно быть царю родным, чтобы любить его мать и других родственников.
Почитание Богородицы — это семейный архив, семейная память, семейное предание. Уже не издали чтит Господа, но вплотную приближается к Нему тот, кто чтит Облеченную в солнце Жену (ср. Откр. 12:1), послужившую Тайне Воплощения Бога. Мы не рабы, издалека кричащие хвалу, но дети семьи Божией, когда чтим Богоматерь.
Праздники Ее сокровенны. О них можно говорить на ухо, и об Успении — особенно. Оттого, вероятно, праздник этот так любим монашествующими.
Приближение к светлым тайнам подобно приближению к огню очистительному, и впору вспомнить Моисея, закрывавшего лицо при приближении к горящей купине (Исх. 3:6). Так и икос праздника Успения говорит: «Огради моя помышления, Христе мой, ибо стену мира воспети дерзаю, чистую Матерь Твою. На столпе глагол укрепи мя и в тяжких мыслях заступи»… «В тяжких мыслях заступи», — монахам это более, чем мирским, понятно.
В день Успения мы говорим о том, что Матерь Света умерла. Произнесем еще раз эту фразу и поставим в конце ее точку по всем правилам грамматики. «Богородица и Матерь Света умерла».
После этих слов и этой точки праздник возможен только в том случае, если совершилось еще «что-то». Иначе особого праздника бы не было. Мы продолжили бы праздновать Введение во храм, Благовещение и Рождество. Мы чтили бы многочисленные Ее иконы. Но Успение в этот светлый перечень бы не попало. Оно бы помнилось наряду с днями поминовения усопших праведников, апостолов, мучеников. Помнилось бы так, как, к примеру, помнится страдальческая смерть и славные имена Петра и Павла.
Все святые, разлучившись с телами, ожидают воскресения мертвых. Они уже веселятся перед лицом Божиим и не боятся будущего, которое не таит для них ничего страшного, но лишь воскресение плоти, умножение славы и полное вхождение в Царство. Все они веселятся, но только душой. Не весь человек продолжает жить, и пока единство души с имеющей воскреснуть плотью не восстановится, это будет еще «не все» веселье, не полная радость.
Так было бы и в отношении Богоматери, если бы после точки в предложении о Ее смерти ничего больше не стояло. Однако праздник есть, и если он велик, то только потому, что гроб, недолго хранивший тело Богородицы, пуст. Петр и Павел ждут воскресения мертвых. Воскресения ждут все святые. Но Богоматерь для Себя уже ничего не ждет.
Почитание Богородицы — это семейный архив, семейная память, семейное предание. Уже не издали чтит Господа, но вплотную приближается к Нему тот, кто чтит Матерь Божию. Мы не рабы, издалека кричащие хвалу, но дети семьи Божией, когда чтим Богоматерь.
Ее гроб пуст той же священной пустотой, которой ознаменован гроб Ее Сына — Христа Спасителя.
Желудок сыт, когда полон. Дом богат, когда полон всякого добра. А вот гроб свят, когда пуст. И пуст не от рук воров, кощунников или гробокопателей, а от непобедимой силы Воскресения!
Именно так пуст гроб Христов, этот источник всеобщего воскресения. Пуст и гроб Матери Христовой. Поэтому праздник Ее Успения велик. Он и назван не днем умирания, а днем Успения, поскольку недолгим был этот смертный сон.
Ее окружало особое воспитание, и душа Ее рано, очень рано ощутила желание не отдаляться от Бога мыслью ни на йоту. Через узкие врата незримого для людских глаз подвижничества Она вошла в простор открывающихся тайн. Ей была подарена сладость особого Материнства. Ей была подарена прижизненная неизвестность и пребывание в тени Божественного Сына. Ей была положена на плечи тяжесть материнского переживания о Нем и безмолвного следования за Ним. Ей было растерзано сердце всем тем кошмаром, который вложен в понятие Страстной недели. Она была несказанно обрадована вестью о том, что Сладчайшее ее Чадо живо! Ей ли не быть отмеченной особой долей в час встречи со смертным холодом?
При всей скромной незаметности Своей на страницах Евангелия, Она, Мария, — во всем другая.
Вот цари и великие мира сего могут казаться многим чуть ли не небожителями или земными богами, хотя на самом деле они ведут жизнь обычного грешника. Они сплетничают, боятся, лгут, развратничают, клевещут. Они умирают в недоумении о будущем, и память о многих из них смывается так же быстро, как смывается с асфальта грязь напором воды из дворницкого шланга. Истинное же величие одето в простоту и неузнанность.
Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его (Лк. 1:49), — пропела Мария, едва зачав Христа от Духа. Сотворил Ей величие Сильный и в дни смерти Ее.
С одной стороны, во всем, как мы, Она умерла. Но, с другой стороны, во всем другая, Она не оставлена во гробе. Сын взял Ее с Собой. Такова, видно, любовь Его, что царствовать над искупленными Он пожелал не иначе, как вместе с Той, Кто больше всех послужила тайне Искупления.
Предание о празднике изобилует подробностями о Гаврииле, об апостоле Фоме, о некоем дерзком иудее Афонии. Предание даже называет псалом, который воспел апостол Петр, возглавляя погребальную процессию с телом Богородицы. Все это есть в песнопениях праздника и в иконографии. Но мы не всегда должны перечислять эти драгоценные черточки и йоты великого события. Иногда стоит сконцентрироваться на главном.
Главное то, что Дверь, через Которую Всевышний вошел в мир, ушла от нас через двери смерти. Она ушла вначале только душой, как и подобает смертным, но затем была воскрешена Сыном и покинула землю с плотью. Гроб Ее пуст!
Она ушла, но не оставила нас. И тропарь праздника раз за разом напоминает эту истину: «В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице».
Когда-нибудь мы тоже умрем. Не стоит ждать в тот день пришествия к нашей постели архангела Гавриила. Но молиться Богоматери стоит.
Мы, в числе миллионов других крещеных душ, поднимаем к Ней свои взоры и обращаем молитвы. Любящие Ее исчисляются сотнями тысяч и даже миллионами. Спасенные Ее заступничеством вряд ли поддаются исчислению.
Когда-нибудь мы тоже умрем. Не стоит ждать в тот день пришествия к нашей постели архангела Гавриила. Но молиться Богоматери стоит.
Постель умирающего сродни постели роженицы, поскольку душа умирающего болезненно рождается в иную жизнь. У обоих этих одров часто бывает наша Небесная Мать ради облегчения страданий и помощи. Молебный канон за мучительно умирающего человека обращен именно к Богоматери.
Так что праздник Ее Успения — это и праздник нашей общей надежды на Ее будущую помощь в тот грозный час, когда никто другой помочь будет не в состоянии.
В тропаре так и сказано: «Преставилася еси к Животу (Жизни), Мати сущи Живота (Мать истинной Жизни), и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наши».
Успение Пресвятой Богородицы: рождение в вечность
В вечерних молитвах, которые мы читаем с вами, есть такие слова: «Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит, суда Твоего Господи боюся и муки безконечныя, злое же творя не престаю». Гроб не предлежит пред нами в буквальном смысле слова, хотя можно читать это над одром, как бы склонившись возле своего раскрытого гроба. Так или иначе, он мысленно нам предлежит, и смерть нам мысленно предстоит. Зло же творить человек не перестает, и хотя суда Божьего боится, но исправляться не спешит.
С точки зрения предлежащей смерти человека, как серьезного экзамена, который будет пропускать человека в другую реальность, человеку нужно думать об этом и, думая об этом, содрогаться страхом неизвестности. Как говорил преподобный Серафим Саровский, нужно чаще думать о том, как буду умирать, что Богу скажу, и когда перехватывает дух на этих мыслях, то нужно сказать: «Пресвятая Богородица, помоги мне!»
Праздник Успения Божией Матери следует осмысливать в этом свете. Матерь Божия родилась, прожила и умерла как человек. Все, что было, было с ней как с человеком, ибо она была совершенно такой же, как все люди — дочка Евы, имеющая ту же природу. Она выпила чашу земной жизни в полной мере, из которой самыми главными событиями являются рождение в мир Иисуса Христа, питье скорбной чаши, познание Бога, молитва Ему, исполнение заповедей и смертный исход.
Смерть Ее мы называем мягким словом «успение», соединяя его по смыслу со словом «сон». То есть для праведника смерть есть сон, как переход от худшего к лучшему, как сладкое забытье.
«Сладок сон трудящегося, — говорит пророк и царь Соломон, — мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть» (Еккл. 5:11). Тревожен сон человека, который боится наказания или разоблачения. Сладок сон человека, утомившегося от добрых трудов, все, что надо, сделавшего, всего, что не надо, не сделавшего, уснувшего в надежде воскресения, то есть пробуждения утром.
Смерть Пресвятой Богородицы мы называем мягким словом «успение», соединяя его по смыслу со словом сон. То есть для праведника смерть есть сон, как переход от худшего к лучшему, как сладкое забытье.
Так уснула смертным сном Пресвятая Богородица, прожив Свою меру жизни, помолившись Сыну перед тем, чтобы Он Сам взял Ее душу, чтобы Он явился Ей, чтобы Он предстал Ей в Ее смертном борении, ибо смерть есть борьба некая. Человек вступает в борьбу, с болезненностью оставляет свое тело. Чем ближе человек к Богу, тем легче у него это происходит. Это такое чистое рождение получается, буквально как разрешение от бремени.
Человеку в это время нужна помощь ангельская, святых, простых людей, находящихся, быть может, рядом со страдающим. Матерь Божия просила, чтобы Сын явился Ей, предстоя Ей и забирая Ее, совершая такое Свое Божественное милосердие над Ней. Так и произошло.
И во гробе Она не осталась. Церковь празднует не только смерть, Успение Богоматери и душевный ее уход в Царство Божие, но празднует также и Ее воскрешение Господом Иисусом Христом и взятие во славу Ее в целостном составе человеческом. То есть Матерь Божия достигла воскресения. Она есть начаток человеческого естества по Сыне Своем. То есть Он есть начаток умерших, Он жив духом и телом, и Он — новый Адам. И Она по Своем Сыне — начаток этого искупленного человечества, уже вошедшая во славу будущего века, будучи живой душевно и телесно, полностью живой и во славе пребывая.
Поэтому мы исповедуем Богородицу как Заступницу усердную рода христианского. Она — Человек, живущий в двух мирах, и может являться нам, но также является украшением Небесного Иерусалима.
Если мертвые ожидают воскресения телом и лишь духом продолжают жить, причем по-разному, — некоторые живут активно и бодро, потому что святы, некоторые в трепетном ожидании будущего суда, поскольку грешны, — то Матерь Божия живет активно и полностью, целостно. Она, как Царица и Мать Церкви, действует могущественно по смерти, и посмертная слава Ее превосходит всякую земную славу. На земле о Ней было очень мало известно и рассказано, но посмертная слава Богородицы уже занимает тысячи исписанных золотых страниц. Она является, исцеляет, вразумляет и собеседует тем, кто молчит для мира, а молится Господу. Она покрывает девствующих и защищает страждущих по воле Божией, и всяко-всяко ино помогает Церкви.
Мы взираем на образ воскресшей Богоматери в день смерти Ее и видим в смерти нашей будущей тоже некую дверь, через которую нужно будет пройти, призывая на помощь Христа Господа и родившую Его Деву Марию. Она тоже будет помогать нам в день смерти нашей. Как повивальница, облегчающая роды женщине родящей, так и Она будет облегчать нам рождение в вечность, если только мы будем взывать к Ней и ждать Ее помощи.
Молитвы Пресвятой Богородицы неизмеримо сильны и несравнимо более ценны, чем молитвы всех-всех-всех молящихся, собранных вместе.
Праздник этот имеет параллель с Пасхой Господней, и он есть еще один шаг в жизнь будущего века. Если всех нас еще только ожидает смерть, и воскресение, и воздаяние, то у Матери Божией это уже совершилось. И в Ней мы видим первого Человека по Господе Иисусе Христе, Который в полной мере вступил в обладание будущим Царством. Ее молитвы посему неизмеримо сильны и несравнимо более ценны, чем молитвы всех-всех-всех молящихся, собранных вместе.
«В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавлявши от смерти души наша», — поется в тропаре Праздника.
Родившая истинную Жизнь, по смерти Она перешла к истинной Жизни, то есть ко Христу, Которого родила, и молитвами своими избавляет от смерти души наши. Да будет избавлена от смерти душа всякого человека, верующего в Господа Иисуса и надеющегося на Его милость и на молитвы Богородицы. Наипаче — когда мы празднуем грустный и в то же время светлый праздник Успения Богородицы.
Часть II Путь к Воскресению
Великий пост — приготовление к Пасхе
Великий пост имеет ценность как приготовление к Пасхе. Сам по себе, вне пасхального контекста, он теряет смысл и серьезно его меняет. Пост — это, с одной стороны, покаянный труд человеческий перед лицом Божьим, с другой — добровольное распятие человека со страстьми и похотьми ради достойной встречи Пасхи. Пост — это в очередной раз вживание человеческой душой в искупительные страдания Господа Иисуса Христа.
Переживание благодатной радости на Пасху, пасхальная радость дается как награда человеку, который трудится над своей жизнью и готов идти на распятие вместе со Христом для того, чтобы с Ним воскреснуть. Великий пост мы включаем именно в это смысловое понимание Пасхи как главного события мировой истории. И оно должно быть главным событием в жизни человека.
Отношением к Пасхе меряется все в нашей жизни: отношение к смерти, отношение к заповедям, к личности Иисуса Христа, к личной жизни, ко своим грехам. Все меряется в отношении пасхальной веры, пасхальной радости, которая невозможна без постного труда, заключающегося в добровольном распятии.
Слово о Великом посте
Задолго до Рождества Христова умный китаец по имени Кун-цзы (по-нашему Конфуций) сказал, что мир изолгался, слова потеряли смысл и нужно заново давать имена вещам и понятиям. Склоняя голову перед мудрым китайцем, мы и сегодня признаем, что смирение смешивают с комплексом неполноценности, храбрость — с наглостью, щедрость — с глупостью и так до бесконечности.
Время Великого поста обязывает нас говорить о покаянии — и нам, как детям ХХI века, тут же придется оправдываться. Покаяние — вовсе не оглашение своих гадостей и не размышление про себя и вслух о своих недостатках. И не многое другое из того, что ошибочно приписывают настоящему покаянию. В своих богослужениях Церковь называет покаяние «радостотворным». Как, например, в службе Почаевской иконе Божией Матери есть слова в одном из тропарей: «О грехах своих восплачемся, о милосердии же Божием возрадуемся». Покаяние истинное рождает радость: радость о прощении грехов, о том, что тебе дана вновь надежда, и перевернута страница, и Бог забыл твои неправды, и жизнь продолжается…
Пост — это в очередной раз вживание человеческой душой в искупительные страдания Господа Иисуса Христа.
Этого светлого отношения к покаянию или вовсе нет, или почти нет. Его ошибочно смешали с каким-то духовным изуверством; самобичеванием, где нет бича. Католики логически пошли дальше и дошли до самоистязания. А православные, не делая крайних шагов, стали на полпути и покаяние смешали с самоуничижением, тоской, печалью и со многими вещами, никак не касающимися Бога. Когда Антоний провел 20 лет в пустыне и знающие его пришли к нему, то они увидели человека (я никогда не забуду этих слов) «цельного в уме, здравого в душе и теле, посвященного в тайны и объятого Богом». Это — покаяние истинное. Подобен ему Моисей, в 120 лет не утративший ни единого зуба, не ослабевший в зрении и телом бывший сильным, как зрелый муж. Вот покаяние. Остальное — нудеж, скуление и тихий вой слабого и малоумного человека, считающего себя (вдумайтесь!) подвижником.
Великий пост требует от всех нас целостности, то есть собирания воедино всех составных частей нашего естества: ума, воли, чувств. И тот, кто не ест с понедельника до пятницы, и тот, кто просто бросил курить, и тот, кто отказался есть конфеты («необходимые» для жизни) — все они подвижники. Вспоминая Конфуция, нужно сказать, что и слово «подвиг» мы понимаем неправильно. Для обывателя подвиг сопряжен с ружейными залпами, тонущим кораблем, ледяными вершинами… На самом деле настоящий подвиг — это сдвигание себя самого с мертвой точки, это умение и желание разбудить свою мертвость и сделать шаг навстречу тому Отцу, Который Сам бежит навстречу блудному сыну.
Мы не зря читаем в преддверии поста о Закхее[28]. О почтенном по возрасту и уважаемом из-за богатства человеке, который не постыдился залезть на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Наш с вами пост — это не что иное, как смешные потуги толстого и немолодого человека «залезть на дерево», чтобы взглянуть в глаза Того, Кто пришел спасти человека.
Твои мышцы дряблы, твой социальный статус обязывает тебя к неким правилам. Ты мудр в глазах знающих тебя. И вот ты, как последний мальчишка, обливаясь потом и напрягая слабое тело, лезешь на дерево. Ты — посмешище. Но тебе до этого нет дела. Это — пост.
Конечно, не еда делает постника постником. Святые умели есть на людях мясо так, как будто это была морковь. Фундаментом поста является смирение. Митрополит Антоний (Блум) говорил, что латинское humilitas (смирение) связано с «гумус» (плодородная почва). Он имел в виду, что смирение плодородно, что оно открыто Богу так, как земля открыта небу, и всякой дождевой капле, и всякому семени, брошенному в нее. Земля способна всякую гниль преобразовать в плодородную почву, и она всегда рождает. Таково смирение. Если смирение не рождает умение прощать, умение потрудиться, умение отдать свое — это не смирение, а тот комплекс неполноценности, против которого так восстают атеисты, не ведающие смысла святых слов.
Конфуций говорил, что мир изолгался, слова потеряли смысл и нужно заново давать имена вещам и понятиям. Признавая его правоту, мы видим, что сегодня смирение смешивают с комплексом неполноценности, храбрость — с наглостью, щедрость — с глупостью и так до бесконечности.
Для меня очевидно, что покаяние — один из шагов к достижению того состояния, о котором говорит апостол Павел: да совершен будет Божий человек, на всякое дело благое приготовлен. Смешивать кающегося с тоскующим, или унылым, или просто меланхоликом — это хрестоматийная, однако чудовищная ошибка. Пусть вспомнит каждый кающийся слова Христовы о посте: помажь главу, лицо умой, то есть явись не людям постящимся, как лицемеры, а Богу, видящему тайное. Кающийся радостен, как ни странно. И Честертон говорил, что доброго человека узнать нетрудно: у него улыбка на лице и боль в сердце. Кстати, и исхождение в притвор на литии означало не что иное, как приобщение Церкви к скорбям неверующего человечества и молитва Богу «о всех и за вся». Так что и каяться нам приходится так, чтобы и неверующего не раздражать, и верующего не соблазнить, и самому возрастать, а не опускаться. Трудно, не правда ли? «А кому сейчас легко?» — ответит каждый стоящий на базаре.
Что можно посоветовать «постящемуся постом приятным, благоугодным Господеви», так это приобщиться к жизни какой-нибудь православной обители. Ведь в Великий пост мы все — монахи. И как иначе понять православие, если не изнутри византийского, восточного, длиннющего, красивейшего, изнуряющего, одухотворяющего богослужения? Поэтому всяк себя мнящий православным пусть поспешит в ближайшую к месту жительства или работы православную обитель, где, трепеща подобно горящей свече, выслушает Великий канон и все то, что сможет вместить, чтобы действительно приобщиться к тому горению духа, которое родило и Андрея Критского, и Иоанна Дамаскина, и Иону Киевского…
Христос с вами!
Первая строчка: Слово о молитве преподобного Ефрема Сирина
«Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми» — это слова из молитвы святого Ефрема, чтение которой скоро надолго пресечется[29].
Хочется представить образ человека, который допросился до обладания желаемым. Каков будет этот человек?
Он не будет праздным, а значит, по необходимости будет трудолюбцем, отдыхающим за сменой полезных занятий. Он не будет уныл, но весел в Духе, что будет лучшей проповедью Христа. Вы видели радостных монахов или просто христиан со светлыми лицами? Я видел и хочу сказать, что они светящимися глазами говорят о Христе больше книг и лучше слов. Чрезмерная же и постоянная печаль не есть от Бога, но есть признак нераскаянности.
Далее, сей неунывающий трудолюбец будет бежать от первых мест и занимать последние, как и сказано в Слове. Власть не будет нужна ему, и необходимость командовать другими он воспримет как крест или наказание. И, наконец, он будет благоразумно молчалив. Не только гнилое, но и праздное слово из его уст мы не услышим. Таков прекрасный образ человека, молившегося молитвой Ефрема Сирина и воплотившего просимое в первой строчке в жизнь. Только в первой строчке!
Все это есть в посланиях апостола Павла: трудитесь своими руками (ср. Еф. 4:28); всегда радуйтесь (1 Фес. 5:16); повинуйтесь друг другу в страхе Божием (Еф. 5:21) и никакое слово гнилое да не исходит из уст ваших (Еф. 4:29). Таким образом, нравственное учение святого Ефрема, кратко изложенное в его молитве, есть плод Того же Духа, что и послания апостола языков.
И я хочу быть трудолюбивым, радостным, скупым на слова и не лезущим в командиры. Да и все должны хотеть. Значит, нужно с максимальным вниманием и внутренним усилием читать эту молитву в скудные дни, оставшиеся для ее произнесения.
Еще хочется проследить связь между грехами, просьба об избавлении от которых содержится все в той же первой строчке.
Первое и четвертое, праздность и празднословие — связаны между собой? По-моему, еще как! Только тот, кто ничего полезного не делает, наполняет воздух словесным мусором. Основательные же знатоки своего дела всегда «процеживают» редкие слова, словно метят не в бровь, а в глаз. Эта словесная скупость является обратной стороной полезной занятости. Так что трудолюбец молчит, поет или молится, а праздный человек ищет кого-то, чтобы почесать языками на пару и скрасить празднословием унылые будни.
Вы видели христиан со светлыми лицами? Я видел и хочу сказать, что они светящимися глазами говорят о Христе больше книг и лучше слов. Чрезмерная же и постоянная печаль не есть от Бога, но есть признак нераскаянности.
Опять-таки, уныние с праздностью связаны? Связаны. Амвросий Оптинский говорил: «Скука — унынию внука, а лени — дочь». То есть уныние рождает лень, а лень, в свою очередь, рождает скуку. Начни полезно трудиться — и мир не будет тебе скучен так, как был он скучен согрешившему и в идолопоклонство впавшему Соломону.
Особые отношения интимно связывают празднословие с любоначалием, то есть третье и четвертое духовное расположение. Кто хочет властвовать, тот должен много говорить, должен обещать, должен хвалить се6я, должен словами, как красками, рисовать в воздухе миражи прекрасного будущего.
В демократических странах процедуре выборов предшествует процедура дебатов, предвыборных компаний и прочей болтовни, призванной расхвалить себя и опорочить рядом стоящего соискателя. И всей этой болтовни, в необходимости которой нас почти убедили, должно быть так много, что приходится нанимать целые армии пишущих, шепчущих и кричащих существ, готовых служить своему боссу и мозгами, и голосом. Никакая форма власти, кроме демократической, не делает столь очевидной связь между любоначалием и празднословием.
Еще любоначалие всегда связано с унынием. Рождаясь от гордости, желание властвовать никогда не даст человеку покоя. Обойдут его на дистанции или другим достанется больше славы — свет будет ему не мил. Если же он залезет выше всех, то, во-первых, останется один в разреженном воздухе власти, во-вторых, принужден будет сказать все те же библейские слова о суете сует (Еккл. 12:8), поскольку душа продолжит оставаться голодной.
Все страсти связаны и скреплены, как звенья в цепи. Все люди закованы в свои страсти, носят их на себе, словно кандалы, и гремят ими при каждом движении. Звон этих кандалов слышен не в мире людей, но в мире ангелов и для сердечных ушей, то есть для совести. Может быть, для ангельских глаз вся наша жизнь есть лишь нескончаемая вереница закованных в цепи людей: все бредут покорно, как по Владимирскому тракту в Сибирь во времена оны, и голова колонны из-за многолюдства теряется за горизонтом, так же, как и хвост, только с противоположной стороны.
Но есть люди, которые выскакивают из обреченного каторжного шествия. Они поднимают к небу свои цепи, словно просят Живущего на небеси разрубить эти кандалы. И просьбы некоторых исполняются мгновенно, а некоторым приходится просить дольше и настойчивей. Просят все одними и теми же словами: «Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми».
Открываем Псалтирь
Человек успевает все меньше, хотя быт человеческий оснащен множеством приборов и механизмов. Удивительно: стирает машина стиральная, моет посуду машина посудомоечная, транспорт переносит человека за краткое время на большие расстояния и средства связи позволяют общаться друг с другом. А все же мы ничего не успеваем.
Люди, ездившие на лошадях и пахавшие на волах, успевали за жизнь сделать больше, и то, что сделали они, было прочнее, добротнее, долговечнее. Стоит заметить этот жизненный перекос и задаться вопросом, отчего это все так, а не иначе? Отчего мы, при всех достижениях техники и прикладной науки, становимся отнюдь не колоссами и гигантами, а беззащитной пылью, которую разносит ветер?
Ответ есть в первом псалме: там ублажается человек, который поучается в законе Господнем день и ночь (Пс. 1:2). Очевидно, это не означает вечного сидения над книгой, но хранение слов Божиих на скрижалях сердца и постоянное размышление о Боге вне зависимости от внешних обстоятельств. Так вот, этот помнящий о Боге человек, человек занятый умно-сердечной молитвенной деятельностью, уподобляется в псалме дереву, посаженному при потоках вод. Такое дерево приносит плод свой во время свое, и лист его не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет (Пс. 1:3).
Человек вообще похож на дерево, хотя бы вертикальностью позвоночника. Как и дерево, человек стоит на земле, но устремляется вверх. У него должны быть плоды, иначе за бесплодие он будет посечен без жалости. Листьями же именуются внешние дела человеческие, которые имеют относительную ценность и радуют глаз, но не насыщают.
Цивилизация, забывшая о Боге и переставшая молиться — это цивилизация «унесенных ветром». Это вечно спешащие и никуда не успевающие люди. Они постоянно в хлопотах и заботах, но после смерти от них ничего не остается, даже памяти.
Так вот, у раба Божьего и лист не вянет, и плоды появятся в свое время. Но нечестивые — не так. Они именно — прах, возметаемый ветром с лица земли (см.: Пс. 1:4).
Цивилизация, забывшая о Боге и переставшая молиться — это цивилизация «унесенных ветром». Это вечно спешащие и никуда не успевающие люди. Они постоянно в хлопотах и заботах, но после смерти от них ничего не остается, даже памяти. Жизнь как сон, жизнь как мечта — их удел.
У них есть жизнь, но нет бытия, потому что нет постоянного поучения в Законе Господнем. Поэтому, если вы заметите, что кроме суеты, у вас за спиной ничего не остается, не ищите помощи у секретарей, не идите на курсы логистики или эргономики, не заполняйте органайзер заметками и напоминаниями. Открывайте Писание, выучивайте первый псалом, вслед за ним — второй и так далее. Начинайте поучаться в Законе Господнем. И лист ваш не увянет, и все, что будете делать, успеете.
Псалом 1[30]:
1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей,
2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
4 Не так — нечестивые, [не так]: но они — как прах, возметаемый ветром [с лица земли].
5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных.
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Торжество православия
Имя первого воскресенья Великого поста так красиво звучит, что и не сведущий в истории праздника человек ощущает прикосновение к великому смыслу. Вот, у Платонова в «Чевенгуре»[31] два чудака ищут самую настоящую партию, чтобы туда записаться и быть полезными для истории и приближения земного блаженства.
«…Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье — это сложное изделие, и не в нем цель человека, а в исполнении исторических законов. А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно.
— Вот это так! — резонно удивился Захар Павлович. — Значит, работай без жалованья? Тогда это не партия, а эксплуатация. Идем, Саш, с этого места. У религии и то было торжество православия…»
«Торжество православия», которое «было у религии» — ощутимое даже для самых простых душ различие между принятием мира Божьего, предложенным религией, и коренным переустройством мира, предложенным новым мировоззрением.
Новое мировоззрение тогда предлагало борьбу, такую же «сплошную» и бесконечную, как и ньютоновское пространство. Нынешнее новое мировоззрение предлагает накопительство товаров, услуг и впечатлений, столь же бессмысленное и бесконечное, как и классовая «сплошная борьба». А религия предлагает для созерцания уже покоренные сияющие вершины. У веры есть достигнутые цели, есть одержанные победы, которыми могут наслаждаться все, живущие одной верой.
Богословие иконоборцев еретично, оно не от Духа, но от плохо понятой буквы Писания Ветхого Завета.
Внутри понятия «торжество православия» существует множество понятий, необходимых для уяснения. Бог стал человеком, Невидимый изобразился. Потерял смысл ветхозаветный запрет на священные изображения: когда Слово стало Плотью, а Плоть видима, то возможна икона, как выражение веры в Воплощение.
Внутренний благодатный опыт есть не у всех: не во всех вера (2 Фес. 3:2). Для ума, озаренного частично, возникает соблазн: «Не идол ли икона?» Соблазн перерастает в полемику, полемика — в войну.
Иконоборцы и православные собирают свои Соборы, взаимно друг друга анафематствуя, богословски обосновывают свое отношение к писаному образу. Часто льется кровь, тюрьмы полны исповедников.
Богословие иконоборцев еретично, оно не от Духа, но от плохо понятой буквы Писания Ветхого Завета.
Идут десятилетия, скапливаясь в столетия, а война не утихает. Наконец созывается Седьмой Вселенский Собор, на котором иконопочитание торжествует. Вместе с иконой торжествует Церковь во всеоружии истины. Праздник становится символом и занимает свое место в иерархии непогрешительных смыслов.
Все это нужно знать. Но даже если этого не знать, или сделать вид, что не знаешь, у выражения «торжество православия» достаточно внутренней красоты, чтобы ею наслаждались и простецы, и книжники.
Православие — не самое многочисленное исповедание в христианском мире; — значит, не в количестве торжество. И грехов с ошибками у нас хватает — значит, не в нашей личной святости торжество. Многое не сделано, многое не понято, кое-где еще «конь не валялся». При желании можно и похвалиться, но лучше сдержаться. Человеческая похвала лукава и сиюминутна, самохвальство вовсе порочно. Нужно сначала заслужить, а потом дождаться настоящей — от Бога — похвалы. Но торжество-то празднуется сейчас, прежде окончательной награды! Почему?
Оно празднуется потому, что в нем не только триумф победы над ложью, но и ободрение всем исповедующим православную веру. В этом празднике — трезвая оценка тяжелого исторического пути Церкви. Церкви всегда было тяжело, но Церковь жива! Зная, что она вытерпела, слова о том, что она жива, есть доказательство того, что она непобедима! Церковь неуничтожима — ради Истины, исповедуемой Церковью, ради Христа, создавшего и возглавившего Ее. Если к Церкви подмешивается ложь и золото учения смешивается с соломой человеческих добавок, то Бог проводит Церковь через огонь. Там, в огне, сгорают трава, сено и солома, а остаются золото, серебро, драгоценные камни. Как только поймешь это, тотчас же приобщишься к Торжеству православия.
У этого достойного словосочетания может быть бесчисленное количество маленьких, но драгоценных воплощений. Критики много. Ропота много. Но есть ведь и благодарные тихие речи. Есть скромный подсчет больших и маленьких добрых дел, которые совершались и совершаются верующими людьми во имя Бога и Его же силою.
«У нас в селе долго не было храма, а теперь уже пятый год, как построили и освятили. С каждым годом все больше прихожан», — это Торжество православия.
«В больницах города волонтеры православного молодежного движения за год убедили триста женщин отказаться от аборта», — это Торжество православия.
«С тех пор как в нашем исправительном учреждении открылся храм и заключенные стали активно его посещать, процент возвращения освобожденных обратно за решетку весьма заметно упал», — и это Торжество православия.
На тайский язык перевели Закон Божий, а в Пакистане появился первый в истории этой страны православный священник. Разве это не вселенское измерение и проявление того же празднования? Пишутся книги, снимаются фильмы, венчаются пары, рождаются дети, которых на пороге жизни встречает Крещением Церковь Христова. Разве это не Торжество православия?
При всех проблемах, при всей расслабленности и запутанности современного человека многие люди жаждут монашества, принимают постриг, ищут и находят обители, в которых желают окончить дни. Разве само существование монашества не как бегства от мира, а как принесения себя в жертву Христу не есть то же самое Торжество православия? Любой творческий труд во славу Воплотившегося Господа, любое терпеливое страдание и стояние за Истину есть Торжество православия.
При желании можно и похвалиться, но лучше сдержаться. Человеческая похвала лукава и сиюминутна, самохвальство вовсе порочно. Нужно сначала заслужить, а потом дождаться настоящей — от Бога — похвалы.
Дело только в том, чтобы таких маленьких, но драгоценных торжеств было как можно больше. Чтобы Церковь торжествовала не только с амвона в праздничные дни, но и в повседневности. Пусть с амвона она торжествует при помощи протодьяконов. Но пусть в повседневности она торжествует в каждом православном христианине через исполнение Христовых заповедей.
Праздник дает силы и ставит задачи. Задачей для всякого крещеного человека является труд ради Христа: на том маленьком кусочке Вселенной, за который ты отвечаешь, наведи порядок во славу Господа. Расчисть это место (а главным образом оно в душе твоей), и ты приготовишь его для того, чтобы на нем появилось и укрепилось, крепко стало знамя Торжествующей Церкви, ее хоругвь — Крест Господень, Непобедимая Победа!
Верность до смерти
В углу моей комнаты висит икона Спасителя с горящей перед ней лампадой. Я привык к ней и редко задумываюсь над тем, какое место икона занимает в моей жизни. Православное украшение интерьера, что-то привычное для молитвы, одна из обрядовых сторон Церкви, красота, наконец…
Вот что значит икона для бытового сознания. Но за этими красками разверзаются бездны.
Приближается первая неделя Великого поста. Я готовлюсь к проповеди о торжестве иконопочитания, перебираю в памяти все, что знаю о «богословии в красках»[32]. Две вещи вспоминаются ярче всего.
Средневековая Грузия. Маленькую христианскую страну постоянно терзают различные захватчики. Храбрые благоверные воины и мученики за Христа — самый многочисленный лик грузинских святых. Верность Христу буквально оплачивается кровью.
Очередной враг — царевич Джелаль-ад-Дин — захватывает Тбилиси. Он повелевает снять купол с кафедрального собора и усаживается на его верху. Внизу, у моста через Куру, поставлены иконы — те самые, перед которыми молились многие поколения горожан. Царевич повелевает жителям города подходить по одному и, плюнув на образ, живым перейти на другой берег. Возле икон стоят воины с обнаженными мечами, и несогласных ждет неминуемая смерть.
Подходит первый человек. Крестится, склоняет голову и в последний раз целует знакомый образ. Острый меч мгновенно отсекает голову, и тело первого мученика бросают в реку. Подходит второй, происходит то же. Третий, четвертый… Люди стоят в длинной очереди за смертью, трепещут, молятся, однако, крестясь, целуют иконы и, обезглавленные, падают в реку.
До позднего вечера шли ко Христу православные тбилисцы, омывались кровью и уходили в Небо. На иконы не плюнул никто. С удивлением смотрел Джелаль-ад-Дин на мучеников, которых он захватил, но не поработил.
Для грузин и японцев, для греков и русских, для православных христиан любой национальности всегда было ясно, что Христос — не только Слово Отца, но и — Образ Бога невидимого. Чтить нужно не только Его Книгу, но и Его Образ.
Средневековая Япония. Европейские мореплаватели открывают для себя этот островной народ, а для японцев — европейскую цивилизацию. Гавани полны кораблей, чьи паруса украшены крестом. Диковинные товары наводняют страну. Проповедуется новая вера. Европейцы изучают японский язык, переводят на него Евангелие. Множество туземцев откликается на проповедь о Христе, принимает новую веру. Сегуны (правители) благоприятствуют этому и даже позволяют совершать службы и молиться в своих замках.
Но вскоре японцы чувствуют неладное. Успех католической миссии грозит колонизацией страны. Религия может послужить инструментом политики. К тому же наводнившие страну миссионеры не являют пример христианской жизни. Представители разных монашеских орденов враждуют друг с другом. Японцы принимают радикальное решение — они выгоняют всех европейцев и запрещают им впредь появляться на островах. Япония на долгие столетия сознательно изолирует себя от всего мира. Благодаря этому она избежит судьбы многих стран Индокитая и никогда не будет колонией. Но внутри страны остается много христиан-японцев. Что делать с ними? Их решают выявить и уничтожить.
Выявляют христиан особым способом.
Сегунам ясно, что есть вещи, которые христианин не сделает ни при каких условиях. Например, не наступит на икону Христа. И вот, вооруженные отряды объезжают страну и в каждой деревне предлагают людям одно и то же — попрать ногами образ Спасителя. Расчет оказался верным. Верующие сразу обнаруживают себя категорическим отказом.
Их всех ждала мучительная смерть.
Для грузин и японцев, для греков и русских, для православных христиан любой национальности всегда было ясно, что Христос — не только Слово Отца, но и — Образ Бога невидимого. Чтить нужно не только Его Книгу, но и Его Образ. Икона не тождественна природе Изображаемого, но тождественна Его Личности.
…В углу моей комнаты висит икона Спасителя с горящей перед ней лампадой. Я часто смотрю на этот образ и привык к нему. Но сегодня, вспоминая мучеников, я смотрю на икону как будто впервые — и вижу в ней святыню, за которую можно умереть.
В первую Неделю Великого поста
Первая неделя Великой Четыредесятницы называется Неделей Торжества православия. Это очень громкое и красивое название, которое исторически связано с победой догмата иконопочитания. Оно связано с одной из таких серьезных ересей, которые тревожили Церковь не одно столетие и до сих пор смущают умы.
Есть много людей, которые веруют в Господа Иисуса Христа, признают Его Богом и Спасителем мира, однако тревожит их ум вопрос: не идол ли икона? И хоть сегодня об этот вопрос не ломаются копья и не проливается кровь, были времена, когда ответ на этот вопрос мог стоить жизни человеку.
Это продолжалось не одно десятилетие в пределах Византийской империи. У каждой стороны было свое богословие. Безусловно, истина одна, нету двух истин. Но правд — сотни. Церкви надо было выработать богословский язык, объясняющий догмат иконопочитания и доводящий до сознания людей — что же именно такое икона, откуда она взялась, зачем она нужна, почему Церковь не может отказаться от нее, почему это не просто орнамент, украшающий внутренности храма или священные одежды. Почему это догмат?
Допустим, наличие свечей на престоле во время литургии — обязательный элемент, так как в храме должен быть живой огонь, без которого нельзя служить литургию. Нельзя служить, не имея на престоле двух горящих свечей, но это никто не догматизирует. Никто не назовет еретиком священника, который в силу разных обстоятельств будет служить литургию, не имея свечей на алтаре. Например, во время гонений, чтобы не обнаруживать себя ночью. Бывали такие случаи.
Или такой курьезный случай был. Один из епископов нашей Церкви, который совершает службы на Дальнем Востоке, в качестве матроса ходил в дальнее плавание на атомоходе подводном, на подводной лодке. И там, неся свое матросское послушание, он вместе с тем катехизировал личный состав и совершал богослужения. Он служил литургию на глубине нескольких сот метров под водой. Там не разжигали кадило, не зажигали свечи, потому что техника безопасности таких судов не предполагает открытого огня. То есть огонь должен быть на алтаре, но если его нет, то это не ересь.
Или, допустим, подризники наши должны быть из естественных ниток, не должны иметь в своем составе химии, синтетики — но кто знает, из чего он пошит? Наверняка в большинстве наших одежд мало естественных ниток, а синтетика составляет большую часть. Но это не догмат, и никто не назовет священника еретиком из-за этого.
Многие веруют в Господа Иисуса Христа, признают Его Богом и Спасителем мира, однако тревожит их ум вопрос: не идол ли икона? И хоть сегодня об этот вопрос не ломаются копья и не проливается кровь, были времена, когда ответ на этот вопрос мог стоить жизни человеку.
Но икона является таким водораздельным, приграничным рубежом, на котором ты проверяешь свою принадлежность к Церкви. В отношении к иконе проверяется, насколько ты новозаветен, насколько ты понимаешь догматику христианскую и евангельское учение.
Почему в Ветхом Завете сказано, что нельзя никаких изображений иметь? Потому что Бог, вступая в общение с людьми, оставался абсолютно невидимым. Существо Божие невидимо. Существо Божие недоступно чувствам, оно вне всяких чувств, над-умный Господь по существу Своему надмирен. Бог разговаривал с людьми, даровал им закон, приближался к ним благодатью Своею, Он напоминал им, мол, вы голос Мой слышали, а образа никакого не видели. Эти слова несколько раз повторяются в Старом Завете.
Когда Господь давал Закон евреям, Он говорил: «Помните внимательно, снабдите души ваши, вы голос слышали, а образ никакой не видели». Там, где нет образа, там не может быть никакого изображения. Голос слышали, написали с голоса то, что Господь сказал и слова Господни читаем, запоминаем, поем, назидаемся, исполняем. Таково богослужение Ветхого Завета и Богоустановленный порядок.
С чего начинается Новый Завет? «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1, 3). То есть Оно творческое, это Слово Божие и совечное Отцу. Оно творит мир вместе с Отцом, и без Него ничто не существует.
И далее говорится: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». Кто это такой? Что это за Слово, ставшее плотью? Это Христос! Он является зиждительным Словом животворным, творческим дыханием Своего Отца, второй ипостасью Троицы. «Мы видели Его, — говорят апостолы, — и Оно обитало с нами».
И вот, поскольку Бог в Новом Завете стал видим, Он вошел в историю человеческую. Он не просто назидает над миром и не просто дает человеку Закон и наблюдает за исполнением его, наказывая непокорных и награждая покорных, Господь Бог вошел в саму плоть мира через дверь Богородицы. Матерь Божия есть дверь Небесная. Вот через дверь Ее чрева, через Ее лоно, через Ее утробу Господь вошел в мир плотоносцем и стал видим. Поэтому Спаситель впоследствии говорит своим ученикам: блаженны очи ваши, потому что вы видите то, что многие пророки и цари хотели видеть и не видели (см.: Мф. 13:16–17).
Воплощение Божие является основанием догмата иконопочитания. Кого мы в первую очередь должны изображать на иконах? — Бога Слова воплощенного. А после Него — Матерь Его, через Которую Он стал человеком, и принял плоть на Себя человеческую, и стал для нас видимым.
Есть целое богословие иконопочитания. Оно очень тонкое, глубокое и очень интересное. Оно не в пример глубже, красивее и благодатнее всех тех детских сказок, на основании которых люди пытаются отрицать святую икону. Иконы отрицаются на основании плохо понятого ветхозаветного текста, а изображаются на основании правильного понятого новозаветного.
Ересь иконоборцев была, по сути, последней из таких могучих ересей, которые колебали всю вселенную в течение очень долгого времени. Ереси никогда не умирают. Они продолжают жить, но уже не захватывают такое огромное количество умов, не угрожают поколебать весь мир и не покушаются на истину.
Когда мы говорим о Торжестве православия, то слышим в этом словосочетании не только праздник победы над ересями. Мы представляем себе людей, крепких в вере. Если люди, украшенные православной верой, например, не делают абортов — это Торжество православия. Если иноки православные, живущие в монастырях, славятся послушанием, чистотой, нестяжанием и непрестанной молитвой — это тоже Торжество православия. Если православные люди богатеют милостынями и добрыми делами, участвуют в скорбях друг друга и помогают друг другу жить не по законам мира сего, согласно которому у каждого свои проблемы и никому нет ни до кого дела, — это тоже Торжество православия.
Сейчас люди так живут, что случись что-нибудь, не у кого попросить маломальской помощи, никто с тобой вместе не поплачет, если что. Не то что никто не поможет тебе реально, никто в принципе тебя и слушать не захочет, когда ты захочешь поплакаться и поделиться своей проблемой.
Важно небезразличие к тебе, потому что когда ты никому не нужен, значит, ты живешь уже не на земле, а в аду.
Есть и другие отношения, когда люди помогают друг другу. По крайней мере, если не могут помочь, то хотя бы хотят, — это уже очень важно. Важно небезразличие к тебе, потому что, когда ты никому не нужен, значит, ты живешь уже не на земле, а в аду. Это в аду никто никому не нужен. А на земле все должны быть нужны друг другу. И если так будет, пусть даже в малой мере — это Торжество православия.
Торжество православия там, где люди читают Святое Евангелие постоянно и знают его. Святое Писание собиралось в течение четырех столетий. Епископы, монахи, священники собирали, редактировали, одни книги вносили, другие выносили, Соборы собирали целые для того, чтобы сформировать канон новозаветных книг. Полтысячи лет Церковь занималась тем, чтобы из разрозненных списков самых разных писем апостола Павла, посланий апостола Петра, разных кодексов Евангелия, подложных и настоящих книг отобрать нужное, отбросить ненужное и собрать в конце концов один кодекс книг. Библию мы получили через полтысячи лет церковной истории.
И сегодня люди, находящиеся в Церкви и Церкви принадлежащие, не знают, не читают эту святую церковную книгу, которая на престоле лежит в каждом храме. А люди, находящиеся за пределами Церкви, баптисты какие-нибудь или адвентисты, не расстаются с ней. Это какой-то абсурд и непонятный перекос во вселенной.
Не может человек жить только хлебом. Да, он умрет без хлеба. Но если его жизнь полна одним только хлебом — это не жизнь, это медленное умирание. Человек живет хлебом и Словом Божиим. Без Слова Божиего он деградирует, он превращается уже в «нечеловека». Там, где любят Божье слово и изучают его — там тоже Торжество православия.
Там, где наступил пост и люди повыключали компьютеры, телевизоры, радио, убрали со стола всякие ненужные вещи, положили на стол молитвенник и открыли его на нужном месте, зажгли лампадочку — там тоже Торжество православия.
Торжество православия в широком смысле слова везде, где творятся заповеди Божии, везде, где грешник остановился на путях своих и сказал: «Стоп, хватит, еще пару шагов и я пропал!» — и положил начало исправлению.
Блудный сын начал исправляться, потому что остановился и подумал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему» (Лк. 15:17–18). С этого начинается покаяние. Там, где человек шел по жизни, как животное, не понимая, куда идет, а потом остановился и стал искать путь Божий — это тоже Торжество православия.
Одним словом, везде, где соблюдается супружеская верность; где льются слезы о содеянных грехах; где враждующие примиряются; где обидимый простил обидчика, а обидчику жаль, что он совершил ошибку в своей жизни; где люди раздают милостыню; где долги отдаются вовремя; где православные христиане живут с Богом в сердце своем, ходят в храм Божий неопустительно, любят причащаться Святых Таин и чувствуют силу Божию, которая подается им в причастии Святых Таин, словом, везде, где это есть, — там Торжество православия.
Если бы кругом было такое Торжество православия, то мы бы жили в раю. Это был бы рай Божий. Мы бы не слышали матерных слов вокруг себя. Мы бы не видели спившихся людей, под забором лежащих, потерявших квартиры и роющихся в мусорниках. Не было бы всех этих кошмаров. Не было бы этой ненависти к власти, которая сегодня есть у народа. И сама власть была бы другой, не вызывающей к себе ненависти. Не было бы зависти между людьми, не было бы гордых начальников и их униженных подчиненных. Было бы все по-другому, если бы мы были православными.
Какой в нашем народе процент православных? Шестьдесят? Семьдесят? Восемьдесят? В любом случае, больше половины наших людей — крещеные. Если эти православные из своего состояния перейдут к Торжеству православия, у нас совершенно поменяется жизнь. Если наше потенциальное православие превратится в православие торжествующее, фактическое, настоящее, то, конечно же, нам не нужно будет менять ни одного закона в Конституции, ни одного закона в подзаконных актах. Потому что жизнь поменяется к лучшему и без законодательной деятельности — только изнутри изменившихся сердец человечества. Вот это было бы тогда настоящим Торжеством православия.
Конечно же, так будет не завтра и не послезавтра. Но там, где люди будут исполнять заповеди, там все равно будет Торжество православия. Там, где тебя обидели и ты хотел отомстить, но сдержался, поплакал одну ночь и помолился Богу, и Бог дал тебе силы, и ты простил и забыл — там будет Торжество православия. Там, где в тебя попала ядовитая стрела бесовская и ты весь загорелся на какую-то похоть, например — на блуд, но не побежал туда, куда хотел, а остановился, и начал бороться, и поборол, по милости Божией. Может быть, даже через неделю или через месяц, но поборол именем Христовым, — там будет Торжество православия. Там где всякая заповедь Господня исполнится, там будет и уже есть Торжество православия.
Наша вера называется православной, потому что мало просто верить в Бога, нужно стараться прославить Его достойно и праведно.
Мы все крещеные. Это обязывает всех нас к тому, чтобы мы помнили Господа и старались прославить Его. Заметьте, что мы не называем себя правоверными. Греческое слово «ортодоксия» переводится двояко — «правоверный» или «православный». Наша вера называется не правоверной, а православной, потому что мало просто верить в Бога, нужно стараться прославить Его достойно и праведно. И об этом говорится в Писании: «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:20). Все наше — Господне. Поэтому мы «живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, — всегда Господни» (Рим. 14:8).
Нам нужно учиться делать как можно больше для Господа. Начиная с маленьких вещей. Например, научиться есть для Господа, то есть садиться за стол с молитвой и вставать с благодарственной молитвой. Научишься не просто есть, а есть для Господа, потом научишься пить для Господа, потом спать для Господа. С молитвой ложиться спать, а просыпаясь, первую мысль отдавать Господу. Таким простым вещам нужно научиться человеку. Садясь за руль, перекреститься и прочесть «Отче наш». И выходя из автомобиля, сказать: слава Богу, доехал. То есть помнить Господа всегда и жить для Него, постараться хоть немножко прославить Его.
Грешник не может в полной мере прославить Бога, ему сначала нужно покаяться. Покаяние — это тоже прославление Господа. Если бы человек не имел греха, он должен был бы хвалить Бога каждый день, каждую секунду, каждый час, но поскольку человек грешен, то некрасива похвала в устах грешника. Если грешник хвалит много Бога, то это Богу неприятно, потому что грешник про покаяние забывает. Нужно каяться перед Ним в своих грехах, и покаяние — это тоже прославление Господа.
Мы, будучи православными, должны каяться в грехах своих. Должны как можно меньше грешить, потому что грех оскорбляет Бога. Грех вносит в мир смерть и умножает небытие. Будто черные дыры образуются в мироздании, которые пожирают все живое. Грех — это раковая болезнь, распространяющиеся метастазы смерти по всему миру. И чем меньше ты грешишь, тем больше ты даешь места Богу и тем меньше ты отнимаешь места у жизни, у настоящей жизни. Поэтому нужно, конечно, стараться меньше грешить, нужно плакать перед Богом о содеянных грехах и стараться их не повторять. И нужно хвалить Бога — устами, сердцем, делами, мыслями, прославлять Его «в душах своих и телесех своих». И это будет наше православие, и оно должно быть торжествующим. Нужно, чтобы обязательно было не униженное наше православие, святое и бедное, а чтобы оно было славное, торжествующее и грозное, как полки со знаменами.
Грешник не может в полной мере прославить Бога, ему сначала нужно покаяться. Покаяние — это тоже прославление Господа.
Давайте будем переживать о нашей святой Матери-Церкви, которая столько страдает из-за нас, которая сама по себе святая, в отличие от нас, ее членов, и носит на руках своих эти миллионы грешных детей. И тяжело ей носить грехи наши. Мы поможем святой Церкви, если станем менее грешны и начнем трудиться для Господа чуть-чуть больше, чем трудились до сегодняшнего дня.
Причастие Марии Египетской
Большинство икон святой Марии Египетской изображают ее молящейся. Она измождена, чрезвычайно суха телом, невозможно угадать в ней прежнюю красавицу. Руки ее воздеты, она устремлена ко Христу. Христос слышит ее молитвы. Его благословляющая десница видна в верхнем углу, куда устремлен взгляд святой. Но есть и иные иконы, где Марию причащает Зосима. Надвратную роспись с таким сюжетом я видел в афонском монастыре Дохиар.
Это очень важный сюжет жития. Возможно, он — самый важный. Мир узнал о прежней грешнице, взошедшей на высокую гору святости, благодаря монаху Зосиме. А тот был приведен в пустыню к Марии с двоякой целью. С одной стороны, нужно было уврачевать его душу, в которой уже зародился гордый помысел: я, дескать, превзошел прочих подвижников и подобных мне нет. А с другой стороны, он, как священник, мог взять с собой Святые Тайны и причастить Марию. Что он со временем и сделал.
Мария, когда Зосима впервые увидел ее, была уже в благодатном состоянии. Принося Богу тихую молитву о живущих в миру, она поднялась на глазах Зосимы на локоть от земли. Она знала его имя прежде, нежели он назвался ей. Она цитировала Святое Писание, хотя не была научена грамоте. Иорданская вода была твердой под ее стопами, и преподобная шла по воде после совершения над ней крестного знамения. И все же ей, уже питающейся Богом, было необходимо принять Причастие.
Она уже была мертва для греха и жива для правды. Макарий Великий говорит, что душа в отношении греха должна быть заклана по подобию ветхозаветных жертв. Там ягненок был выкупан, и рассечен священником на части, и посолен солью. И лишь затем — принесен во всесожжение. «Так и наша душа, — говорит Макарий, — приступая к истинному Архиерею — Христу, должна быть от Него закланною и умереть для своего мудрования и для худой жизни, какою жила, то есть для греха; и как жизнь оставляет жертву, должно оставить ее лукавство страстей». Все это на Марии исполнилось. Но и при этом нуждалась она в Небесном Хлебе. Такова непреходящая нужда живущего на земле человека в Причастии.
Если и ходящий по водам, и знающий наизусть Писание, и воскрешающий мертвых человек скажет, что не нужно ему Причастие, то нет в нем истины. А что же скажет духовный калека, который покрыт грехами, как коростой? Что он скажет, если Бог гремел над его духовным слухом всю жизнь, говоря «Примите, ядите Тело Мое!», «Пейте все Кровь Мою», а он не услышал повеление, пренебрег подарком, отверг призвание?
Мария, несомненно, причащалась бы часто, если бы жила вблизи селений и церквей. Но нельзя было ей жить вблизи людей. Ее многолетний греховный навык требовал максимального удаления от всяких соблазнов. Не просто явный соблазн, но даже шум человеческих жилищ, взгляд на любое лицо человеческое родил бы в ней такой внутренний пожар, что она вернулась бы к прежней жизни с ее немыслимым развратом. Мария должна была бежать от людей, бежать далеко, не оборачиваясь. По сути, она бежала от себя. Ради Господа Христа и ради своей бессмертной души она бежала от всего, что могло пробудить в ней дикого зверя похоти. Только поэтому она не причащалась часто. Но и уйти из этого мира к престолу Спасителя она без Святых Таин не хотела. До этого она причащалась еще только раз, в начале ухода из мира.
Удивительные отношения сложились у Марии со Христом и Его Пречистыми Тайнами. Свое первое Причастие она получила в Иерусалимском храме Воскресения, получила наперед, как залог, поскольку были у нее в то время одни грехи и ничего доброго. Не было поста, не было молитвы, не было ни одной благочестивой мысли. Но когда Бог снял с ее глаз пелену и она увидела свою жизнь, похожую на зловонный труп, поедаемый червями, источник слез закипел у нее в груди. С тех пор обильные слезы текли из глаз Марии непрестанно. И этих слез хватило уже в первый раз, чтобы причаститься.
Ослепшая от плача, растрепанная, с мокрым лицом, словно безумная, она приняла Причастие. И никто не остановил ее, никто не спросил, читала ли она молитвы, постилась ли, была ли на исповеди. Дух Святой, начавший совершать в ее душе спасительное действие, дал почувствовать всем, что эта женщина должна причаститься.
Сорок семь лет пустынного жития и два принятия Тела и Крови Христовых, один раз — в начале пустынных трудов, второй раз — перед смертью. Не было бы Причастия — не было бы сил перенести почти полувековой пустынный подвиг. Не было бы Причастия — Зосима не пришел бы к ней, мы бы о ней не узнали.
Нам не нужно грешить так, как грешила она, живя в миру. Не нужно, потому что подобно ей каяться мы не сможем. Но нам нужно принимать Святые Тайны, без которых, как видим, самые святые — не до конца святы.
Последняя молитва последней литургии. О литургии Преждеосвященных Даров
Речь пойдет не о той литургии, которая будет совершена в последние часы истории мира, и не о той, что будет на вершине Афонской горы в последние времена, а о той, что совершается в большинстве православных храмов на Страстной седмице. На год мы прощаемся с литургией Преждеосвященных Даров, которая, как и любая другая, заканчивается заамвонной молитвой.
Заамвонная молитва — первая гласная молитва священника в день его рукоположения. В чине литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в этой молитве приносится прошение о полноте Церкви, о воинстве, о тех, кто любит благолепие дома Божия. Это знак того, что отныне священник должен будет молить Бога о многих людях и о разных состояниях. В чине литургии Преждеосвященных Даров слова этой молитвы другие.
Там сначала говорится о Господе как о Премудром Творце. Затем благодарится о днях Четыредесятницы, внутрь которой Бог ввел нас «неизреченным Промыслом и многою благостью». Пост пугает многих при начале, но пролетает быстро, как курьерский поезд, и оставляет чувство жалости, что «вот и в этот раз толком попоститься не получилось». К посту действительно нужно относиться не как к тяжести, но как к делу неизреченной Премудрости и многой благости. И установлен он для «очищения души и тела; для воздержания страстей и надежды воскресения».
Повторю, пост устремлен к Пасхе. Без Пасхи наш пост не имеет смысла. Пусть кто-то и где-то постится, как хочет, ради других целей. Христиане постятся в ожидании Воскресения и стремятся очиститься внутри и снаружи, чтобы как можно полнее ощутить пасхальную радость. Вспоминать об этом нелишне, а напоминать не в тягость.
Далее священник вспомнит Моисея, которому в ходе сорокадневного моления Господь вручил скрижали — Богоначертанные письмена с заповедями. Эти каменные доски Моисею пришлось разбить, потому что, сойдя с горы, он нашел народ буйствующим и кланяющимся золотому тельцу. И пролилась кровь, и наказаны были наиболее неистовые, и снова Моисей взошел на гору, чтобы повторно получить заповеди. Эти вторые скрижали впоследствии легли в Ковчег Завета вместе с манной и Аароновым жезлом (см.: Евр. 9:4). Но хранением в ковчеге и чтением в собраниях заповеди на скрижалях не ограничили свое действие.
К посту действительно нужно относиться не как к тяжести, но как к делу неизреченной Премудрости и многой благости. И установлен он для «очищения души и тела; для воздержания страстей и надежды воскресения».
Пророки усмотрели в скрижалях нечто таинственное. Они, по действию Духа, поняли, что для правильного и постоянного исполнения заповеди нужно написать на сердце, а не просто на каменных досках. «Вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом», — говорит Господь через Иеремию (Иер. 31:33). То есть до вложения законов Божиих во внутренности и в сердца человеческие какой-либо из народов можно называть «народом Божиим» только с натяжкой и с оговорками. Плотски живя и по-плотски мысля, человек враждует с Богом. «Плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7).
Человеку нужно дать новый дух и новое сердце, потому что со старым сердцем служить Богу всецело невозможно. Об этом молил Давид: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» Об этом же пророчествовал Иезекииль: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:26).
Все это имеет отношение к нам потому, что мы и вступать в пост должны ради внутреннего обновления и ради начертания законов Божиих тростью Духа на «плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3).
И вот, помянув сия, то есть Моисея и данный ему закон, а также пророчества о Новом законе, пишущемся на сердцах, священник молится словами апостола Павла: «Подаждь и нам, Блаже, подвигом добрым подвизаться, течение поста совершить, веру нераздельну соблюсти, главы невидимых змиев сокрушити, победителями же греха явитися». Эти слова и буквально, и в общей тональности заимствованы из письма апостола к Тимофею: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7). Только апостол говорит о том, что уже сделано, а мы, беря пример его слов, просим, чтобы и мы совершили добрый подвиг, путь поста прошли, веру сохранили. Добавляем же и просьбу о сокрушении невидимых врагов и возможности неосужденно достигнуть цели поста — святого Воскресения.
Как видим, дух молитвы церковной есть дух Писания, а многие библейские выражения целиком, словно золотыми нитками, вшиты в ткань церковных молитвословий. Пастырь, не читающий Библию, не поймет и всего смысла молитв, которые читает, а пасомые такого пастыря, по необходимости, обречены будут высмотреть все второстепенное, но «слона так и не заметить».
И еще напомним себе о том, что само существование литургии Преждеосвященных Даров говорит нам о невозможности долго жить без Причастия. Долго не причащаться христианину настолько неестественно, что, не умея дождаться ближайшей субботы или воскресенья, истинные рабы Господни стремились к Чаше в постовые будни даже без Евхаристии, лишь бы напитаться бессмертной пищей Тела и Крови Сына Божия.
Христиане постятся в ожидании Воскресения и стремятся очиститься внутри и снаружи, чтобы как можно полнее ощутить пасхальную радость.
После прочтения последней заамвонной молитвы на литургии Преждеосвященных Даров остается несколько дней пути до той ночи, когда Агнец, за весь мир закланный, преподастся под образом Тельца упитанного для всех, кто не откажется прийти на Божий пир. И тогда словами Златоуста возгласят повсюду пастыри, чтобы «пришли на трапезу все: постившиеся и не постившиеся, работавшие с третьего часа дня или пришедшие за час до полуночи».
Потому что благ Владыка — «и дело приемлет, и намерение целует».
Последняя молитва Великого поста
Говорят, когда идешь к «большому человеку» за подачками, нужно просить больше, — все равно дадут меньше. А когда молитвенно идешь к Богу, нужно, наоборот, просить меньше. Получишь в любом случае больше того, что ожидаешь. Проси: «помилуй мя», «потерпи на мне», «очисти мя», а получишь то, о чем и не помышлял.
Филарет Московский, молясь Богу, говорил: «Ты любишь меня более, нежели я умею любить себя. Ты зришь нужды мои, которые сокрыты от меня. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения. Только предстою пред Тобою».
Есть, значит, в человеке некая глубокая тьма, которую никогда не освещал фонарик нашего ума. В эту глубину мы никогда не заглядывали и не спускались, но только знаем, что есть она. Бог же видит все, и эту тьму тоже, до донышка. Там спрятаны наши подлинные проблемы, там — корни наших духовных болезней, там же — сокровища, которыми не пользуются по причине их неизвестности. Знание об этой таинственной и страшной глубине заставляет человека, по подражанию мудрым, именно предстоять Богу на молитве, а не заполнять воздух прошениями.
«Не проси у царя навоза, чтобы не быть наказанным за оскорбление», — говорил некто из отцов[33]. У Бога, прежде всего, нужно просить даров, приличных Богу: мудрости, терпения, власти над похотями… Остальное Бог даст по любви и по Своему всезнанию, даст благовременно и на пользу.
Так Соломон почтил Господа прошением не военных побед, не богатства, не долголетия, а мудрости. За эту просьбу и был полюблен, получив вслед за богатством то, чего не просил. А кто хочет многого и многого просит, пусть почитает, кроме Священного Писания, сказку Пушкина о золотой рыбке.
Хуже всего становиться на молитву или приходить в храм с требованием только того, что тебе сейчас кажется необходимым и добрым. Окруженный нуждами, человек, без сомнения, должен постоянно просить у Бога многого, но последнее слово молящийся человек должен оставлять за Господом. «Дай мне то-то и то-то. Впрочем, не как я хочу, а как Ты», — вслед за Искупителем должны повторять на молитве и мы.
Только любовь к нам удерживает Господа от моментального исполнения наших сегодняшних просьб, когда эти просьбы касаются вещей житейских. Бог знает, что жарко желаемое нынче через пару дней может стать жарко ненавидимым, и потому не спешит исполнять просьбы. Это было бы истинным наказанием для просителя, если бы каждый вздох его получал мгновенный Божественный ответ.
Филарет Московский, молясь Богу, говорил: «Ты любишь меня более, нежели я умею любить себя. Ты зришь нужды мои, которые сокрыты от меня. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения. Только предстою пред Тобою».
«Хочу выйти замуж за вот этого. Ну пожалуйста, Господи!» — «На, что просишь». Через месяц: «Ой, я ошиблась. Уже не хочу. Забери этого и дай вот этого». Но Небо молчит или, что грознее, отвечает: «Больше не проси. Что хотела, то твое. Разговор закончен».
Справедливо и мудро, поэтому говорят и мирские мудрецы: «Бойся своих желаний».
В Великом посту молитвы длинны. Их нужно — в прямом смысле — с трудом выстаивать. И это тоже урок.
Мы живем непоседливо и скачем, как блохи (прошу простить за обидное сравнение). Даже если перемещений в пространстве мы совершаем немного, все равно скачет ум наш, сей первый и главный непоседа. А его — ум — нужно сдерживать по сказанному: «Держи неудержимого…»[34]
И для сдерживания ума подспорьем служит продолжительное стояние за чтением и пением в храме. Телесная дисциплина дисциплинирует душу. В этом смысле даже привычка к утренней пробежке есть могучий дисциплинирующий фактор, тоже влияющий на духовный облик человека.
Никто из нас не воспринимает на все сто процентов словесную пищу, предлагаемую в Церкви. Редко у кого КПД разумного участия в молитве превышает КПД первого паровоза, то есть 3–5 %. Мысль раз за разом отлетает, стремится обойти Вселенную и не хочет стоять перед Богом вместе с телом. Ее нужно схватывать на лету и возвращать назад, как беглую рабыню. Это — изнурительный труд, далеко не всем известный.
Вот стоит человек, опустив голову, и внемлет голосу с клироса. А в это время внутри у него происходит истинная борьба с самим собой, и от этой борьбы он изнемогает. Кто не знает по опыту, о чем идет речь, тот еще не посещал служб и не познал того, для чего, собственно, длительные службы и служатся. Особенно — постовые.
Самое время напомнить себе некоторые подготовительные чтения к Великому посту: притчу о мытаре и фарисее, притчу о блудном сыне. Свои грехи знай, о своих ранах болезнуй, только на себя жалуйся и ничем не хвались. Это — первое.
А второе — приближается время возврата в отчий дом. Время пиршества и праздника, где будет и упитанный телец (Лк. 15:23), и новая одежда, и много праздничных восклицаний.
Приближается пасхальная ночь, а вместе с ней — подлинный смысл жизни. На Страстной неделе уже нельзя будет ничего «своего» просить. Нужно будет именно предстоять кресту. И сердце у человека, стоящего под крестом, должно быть так же истерзано, как у Матери и любимого ученика. Все, что было до этого, было лишь приготовлением.
«Научи нас молиться», — нужно часто просить Христа вместе с Его апостолами. Но на каком-то этапе нужно дозреть и до того, чтобы просить словами святителя Филарета: «Сам во мне молись».
О предпасхальных заботах
В Древней Церкви Пасху начинали праздновать с Великого Четверга — Тайной Вечери. Потом Страстная Пятница — погребение, Великая Суббота и уже собственно Воскресение, такое вот пасхальное триденствие. И одно без другого не праздновалось. Воскресение невозможно без страдания и смерти. И прежде чем войти в свет Пасхи Христовой, необходимо пройти через мрак Гефсиманской молитвы Христовой, через стояние у Креста, через воспевание Божьего долготерпения, через тяжелый пост. Иначе не бывает, или это обман, иллюзия и большая нечестность по отношению к Господу Богу. Когда человек хочет пользоваться дарами, хочет получить прощение грехов без слез, ощутить радость, не испытав перед этим ужаса — это неправильно. Духовные законы таковы, что это невозможно.
Мы изображаем Христа Спасителя с тройчатым нимбом и крест помещаем в середине нимба. Мы говорим: «Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и Воскресению! Прежде, нежели прославить Христа воскресшего, мы славим Христа распятого. Это очень важно, и поэтому Пасхальные праздники предполагают вначале распяться, а потом воскреснуть; вначале поплакать, а потом порадоваться; вначале опустошиться скорбью предпасхальной, а затем наполниться благодатью воскресшего из мертвых Господа Иисуса Христа.
В Пасхальном каноне, который поется сорок дней до Вознесения, есть такие слова: «сраспинахся Тебе, Христе: совостаю днесь воскресшу Тебе». То есть я вчера распинался с Тобой, а теперь Ты воскрес, и я воскрес вместе с Тобой. Это очень важно.
Эти дни уже не являются постом. Не в том смысле, что мы можем есть мясо. Боже вас сохрани есть мясо или масло, по гостям ходить, сериалы смотреть в Страстную седмицу. Но это уже не есть пост в плане личного покаяния. Потому что пост — это личное покаяние или покаяние всей Церкви, когда мы понимаем и осознаем, что в нас есть много неправд — тонких, сложных, потаенных неправд, много пыли всякой в душе; понимаем, что нужно делать уборку в душевном доме и все вместе пытаемся отмаливать свои грехи. Мы молимся за себя, за других, друг за друга, чтобы Бог принял наше покаяние и простил нас. А Страстная неделя — это именно познание Христа как истинного Мессии и соединение со Христом.
Воскресение невозможно без страдания и смерти. И прежде чем войти в свет Пасхи Христовой, необходимо пройти через мрак Гефсиманской молитвы Христовой, через стояние у Креста, через воспевание Божьего долготерпения, через тяжелый пост.
Так получилось, что Христос на земле был очень одинок. Его не понимали даже самые близкие к Нему люди. Когда Иисус Христос восходил в Иерусалим, приготовляя Себя внутренне, весь устремленный к ожидавшему Его страданию, терзаемый внутри мыслями о предстоящих боли, унижении, позоре, распятии, смерти, то в это время даже самые близкие Его ученики подходили к Нему с просьбами: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (Мк. 10:37).
Он говорил им: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет» (Мк. 10:33–34). А они просили Его о славе.
Когда Он входил в Иерусалим, люди выкрикивали Ему осанны фальшивые, свои двусмысленные похвалы. В это время Бог двигал их устами, конечно, они исполняли пророчество, и уста их говорили правильные слова, но сердца их не были наполнены тем, что они говорили. Поэтому Господь входил в Иерусалим с великой грустью и с великой скорбью. Его встречали, как победителя смерти, резали ветви с пальм и видели в Нем Того, Который Лазаря воскресил, но Христос хорошо знал, что Он пришел умереть. Вначале умереть, а потом прославиться. И Он не радовался этой народной радости.
Но для чего я говорю все это? Для того чтобы мы исправили несправедливость, касающуюся Христа в отношении Его земной жизни. Мы-то сегодня должны понимать, что к чему, зачем и для чего. Поэтому мы сегодня должны действительно послужить Господу Иисусу Христу умом и сердцем.
Предпасхальные праздники наполнены всякими заботами. Женщины ломают себе голову — из чего холодец делать, из петуха или свиных ножек? Чем яйца красить, что на них клеить, что в корзину положить, какой колбасы взять? Этими мыслями наполнены людские головы, как бабкин сундук. Братья и сестры, конечно же, вы будете что-то готовить, но все-таки, пожалуйста, дайте этим мыслям не более десятины своей души. Обычно мы десятину отдаем Господу, а девять десятых отдаем свиным голяшкам и петушиным крылышкам, — это великий позор. Из-за этого мы так и живем, из-за этого все встало с ног на голову.
Забыв Бога и не прославляя Его, невозможно все остальное выстроить правильно. Христос Господь есть Глава Церкви, Жених Церковный. И нужно воздать Ему честь, как Христу, как Сыну Божиему, как пришедшему в мир спасти человека.
Конечно же, будут прибираться дома наши, но можно ведь окна мыть и петь «Богородице Дево, радуйся». Можно напевать «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги» или «Нас не догонят», например. А можно петь молитву Иисусову или похвалу Божией Матери — «Радуйся, Благодатная» и т. д. И посреди самих трудов своих сердце Богу отдашь или, во всяком случае, постараешься.
Это непросто сделать. «Сын мой! отдай сердце твое мне» (Притч. 23:26), — говорит Господь. Да я бы готов Тебе его отдать, да сердце не мое, у меня его уже забрали, мое сердце уже на четыре куска разрезано и в четырех разных руках лежит. Если человек футбол любит, то его сердце на футбольном поле. Если человек блуд любит, то его сердце в блудилище. Если человек любит деньги, то его сердце в банке схоронено.
Как ты отдашь сердце, когда у тебя его нет, когда оно не твое? Это и есть, собственно, наш труд, и в Страстную неделю нужно постараться отдать Богу сердце. Мы должны с вами запастись терпением и не думать много о качестве еды и приготовлениях к празднику. Это все нужно делать по остаточному принципу. Главную часть своего внимания нужно отдавать Богу.
Когда Бог сошел с небес на землю и стал Человеком, маленьким Ребенком родился в Вифлееме Иудейском, то больше всего об этом радовались ангелы. И маленькая кучка людей радовалась: Мария, Иосиф, пастушки. Волхвы пришли — язычники, — они радовались, а иудеи нет. Но когда мы празднуем Рождество Христово сейчас на земле, спустя многие столетия, то мы как бы дополняем эту скудность. В число радующихся людей попадают миллионы христиан.
Без веры невозможно спастись. Человек спасается верой и угождает Богу верой. Особенно это заметно тогда, когда вера оскудевает, когда люди от нее отпадают и вера приобретает свою цену великую. Когда уменьшается количество по привычке кланяющихся Богу, тогда истинная вера сияет.
Также и страстные дни. Тогда никто не понимал Христа. Никто не знал, зачем Он идет, куда, почему Он будет распинаться, что это будет и как. Никто не понимал этого.
Люди — это хитрые эгоистичные животные, которым хоть каждый день мертвых воскрешай, они будут ходить за тобой, ныть, просить у тебя исцелений, очищений, воскрешений, но веровать не будут. Так и было при жизни Христа. Он и воскрешает, и исцеляет, и делает то и это, люди пользуются этим, но пользы от этого большой не получают. Поэтому Христос более проповедовал не чудесами Своими, а распятием. Он сказал: «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32).
Если бы Он так и остался исцеляющим, воскрешающим, ходящим по водам и умножающим хлебы Проповедником, нам бы не было от этого никакой пользы. Да, мы бы ели эти хлебы, мы бы радовались и хлопали в ладоши от того, что Он по водам ходит, но мы бы не имели веры в Него и надежды на будущую жизнь. Мы были бы потребителями Божиих чудес, а это худший вид потребительства.
Мы живем ныне в обществе потребления, где всему назначена цена и обо всем известно — сколько нужно заплатить, куда надо прийти и что сделать, чтобы это получить. И мы из Церкви готовы сделать магазин по продаже религиозных услуг, и Самого Христа хотим сделать официантом, Который подносит нам эти услуги. Мы хотели бы пользоваться ими и не меняться. Это самое, пожалуй, жуткое состояние, которое может быть у человечества.
Итак, Христос не в проповеди полагает Свою силу, а в распятии. И это никому не понятно, даже апостолам. Когда Господь говорит: «Я иду распинаться в Иерусалим», Петр говорит: «Помилосердствуй, Господи, не должно с Тобой быть такого». И Господь отвечает: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не то, что Божие, а что человеческое» (см.: Мк. 8:31–33).
Мы сегодня должны понимать то, чего не понимали апостолы. Чего не понимал никто из иудеев. Мы должны на Крест смотреть, а не на все остальное. Вот к Кресту мы идем и возле Креста останавливаемся. Там, где стояла когда-то только одна Мария и только один Иоанн Богослов, билась в рыданиях Мария Магдалина, в конвульсиях сострадала Христу распятому, там, где было только три человека, там сегодня стоят миллионы.
Если апостолы этого не понимали, то они в этом не виноваты, ибо еще духа Святого Господь не пролил на учеников. А сегодня мы не имеем права быть такими, какими были люди тогда. Мы должны быть внимательнее, лучше, умнее.
Без веры невозможно спастись. Обрядами не спасется никакая душа. Только в большее осуждение можно прийти через обрядоверие и тысячи разных мелочей, запрещающих или позволяющих. Человек спасается верой и угождает Богу верой.
Особенно это заметно тогда, когда вера оскудевает, когда люди от нее отпадают и вера приобретает свою цену великую. Когда уменьшается количество по привычке кланяющихся Богу, тогда истинная вера сияет.
В самые мрачные годы ветхозаветной истории пророки говорили, что праведник верою жить будет. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя» (Евр. 10:38), — говорит апостол Павел. Нам нужна вера.
А вера, братья и сестры, родит из себя все остальное. Когда у вас будет вера, то у вас поменяется взгляд на окружающий мир. То, что вы раньше замечали и чему радовались, станет вам безразличным, а то и противным. А то, чего вы раньше не замечали, станет для вас любезным и вожделенным. То, что раньше казалось вам красивым, вдруг обнаружит перед вами свою изнанку, потому что мир сулит злато, а дарит блато. Зовет нас к удовольствию, а сам только позорит и оставляет у разбитого корыта. Таков мир и таков его князь, который командует миром. А мы благодаря вере видим мир по-другому. Мы умеем замечать некоторые вещи, которых неверующие не замечают.
Вера должна родить в нас надежду на то, что Бог не оставит нас. Когда будет плохо человеку и он с верою, приклоняя колени, скажет: «Господи! Ты Сам сказал, что не оставишь меня. Приди и помоги мне!», — то придет и поможет Господь, потому что Он никого из нас не обманывает и верующий всегда найдет себе в Отце Небесном и помощь, и защиту, и крепкую скалу.
В конце концов, вера и надежда должны будут привести нас к любви. Ну а уж если мы туда придем, то уже не о чем будет разговаривать. Это и будет достигнутая цель человеческого бытия. Царство Божие есть Царство любви и молитвы. Кто это понял, и старается жить в любви и молитве, тот уже на земле может предвкушать будущее нескончаемое Христово Царство.
Христос воскресил засмердевшего, а если сказать не столь красиво — завонявшего от трупного яда, уже разлагающегося Лазаря. В смерти самая страшная вещь — то, что действует на обоняние и на осязание. Когда распадается человек на первосоставляющие и ужасный запах бьет в нос от прежде знакомого или особенно любимого человека, то это и есть кошмар. И это только видимая часть кошмара смерти. В невидимом мире этот кошмар продолжается.
И вот человека, уже до этой степени дошедшего, Христос возвращает обратно. Он приказывает смерти отпустить его. Он говорит Лазарю: «Выходи, иди вон», то есть — выходи наружу. И уже загустевшая, окаменевшая кровь опять побежала в жилах, и опять кожа, уже разгладившаяся, стянулась, и все вошло в удивительную норму. Человек вышел связанный, как бабочка в коконе, как куколка — по рукам и ногам.
На Востоке заматывают покойников так, чтобы они были похожи на куколку бабочки. Это делают сознательно, для того чтобы подчеркнуть свою веру в будущее воскресение. Вы видели коконы на деревьях, в которые превращаются гусеницы? Это великое пророчество о воскресении, Богом показанное в природе. И человека заматывали, как куколку бабочки, веруя в то, что он из нее окрылится и воскреснет. И вот вышел Лазарь, связанный по рукам и ногам, с закрытым лицом, и Господь говорит: «Развяжите его, и пусть идет».
Любое чудо можно оспорить, кроме этого. Когда Христос претворил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской, иудеи могли сказать, что там все пьяные были, им что вода, что вино. Могли такое сказать? Могли! Когда сегодня сходит благодатный огонь в Иерусалиме, что неверующие говорят? «Это массовый психоз», или «они в кармане зажигалку спрятали», или «там все с ума посходили, потому одно и то же привиделось». Люди не стесняются такие вещи говорить.
Царство Божие есть Царство любви и молитвы. Кто это понял, и старается жить в любви и молитве, тот уже на земле может предвкушать будущее нескончаемое Христово Царство.
Когда Господь воскрешал из мертвых людей, которые только что умерли — сына Наинской вдовы, дочку Иаира, — неверующие сомневались, думали, что не умерли они, в обмороке были, или в состоянии клинической смерти, возможно, или еще что-то. В отношении всех остальных чудес можно так же сомневаться, но только не в отношении Лазаря. Там все собрались, и даже камень, закрывавший могилу, не препятствовал смертному гниению ударять в ноздри человеческие, так что сестры говорили: «Господи, он уже смердит». И вышел умерший.
Здесь дорога раздваивается, и не остается иного выбора — либо нужно Ему поклониться, либо нужно Его убить. Все! Третьего нет. Закрыть глаза и сделать вид, что ничего не произошло, невозможно.
Мы с вами, — те, кто Ему поклоняются, — для того чтобы не быть такими, как те, которые Его убили, должны провести всю неделю с мыслями о Нем. Помнить о Нем, думать о Нем, плакать о Нем. Чтобы это получилось лучше и глубже — идите в храм все кто может. Кто не может… Работа, семья, дела, здоровье — все это понимают. Но ум ваш всегда при вас, и сердце ваше у вас в груди, — их Богу отдайте. Это будет самое лучшее приготовление к Пасхе Господней, а остальное приложится.
Пасха. Светлое Воскресение Христово
Пасха, Господня Пасха
Пришла Пасха, и многое из Писаний облеклось в плоть и кровь. Так бывает: ты слышишь слова, слова, слова, но не понимаешь, о чем это. Или тебе кажется, что ты понимаешь. Но потом приходит некий внутренний опыт, и то, что зналось по слуху уха, превращается в знание сердца. Затем требуется память сердца, иначе придет то забвение, избавить от которого, вкупе с малодушием и окамененным нечувствием, просит Бога в своих молитвах Златоуст[35].
Итак, пришла Пасха, и что можно понять сердцем бьющимся, а не умом холодным? Можно понять, почему Серафим Саровский всем приходившим к нему с некоторого времени говорил: «Христос воскресе, радость моя!» То есть он вошел в некое состояние, в котором потребляются, сгорают немощи и скорби человеческие, и мог это состояние передавать от сердца своего к сердцу человека пришлого. Пасха была для преподобного Серафима длящейся и «вечнующей», а не раз в год празднуемой.
Раз она, Пасха, имеет в себе нечто от вечности, то понятно, о какой радости говорит хозяин благоразумному рабу: Вниди в радость Господа твоего (Мф. 25:23). Вечная жизнь ведь не есть лежание сонливое под райскими кустами, но некая радость и мир в Духе Святом (Рим. 14:17). И что же это за радость, если не радость об Агнце, Который был мертв, но се жив во веки веков? Радость Царства Божия есть подлинно радость пасхальная, разве что умноженная в сотни крат. И в эту именно радость частично вступали мученики и преподобные, и праведные люди, имевшие власть сказать во всякое время: «Христос воскресе, радость моя!»
Если и псы едят крохи под столами господ своих, то мы, на земле живущие и даже ползающие на брюхе, под столом собираем крохи пасхальной радости. Там, наверху — подлинная трапеза. А у нас на земле — всего лишь крохи под столом. Но по вкусу этих неподражаемых крох можем и мы теперь себе составить представление о вкусе вечных благ, поскольку радость и на небе, и на земле — об одном и том же Воскресшем Господе. Праздник небесный и земной отличаются силой переживаний и «баллом» волн благодати.
Пасха — не заработанный пир, а незаслуженный дар. И необходимо Богу уравновешивать подаваемую благодать открытием немощей, сокрытых внутри человека. Иначе пропадет человек.
Некто молился: «Ослаби мне волны благодати Твоей!»[36] У небожителей там «штормит» радостью. А у нас здесь «море волнуется» в несколько неопасных баллов. Да и волнуется по-разному: по мере веры сердец, по мере постных усилий и ограничений, по мере покаянных трудов, поднятых добровольно и вовремя. Один на ночной службе зевает, другой спит, точно в гробе, на привычном ложе, а третий весь светится. Невозможно, чтобы для всех трех радость была одинакова.
Да грешнику сильно радоваться и не пристало. Если много нового вина налить в ветхие мехи, то и вино прольется, и мехи пропадут (см.: Мф. 9:17). Поэтому пасхальной радости сопутствует чувство недостоинства. Пасха — не заработанный пир, а незаслуженный дар, да никтоже похвалится (Еф. 2:9). И необходимо Богу уравновешивать подаваемую благодать открытием немощей, сокрытых внутри человека. Иначе пропадет человек. Если только немощи его тайные открывать ему, то умрет он от тоски или даже убьет себя. А если только благодать подавать ему, то станет он еще одним дьяволом. Поэтому изобильные в благодати дни изобильно открывают также и внутри христианина многочисленные раны, которые не запрещают праздновать Пасху, но запрещают гордиться и величаться.
И на «повестке дня» вопрос о хранении благодати. Написано немало книг о том, как готовиться, например, к Причастию, но не встречал я книг, объясняющих, как вести себя после Причастия. Получить можно много (Бог не жаден), но распорядиться с полученным подарком удастся ли?
Итак, Пасха пришла и в свой черед уйдет, а жизнь продолжится. Надолго ли Пасха уйдет? На неделю только. Каждое воскресенье — пасхальный день. Истинный поклонник Воскресшего Господа не тот, кто раз в год приходит на длинное и особое богослужение, отягчая руки корзинами со снедью, а тот, кто всякую неделю в воскресный день чтит и славит Победителя смерти — Иисуса. В этом понимании Пасхи Христовой — ближайший и необходимейший плод всех пасхальных торжеств. Состоится это — вслед за сим многое другое из вопросов веры облечется в осязаемую плоть и кровь, получит внутреннее понимание и принесет необходимый плод: в тридцать, в шестьдесят и в сто раз (см.: Мк. 4:8).
Приблизительная справедливость. Слово на Пасху
Страх смерти, страх бедности, внутренняя боль в костях от грехов — вот главные тревоги человека. Их вспоминает Златоуст в своем огласительном слове: «Никтоже да рыдает убожества: явися бо общее Царство. Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия. Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть»[37].
Говорит вначале о бедности и убожестве, потому что это вопиющее проявление несправедливости мира, видное всякому глазу. Отсюда, от желания победить неравенство имущественное и засыпать пропасть между ходящими в золоте и сидящими на гноище, родились идеи и движения, формирующие образ современного мира: пенсии на старость и пособия по безработице отсюда; кредиты на доступное жилье и профсоюзные движения отсюда же. Весь социальный пафос от футболок с портретом Че Гевары, от революций до мирных демонстраций — отсюда, из желания очевидного равенства или хотя бы приблизительной справедливости.
Но чего недостает социальным движениям? Пасхи! Недостает молитвы и радости оттого, что гроб Христов пуст. Без молитвы и пасхальной заутрени любой мирской правдолюбец лишь умножает идолов, добавляя к их пантеону еще одного — идола всецелой земной справедливости. Это — ложный бог, и сынам Неба это должно быть понятно.
Религиозный человек склонен сжечь избытки энергии скорее стоя на земных поклонах, нежели шествуя на демонстрации. Но и он нуждается в пасхальной радости, чтобы не «запоститься», не «зауныть», не придать своим покаянным трудам большую, чем должно, цену.
«Прощение от гроба воссия»[38]. Есть время плакать, и время смеяться. Есть время обнимать, и время уклоняться от объятий. Нужно распознавать времена.
Тот, кто скорбит во время всеобщей радости, скорее нечестив, чем благочестив. Это тоска о грехах несвоевременна, равно как несвоевременно хранение евреями Закона во времена благодати. «Когда нужно было хранить Закон, вы кланялись идолам. Когда же нужно почтить благодать, вы блюдете Закон, чрезмерно усиленный произвольными толкованиями», — так в общих чертах говорит о подобной несвоевременности Златоуст в одной из проповедей[39].
Пост был направлен к Пасхе. Пасха настала, и пост закончился. Не могут поститься сыны чертога брачного, если с ними Жених (см.: Мк. 2:19). «Прощение от гроба воссия». Что можно добавить?..
Есть время плакать, и время смеяться. Есть время обнимать, и время уклоняться от объятий. Нужно распознавать времена. Тот, кто скорбит во время всеобщей радости, скорее нечестив, чем благочестив.
Наконец, смерть. Она важна и, как ни странно, нужна. Но кто бесстрашен перед лицем ее? Грозная и молчаливая, как глубокий колодец, она не отвечает на твои крики. Она не хочет разговаривать, зная, что молчаливый воин страшнее воина говорливого. И вот, слышим: «Никтоже да убоится смерти!»[40]
Можно было бы счесть эти слова порывом чувства, не более. Но множество мучеников и терпеливых страдальцев возвысят голос и скажут, что именно вера в Распятого и Воскресшего Христа дала им силы одолеть и страх, и боль, и ярость мучителей.
Смерти можно не бояться, если посредством молитвы и таинств соединить свою душу с Победителем смерти и понять то, о чем говорил Давид. А он сказал однажды: Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною (Пс. 22:4)
Итак, три врага названы Златоустом. Три врага попраны Иисусом, сыном Бога Живого. Как говорит митрополит Иерофей (Влахос): «Мы продолжаем рыдать, плакать и бояться лишь в ту меру, в какую нас не наполняет свет Воскресения Христова; в меру нашей чуждости пасхальной благодати»[41].
И если кто-то спросит нас, а что, собственно, дает нам наша вера в Воскресшего Христа, мы можем ответить, что на вершинах своих вера наша дает нам способность не рыдать о земных недостатках, побеждать грех и не бояться смерти. Подчеркну — на вершинах своих.
Пасха: попразднуем — и за работу!
Отпраздновали Пасху — что дальше? Как жить, чтобы по нам было видно, что Пасха была? — Только среди постоянных трудов бывает место празднику.
Упадите в траву, посмотрите на постоянное копошение жизни. Какие-то муравьишки и червячки постоянно что-то тащат и куда-то спешат. Трава шевелится, приглаживаемая ветром, дышит земля. Там, под землей тоже ни на секунду не перестает двигаться многообразная жизнь: оживают семена и зерна, разрыхляют почву черви. Спокойная и однообразная с высоты двух-трех метров, в приближении жизнь обычной клумбы — это фейерверк многообразия.
Теперь повернитесь на спину. Там, в небе, тоже не останавливается жизнь. Воздух полон насекомых и птиц, полон звуков и запахов. Ветер, как буксирный катер, тянет по небу облака. Жизнь нигде не стоит на месте. Она всюду движется и трудится, постоянно и неброско.
Точно такой же должна быть и религиозная жизнь. Она не должна раз в год вскипать, чтобы затем надолго умолкнуть. Если она — жизнь, то, как и подобает жизни, ей нельзя останавливаться. Само праздничное закипание должно происходить не на фоне привычной мертвости, а на фоне ежедневной деятельности.
Вот отпразднуем Пасху, и что? Будем дальше жить, словно Пасха — это просто праздник в ряду праздников? Но ведь Пасха — праздников праздник и торжество из торжеств. Если она действительно празднуется, то вся жизнь пересматривается и обновляется. Если нет, то…
Что ищете Живого с мертвыми? Его нет здесь (см.: Лк. 24:5).
Праздников праздник синонимичен Святому святых, то есть главному месту и части храма. И ведь не весь храм состоит из одного Святого святых, но есть в нем еще и просто святое, и место для народных молений. То есть, чтобы было Святое святых, нужно место для постоянных молитв и сами эти молитвы, нужна чреда служения и многое другое. Только тогда раз в год первосвященник мог войти туда, к ковчегу, и прошептать имя Божие.
По аналогии — чтобы раз в году совершить христианскую Пасху и праздник Христовой победы над смертью, нужно весь год быть христианином. Или же сейчас обратиться от мертвых дел и положить намерение стать христианином в эту пасхальную ночь.
Иначе, без решимости Богу служить, без множества незаметных, но постоянных духовных жертв и приношений, мы просто будем год за годом топтать дворы Господни. Конечно, не до бесконечности. У Бога есть множество способов прекратить бесполезное и формальное преклонение перед Его святыней.
Однократное чудо. Его, кажется, хватает многим. В Неаполе раз в год разжижается собранная в сосуде кровь мученика Януария. Народ собирается на площади в ожидании чуда. Чудо происходит, и народ расходится. Так же можно относиться и к благодатному огню. В этот год сошел? Ну, слава Богу. В этот годик поживем по-прежнему.
Великое чудо раз в год поддерживает мысль, что Бог с нами. Но то, что Бог с нами, не означает, что мы — с Богом. Одно великое чудо раз в год должно быть тем огнем, благодаря которому лампады на алтарях во весь следующий год не затухнут. Не ради самой себя подается людям пасхальная радость. Если она кому подастся, то это будет призыв на труды во имя Христово.
Каждое воскресенье — малая Пасха. На утрене — воскресное Евангелие, песни и чтения во славу Воскресшего. Сама литургия — праздник. Ее не столько служат, сколько празднуют. Если количество прихожан на воскресной службе не растет в храме, городе, епархии, — значит, мы что-то не то делаем. Скорее, что-то не так делаем.
Огонь от огня зажигается, а вера — от веры. Если года проходят, а от нашей веры никто не зажигается, то о чем это говорит?
Вот помолились, попостились, земно покланялись. Сейчас запоем, попразднуем, разговеемся. Попьем, поедим. Все, что ли? Мало.
Очевидно, что нужно освещать сами будни, внести Христов свет в гущу повседневности. Но повседневность чужда Христу — до открытой враждебности в нашем христианском народе. Звучит, как насмешка, но мне не смешно…
Без решимости Богу служить, без множества незаметных, но постоянных духовных жертв и приношений мы просто будем год за годом топтать дворы Господни. Конечно, не до бесконечности. У Бога есть множество способов прекратить бесполезное и формальное преклонение перед Его святыней.
Доколе не приду, — пишет Павел Тимофею, — занимайся чтением, наставлением, учением (1 Тим. 4:13). Будем считать, что и к нам придет апостол языков Павел. Поспешим же заняться чтением, наставлением и учением. Поспешим поставить эти труды ради веры в число приоритетных занятий, а не побочных. Если, конечно, мы действительно и всерьез исповедуем свою принадлежность к Апостольской Церкви и слова Павла для нас не пустой звук.
Ведь без постоянного научения и общения таинств нет веры! Вот ведь и еще Павел говорит: Чего вы хотите? с жезлом прийти к вам, или с любовью и духом кротости? (1 Кор. 4:21).
Пасхальная трапеза
В течение всей Светлой седмицы в середине храма вместе с иконой Воскресения лежит артос. Слово артос переводится с греческого как «квасной хлеб» — общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе — просфора всецелая. По завершении пасхальных торжеств он раздается верующим.
От Воскресения до Вознесения Христос часто и всегда внезапно приходил к Своим ученикам для того, чтобы беседовать с ними. Эта внезапность появления держала их в высочайшем напряжении и требовала от них внутреннего бодрствования. В любое время мог прийти Господь — через закрытые двери, ночью, днем, на пути… И когда они садились есть, то это всегдашнее ожидание Господа, Который где-то рядом, вот-вот придет, заставляла их ставить для Него чашу и хлеб. Христос, уверяя учеников в том, что Он жив, ел и пил с ними. Не потому, что Он нуждается в еде и питии в воскресшем теле, но для того, чтобы они видели, что Он не дух, что «дух плоти и кости не имать», и Он доказывал Свое во плоти воскресение.
Память об этих явлениях, об этой еде и об этом питии с учениками до сегодняшнего дня дошла в существовании вот этого хлеба, или артоса, который мы освящаем на Пасху
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что люди даже самого скромного достатка стараются на Пасху накрыть свой стол как можно богаче. Сегодня наши столы в сравнении со столами людей минувших лет, столетий и эпох отличаются крайним изобилием, изысканностью пищи. Стола ради мы с вами трудиться умеем, и чрево ублажаем со вкусом и пониманием дела.
Не менее самоотверженно мы должны с вами переживать и о своем внутреннем человеке. В каждом человеке есть как минимум два человека — внешний и внутренний. Внешний тлеет, внутренний должен обновляться со дня на день. И обновление внутреннего человека происходит не само собой, а по мере стараний и усилий, но не одними ими.
Никто, трудясь, не может приложить своему росту локоть (см.: Мф. 6:27). Старания и труды человеческие — это всего лишь способ привлечь благодать и узнать свою немощь.
В каждом человеке есть как минимум два человека — внешний и внутренний. Внешний тлеет, внутренний должен обновляться со дня на день. И обновление внутреннего человека происходит не само собой, а по мере стараний и усилий. Труды человеческие — это всегда способ познать немощь свою.
Все, кто постился честно, или получестно, или на треть честно — все узнали свою немощь. Все в некоторую меру изнемогли. Все почувствовали некий предел, и это правильно, потому что человек, вступая в пост, вступает в него не для того, чтобы совершать поступательное ровное восхождение. Нет, он может поскользнуться, упасть или вернуться обратно — все возможно. Труды человеческие — это всегда способ познать немощь свою.
Мы много говорим о смирении, напоминаем друг другу слова Христовы: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29). Большинство людей смиряются от грехов своих. Сотворит что-нибудь человек стыдное, гадкое, покраснеет до кончиков ушей и начинает думать о себе немного смиреннее. Но это нижайший путь смирения, не добрейший.
Самый лучший путь смирения — когда люди смиряются от добродетели, когда они начинают творить нечто доброе. Например, ухаживают за больными, или, например, заработанные деньги делят в такой пропорции, чтобы кому-то помочь, и ищут, кому это нужнее, и участвуют в чьей-то беде. Как только человек начнет творить нечто доброе, включая пост, включая молитву, ему открывается картина собственной ничтожности, он узнает, что слаб.
Не то страшно, что в нас грехов много, гораздо страшнее, что добродетели наши все с грехом пополам, как хлеб с мякиной. Как говорил один из писателей земли нашей Николай Васильевич Гоголь, Царствие ему Небесное: «Плохо, что добра в добре нет». Добро у человека бывает то тщеславное, то показушное, то ждет себе награды земной, то обижается, что награды этой нет. Когда поймет это человек, он будет трудиться над тем, чтобы творить заповеди Божии, но, ощущая свое несовершенство, будет смиряться.
Пост именно так смиряет человека. Он открывает нашему оку внутреннему нашу расстроенность. Человек видит, что он как расстроенное пианино или гитара с порванными струнами. Мы слышим Божие слово: «Воспойте Господеви песнь нову» (Пс. 149:1) — но как это сделать, если инструмент весь расшатан и разбит, если по нему ногами ходили? Ты бы и рад эту новую песнь пропеть, но звучит непонятно что.
«Воспойте нам от песней Сионских» (Пс. 136:3). Помните этот псалом? А он говорит: «Како воспоем песнь Господню на земли чуждей». То есть я хотел бы пропеть Господу новую песню — но как я ее пропою? Как раб может пропеть песню свободы?
Во время поста, когда мы боремся за свою духовную свободу, тогда и смиряемся и понимаем, каков он, оказывается, горький — хлеб благословенных трудов, горький хлеб священных занятий. И кто хоть немножко поупражнялся над собою, тот смирился.
Пост окончен. Труды отняты от нас, и они больше не нужны, потому что не трудами спасается человек, а благодатью. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8–9). Это слова из Послания апостола Павла к Ефесянам, об этом же говорится и в огласительном слове Иоанна Златоуста.
Мы с вами — живые участники живых евангельских событий. Когда мы Храм Божий обходим троекратно, то мы в некотором смысле совершаем труд мироносиц, которые «шли еще в сущей тьме», как говорит евангелист, шли, совещаясь между собой, кто отвалит им камень от двери гроба.
Не то страшно, что в нас грехов много, гораздо страшнее, что добродетели наши все с грехом пополам, как хлеб с мякиной.
Женщины взяли с собой миро, которое было, в принципе, уже бесполезным. Что это? Это скорбное приношение. Взяли миро и пошли, думая, кто же им гроб откроет. Они знали, что стража стоит, но, превозмогая страх, пошли туда. И когда пришли, то нашли дверь гроба отверстой. Ангел, сошедший с небес, напугал стерегущих, отвалил камень и сидел на нем.
В Иерусалиме есть тесный маленький придел Ангела, где армянский архимандрит молится, а православный патриарх заходит глубже, в самый гроб Господний.
И вот, на этом камне сидел Ангел и задал им великий вопрос: «Что вы здесь делаете?», а если точнее, по Евангелию, то «Кого вы ищете?», а если еще точней, то «Что вы ищите Живого среди мертвых?» — и продолжил: «Его здесь нет. Иисуса Назарянина ищете, распятого? Его нет, Он восстал. Помяните, что Он вам говорил, когда еще был с вами — что Он будет ждать вас в Галилее. Там вы Его увидите» (см.: Мк. 16:6–7).
От гроба они уже бежали. Туда шли крадучись, а «выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись» (Мк. 16:8).
Мы с вами тоже подошли к этому гробу Господню, ко дверям закрытым, и храм пуст. Никого нет в храме, а мы ходим там со свечами, вместо мира несем свечи, которые тьму рассеивают. Потом открылись двери в храм, и храм, как пустой гроб Господний, наполнился молящимся народом, и расширился, и началось пение. Мы знаем, что нет Христа между мертвыми. Он восстал и предваряет нас в Галилее.
Во время освящения храма архиерей подходит к закрытым дверям храма и говорит слова из пророческого псалма: «Возьмите, врата, князи ваша, и возьмитеся врата вечная: и внидет Царь Славы». А его изнутри спрашивают словами продолжения псалма: «Кто есть сей Царь Славы?» — «Господь Сил, Той есть Царь Славы», — отвечает архиерей.
Открываются двери, и архиерей заходит в храм. Эти священные моменты также смысловым образом связаны с входом в пустой гроб Господень и с тем, что Господь в ад сходил и на небо взошел. Нисшедый он же есть и восшедый, «возшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецех» (Пс. 67:19).
Апостол Павел говорит: взойти мог только тот, кто раньше снизошел. Господь нисходил в преисподнюю земли, а потом взошел на высоту и оттуда Духа Божия послал для того, чтобы наполнились ученики, как кувшины, чистой водой и пошли весь мир напоить. Весь мир жаждет.
До сегодняшнего дня миллионы людей умирают от голода и жажды, но не от «голода хлеба», хотя и таких много. У одного из ветхозаветных пророков написано: «Наступят такие дни, — говорит Господь, — что будет на земле голод и жажда, но не голод хлеба и не жажда воды, а голод слышания слов Господних. И будут скитаться от севера до востока и от моря до моря для того, чтобы услыхать слово Божие (см.: Ам. 8:11–12).
Люди погибают без Божьего слова, погибают без веры, здесь, у нас, рядом с нами. Мы сами погибаем временами без Него. И, может быть, наши соседи погибают без слова Божьего. В нашем, говорю со слезами, христианском народе есть миллионы людей, вообще не верующие в Господа, хотя этот народ незаслуженно продолжает называться Святой Русью, а в мире таких людей более трех четвертей.
Апостолы налились чистой воды, как чистые кувшины, и пошли мир поить и кормить. Как могут двенадцать человек весь мир накормить? Так же, как Господь кормил пятью хлебами пять тысяч народа (см.: Мф. 14:17–21).
Господь благословил и преломил хлеб и стал давать сначала апостолам, а они уже людям. И люди стали брать, брать, брать — и наелись! Блаженный Августин в этом смысле говорит: «Ну как мы, люди, можем спасать других людей, если мы сами погибающие? Как грязный грязного очистит? Как дурак дурака научит? Как грешник грешника спасет?» А потом сам же и отвечает: «А как апостолы кормили учеников, из Господних рук перенимая хлебы, так и вы делайте».
Перед каждым человеком стоит вопрос — как я могу научить, если я сам должен учиться? Я еще сам ничего не знаю, но уже должен спасать, учить, лечить… Мальчишки на фронтах восемнадцатилетние, солдатики срочной службы подвиги совершают. Как это происходит?
«Ты только начинай, — говорит Господь, — раздавай две рыбки и пять хлебов, а Я умножу».
Нам дарована большая благодать. Большая, пасхальная благодать — это нечто такое, чему трудно и имя подобрать. Об этом говорить трудно, об этом лучше петь.
Все, что дается человеку, дается ему не для него самого, а для чего-то и кого-то другого. Если тебе дан какой-то талант или способность, то спроси себя — почему ты это умеешь делать и как ты этим талантом или способностью можешь другим послужить. Если ты богаче других, ты можешь уделить из своего избытка тем, у кого недостаток. Если ты можешь что-либо: строить, защищать, вразумлять, учить, лечить… Значит — строй, вразумляй, лечи, учи.
Если тебе дан какой-то талант или способность, то спроси себя — почему ты это умеешь делать и как ты этим талантом или способностью можешь другим послужить.
Если ты имеешь веру, то несешь на себе долю ответственности за судьбу Церкви Христовой. Ты знаешь, что Господь воскрес? — Знаешь. Ты плакал когда-нибудь на службе? — Плакал. У тебя сердце горлом выпрыгивало на службе от радости в пасхальную ночь? — Однажды выпрыгивало. Ты Слово Божие читаешь? — Читаешь. Что-нибудь помнишь из него? — Помнишь. Тебе вообще приходит мысль о том, что эта радость должна быть для всех?
Мы должны обязательно переживать и заботиться о том, чтобы каждый храм был полон, как Ноев ковчег. И чтобы все, кто стоит в храме, были причастниками. Чтобы все были любителями Священного Писания, рачителями добрых дел. Как пишет Павел в Послании к Титу: «Чтоб Господь предузнал нас, и предуведил, и предуставил народ Свой новый, Новый Израиль. Для того чтобы мы были ревнителями добрых дел».
Пасхальная радость — это залог. Знаете, что такое залог? Это то, что нужно вернуть, и бывает, что с прибытком, как в притчах евангельских. Мы получаем радость не в личную собственность для своего кармана, для своей отдельно взятой души, а для того, чтобы этот свет, каким-то только Одному Богу известным способом, тихо струился и на других людей.
Пасхальный канон
Часть 1
Пасхальный канон является торжествующим гимном радующейся Церкви, и внутренняя красота этого канона заставляет любого поэта потупить глаза, ибо он очень красив. И я имею желание благое и непринужденное говорить с вами о пасхальных праздниках, отталкиваясь от песен, пропетых в пасхальную ночь. Они же поются на Светлой седмице и затем на воскресных богослужениях до дня Вознесения Господня.
Итак, Пасхальный канон начинается ирмосом: «Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия».
Слово «пасха» — еврейское. «Песах» значит «проходить», «проходить мимо», так объясняют нам все книги, как еврейские, так и христианские, и любые филологические. Еврейская Пасха — это проход ангела-губителя мимо еврейских домов, помазанных кровью пасхального агнца. Это избавление от смерти. А также переход из Египта через Чермное море в пустыню и потом на свободу — длинный, долгий, тяжелый путь, возглавляемый Моисеем.
Возглавленное Иисусом Христом человечество совершает свой переход в Пасху уже не от земли Египетской в Палестину, а «от смерти бо к жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия». Вот наша Пасха — Пасха новая, Пасха новая святая, Пасха таинственная, Пасха Господня. Она таинственная, потому что она и для всех, и не для всех.
Притчи Господни имеют такое свойство — говорятся для всех, но понимаются не всеми. Слышишь, а сердцем не понимаешь. Почему Господь и говорит, что имеющий уши, да услышит. Он имеет в виду уши некие внутренние, духовные, некий чуткий внутренний слух. Притчи так учат человека. То есть «тело» притчи понятно, а смысл притчи понятен не всем.
Точно так же и Пасха таинственная. Она празднуется широко, всепразднественно, торжественно, но вглубь ее проникают далеко не все. Итак, наш переход — от смерти к жизни и от земли к Небеси.
Небом мы здесь называем небо не физическое, а духовное, — небо Библии, о котором говорится в первых строках Книги Бытия: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Речь идет о духовном небе, поскольку Небо тоже веселилось в День Пасхи Господней, и туда, в то духовное Небо мы совершаем свой переход.
Дальше поется: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется… да празднует убо вся тварь восстание Христово, в Немже утверждается». Значит, мы совершаем свой переход от земли к Небу, и от смерти к жизни.
Есть чудесный образ, он принадлежит митрополиту Вениамину (Федченкову), который пишет о том, что Колумбова команда, поплывшая с Колумбом, в авантюру пустившаяся, искала близкий путь в Индию. Они искали, собственно, не Америку, а Индию, искали пряности, золото, сказочную страну с несметными богатствами. Команда истомилась длительностью путешествия и, устав от этого, будучи близкими к бунту, истомившись есть опротивевшую пищу и пить протухшую воду, они несказанно обрадовались, увидав на горизонте кромку земли. Они стали прыгать по палубе и кричать друг другу, целуясь и обнимаясь: «Земля! Земля!» Это был один из островов Карибского моря. Это, конечно, была еще не Индия, но земля их так возвеселила, что они говорили друг другу: «Земля, земля!»
Митрополит Вениамин говорит, что в день Пасхи человеку нужно говорить друг другу: «Небо! Небо!» Восклицать радостно, потому что Небо спускается на землю, и человек совершает эту свою Пасху от земли к Небеси и воспевает Христа воскресшего, ощущая себя уже как бы на Небеси стоящим.
Есть такое песнопение у нас: «В храме стояще славы Твоея, на Небеси стояти мним: Богородица, Дверь Небесная, отверзи нам двери милости Твоея». То есть человек, стоящий в Храме славы Божией, иногда ощущает себя на Небе.
Так ощутили себя на небесах стоящими послы князя Владимира, испытавшие богослужение греков и плененные, покоренные красотой и неземной внутренней составляющей этого богослужения. Сердца их пленились в красоту духовную христианства. Они ощутили, что это есть путь от земли к Небу.
Тропарь следующий говорит нам: «Очистим чувствия, и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающася, и радуйтеся рекуща ясно да услышим, победную поюще». Здесь уже есть некое аскетическое требование — человеку нужно очистить чувствия. Это означает, что Пасха воспринимается в полной мере тем, кто провел подобающим образом «дни печальные Великого поста», по выражению Пушкина. Светлые, скорбные, тяжелые и тянущиеся, а иногда очень быстро пролетающие дни, о которых жалеешь весь год, что они уже ушли, — и которых боишься, когда они приближаются, потому что приближается некая тяжесть, приближается труд, приближается добровольная скудость и посильное воздержание.
Человек ощущает Пасху по мере предварительного приготовления, поэтому в тропаре говорится: «Очистим чувствия, и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающася».
Православная Церковь созерцает Господа Иисуса Христа в недрах своего литургического бытия. Его созерцать может каждый верующий во Христа и крещеный человек. Почему мы и говорим весь год по воскресениям: «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу».
Но для того чтобы сердечным оком это видение совершилось, необходимо очистить чувствование. В Великий пост, на литургии святого Григория Двоеслова, папы Римского — Преждеосвященных Даров, — есть молитва, в которой мы просим Бога представить нам внутреннего благого владыку, внутренний помысел, чтобы он командовал нашими чувствами, и око наше «да неприобщно будет всякаго лукаваго зрения, слух же словесем праздным невходен, язык же да очистится от глагол неподобных».
Воздержание при помощи молитвы и той благодати, которую Бог подает молящемуся, очищает человека и его чувства, и Пасха переживается им действительно как некий переход, как воскресение, и он может говорить со Златоустом вместе: «Никтоже да рыдает убожества… Никтоже да плачет прегрешений… И никто пусть не страшится смерти, потому что все это стерла Спасителева победа над смертью».
Часть 2
Прочтем четвертую песнь Пасхального канона: «Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше играя, людие же Божии святии, образов сбытие зряще, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен».
Красиво! Здесь есть отсылка к одному из священных событий, описанных в Книгах Царств, связанная с царем Давидом. Христос, как вы помните, назывался в жизни Сыном Давидовым. Его так называли люди, и Он признавал это.
Давид много совершил такого, что не забылось, читается и изучается до сегодняшнего дня. Однажды Давид возвращал Ковчег в землю Израилеву. Ковчег, как главная святыня еврейского народа, был часто похищаем филистимлянами.
Ковчег был великой святыней. Он представлял из себя ящик из негниющего дерева ситтим, обитый внутри и снаружи золотом, символизирующий Богоматерь, Которая вместит в Себя великую святыню — Господа Спасителя. В нем хранилась чаша с манной, жезл Аарона и скрижали Завета.
Так бывает в истории, что великие святыни отдаются на поругание, по Божьему попущению за грехи тех, кто хранит их недостойно. И вот, ковчег украли филистимляне, забрали как трофей, как добычу.
Когда ковчег вернулся в землю Израиля, Давид плясал перед ним. Плясал, отложивши стыд или даже приличия. Давид, зять царя, женатый на Мелхоле, находящийся во славе, любимый народом за храбрость и мудрость в войне, победитель филистимлян и убийца Голиафа, скакал перед ковчегом, как ребенок, отложив всякую приличность, подобающую его возрасту и сану. Мелхола, царская дочь, сделала ему замечание, что, мол, ты ведешь себя некрасиво. А он отвечал, что пред Господом плясать и петь буду. И угодна была Богу эта пляска, это священное неистовство Давида. А строгость Мелхолы была Богу неугодна, поэтому она была бесплодна всю жизнь. Так вот, «Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше играя». Сень значит тень. Сенный ковчег — это значит, что в нем заключались тени будущего.
Повторю, этот негниющий ящик из дерева ситтим, окованный внутри и снаружи золотом, символизировал собой Божию Матерь, Которая чиста внутри и снаружи, и в Нее вместилась самая великая святыня — Сын Божий.
Сосуд из золота, который был полон манны, небесного хлеба — это тоже прообраз Божией Матери. Потому что настоящая манна — это Тело Христово. А Тело Христово и Кровь Христова — это дар, родившийся нам из чрева Девы Марии. От Нее Сын Божий взял Себе плоть и кровь.
Скрижали Завета — это каменные доски, на которых перстом Отчим было написано слово — законы и заповеди. Христос есть Слово Божие, и Он был написан в Деве Марии как бы перстом Отчим, как на скрижалях.
Жезл Аарона тоже символизировал Ее же. На этом жезле Аарона расцвели листочки, веточки и был плод — орех. А Дева Мария — это та же ветка сухая с точки зрения девства, ибо Она не мать, не женщина, чтобы рожать. Однако на Ней, как на том жезле, расцвели цветочки, и плод пришел, так и Она родила Сына, паче всякого чаяния.
То есть все это уже исполнилось, поэтому Ковчег называется сенный. В нем тени и гадания, образы будущего, которое исполнилось во Христе. И вот, перед сенным ковчегом «Давид скакаше играя». А мы с вами, люди Божии и святые, образов этих сбытия, то есть совершения, «зряще, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен».
Древние образы наполняются жизнью во Христе, исполняются. Древние праздники наполняются новым смыслом. Старое еврейское слово «пасха» приобретает новый христианский небесно-духовный смысл. Старое еврейское слово «пятидесятница» — день дарования закона, — наполняется новым смыслом. Дух Святой сходит в виде огня на Церковь, и рождается Церковь для того, чтобы спасение благовествовать до скончания века.
Все старое заменяется новым. Вместо обрезывания плоти приходит обрезывание сердца. Вместо субботы формальной, внешней субботы приходит некое внутреннее упокоение. Мир Божий, превосходящий всякое разумение, должен теперь царствовать в сердцах ваших, — как говорит апостол Павел (см.: Флп. 4:7) То есть мы людие же Божии святии, образов, этих старых, сбытие зряще, веселимся божественне.
Еще немного о Давиде. Вы видели, как ведут себя арабы православные в кувуклии Храма Гроба Господня перед схождением Благодатного огня? Они садятся друг к другу на плечи, берут бубны, бьют в них и так проявляют свою веру. Мы не привыкли так радоваться.
Мне нравится импульсивность и эмоциональность этих Божиих детей, которые, ударяя в бубны, кричат, что их вера истинная (на своем, конечно, языке). Потом, дождавшись огня, кричат на весь Храм: «Аль-Масих Кам! Аль-Масих Кам!» — по-арабски «Христос воскрес!» Подтвердилась вера. Их радует это. Они не скрывают своей веры.
Ковчег, этот негниющий ящик из дерева ситтим, окованный внутри и снаружи золотом, символизировал собой Божию Матерь, Которая чиста внутри и снаружи, и в Нее вместилась самая великая святыня — Сын Божий.
В Греции запускают воздушных змеев в первый день поста, а в дни пасхальные звонят в колокола весь день с утра до вечера, стреляют из пушек, ружей, бьют в била деревянные. Поют, не стесняются, радуются и веселятся.
Я считаю, что такая шумность — не грешна. В каноне говорится: «Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше, играя». То есть иногда можно скакать и не согрешить. «Мы можем петь и смеяться, как дети», как пелось в одной советской песенке, в этом смысле уместной.
Нужно учиться веселиться невинно, наивно, безгрешно. Нужно веселиться без агрессии, без мрачного веселья, которое бывает в кабаках и притонах, когда люди хохочут сквозь зубы и мрачно веселятся. Нужно веселиться наивно, и просто, и свято. Как Давид говорил: перед Господом моим скакать буду и не постыжусь.
Часть 3
Православная иконография, в классическом своем измерении, не знает изображения Христа, выходящего из гроба. Этот момент был никому не виден. Православная иконография изображает Христа, сходящего во ад. К большой радости моей, эта иконография занимает все более и более подобающее место и постепенно вытесняет все остальные, в том числе католический образ, возникший где-то в XII веке в Италии, где со знаменем в руках, с благословляющим жестом из гроба выходит Господь, разбегаются стражники и Ему сопутствуют ангелы.
Схождения Господа во ад тоже никто не видел, но об этом есть глубокое слово апостола Петра в его соборном послании, и есть много догматических рассуждений по этому поводу. Ибо мы спасены не только Пасхой, но и Великой Субботой.
Великая Суббота — это день, когда Господь упокоился во гробе, когда Он наконец субботствовал, когда злобно и радостно замолчали Его враги. Его руки и ноги связались, и уста умолкли, и глаза закрылись, и Он перестал трудиться.
Он при жизни говорил: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17). Поэтому в субботу Он говорил сухорукому человеку: «Протяни руку твою», и рука исцелялась, или прикасался к скрюченной женщине, и та распрямлялась и была здорова. А евреи шипели на Него и говорили, что Он не от Бога, потому что субботу не хранит, и считали Его нарушителем закона, хотя Он пришел не нарушать его, а исполнить.
Господь в Великую Субботу субботствовал по-настоящему в покое телесном. Его глаза уже не смотрели ни на кого ни с гневом, ни с радостью. Его уста уже никому ничего не говорили. Его руки и ноги — пронзенные, замученные, — сложились и замерли смертным замиранием. Это была великая благословенная суббота, когда Христос упокоился от дел Своих.
Но в то же время Его душа победоносно сошла в преисподнюю земли, о чем поется в ирмосе шестой песни Пасхального канона. «Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба».
Господь во ад сошел, потому что Он пришел не только для тех, кто в это время на земле жил или тех, кто будет потом жить. Он пришел спасти всех, кто жил от Адама.
В одном из песнопений церковных есть такое слово: «Сошел на землю Господь, человека ища, Адама ища, Адам — где ты?» Первый голос Божий, обращенный к согрешившему человеку, заключался в трех словах: «Адам, где ты?» А Адам ответил: «Я наг» — и скрылся.
Этот диалог продолжается до сегодняшнего дня. Господь часто спрашивает нас, и мы слышим Его голос через внушение совести: «Адам, где ты?» А мы ищем заросли, потому что нам стыдно выйти и предстать перед лицом Божиим. Мы говорим: «Я скрылся, я наг, мне стыдно».
Господь во ад сошел, потому что Он пришел не только для тех, кто в это время на земле жил или тех, кто будет потом жить. Он пришел спасти всех, кто жил от Адама.
И вот, Господь сошел с небес на землю, и даже до ада спустился, Адама ища. Уже подобало новому Адаму — Иисусу Христу — спасти не только детей Адамовых, но и самого ветхого Адама — первого человека — спасти и увести в Свое небесное, нескончаемое и непоколебимое Царство.
Только видимо и внешне Христос бездействует во гробе, но душа Его совершает войну, духовную войну.
Трудно совместить эти мысли, когда мы видим Христа, страдающего на Кресте, избитого и истерзанного паче всех человек. Не было «в Нем ни вида, ни величия» (Ис. 53:2), — говорит Исаия. «Пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои», — говорит Давид. Они как бы видели это распятие. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий» (Пс. 21:17–19) — все было предсказано.
В это время униженный и оскорбленный, Муж скорбей, изведавший великие болезни, раб Иеговы Иисус Христос, Сын Божий, Праведник, оказывается, совершал победоносную борьбу с духами злобы. Апостол Павел говорит о том, что Иисус Христос на Кресте подверг позору падших духов, которые господствуют в воздухе (см.: Кол. 2:15). Воздушного князя Господь смирил, и в это время ад как бы получал тяжелый удар. Неисцелимые раны адское воинство получало от страдающего Иисуса.
Это все надо как-то соединить в сознании. Оно трудно совмещается, потому что глазам предстоит одно, а в духе совершается другое. Так же и Великая Суббота — Господь во гробе лежит, а душа Его сходит в ад, и устрашились вратницы адовы.
В псалмах говорится: «Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечныя: и внидет Царь славы». На вопрос: «А кто есть Царь славы?» пророк говорит: «Господь сил, Той есть Царь славы». Он сошел туда, где ждали Его праведники. Ждали Его там, повторяю, Адам, Моисей, явившийся Ему душою на горе Фаворской и беседовавший с Ним о его страданиях в Иерусалиме, и многие-многие другие.
Первыми, кого Господь искал, были Адам и Ева. Он, очевидно, вгляделся в адову тьму и задал тот же вопрос, который прозвучал когда-то в раю: «Адам, где ты?» И Адам ответил: «Вот я!» И Господь потащил его из ада. Икона «Сошествие в ад» изображает Адама и Еву с неестественно вытянутыми руками. Христос держит их за ладошки и тянет их к Себе, а у них, непропорционально к длине всего остального тела, вытягиваются руки, потому что глубоко влипли они в смолу адскую, в патоку греха. И вырвать их оттуда было тяжело. Ценой тяжких страданий Христос искупил человеческий род от проклятия и смерти, открыл нам двери Небесного Царства.
Вот как об этом говорится в пасхальном каноне. «Безмерное Твое благоутробие, адовыми узами содержимии зряще, к свету идяху, Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную».
То есть заключенные в аду души вдруг увидели разбитые темницы, засиявший свет и Христа, идущего к ним. Они увидели безмерное Его благоутробие. Они, адовыми узами содержимые, пошли к Христу, повлеклись к Нему веселыми ногами, Пасху хвалящие вечную.
До сих пор Царство Небесное было пусто. Господь царствовал посреди ангелов, но людей с Ним не было. Первым в Небесный покой, в Небесный рай душою своею, поскольку тела людские еще не воскресли, вошел разбойник.
«Разбойничье покаяние Рай окраде». Он привык при жизни перелезать через заборы и залезать в дома, чтобы украсть что-нибудь. Так получилось, что покаянием он и рай обокрал, первым в него залез. Это сказал не я, но священная гимнография: «Разбойничье покаяние Рай окраде». Он забрался в него первым, раньше Моисея, раньше пророка Иоанна Предтечи и других праведников.
Потом из ада души многие вышли. Господь ввел их в Небесные покои. И сегодня рай шумит голосами, как роща листьями. Это видел Иоанн Богослов, он видел Небесный Иерусалим и там людей от всякого колена, языка и племени, восклицающих: «Осанна! Осанна сидящему на Престоле и Агнцу, благословение, и слава, и честь, и сила. Достоин Ты принять силу и славу, ибо Ты был заклан, и ожил, и искупил нас Себе от всякого языка, колена и племени. Мы будем царствовать во веки веков» (см. Откровение Иоанна Богослова).
На небе люди молятся, там непрестанно совершается богослужение. И кто не любит на земле богослужения, тот не приучится к тому, чтобы участвовать в небесном богослужении.
Кто хочет достичь будущего Небесного Царства, хочет войти в него так, чтобы ему там было не скучно и чтобы он там был своим, тому нужно привыкать к богослужению. На небе люди молятся, там непрестанно совершается богослужение. И кто не любит на земле богослужения, тот не приучится к тому, чтобы участвовать в небесном богослужении.
Итак, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную, вышли ко Христу все те, кто был адовыми узами содержим. Об этом апостол Петр говорит прикровенно: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (1 Пет. 3:18–19). Опустошение адских твердынь — это есть таинственная Пасха и таинственный подвиг Христа Победителя, Христа Царя, Христа Полководца, смиренного только для наших глаз, но грозного, как полки со знаменами, для падших духов и для тех злых сил, которые оскорбляют человека, мучают, терзают его, тиранят и издеваются над ним. Для них Господь грозен, а для нас милостив. Слава Ему и ныне, и присно, и во веки веков.
Часть 4
Когда Господь Иисус Христос жил на нашей земле, то возбудил к Себе огромный интерес и смешанные чувства — злобу, зависть и многое другое. Он выслушивал от людей разные вопросы. Книжники фарисейские — учителя и наставники еврейского народа, — саддукеи и другие секты еврейские приходили к Нему и спрашивали: «Учитель, хотим от Тебя знамения видеть». И Христос говорил им: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:39–40).
О пророчестве Ионы Христос упоминает несколько раз — по крайней мере дважды в Евангелии от Матфея, а также у других евангелистов. О нем же говорит ирмос шестой песни Пасхального канона. Вообще, шестая песня любого канона всегда связана с Ионой.
Эта благочестивая история, обросшая какими-то деталями или украшениями сюжета, записана была много позже, чем совершилась. Книга Ионы коротка, она занимает всего три главы. Читается она непременно в Великую Субботу и прочитывается полностью, как очень важная.
При всем узком, упертом, гордом, высокомерном национализме евреев, даже, я бы сказал, расизме, ибо самые крайние из них присваивали только себе достоинство человека, остальных людей, язычников, они и за людей-то не всегда были согласны считать, — при этом всем они, Духом Божиим водимые, ввели книгу Ионы в кодекс Священных книг. А что здесь удивительного? А удивительно здесь то, что Иона послан Богом проповедовать язычникам.
Господь Бог жалеет город Ассирию, город великий, в котором множество людей, не отличающих правую руку от левой. Ассирийцы вообще насолили евреям немало, это были их враги, такие же, как вавилоняне или египтяне. Однако Господь Бог переживает о них и Ионе поручает такую странную миссию.
Вы помните сюжет этой книги? Иона бежит сначала на корабль, скрывается, попадает в кораблекрушение, его выбрасывает в море. Там его глотает огромная рыба. У нее во чреве он кается и молится. «Ят бысть», — то есть схвачен был, — «но не удержан в персех китовых Иона». И вот, она его извергла из своего чрева.
В каноне Великой Субботы говорится: «Твой бо образ нося, Страдавшаго и погребению давшагося», то есть он Господа образ носил, в это время пророчествовал о будущей смерти Христа.
Книга Ионы пророка — удивительная книга. Для евреев было переворотом в сознании, что Бог переживает о судьбе ассирийцев. Бог не хочет гибели язычников и еврея посылает проповедовать им. В Новом Завете Петр, Павел, Андрей, Филипп, Варфоломей и другие от евреев тоже шли к язычникам, переживали о македонянах, о коринфянах, о жителях Испании, Рима, Понта, Азии, славян, скифов… Но раньше у евреев этого не было.
Иона ведет себя, собственно, как еврей. Он говорит: еще три дня — и Ниневия будет разрушена. Потом выходит и ждет, когда это случится. Но этого не происходит, потому что люди стали поститься, каяться, умолять Создателя, чтобы Он их пощадил. Господь их пощадил, а Иона оскорбился. И Господь говорит: «Как Я могу не жалеть этих людей? Ты жалеешь растение, которое выросло и засохло, хотя ты не трудился над ним. Как Я могу их не жалеть, когда там сто тысяч людей, не умеющих отличить правой руки от левой?»
При малом объеме книга Ионы — это великая история. Ее нужно знать в подробностях. Этой историей возвещается проповедь всемирного покаяния.
Господь глупости делать не согласен. Он если сделает, то сделает так, что будет хорошо человеку. Но так смиренно это сделает, что верующий обрадуется, а неверующий будет сомневаться. Он не подавляет чудесами, а оставляет неверующему возможность оставаться неверующим. Он не насилует душу. Он смиренно чудо творит, а фокусов делать не согласен.
Христос говорит, что не дастся знамения роду сему прелюбодейному и грешному, кроме знамения Ионы пророка. И в шестой песни Пасхального канона поется: «Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба».
Гроб проглотил Господа, как Иону проглотило живое существо. Ад и изображается часто, как некто живой и ненасытный. В притчах Соломона перечисляются те некоторые, которые никогда не говорят: «Довольно!» Это бесплодная утроба, сухая земля и преисподняя (см.: Притч. 30:16). Что сухая земля по отношению к воде, что бесплодная утроба по отношению к семени, что ад по отношению к душам, — они все ненасытимы, и пользы ни от тех, ни от этих нет, только одно страдание и истощение.
Ад, проглатывая души, смеется над ними, в особенности над царями, князьями, вельможами. У Исаии описывается, что ад приходит в трепет и движение, когда видит какого-нибудь великого, попадающего к нему. «А! Вот и ты пришел! — говорит ад. — Ты такой славный был, тебя все боялись, трепетали. Бровь твоя поднималась, и все падали наземь. А и ты пришел к нам! Ну, иди сюда! Черви будут тебе ложем, и черви будут накрывать тебя. Проходи!»
Ад смешлив, нагл, и он поглотил Господа. В огласительном пасхальном слове Иоанна Златоуста говорится, что он «прият тело, и Богу приразися» — взял тело и нашел в нем Бога, взял землю и встретил в ней небо. Обманулся ад. Господь показал Себя более хитрым: всехитрец Господь обманул ад именно благодаря адовой ненасытности. И он как бы на удочку попал, на наживку Господа. Ад проглотил Того, Кого не смог удержать. То есть он схватил человека, а нашел Бога, и Бог расторг ему чрево, и раскрылось чрево адово, и души вышли на свободу.
Это все, конечно, имеет связь с пророчеством Ионы, потому что Иона не словами, но жизнью о Христе проповедовал. И поэтому Христос говорил фарисеям, что прелюбодейному и лукавому роду знамения не дастся, кроме знамения Ионы пророка.
Вообще, следовало бы им перечитать эту книгу, да еще и не раз. И помолиться Богу, чтобы Он вразумил их: что же говорит им этот странный Учитель, что Он имеет в виду? Но, наверное, немногие сделали так, а может быть, никто.
Христос очень часто цитировал им Писание. Так, например, в ответ на упрек, почему Он ест немытыми руками или ест с мытарями и грешниками, — говорил: «Разве вы не слышали: милости хочу, а не жертвы» (см.: Мф. 9:11–13). Это Осия говорит. И нужно сразу бежать, перечитывать: а что же там дальше говорится? Но, видимо, они, ослепленные неприязнью, какой-то своей обидой, не были внимательны ко всему, Христом сказанному… к сожалению.
Так и пророчество Ионы мимо них прошло. Они-то что просили? Они просили огонь с неба свести — что-то такое феерическое, фокусническое, нечто такое, на что люди смотрят, раскрыв рот. Люди, они глупые, к сожалению, в том числе и мы с вами. И мы все время хотим глупостей.
А Господь глупости делать не согласен. Он если сделает, то сделает так, что будет хорошо человеку. Но так смиренно это сделает, что верующий обрадуется, а неверующий будет сомневаться. Он не подавляет чудесами, а оставляет неверующему возможность оставаться неверующим. Он не насилует душу. Он смиренно чудо творит, а фокусов делать не согласен.
Поэтому не давал Он никаких знамений этим, высовывающим языки свои, как псы несытые, хитрым людям, у которых были страшно злые души. И только знамение Ионы пророка. Нам нужно читать эту книгу обязательно и хорошо знать ее. Иона пророк да помолится о нас.
Часть III Великие праздники
Великими именуются праздники, не вошедшие в число двунадесятых, но установленные в память о не менее значимых для христиан событиях: Обрезание Господне, Рождество и Усекновение главы Иоанна Крестителя, день памяти святых апостолов Петра и Павла и Покров Божией Матери. В эти дни совершаются торжественные богослужения, посвященные только этим праздничным событиям. В день Усекновения главы Иоанна Предтечи Церковью установлен строгий однодневный пост.
Обрезание Господне 14 (1) января
По традиции, на восьмой день после рождения иудеи приносили первенцев в храм для посвящения Богу и наречения имени. Это исполнили и родители Господа Иисуса Христа. И теперь празднование этого события совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова — то есть 14 января по новому стилю.
Обрезание: праздник имени Христова
В день Обрезания Господня мы читаем в храме отрывок из Послания к Галатам о том, что, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных (Гал. 4:4–5).
Подчинение закону у младенца в еврейском народе ощутимо происходит уже на восьмой день. Тогда младенца обрезывают. Христос претерпел эту болезненную процедуру. Можно представить себе детский плач и пляску взрослых вокруг кричащего младенца. Можно посмотреть, как это делают евреи сейчас. В сущностных чертах это одно и то же действие.
Думая же о Христе, мы кланяемся Ему в сей день особо, поскольку в сей день к телу Его прикоснулось железо и Богомладенец впервые пролил кровь.
Но у этого дня есть еще одна глубочайшая особенность. А именно: в день обрезания ребенку нарекали имя.
Сына Божия нельзя было назвать каким угодно именем. Еще в день Благовещения Гавриил сказал Марии: Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус (Лк. 1:30–31).
Так же и сомневающегося Иосифа Ангел утешает и наставляет, говоря: Родившееся в Ней (Марии) есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус (Мф. 1:20–21).
Итак… Чудесная семья, состоящая из Девы-Матери и старца-служителя, не сомневалась ни одного дня по поводу того, как назвать явившегося в мир Спасителя. Не было ни советов, ни споров. Были только восемь дней ожидания, а по прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве (Лк. 2:21).
Новый Завет скрыт в Ветхом, да так скрыт, что все новозаветные события уже прошли по земле, как тени и пророчества, и имеющий глаза, чтобы видеть, способен это заметить.
Имя, предназначенное воплотившемуся Сыну, хранилось в тайниках Премудрости Божией, а в день Обрезания пролилось на землю, как дождь на руно. Пока закрыта в сосуде ароматная масть или миро, то не слышно запаха. Стоит же открыть сосуд или тем более пролить миро, как «храмина наполнится масти вони благовонныя». Поэтому и слово тайное из самой тайной книги говорит: имя твое — как разлитое миро (Песн. 1:2).
Имя Христа благоуханно, имя Его драгоценно. И «да убоится сердце мое боятися имени Его». Христос верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1:12). Сама вечная жизнь есть не просто вечное существование, но Жизнь во имя Его (Ин. 20:31).
В имени Спасителя великая сила.
«Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи», — сказал Петр хромому человеку, сидевшему у храмовых ворот, называемых Красными (см.: Деян. 3:6). И когда за это чудо, а наипаче за проповедь о Христе воскресшем Петра с Иоанном поставили перед синедрионом, Петр сказал, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил от мертвых, Им поставлен он (бывший хромой) перед вами здрав. И даже больше сказал Петр, а именно: «Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы спастись» (Деян. 4:10, 12).
Нет другого имени под небом, которым бы надлежало спастись. Как изысканную восточную сладость, можно носить в устах эти слова и повторять: «Иисусе, Иисусе, Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим». И еще: «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей» (Песн. 2:3).
А как много в Писаниях тайн, связанных с именем Спасителя! Как много в этом роскошном замке комнат, в которые мы еще ни разу не входили!
Вот Иоанн говорит, что закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через Иисуса Христа (Ин. 1:17). Образ этих слов дан в истории овладения землей Обетованной.
Моисей довел людей до границ земли, но в саму землю не ввел и сам не вошел. Это потому, что закон никого не доводит до совершенства, и Моисей этот закон символизирует. Кто же вводит народ в землю? Иисус! Человек с именем Иисус довершает дело Моисея. И это пророчество о том, что закон передаст эстафету Евангелию. Да и сам Моисей говорит: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте (Деян. 7:37).
Того Иисуса, который продолжил историческое дело Моисея, звали Иисус Навин. Мысль, что эти события были живым пророчеством, явствует из того, что Иисуса Навина звали сначала Осия. Чтобы взять на плечи тяжесть Моисеевой миссии, ему нужно было сменить имя с Осии на Иисуса. И Моисей, зная, что делает и зачем, совершает это переименование! Моисей умирает, издалека увидев обещанную землю, а Иисус доводит народ до цели. Но чудеса и знамения на этом не оканчиваются.
Христос вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, туда, в сам
Для русского уха быть Осией, а стать Иисусом — это все равно что быть Осипом, а стать Ильей. Слишком уж непохожи по звучанию имена. Но в еврейском языке Осия был Гошуа. Переименовывая его, Моисей называет его Егошуа. Это близкие по звучанию слова. И при помощи какой, думаете, буквы переименовывает? При помощи маленькой йоты! Добавленная к имени Гошуа, йота превращает его в Егошуа, то есть в Иисуса!
Так вот почему сказано, что ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все (Мф. 5:18).
Долго мучили меня эти слова. Поскольку неясно, как могут сохранить свою значимость крючочки и черточки в законе, когда сказано: Если законом оправдание, то Христос напрасно умер (Гал. 2:21). Но теперь ясно, что Ветхий Завет раскрыт в Новом, облит светом, ясен и виден. А Новый Завет скрыт в Ветхом, да так скрыт, что все новозаветные события уже прошли по земле, как тени и пророчества, и имеющий глаза, чтобы видеть, способен это заметить.
В истинную землю покоя, в землю, текущую молоком и медом, в истинное субботство вводит нас Иисус Христос. Христос вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие (Евр. 9:24); туда, в самое небо, вслед за Ним войдут и все полюбившие Его.
Нам подарено Его имя и через имя подарена возможность обретать благодать. Мы можем назвать день Обрезания днем Молитвы Иисусовой, и это будет истинный Новый год, если с призыванием имени Христа будет умирать в нас ветхое, будет усиливаться в нас новое.
Вооружимся же именем Иисусовым, братья, ибо воистину имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — и безопасен (Притч. 18:10).
Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 7 июля (24 июня)
В этот день верующие вспоминают, как в семье праведного священника Захарии и его жены Елисаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан. События этого праздника описаны в Евангелии от Луки (Лк. 1:24–25, 57–68, 76, 80).
Рождество Иоанна Предтечи: пророк для народа, любящего своих детей
Евреи любили и желали детей. У них не было движения «child free», и они детей насколько любили, настолько и хотели. Абортов у них тоже не было, отчего среди рождавшихся регулярно мальчиков и девочек появлялись время от времени Самуил, Давид, Илия. От них же родилась со временем Благословенная в женах. А когда приближалось время от Ее чистых кровей прийти в мир Сыну Благословенного, в этом же народе родился Предтеча Спасителя.
Он родился от престарелых родителей.
Когда человек детей не хочет, то их отсутствие для него — исполнение желаний. А когда люди детей хотят, то их отсутствие — почти проклятие. Есть утешение — вспоминать Авраама и его долгую бездетность. Но это — слабое утешение, поскольку любой скажет: «То — Авраам, а это — ты, рядовой грешник». И я не приложу ума, с чем сравнить то глубокое смирение и печаль, которые носили в себе Захария и Елисавета, словно клеймом отмеченные бездетностью. Боюсь, что мы так и не ощутим глубину их скорби, поскольку живем иначе, в других смысловых координатах.
Но меня интересует еще одна грань долгого испытания бесплодием. Кроме смирения, которое должно было родиться в душах супругов, и кроме отчаяния или ропота, которые ни в коем случае не должны были родиться, было еще нечто. Это «нечто» — умирание или хотя бы замирание страстей.
Каков вообще смысл старости? Вне религиозного подхода смысла в ней нет. Вне восхождения к Богу она — пытка немощью и частичная расплата за совершенные ошибки. У старости появляется смысл лишь при наличии вечной перспективы. Тогда она — время опыта и отхода от суеты. Тогда она — движение навстречу к Богу и время молитвы. Сама прожитая жизнь обтачивает человеческую душу, и старику быть наглым и дерзким, глупым и похотливым так же противоестественно, как камню на морском берегу противоестественно не быть гладким и обточенным волнами.
Страсти должны умирать в человеке по мере накопления прожитых лет. В этом смысл старости. Должны умирать похоть, сребролюбие, болтливость, зависть, злопамятство. Должны крепнуть вера и предчувствие иной жизни. Современная культура пытается хвалиться именно тем, что молодит омертвевших, что создает условия для продолжения жизни страстей в преклонном возрасте. Но Захария с Елисаветой жили в иные времена и по-иному. Живи они сейчас, Предтеча, быть может, и не родился бы.
Они жили по-иному, то есть правильно, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно (Лк. 1:6), и к моменту чудесного зачатия страсти увяли в супругах. Они не передавали своему благословенному дитю весь багаж страстей, который обычно в молодые годы родители передают первенцам. И первенцам, к слову, ой как нелегко от этих страстей живется. Они бывают буйны, как Рувим, и безрассудны, как Исав. Иоанну же должно было стать сыном горячих молитв, а не жарких юношеских объятий. Ему предстояло самому стать живой молитвой, и поэтому он родился у отца и матери в глубокой старости.
Сама прожитая жизнь обтачивает человеческую душу, и старику быть наглым и дерзким, глупым и похотливым так же противоестественно, как камню на морском берегу противоестественно не быть гладким и обточенным волнами.
Вскоре предстояло и Деве понести во чреве от Духа Святого (см.: Мф. 1:18). Перед этим Бог творит последнее предваряющее чудо в женском естестве: рождает старица. В девице ведь все готово к зачатию, только нет мужа. А в старице все умерло для зачатия, хотя муж есть. То, что Захария, онемевший после видения Ангела в храме, пришел домой и, оставаясь немым до самого рождения сына, приступил к жене как к женщине — чудо. Чудо — возникновение однократного желания в старом теле; желания, не отменяющего благоговейного страха и возникающего по послушанию голосу свыше. Чудо — само соитие людей, ничего уже не ждавших от своей высохшей утробы, чудо — и последовавшая затем беременность. «Я дал силу зачать, не дам ли Я и силу родить?» — словно говорит Господь через Исаию (ср. Ис. 7:14). Он дал силу родить и Елисавете, что было венцом чудес после обычного вынашивания, столь необычного в данном случае.
Предтеча родился. Его питали старческие сосцы, приучающие сына поститься с детства. Он, ничего не видя еще глазами, видел Христа сердцем, когда бился во чреве матери, и та исполнялась Духом, благодаря сыну. В это самое время непраздная Мария, стоявшая перед Елисаветой, удостоилась от нее имени Матери Господа (см.: Лк. 1:43).
Родившись, Предтеча развязал язык отца, и тот стал пророчествовать, не в духе старого священства, приносящего кровавые жертвы, но в духе нового священства, благовествующего день за днем спасение Бога нашего.
Да развяжет же Предтеча и нам молчащие, неизвестно какой немотой связанные языки. Да польется вновь — по его молитвам — столь необходимая человеческим душам проповедь деятельного и глубокого покаяния. Предтеча родился, чтобы не только его родной отец перестал изъясняться знаками. Он родился, чтобы вся полнота Церкви, все царственное священство, все люди, взятые в удел, отверзли уста на молитву и беседу о едином на потребу.
Услыши нас, Иоанне, в день рождения твоего, и сделай так, чтобы раздались повсюду в твой праздник святые слова, рождающие покаянный стыд и смягчающие ожесточенные сердца. Ты — голос вопиющего в пустыне. Взгляни: наши заполненные людьми города в духовном отношении ничуть не лучше пустынь. Подобно пустыням, они бывают бесплодны, и, как в пустынях, в них воют шакалы и возникают обманчивые миражи. Но стоит раздаться царственному, львиному рыку твоей покаянной проповеди, как пустыня наводнится жаждущим спасения народом.
Поэтому услышь нас, Иоанне, и в день рождества твоего возгреми над ухом каждого пастыря, чтобы тот не болел немотой, но воспевал вслух народа великие дела Божии, начавшиеся с твоего рождения.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 11 сентября (29 августа)
История праздника связана с евангельским повествованием. Три из четырех Евангелий сообщают о данном событии: Евангелие от Матфея в 14 главе, Евангелие от Марка в 6 главе, Евангелие от Луки в 9 главе. В какой бы день недели этот праздник ни попадал, включая воскресенье, этот день всегда в Православной Церкви в память о великом постнике Иоанне (который питался в пустыне только акридами и диким медом и вел суровый образ жизни) является днем строгого поста — запрещено есть не только мясную и молочную пищу, но даже рыбу.
Усекновение — малая Великая Пятница
Сегодня у нас день праздника и скорби: Усекновение главы святого праведного человека, Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Преподобный Иустин (Попович), известный за пределами своей страны в последнее время сербский богослов, проповедник, молитвенник, подвижник, говорил, что день Усекновения главы Предтечи — это малая Великая Пятница. В Великую Пятницу обезумевшие люди распяли Бога. А в эту «малую пятницу» люди, от греха ослепшие, потерявшие разум, лишенные веры, дерзнули на убийство того, о ком Христовы уста сказали, что он есть больший из всех рожденных женами. Наивысший праведник из всех людей был беззаконно убит в темной пещере: в подвале, в темнице ему отсекли голову по приказу царя Ирода.
История вкратце такова.
Предтеча пришел в духе и силе пророка Илии. Как пророк Илия много натерпелся от безбожной царицы Иезавели, так и Предтеча главного врага своей жизни имел в лице Иродиады — беззаконной супруги царя Ирода. Она была женою Филиппа, Иродова брата, и нельзя ей было находиться в супружеской связи с братом своего мужа. Однако, презирая Божеские и человеческие законы, Ирод и Иродиада жили вместе.
Предтеча часто обличал и Иродиаду, и Ирода. Ирод любил Предтечу, боялся его, чувствовал в нем человека святого и высокого, слушал его с любовью. Правда, не исполнял того, чему Иоанн учил, но все же не дерзал причинить ему зло. А вот Иродиада, неистовая в ненависти, искала повода убить Крестителя.
Однажды Ирод праздновал день своего рождения. Он с удовольствием впитывал языческие привычки: в то время иудеи пропитались эллинскими традициями. У них были свои стадионы, они упражнялись, как и эллины, в метании диска и копья, многое переняли и в одежде, и в нравах, а в частности — праздновали теперь и дни рождения, хотя у иудеев это было не принято.
И вот, Ирод праздновал свой день рождения, люди возлежали вокруг изысканных яств на устланных коврами полах. Дочка Иродиады плясала перед возлежавшими и угодила им. О характере этого танца может догадаться каждый, чей возраст больше 15–16 лет. Достаточно включить любой извивающийся, танцующий, блудный канал телевидения, чтобы понять, как нужно было плясать перед пресыщенными, упившимися богатыми людьми, разомлевшими от съеденного и выпитого, чтобы им понравиться. Девица угодила, а мать научила ее, чтобы она просила в награду, — а Ирод пообещал исполнить все, что ни попросит, — голову Иоанна Предтечи.
Ирод пообещал, но, услышав желание, испугался. Но и отречься от клятвы он тоже боялся. И вот, в подвал, в темницу, спускается палач, и в этой темноте и темничной сырости, в одиночестве камеры, усекает голову тому, кто больший всех рожденных женами.
Как некое новое блюдо объевшимся и упившимся, голову Предтечи вынесли на блюде к пирующим. Пир замолкает в ужасе, но вскоре вновь продолжается.
Так закончил свою жизнь тот, кто, возможно, лучше всех нас вместе взятых. И Святая Церковь празднует сегодня память Иоанна, вспоминая главные слова его жизни: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 3:2).
Память святых первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля (29 июня)
История данного праздника уходит своими корнями в глубокую древность. Еще в 258 году в этот день в Риме были перенесены мощи апостолов. Существует также предание, что святые апостолы пострадали в этот день, хотя и в разные годы. В этот же день завершается Петровский пост, установленный Церковью для подготовки к празднику.
Праздник святых апостолов Петра и Павла: понимать тайну страдания человечества
После Вознесения Христова на апостолов легла гораздо большая ответственность. Если раньше все текущие вопросы решал Сам Христос, то теперь апостолы должны были учиться смирению и соборности, учиться размышлять, советоваться и молиться. Даже излияние Духа Святого не избавило их от момента человеческой слабости. И мы видим, как быстро начинают возникать проблемы с тем, кому куда идти проповедовать, с кормлением вдовиц, с вопросами иудейского закона. Апостолы и раньше спорили, кто из них первый, не соглашались с чем-то и роптали, но присутствие Спасителя быстро все успокаивало. Теперь же главными становятся апостолы. И это — подарок Божий людям, — то, что власть вязать или разрешать грехи дана людям, а не ангелам, например.
Христос говорит сначала апостолу Петру, что дает ему власть вязать и решать, и что он свяжет на земле, будет связано на небесах, а что разрешит — будет разрешено на небесах. Потом то же самое Он повторяет и другим апостолам. И нам, как людям, уже немало согрешившим, это очень утешительно, что такая власть дана тем, кто и сам согрешал.
Если бы подобная власть была дана, например, архангелу Михаилу, то, скорее всего, он гнал бы от ворот рая всех, кто когда-либо согрешал. Это было бы объяснимо и понятно. Тогда бы человечеству осталось только отчаиваться. Так все более и более отчаиваются демоны и тащат за собой людей. От непомерного требования святости можно надломиться и пойти в обратную сторону. Но когда человеку согрешившему дается власть стоять на вратах рая, — пусть не так буквально, но все же сказаны слова «ключи», «ворота Царствия Небесного», — человеку, имеющему сострадание, дается такая власть, то это дает нам утешение.
Любой пастырь должен ставить себя на место грешника. Не обнажать на него меч, не отворачиваться от него с брезгливостью, а ставить себя на его место и понимать внутреннюю трагедию падшего человека, понимать, что есть огромная тайна страдания.
В день памяти святых апостолов Петра и Павла мы слушаем на литургии чтение из книги Апостол, где Павел, называя себя в третьем лице — человек некий, — рассказывает о том, что был восхищен на небо и слышал там слова, которые человек не может повторить.
Мы можем полагать, что этим «неким человеком» был сам апостол Павел, потому что есть такая традиция у апостолов — говорить о себе в третьем лице. Апостол Иоанн пишет: «Другой ученик бежал быстрее Петра». Мы знаем, что другой ученик — это сам апостол Иоанн. Но он не говорит: «Я бежал быстрее Петра», а «другой ученик» — в третьем лице. Говорить о себе таким образом — значит наступить на горло «яканью». Апостол Иоанн пишет: или «мы видели, мы свидетельствуем», или «тот ученик», и нигде не «якает». Это противоядие для современного человека, который всюду повторяет: «Я знаю, я видел, я был, у меня есть, я тоже хочу» — я, я, я…
Любой пастырь должен ставить себя на место грешника. Не обнажать на него меч, не отворачиваться от него с брезгливостью, а ставить себя на его место и понимать внутреннюю трагедию падшего человека, понимать, что есть огромная тайна страдания.
Апостол Иоанн таким образом отделяет себя от истины. Истина — рядом, а я — при ней. А апостол Павел, говоря о себе в третьем лице, прячет этим свой благодатный опыт.
Слишком чрезвычайное, особенное событие произошло с ним. Он даже не знает, в теле он был или не в теле. Он дерзает говорить только через 14 лет после того, как это было. Он молчал об этом 14 лет — огромный срок! А вынуждают его говорить об этом коринфяне — тем, что сомневаются в его апостольстве.
Действительно, он не ходил с Христом, в отличие от апостолов Петра, Филиппа или Фомы.
Коринфяне были пресыщены эллинской мудростью, а Павел пишет, что пришел к ним только со словами о крестном страдании Христа: маленький, невзрачный апостол со словами проповеди, — и коринфяне усомнились в его апостольстве. Они хотели каких-то красот, а он был слаб и невзрачен на вид. И это сомнение подвигло апостола Павла смиренно поделиться своим благодатным опытом. Но чтобы не быть хвастуном, он говорит о себе в третьем лице: это было со мной, но это не мое, а Христово.
Павел был восхищен до третьего неба, но потом вернулся на землю — с каким-то опытом, который нельзя выразить, нельзя передать. А вместо этого ему был дан ангел сатанин, который ему пакости делал. «Делать пакости» в буквальном смысле — это бить по лицу. Когда о Христе говорит Евангелие, что солдаты в претории «пакости Ему деяху», это означает, что они били Его по лицу. То есть ангел сатанин сопутствовал Павлу и избивал его — духовно, физически или так и иначе. Это было попущенное Богом тяжелейшее испытание от падших духов. Возможно, это были какие-то греховные наплывы, страхования, душевные терзания, искушения, избиения, которые известны нам из жизни и других подвижников.
Апостол Павел не раскрывает нам подробностей, но мы знаем, что он страдал и трикратно молил Бога избавить его. Апостол донес до нас следующий духовный закон: «Сила Божия в немощи совершается». «Довольно с тебя благодати моей», — то есть благодати столько много, что все остальное нужно терпеть безропотно. «Сила Моя в немощи совершается», — Господь это говорит Павлу, а Павел — нам. Это же касается и апостола Петра: силен в Боге, но не без немощи, — чтобы не возгордился человек и не подумал, что в нем источник силы. Но чтобы помнил, что силен по причастию к источнику силы и мудр по причастию к источнику мудрости. А если и кроток, — то по причастию к источнику кротости.
В своих посланиях апостолы Петр и Павел говорят об одних и тех же вещах. Их проповедь параллельна, пропитана Писанием. Они говорят о дне Господнем, о Страшном Суде, о кротком и смиренном житии пред всеми человеками — верующими и неверующими. В общих чертах учат о покорности жены мужу, о семейной жизни, о заботе мужа о семье. Разница лишь в том, что Павел позволяет себе углубляться в частности, а Петр больше сохраняет связь с Учителем как устный проповедник. Апостолы ходили за Христом и не думали ничего записывать. Они были воспитаны в традиции чтения и толкования Писания именно устного.
Апостол Павел — это следующая ступень церковной истории, по сути. Поэтому именно он был послан к язычникам, — потому что умел говорить иначе, чем все апостолы, проповедь которых была крупно осолена словами псалмов, пророков, Писаний Ветхого Завета. Они, евреи от евреев, учили именно евреев, что Иисус есть тот Самый Христос, Который был должен прийти.
В своих посланиях апостолы Петр и Павел говорят об одних и тех же вещах. Разница лишь в том, что Павел позволяет себе углубляться в частности, а Петр больше сохраняет связь с Учителем как устный проповедник.
Сегодняшний праздник обязывает каждого христианина прочесть четырнадцать посланий святого апостола Павла и два соборных послания апостола Петра. Мало просто держать Петровский пост, — нужно читать послания апостолов. Тем, кто хочет глубже понять Апостол, могу посоветовать недавно вышедшую в издательстве «Эксмо» книгу Сергея Комарова «Всегда ищите добра». В свое время один человек создал в храме кружок проповедников: чтобы каждый, подготовившись, мог на литургии в добавление к обычной евангельской проповеди священника произнести слово об апостольском чтении, которое было в этот день. Плодом этого явилась книга — очень живая и понятная, — где современным языком истолковано каждое воскресное апостольское чтение.
Конечно, весь корпус святых отцов оставил нам толкование апостольских посланий: Иоанн Златоуст, святитель Феофан Затворник, который и ушел в затвор, чтобы ничего не мешало ему толковать Священное Писание. Но не каждый современный человек может читать и понимать святых отцов, — их нужно адаптировать, что и делает Сергей Комаров.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 (1) октября
По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения. Видение это было открыто святому Андрею, Христа ради юродивому, который и рассказал об этом остальным присутствующим.
Слово на Покров Пресвятой Богородицы
Все, что мы знаем, знает кто-то еще. Причем знает лучше нас. Тайны, которые нам открыты, открыты через кого-то.
О том, что Матерь Божия молится о всем мире и наипаче о тех, кто любит Ее Сына, знают многие. Это молитвенное ходатайство и сострадательное вмешательство в судьбы мира называется Покровом. Мы отводим ему отдельный праздник, хотя Покров совершается и происходит, а значит, и достоин празднования, ежедневно.
Нужно было Церкви выбрать какой-то единичный случай, который бы стал символом всех вообще чудес, совершенных ради нашего блага Богородицей. Этот случай есть, и связан он с человеком, которому открыто больше и который видит глубже. Без разговора о нем невозможно говорить о происхождении праздника. Это Андрей, Христа ради юродивый.
«Сумасшедший» — так переводится слово «юродивый». Внешний вид, поведение вызывало соответствующее отношение к таким людям со стороны общества, поскольку важнейшая добавка — «ради Христа» — не произносилась вслух и на бейджике к одежде не прикреплялась. Сумасшедший он и есть сумасшедший: и слюна течет по бороде, и взгляд безумный, и речи странные. От таких людей стараются держаться поодаль, в случае буйства их принудительно лечат.
Внешне Андрей был именно таким, но за фасадом добровольного безумия совершал умный и непрестанный труд — молитву.
Сложен разговор о святых. Всегда есть угроза взять высокую ноту и сорваться на фальцет. Сидеть в грязи и хвалить орла — разве это подвиг?
Да и говорить можно лишь в том случае, если что-то понимаешь. А понять обычному грешнику святых так же тяжело, как тяжело рыбе понять птицу. Уж больно они разные, хоть и сотворены в один день (см.: Быт. 1:20).
Безногий в глазах общества пользуется большим почтением, чем безумный. Нужны особые причины для того, чтобы изображать сумасшествие. Вот Давид притворялся безумным при дворе царя Гефского, чтобы спасти свою жизнь (1-я Цар. 21:13–15).
Андрей же юродствовал, чтобы скрыть близость к горнему миру, чтобы удобно совершать молитву, не будучи ни похваляемым за святость, ни отягчаемым просьбами со стороны верующих.
Из всех отношений с миром юродивому остается только презрение и поношение. Этого он и ищет. В своем желании насытиться унижением и насмешками он выше мучеников. Мученик может обличать мучителей, говоря: вы безумны и верите ложно, а я, подобно Павлу, говорю вам слова истины и здравого смысла (Деян. 26:25). Юродивый же этого сказать не может. Напротив, ему может сказать любой: «Ты безумец», а он только глупо улыбнется или выкинет какой-то фортель.
Безумие добровольное, напускное, но настолько искусное, что от настоящего сумасшествия его невозможно отличить, есть особый вид защиты сокровищ. Под сокровищем разумеем молитву. Защищать же ее приходится от похвалы, от суеты, от неизбежной связанности с миром и обществом, пусть даже и христианским, но все равно одержимым страстями.
Очевидно, что жар молитвы, нуждающейся в такой защите, должен быть необычайным. То есть сокровище должно быть подлинным, без примесей.
Юродство не путь стяжания молитвы, а скорее, способ сохранения молитвы. И еще — способ служения.
Можно ведь подумать и сказать: «Раз ты такой святой и так огненно молишься внутри своего сердца, то иди себе в пустыню или на гору и там совершай свою необычную жизнь. Зачем же ты толчешься на рынке, спишь на паперти или, вызывая громкий визг, заходишь за побоями в женскую баню?»
Дело в том, что юродивый живет в мире ради этого же мира. Он уже не бежит из мира, боясь соблазниться чем-то, но намеренно пребывает посреди его, чтобы молитва, которая в юродивом, грела мир, слепой по отношению к событиям духовным.
Все это мы говорим и обо всем этом рассуждаем, помня сказанное выше: рыба птицу не поймет. Разве может рыба с холодной кровью и холодным сердцем понять, как бьется горячее сердце в груди у чайки, парящей на ветру? Эту чайку рыба, в лучшем случае, видит сквозь толщу воды, снизу вверх, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно (1 Кор. 13:12).
Безумие добровольное, напускное, но настолько искусное, что от настоящего сумасшествия его невозможно отличить, есть особый вид защиты сокровищ. Под сокровищем разумеем молитву. Защищать же ее приходится от похвалы, от суеты, от неизбежной связанности с миром и обществом, пусть даже и христианским, но все равно одержимым страстями.
Итак, Андрей — птица. Он «не сеет, не жнет, не собирает в житницы» (Мф. 6:26). Его питает Бог, причем такой манной, которая заставляет вспомнить Апокалипсис: Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя (Откр. 2:17). Андрей видит то, чего все остальные не видят. Он видит бесов, которым изрядно досаждает своим образом жизни. Видит Ангелов, защищающих его. Видит святых и общается с ними. Наконец, он видит Матерь Господа Иисуса Христа. Это видение и дало основание возникновению праздника.
Дальше все более-менее известно широкому кругу читателей. Видение произошло в храме во время молитвы. Как впоследствии Серафим Саровский видел за литургией Христа в окружении ангельских сил, так и Андрей увидел Божию Матерь, идущую по воздуху в окружении святых. Андрей слышал молитву Богородицы, обращенную к Сыну.
Никто, кроме Андрея, не видел этого. Все молились и смотрели в сторону алтаря. Один юродивый задирал голову и рассматривал что-то на куполе или на стенах. Так тогда казалось.
Потом же он рассказал о своем видении. Ведь оно касалось не его одного, а всего народа! Народ выслушал и не посмеялся, но, подобно Богородице, запомнил все, слагая в сердце своем (см.: Лк. 2:19).
Не всякое явление или видение превращается в праздник. Мало ли кому явились небожители и кого от чего спасли?! Для того чтобы это праздновалось и не забывалось столетиями, нужно, чтобы церковное сознание усмотрело в частном — общее, и в единичном случае — проявление правила.
Правило нынешнего праздника звучит так: Матерь Божия, будучи взятой во славу Сына Своего, не наслаждается Небесным Раем, а непрестанно молится о мире, посещая сей мир.
Плоды этой молитвы известны миллионам людей, поскольку миллионы в разное время облагодетельствованы заступничеством Богородицы. Вот эти-то миллионы отдельных случаев и собраны воедино под названием «Покров», чтобы одним праздником почтить неусыпающую и незамолкающую молитву Преблагословенной Девы Марии.
Подобным образом и чудо Архистратига Михаила в Хонех ценно не только как единичный факт, но и как проявление того благого участия в истории человечества, которое совершают чистые духи, верные Господу.
Андрей видел и другим рассказал. А другие, в числе которых и мы, сердцем откликнулись на услышанное слово. Мы и раньше знали, что любовь не перестает (1 Кор. 13:8), а раз Богородица — Мать истинной Любви, то и Ее любовь бесконечна.
Мы знали, как много и часто Она помогает Церкви и вообще всем, просящим у Нее помощи. А благодаря Андрею мы словно бы его глазами увидели этот олицетворенный Покров.
Увидели и обрадовались.
Увидели и согрелись.
Увидели и обнадежились.
Правило нынешнего праздника звучит так: Матерь Божия, будучи взятой во славу Сына Своего, не наслаждается Небесным Раем, а непрестанно молится о мире, посещая сей мир.
То, что было тогда, продолжается и поныне. Молится Сыну о людях благодатная Мария. Участвуют с Ней в молитве Ангелы, пророки, апостолы и мученики. Видят эту молитвенную службу избранные рабы Божии, продолжающие земной путь.
А все остальные, у которых духовного зрения нет, но сердце обрезано, то есть к истине восприимчиво, в день праздника поют: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся».
Покров: Матерь Божия вмешивается в ход мировой истории
Покров Божией Матери — это Ее выход из тени, в которой Она находилась в период земной жизни. Луна и звезды не светят, пока на небе Солнце. А когда оно закатилось, тогда они полным светом сияют в ночи блуждающим.
Посмертные чудеса Божией Матери — еще одна жизнь после Ее земной жизни. Это переход через тень смертную и вхождение в славу. Здесь не нужно уже бояться, или стыдиться, или кому-то что-то доказывать.
На земле Божия Матерь была смиренна, и смирение ее имело великий смысл. Если Она распоряжалась и командовала, например, то, возможно, это было бы «по-еврейски», но не «по-святому». Только один раз, на пиру в Кане Галилейской Матерь смиренно просит Своего Сына, Он тихо упрекает Ее: Что Тебе и Мне, Жено? (Ин. 2:4).
В какой-то степени Она была даже уничижаема. Христос подчеркивал, что телесное родство Его интересует во вторую очередь. Он пришел спасти и язычников, хотя иудеи ему родные по плоти. И если бы кто-то стал говорить Христу, что Он только «своих» спасает, то был бы неправ.
Молитва Божией Матери сильна не только потому, что Она — Его телесная Мать, а и потому, что Сам факт рождения от Нее Сына Божия предполагает невероятную величину святости. Она должна была быть Честнейшая Херувим, чтобы Ее утробы смогла сместить Невместимого. Но именно за смирение ублажают Ее вси роди: Яко призре на смирение рабы Своея (Лк. 1:48).
В жизни часто бывает так, что мама министра, например, тоже может отдавать распоряжения. Но Христос действует иначе: Он отсекает упреки в человекоугодничестве и плотском союзничестве.
Но когда Она остается одна, Он с Креста усыновляет Ей Иоанна Богослова. После крестной смерти Сына Матерь Божия жила только потому, что Бог поддерживал в ней дыхание жизни. Возможно, Она могла бы и хотела умереть возле Креста Своего Сына.
И Христос вверяет попечение о Своей Матери человеку, наиболее близкому по духу. Иоанн Богослов — величайший из апостолов, умнейший, преданнейший Христов ученик. Его служение, проповедь, его Евангелие отличаются от других. Образ его кончины подобен кончине Илии или Еноха.
Но это не значит, что только его Христос усыновляет Божией Матери. Ведь в доме фарисея он произнес ранее слова: кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мф. 12:50). Исходя из этих слов, каждый стремящийся и исполняющий волю Божию — брат Христу, а значит, сын Богородицы. Вступая в христианстве в братское отношение со Христом, мы подпадаем и под Богородичное Материнство.
Праздник Покрова Божией Матери — приоткрытие некоей Божественной завесы, шторки. Есть потаенные праздники периода земной жизни Богоматери — Благовещение, Введение во храм. Это великие точки, но открытые лишь некоторым глазам. Посмертная же слава Божией Матери иная. Сколько исцелений, явлений, разметаний вражеских флотов, утишений народных волнений, — вплоть до современных явлений Божией Матери, которые видят тысячи людей! Это — Ее посмертная слава, а Покров — квинтэссенция Ее посмертной славы. Если мы соберем вместе всю славу явлений Божией Матери во все времена, всем народам и отдельным людям, — если мы соберем все это вместе, то это и будет смыслом праздника Покрова Божией Матери.
Она внемлет молитвам людей, Она приносит молитву Своему Сыну. Она любит людей и имеет к ним сострадание. Она хочет помочь и вмешивается в историю человечества. Покров — праздник бесчисленных фактов помощи Божией Матери.
Ведь во Влахернах явление в храме видели только святой Андрей с учеником Епифанием. Но когда рассказали всем, люди сразу поверили. Их сердце словно давно знало о помощи Богоматери и только ждало, когда засвидетельствует это святой человек. И праздник Покрова — это человеческое подтверждение, «аминь» на тот факт, что Матерь Божия совершает служение за людей.
Молитва Божией Матери сильна не только потому, что Она — Его телесная Мать, а и потому, что Сам факт рождения от Нее Сына Божия предполагает невероятную величину святости.
Возьмем любую чудотворную икону, Казанскую, например, и посмотрим список чудес: это и есть Покров Божией Матери. Люди получили то, что просили. Покров — праздник свершившихся фактов помощи Божией Матери. Это и праздник надежды, — ведь мы из Писания знаем, что рука Божия не слабеет и мышца Его не уменьшается. «Рука Моя не сократилась, чтобы спасать» (Ис. 59:1), — говорит Господь. Все, что было в лета древняя, может быть и в лета новая. Пусть это будет не детальное повторение истории, но не менее славное и чудесное. Так будет и с Богородицей: раз были чудеса раньше, то будут они и в будущем.
Покров — праздник, который выходит за пределы только почитания Богоматери. Потому что я уверен: Он помогает не только тем, кто Ее чтит и в Нее верит. Если обыкновенный земной врач ходит не только на вызовы, но помогает и тем, кто, может быть, и позвать его не может, то и Матерь Божия, я думаю, вмешивается в жизнь не только христиан. Если святитель Николай помогает и магометанам, и китайцам, и советским летчикам, то тем более Матерь Божия помогает и тем, кто этого даже не подозревает и не знает о Ней.
Поэтому Покров — праздник свершившихся фактов, надежды на то, что случится с нами, и праздник, выходящий за пределы церковного сознания: это не есть то, чем Церковь важна всему миру. Ведь если в церкви молится один, то получают благо десять и более человек. Молится один народ — а благодеяния Божии изливаются на весь мир. И сегодня возможно повторение Покрова — до йоты, до точки. Возможно, не нужно даже много людей: лишь двое или трое праведников, а может, две или три тысячи других людей соберутся в сокрушении сердца с молитвой перед Богом и будут, преклонив колена, просить Его о том или ином, — и история мира будет идти туда, куда укажет Бог по их молитве.
Господь стоит у руля Церкви, у руля мира и направляет его туда, куда ведут наши молитвы. В мире всегда не хватает молитвы, и Матерь Божия может перевернуть ход истории мира.
Часть IV Пост — правда и воздержание со святостью
О посте
В русском языке слово «пост» имеет несколько значений. Это и предписанное религией воздержание от еды, питья и развлечений; это же и некое важное занимаемое место. «Он занимает ответственный пост», — говорим мы о «важной шишке». Если речь идет о военном быте, о котором говорится «пост сдал — пост принял», то этот пост бывает «охраняемый». На этом посту стоит часовой, чье внутреннее состояние наводит на мысль о посте религиозном. Религиозный пост требует от человека внутренней собранности, и в этом его схожесть с заступлением на пост вооруженного военнослужащего. «Не зевать, не расслабляться, руководствоваться уставом, быть начеку», — таковы вкратце требования к часовому, выраженные несколько эмоциональным языком. Точно так же звучит часть требований и к человеку, соблюдающему религиозный пост. Итак, эта омонимия далеко не случайна и глубокомысленна. Военный пост «сдают» и «принимают», церковный — «держат» и «соблюдают», но тот и другой — «хранят». Человек в обоих случаях сосредотачивается на поставленной задаче. В обоих случаях он должен понимать, что занят делом большой, если не сказать — чрезвычайной — важности.
В посте нужно молиться. Сам по себе пост без усиленных молитв ниспадает до некоторой диеты, достоинство которой уже потому невелико, что соблюдается диета ради себя, а пост, как жертва, приносится Богу. Вся наша цивилизация — это ярмарка подмен, где исповедь заменена визитом к психоаналитику, а крестный ход — митингом. Посту также угрожает «светский двойник» в лице различных голодовок и воздержаний.
Итак, нужно исключить нечто из рациона, но нужно нечто и в рацион добавить. Нужно добавить чтение псалмов и Нового Завета, земные поклоны (для тех, кто может их класть по состоянию здоровья) и молитву в храме.
Нужно обнаружить и врагов молитвы. Во-первых, это лень. Во-вторых, суетность ума. А в-третьих, памятозлобие, обиды и все прочее, что вырастает из эгоизма и противно любви к людям. Распознаем этих врагов, потому что вред от них больше, чем вред от полевых вредителей сельскому хозяйству. При этом поля чем-то регулярно посыпают и поливают, обрабатывают, а духовные враги тем удобнее действуют, чем меньше мы помним об их существовании.
Военный пост «сдают» и «принимают», церковный — «держат» и «соблюдают», но тот и другой — «хранят». Человек в обоих случаях сосредотачивается на поставленной задаче.
Лень всем известна. Она, матушка, раньше нас родилась. Она не зря и рифмуется со словом «тень», так как тенью буквально ходит за каждым человеком. Если поддаться ее усыпляющему действию, душа погрузится в уныние, тяжелее которого вряд ли что-то есть.
Что до суетности ума, то это увеличивающийся недуг. Его увеличению много способствует информационная эпоха, внутри которой мы живем. То, что в области массовой информации представляется развлечением и собственно информированием, является на львиную долю замусориванием общественного сознания или даже зомбированием (одно другому не мешает).
Если у вас есть список, озаглавленный «Этого я в пост не ем», то можно составить (хотя бы мысленно) второй подобный список: «Этого я не читаю, не слушаю и не смотрю». Эффект будет непременно, и вы его ощутите. Пусть посубботствует ум от мирского трепа. Земле нужно походить под паром, вьючному животному нужно отдыхать от поклажи. Только бедная людская голова осуждена повседневностью на то, чтобы быть мусорником. Я не согласен: я выключаю средства связи и прячу пульты. И делаю это ради малых крошек внутренней чистоты. Только по неумению додумывать мысли до конца человечество переживает о чистоте окружающей среды, но небрежет о чистоте внутреннего мира. Ведь грязь в окружающей среде — это только перст, указующий на грязь в мыслях и намерениях человека.
Еще замечено, что постящиеся более раздражительны — весенняя усталость и духовный труд дают о себе знать. Но мы должны будем сдерживать себя, чтобы ссорами и раздражительностью не губить плод поста. И кроме названных трех врагов, у молитвы есть и иные враги. Вы сами сможете со временем их обнаружить. Но для этого нужна сама молитва. Она — огонь, все остальное — лампадное масло.
Нужно повторять без устали, что пост — это не только и не столько явление пищевое, сколько всеобъемлющее, изменяющее всего человека. Пост относится к уму больше, чем к чреву. И гастрономия под пост подстроится при желании — в ресторанах уже не первый год можно найти постное меню. Десять перемен блюд и надпись на прейскуранте «поститесь на здоровье».
А вот телевизор под пост не подстраивается, и его вредно смотреть без меры — что в пост, что вне поста. То же касается контента радиостанций, печатной продукции. Все эти фабрики новостей и развлечений либо в принципе не способны даже внешне настроиться на волну поста, либо это будет очень тяжелым для них трудом. Поэтому и стоит напоминать, что экология ума и чистота информационной пищи важнее всего для христианина — и это ему, соответственно, тяжелее всего дается.
При углубленном подходе к явлению пост — это некое «малое умирание». Человек насильственно исторгает свой ум из круга обычных явлений и переключается на совершенно иные мысли. Он мыслит о Суде, о воздаянии грешным и праведным, о своем предстоянии Христу. Он думает о том, что уже сделано, а где еще «конь не валялся». Он думает о том, сколько ему осталось и как этот остаток правильно прожить. Таким образом, человек словно умирает или хотя бы замирает для привычных мыслей и дел. Это и есть та «малая смерть» для мира, которая выбирается добровольно ради оживления души для Христа.
Так и происходит в Божием мире: открываются одни двери не раньше, нежели закрылись другие. Не родившийся еще ребенок внутри материнского организма имеет закрытыми глаза, рот, нос. Остатки пищи тоже не выходят из него так, как это будет потом. Для питания и дыхания у него открыто отверстие, которое потом закроется — пупок. А пока он живет удивительно: вниз головой, в воде, в тихом мраке. Потом — после родов — откроется то, что было закрыто и закроется то, что было открыто.
Таков закон. Следовательно, и в духовной жизни мы должны учиться глохнуть для одних разговоров, чтобы открылось слышание иных речей: не зря Матерь Божия называется собеседницей молчальников. Должны освободить ум от одних мыслей, чтобы в сознание смогли войти другие: не зря некто из отцов сказал, что ухо безмолвника услышит дивное. Умирание для жизни призрачной ради оживления для жизни подлинной — это и есть пост.
Когда одни люди постятся, а другие нет, то не исключено, что между ними может возникнуть взаимное напряжение. Постящиеся люди склонны осуждать людей непостящихся. Вот, мол, «грешники и чревоугодники». Ну, а у оппонентов тоже готовы под рукой свои аргументы. «Бог у меня в душе», «оскверняет человека не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст». И так далее. К тому же всем известен малоприятный тип религиозного ханжи, на которого не хочется быть похожим. Вот многие и думают: лучше я не буду особо рьяно исполнять обряды и предписания, зато буду простым и искренним человеком. Разрубать ли этот узел или развязывать — в любом случае придется попотеть.
Сам по себе пост без усиленных молитв ниспадает до некоторой диеты, достоинство которой уже потому невелико, что соблюдается диета ради себя, а пост, как жертва, приносится Богу.
Обратимся к Писанию, и первой словесной жемчужиной пусть будет следующая: Пища для чрева и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то, и другое (1 Кор. 6:13). Эти слова обращены к тем, кто чрезмерно внимателен к еде в ущерб прочим, не менее важным, сторонам жизни. Еда едой, а молитва молитвой и любовь любовью. Воспретим себе осуждать тех, кто почему-то не соблюдает пост, помня о том, что чрево всякого человека Бог уничтожит. По-славянски это выражение читается «упразднит», сделает незначимым.
Речь идет о той перемене, которая ожидает всякую плоть, когда после воскресения люди изменятся невообразимо. Сыны Царства, по слову Христа, будут подобны Ангелам Божиим, будучи сынами воскресения (см.: Лк. 20:36). И само Царство есть не пища и питие, но праведность, мир и радость во Святом Духе (Рим. 14:17). И еще выслушаем нечто: Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его (Рим. 14:3).
Как видим, апостол тревожился о том, чтобы аскетизм или его отсутствие не превращались в фактор распрей между христианами. И нас в первую очередь должно волновать не столько отношение маловерных к тем, кто постится, сколько наоборот. Хочется, чтобы постящиеся люди не задирали нос и не осуждали тех, кто ест колбасу и смотрит в пост телевизор. С нас, христиан, больший спрос. От нас ожидается теплота понимания и неосуждения. К себе — строгость, к ближнему — милость, Богу — поклонение в духе. Вот христианство.
Пост — явление универсальное. Вы не найдете в истории человечества ни одной серьезной культуры, где ради высших целей лучшие люди не брали бы на себя труд воздержания, временного или постоянного. Вы не найдете такой культуры, где восхвалялось бы обжорство, лень, праздность и при этом совершались бы великие открытия в области духа. Мировые культуры уже теснейшим образом переплетены. Не выезжая за пределы страны и города, можно познакомиться с учениями Востока, с разными аскетическими практиками, зайти в «Чайна Таун» и выйти из него, записаться на курсы йоги и прочее. Наши люди так и делают. Плохо это или хорошо — отдельная тема, но это уже свершившийся факт, и о чакрах или медитациях славянин может знать задолго до того, как узнает о грехах и страстях, мучающих человека.
Люди мечутся из стороны в сторону, не только мигрируя из страны в страну. Люди бродят от учения к учению, ищут истину и стремятся к самореализации. Так вот, нигде эти люди не встретят призывов к вседозволенности, если предметом поиска будет чистота ума и спокойствие души. Люди объявляют личный пост, если дают обеты и вымаливают у Бога что-то важное. Они объявляют коллективный пост, если «враг у ворот» и народу грозит нешуточная опасность.
К себе — строгость, к ближнему — милость, Богу — поклонение в духе. Вот христианство.
Способность к воздержанию в сложных ситуациях есть мера серьезности души и ее мужественности. И только общество потребления свистит нам в оба уха: «Потребляй! Наслаждайся! Расслабляйся! Отрывайся по полной!» Именно этот дух вседозволенности, зацикленности на себе, крайнего эгоизма и стремления к беспрестанной смене удовольствий и есть разлагающий дух мира сего. Предполагаю, что это есть разновидность духа антихристова. Постясь, мы в некую меру выходим из-под власти этого духа. Можем выйти, во всяком случае. Поэтому дух поста есть дух воинский и благородный, а дух греховной расслабленности есть дух плебейский и рабский. Воздержный человек свободен, а обжора — раб. И блудник — раб. И лентяй — раб. Свобода — это не только политическое или социальное явление. Свобода — это подарок Бога сознательной и разумной личности. Христианство помнит об этом. Жаль только, что настоящих христиан среди нас очень и очень мало.
Но мы далеки от уныния. Мы уже начали труд, и будущее многое нам откроет. С Богом — вперед, не задерживайтесь!
Когда пост становится самообманом
Все, что касается поста, должно касаться и жизни в общем. Пост — это сугубо концентрированное отношение к жизни. То, что происходит во время пиковых, каких-то экстремальных ситуаций в высших и низших точках нашей жизни, — это только заострение бытия. Поэтому нужно задуматься о том, как сделать, чтобы вся жизнь не прошла мимо, как вообще сделать так, чтобы все важное в жизни не превратилось в формальность и какие конкретные задачи должен в жизни решать человек.
В обычной жизни мы не очень обеспокоены такими вещами, пока не заболеем или не вступим в какую-то особую полосу.
Христиане, например, никогда так много не грешат, как тогда, когда пост заканчивается. В течение поста у нас более-менее есть обычай «застегнуться на все пуговицы», взять себя в руки. Но когда пост заканчивается, мы «выписываем себе индульгенцию» на то, чтобы отвязаться от всех правил и законов. Начинается какое-то бескрайнее море беззакония.
Итак, пост — это наше концентрированное отношение к жизни вообще.
Меру достоинства любого дела определяет то, ради чего и ради кого ты это делаешь. Если пост держится человеком ради диеты, в смысле улучшения состояния здоровья или внешнего вида, то это диетологические упражнения, и у них «одна цена». Если пост держится потому, что «так надо», без критического осмысления, то это есть следование традиции, не подкрепленное личным отношением. Тут «другая цена».
Пост нужно посвятить, как и все остальное, лично Господу Иисусу Христу, связав пост в своем сознании с тем фактом, что заповедь «не вкушай» была первой заповедью новосотворенного человека. Согласно Книге Бытия, Господь Бог воспитывал человека и создал его не в атмосфере вседозволенности, а дал ему заповеди. Вначале простейшие — однако конкретные, запретительные и повелительные.
Христиане никогда так много не грешат, как тогда, когда пост заканчивается. В течение поста у нас более-менее есть обычай «застегнуться на все пуговицы», взять себя в руки. Но когда пост заканчивается, мы «выписываем себе индульгенцию» на то, чтобы отвязаться от всех правил и законов.
Повелительная была — возделывать и хранить Эдемский сад, а запретительная — не вкушать от одного из деревьев сада, от древа познания добра и зла. Поэтому «не вкушай» — это первая запретительная заповедь человеку. Необходимо вписать свой пост в контекст этой заповеди. Нужно отказаться от определенных родов пищи с тем, чтобы истончить свою телесную природу, несколько ослабить ее влияние на душу. Чтобы рабство души телу если не исчезло, то ослабело, а душа — расправила крылья.
Дух и плоть после грехопадения находятся в противоборстве, и они примириться не могут. Дух хочет противного плоти, а плоть хочет противного духу. Это, по сути, борьба человека с самим собой. Самая великая борьба — это борьба с самим собой. Об этом говорят все великие культуры, об этом говорит, конечно же, Священное Писание. Побеждающий города, по слову Соломона, не так славен, как обуздывающий гнев, и человек, побеждающий себя, воздерживающий язык или другие свои движения души, более славен, чем все остальные победители (ср. Притч. 16:32).
Пост, таким образом, есть борьба человека с самим собой, совершаемая ради Господа Иисуса Христа и по подражанию Господу Иисусу Христу. Ведь Сам Он, выходя на проповедь, перед этим сорок дней постился.
Нужно различать пост и воздержание. Воздержание — это некое уменьшение еды, отнятие времени от сна, умножение молитв, а пост — вообще неядение. Не есть и не пить — это, собственно, и есть настоящий пост. Если туда еще включить молитву, то это есть война. Война с собой, с миром падших духов, влияющих на всякого человека, главным образом на его мысли. Если человек вступает в этот труд, то он — воин Христов.
Воинское сознание вообще сопутствует христианскому сознанию. Сознание христианина — это не сознание пацифиста, но сознание военного человека. Если это есть, то пост не будет формальным. Если это есть, то он пробежит быстро. Пост нужно облобызать, как святыню, обнять и обрадоваться тому, что он пришел.
Человек должен знать себя самого. Никто не знает, что у человека внутри, кроме духа, живущего в человеке. Я знаю свои проблемы. Вы должны знать свои внутренние и духовные проблемы. Если вы не знаете их, то вы, быть может, вообще ничего не знаете. Как вы можете знать другого человека или происходящее в мире, понимать все это правильно и давать достойную оценку, если вы не понимаете самих себя?
Человеку вменяется необходимость самопознания. Об этом апостол Павел говорит Тимофею: Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно (1 Тим. 4:16). Заметьте: вникание в себя предваряет вникание в учение. Чтению Библии предшествует повеление: Вникай в себя. Если ты не будешь знать себя, то ты дальше не двинешься. Человек — как воевода в городе — должен знать, какая из стен плохо укреплена и какие из ворот более всего могут подвергнуться нападению. Так же и всякий из нас должен знать себя.
Знание своих проблем определяет направление борьбы. Словно военный стратег, христианин должен нарисовать на карте личной войны синими и красными стрелочками направления главных ударов. Это нужно как раз для того, чтобы пост не был формальностью. Борец неизбежно приходит со временем в изнеможение. Он ощущает, что враги сильны, и тогда он начинает молиться Богу о помощи. И до этого состояния должен каждый из нас дойти. До состояния священной немощи и взывания к Богу о помощи.
И повторю, современному человеку совершенно необходим «информационный пост». Если человек отдает уши и глаза на откуп всему тому, что показывается по телевизору и в интернете, всему тому, что поется по радио, он не постник — он обманщик. Обманщик себя самого.
Если человек пьет молоко и не смотрит телевизор, но читает Евангелие каждый день — это хороший человек в отношении поста, даже «подвижник». Он совершает посильный подвиг. Если же человек грызет одни сухари, но при этом смотрит все, что предлагает ему телевидение, — это самообманщик. Он не постится. Главное ведь в нас не брюхо, простите, а сфера ума. И этой сферой ума вращает лукавый, как игрушкой.
Необходимо ограничить или закрыть доступ к лишней и вредной информации до тех пор, пока вы не научитесь работать с этой информацией: дозировать, анализировать, отсеивать. Это очень сложные навыки, которые не всем даются. Большинству же нужно решительно ограничить или даже пресечь доступ ненужной информации внутрь своей души. Это важнее всего остального.
Человеку вменяется необходимость самопознания. Как вы можете знать другого человека или происходящее в мире, понимать все это правильно и давать достойную оценку, если вы не понимаете самих себя?
Итог: чтобы пост не стал формальностью, необходимо совершить его во имя Иисуса Христа, как борьбу с собой ради Царствия Божьего. Царство силой берется, и употребляющий усилия достигает его (Мф. 11:12). Надо в духовном смысле «овладеть обетованной землей». И тогда не будет никаких формальностей. Будет все очень строго, честно, по-настоящему, и это даст человеку венцы и награды.
Детский пост: верните человеку книгу!
Детям нужно устраивать пост в первую очередь «информационный». Телевизор убрать на какие-то важные периоды: Первая неделя, Страстная неделя, Крестопоклонная неделя. Его занавесить траурной тафтой, как Онегин занавесил полку с книжками:
И полку с пыльной их семьей Задернул траурной тафтой[42].Нечего там смотреть. Даже то, что кажется хорошим и безвредным, как правило, ворует у человека время, силы и энергию. Детям это тем более не нужно.
Когда уберем ребенка от гаджетов, тогда появится некое свободное время для того, чтобы сесть с ним и пообщаться или почитать что-либо вместе. Попытайтесь во время поста больше общаться с детьми, гулять. Если вы дадите им, скажем, творог или сметану, молоко или сыр на бутерброд, в этом нет ничего страшного, как мне кажется. А если еще и высвободите время для общения с ними, удалите от них лишнюю информацию — это будет очень хорошо.
Еще мне кажется, что в отношении лакомств и излишеств можно смело поститься. Например, детям нужно молоко, творог, сыр, белый хлеб. А вот мороженое не нужно и шоколад не нужен. Нанесите, пожалуйста, «чувствительный удар» по кондитерской промышленности.
Вкус у нас испорчен. Люди не чувствуют вкуса хлеба как такового, они чувствуют вкус хлеба только с вареньем, маслом или ветчиной, а нужно почувствовать вкус самого хлеба. Если это будет сделано в отношении детей, если у них упростится вкус и отдохнут глаза от наших голубых телеэкранов, — я думаю, что этого достаточно.
Ну а если вы еще к этому добавите совместное посещение храма Божьего или какое-то краткое чтение молитв утром или вечером, — считайте, что вы умничка. Общаться с детьми надо, общаться. Разговаривать, читать, говорить, выстраивать теплые отношения, которые достойны имени семьи. Но не подвижничать с детьми. Подвижничество и взрослым не всем дается. Если вы захотите подражать Сергию Радонежскому, который в среду и пятницу, будучи грудным ребенком, материнскую грудь не брал, и захотите вот этот образ благочестия повторить на своих детях, вы страшно ошибетесь, потому что у вас ничего не получится. У вас лишь получатся попытки искалечить ребенка, но никакой святости в итоге не будет.
Нам нужно восполнить то, чего нет, — а у нас нет как раз общения. Сделаем же то, о чем говорится в мультике про Карлсона: «Убедительно просим ваших детей отойти от наших телеэкранов!» Это самая главная задача на Великий пост для детей. В храм ходить, от телевизора отойти, сладкого есть меньше, с родителями общаться, читать хорошие книги. Верните книгу человеку! Это будет великое дело, и этого хватит вполне.
Что хорошего в посте?
С каждым годом человек находит в посте все больше радости и утешения. В чем здесь загадка?
Пост дает мне, например, надежду. Когда доживаешь до поста, у тебя появляется яркая надежда, что все будет хорошо. Я чувствую некоторыми фибрами своей души, что в это время в мире многое меняется. Худо-бедно, но многие люди становятся на колени перед Богом и говорят: «Прости меня! Слава Тебе, а меня прости!»
В это время чувствуешь, что не все пропало, не все потеряно. Человеку пост дает надежду. Пост определяет цель: впереди Пасха, впереди Христос воскрес и ожидает тебя, и гроб Его пуст. Пост дает смысл жизни, заостряет многие вещи, отсекает лишнее, «сбивает бантики», оставляет самое важное. Это первое.
«Чисто по жизни», — так сказать, по-простому, — пост дает вкус к жизни. Когда ты от себя отнял что-то, это как «купи козу, а потом продай козу», — и твоя однокомнатная квартира покажется дворцом. Сначала она превратится в ад с покупкой козы, а потом, после продажи, превратится в рай. И все будет хорошо. Просто-напросто ты себя утеснишь немножко: не дашь себе поесть, поспать или попить.
Вот не пей с утра до вечера, а потом возьми и вечером выпей два стакана минеральной воды, и она окажется очень вкусной. Даже из крана напейся — и в кране тоже при жажде будет вкусная вода! Это будет настоящее удовольствие. Если постящиеся люди воздерживаются в супружеских отношениях, это скрепляет семью, порождает взаимную тягу, жажду, любовь настоящую, переводит ее в другую сферу. Воздержание рождает небывалую нежность между супругами.
Итак, пост дает надежду, смысл, потом — вкус к жизни. Просто к жизни, к погоде, к свежему воздуху, к легкому ощущению себя — не объевшегося, «еле ползущего» и заспанного, а бодрого и легкого.
Пост помогает меняться. По крайней мере дает надежду на перемены. Многие говорят: «Принимайте меня таким, какой я есть». Но это ложь! Человек не должен быть таким, какой он есть. Он должен быть лучше, он обязан быть лучше. И он обязан хотеть быть лучше. Пост дает человеку возможность стать лучше, если он к этому стремится. Это третье.
Четвертое. Пост дает живое ощущение, что он не один. Человека должно несказанно радовать, что в это же время во всем мире — в Греции, Америке, Японии, Латинской Америке, Австралии, Северной Африке, Южной Африке и других частях света есть довольно много людей, которые тоже постятся, как он сейчас. Постятся ради Господа, потому что они Его любят.
Многие строго постятся, потому что сильно любят Господа: я не один такой, нас много. И праздники тоже должны человека радовать: я сейчас тут помолился, порадовался, попел, поплакал ради Христа, а после будет обед, вечер, потом я спать лягу, а в это время в Америке православные проснутся, и у них будет то же самое с разрывом в десять часов, — меня это радует. Пост дает мне ощущение того, что я не один, что нас много, и мы все постимся, а потом мы все вместе будет праздновать Пасху. Это меня держит на свете — буквально руками, как мама в детстве.
Многие говорят: «Принимайте меня таким, какой я есть». Но это ложь! Человек не должен быть таким, какой он есть. Он должен быть лучше, он обязан быть лучше. Пост дает человеку возможность стать лучше, если он к этому стремится.
Есть еще много разных вещей, которые дает пост, но я их назвать не могу, поскольку не чувствую их по причине черствости своей.
Пост очень богат. Пост гонит врага от человека. Когда беда приходит к человеку или к народу, то древние книги говорят: назначьте пост, объявите собрание. Хватит есть, пить и веселиться. Начните молиться, перестаньте есть, сядьте во вретище, посыпьте голову пеплом, плачьте и рыдайте. Смех ваш обратится в плач, а радость — в печаль (Иак. 4:9). Глядишь: послушались, начали, — и враг ушел, и беда отошла, и бедствие отступило.
Так было с Ниневией, как сказано в книге пророка Ионы, так было и в других местах. Господь Иисус Христос говорит, что на беса нет другого оружия, кроме поста и молитвы (ср. Мф. 17:21).
Мир и так беснуется, потому что не молится и не постится. Но еще кто-то молится и кто-то постится. Где-то еще не пускают бесов, где-то сражаются с ними — и побеждают их. Если же мы совсем молиться и поститься перестанем, то жизнь станет просто бесноватой, а лицо поколения станет собачьим. Так говорит древнее предание.
Для того чтобы лицо поколения собачьим не стало, нужны тоже пост и молитва. И это мне понятно без всяких доказательств. Без логических доказательств, разумеется.
Со временем отношение к посту меняется. Ведь в какие-то годы тяжелее, например, не есть; в какие-то тяжелее не спать; в какие-то годы тяжелее держаться в супружеском воздержании; в какие-то годы не хочется молиться; а в какие-то — уже не хочется ни есть, ни спать, а только молиться, молиться, молиться. Мне кажется, чем больше человек живет, тем больше ему хочется этой радости, этой весны для души. И с годами мне пост нравится все больше.
Поститься как впервые
Какие ошибки могут быть у тех, кто постится впервые? Я думаю, что если свести смысл поста только к своим личным упражнениям по части гастрономии (что есть, а что не есть), то тогда и будут ошибки.
Постящимся впервые нужно знать, что не может быть поста без посещения храма, частого посещения храма — не ежевоскресного даже, а чаще. Ежевоскресное пребывание в храме на литургии — это как вода и хлеб, без этого нельзя жить христианину. А тут нужно чаще посещать богослужения и молиться дома. Пост получит ценность по мере молитвы, без молитвы он будет недостаточен. Будет одно весло, и на одном месте будет крутиться лодка.
Еще нужна мера. Помните, в некоей пословице говорится о человеке, которого заставили Богу молиться, а он лоб разбил? Чтобы не быть таким человеком, нужно выбирать царские пути и не замучивать себя, не брать на себя те тяжести, которые нести не сможешь. Это умеренность.
Царица добродетели — это рассуждение. Не прозорливость, не знание бесов, не воскрешение мертвых, не какие-то еще великие вещи. Царицей добродетели является рассуждение. Ищите свою меру. Если вы больны, или тяжело работаете, или что-то еще, вы должны поступать соответствующим образом с рассуждением, заручившись благословением своего духовного отца, если он у вас есть. Если человек — грузчик, то, может быть, ему не стоит акцентироваться на изнурении себя неядением, но добавить в своей жизни побольше псалмов и молитв. А если человек проверяет тетради, будучи учителем первых классов, и у него забита голова уроками, то ему молиться очень трудно. У него ум занят. Тогда ему нужно как раз меньше есть и пить, но не замаливаться. Рассуждение, одним словом, нужно человеку, вступающему в пост.
Есть сложности поста, связанные с окружающим миром. Это третья категория сложности. Когда мы что-то делаем, мы хотим, чтобы все это делали. А все не будут этого делать. Все продолжат жизнь по своему сценарию. Например, мама в семье готовит еду на всех. Представьте себе, что никто в семье не постится — ни муж, ни дети, а она одна. И ей нужно как-то «пропетлять» между всеми огнями, чтобы были сыты волки и целы овцы. Она должна поститься сама и готовить непостную пищу окружающим. Это трудно? Трудно. Но награды без трудов не бывает. Поэтому здесь третий вариант сложности — это правильное отношение с окружающими. Мы попадаем в социальные напряженности, когда окружающий мир не понимает нас, а мы не согласны с окружающим миром. Здесь нужна изрядная доля мудрости. Просите ее у Бога без сомнений, как пишет апостол Иаков: Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь (Иак. 1:5–6).
Пост получит ценность по мере молитвы, без молитвы он будет недостаточен — будет одно весло, и лодка будет крутиться на одном месте.
Еще скажу: все, кто вообще постится, должны думать, что они постятся впервые. Я думаю, что все, что мы делаем хорошего, мы должны делать так, как будто мы делаем это впервые, плюс еще и в последний раз. Вот тогда он будет получаться настоящим. Если вы подумаете: «А я уже постился», то эта мысль, скорее, погубит ваши труды. Заезженная пластинка привычности не даст вам ни новизны, ни радости, ни сил, ни расправленных плеч. Все должны думать, что они постятся впервые. Все. И если стать на суд совести, мы должны признать, что мы, постясь раньше, и болтали много, и ели больше, чем надо, и баловали себя сладеньким, и спали излишне, и мало молились в прежние посты. Мы, в принципе, погубили все посты, которые были ранее. Так давайте попостимся сейчас по-настоящему! Давайте поститься впервые!
Путь к Царству Божьему, по слову Димитрия Ростовского, открыт для того, кто каждый раз начинает его заново.
Рождественский пост — две лепты от души и тела
Что сказать о Рождественском посте? Намерение освящает дело. Что пользы в перемене стола с мясного на постный или в прочих вещах, если Христос — не в центре намерений? Вот, апостол Павел говорит: Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию (1 Кор. 10:31). Перефразируем, не согрешая, слова Павла: «Не едите ли, не пьете ли, или иного чего себя добровольно лишаете, воздерживайтесь во славу Божию». Пища нас не приближает к Богу и не отдаляет, но намерение приближает, и дело внешнее получает силу внутреннюю от того, Кому дело посвящено.
Итак, намереваясь поститься, посвятим посильное воздержание Тому, Кто родился от Девы в пещере близ Вифлеема. При таком посвящении самое скромное воздержание не останется без плода, а при ложных целях и великое постничество будет либо вредным, либор бесполезным. У западных христиан пост перед Рождеством так и называется — Адвент, что означает «посвящен приходу». Мало посему говорить людям: «Не ешьте мяса. Не пейте молока». Нужно говорить: «Готовьтесь Христа встречать. Разбудите помыслы и идите навстречу Господу. Помните, ради Кого упрощаете жизнь и упражняетесь в скромности».
Говорят, когда в Риме строили собор святого Петра, задали один и тот же вопрос двум разным людям, носившим камни на строительство. «Чем вы занимаетесь?» — спросили их. «Я, — говорит один, — нанялся камни носить, чтобы семью кормить». «А я, — сказал другой, — строю храм в честь апостола Петра». Очевидно, что при одинаковости мускульных усилий и равности оплаты, делали они совсем разную работу. И если какой храм стоит столетиями, то благодаря работникам второго рода, а никак не первого. Вот и мы давайте разберемся с намерениями.
— Ты что делаешь, доктор?
— Я в лице больных учусь Христу служить и облегчаю человеческие страдания.
— Ты что делаешь, учитель?
— Я детям открываю двери в мир знаний, чтобы им было жить интересно и чтобы они со временем пользу стали приносить.
— А ты, постник, что делаешь?
— Я помню о Господе и хочу встретить Его со всей Церковью в Рождественские дни.
— А может, ты просто похудеть стараешься, здоровье поправить?
— Нет. Это не разгрузочные дни. Это — посильная жертва. Это мои две лепты от души и от тела.
У суетного человека вера суетна. У лгущего человека надежды ложны. Для того чтобы навести с помощью Бога внутри себя относительный порядок и очистить око ума, нам и нужен пост. Пост двоякий — душевный и телесный, — каков и сам человек.
Человек беззащитен, как бедная вдова, но и он обязан приносить жертвы. Приносимых лепт должно быть именно две, как и тех динариев, которые дал добрый самарянин содержателю гостиницы (см.: Лк. 10:35), было два. В притче два динария — это Ветхий и Новый Заветы, черпая из которых, можно продолжать лечить избитого человека (Адама) в гостинице (Церкви), пока не вернется Господь. А две лепты в жертве вдовицы — это знак нашей двойственности.
И от души, и от тела нужно принести по лепте в жертву, и от внутреннего сокровенного человека, и от внешнего. От тела — воздержание в пище. От души — голодание глаз, неподвижность языка, затворенный слух. Вторая лепта даже важнее первой. Времена-то информационные. И кто не ест колбасу, но подставляет голову под любой телевизионный или компьютерный ветер, тот сомнительно постится. Тому «надует голову» означенными ветрами вплоть до «духовного менингита» и последующей госпитализации. Но нам нужна свобода, в первую очередь — внутренняя, нужна легкость помыслов и чистота намерений. Окна душевного дома нужно закрывать так, чтобы не были слышны крик и шум вавилонских улиц.
Рождество Христово было подготовлено всей внутренней историей Израиля и всей внешней историей мира. Совокупная праведность Авраамовых детей сделала возможным вначале рождение Девы-Матери, а потом от Нее — Нового Адама. Но и внешний мир, не помышляя о том, был вовлечен в великую работу. Так, перепись Августа заставила Марию с Иосифом отправиться в Вифлеем, чтобы исполнилось древнее пророчество Михея: И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных (Мих. 5:2). Следовательно, и всемогущий кесарь, обожествленный подобострастием рабов, служил целям Христовым, сам того не понимая.
Стоит думать, что и ныне, и до скончания века, все происходящее таинственно связано с Господом Иисусом и Его Промыслом. Только мы, помрачившись в разуме, рвем картину мира, приписываем мертвым стихиям власть и свободу действия и не замечаем Божественного присутствия. У суетного человека вера суетна. У лгущего человека надежды ложны. Для того чтобы навести с помощью Бога внутри себя относительный порядок и очистить око ума, нам и нужен пост. Пост двоякий — душевный и телесный, — каков и сам человек.
Трудно сказать, сколько людей будет распутывать внутренние узелки и вести тайную борьбу за веру. Очень много таких людей по определению не бывает. Но даже малое присутствие их делает историю живой и стремящейся к Богу. Итак, проверим намерения и — с Богом!
Королевская трапеза на Петров пост
Богато постами православие. Слава Богу! Исполнять бы. Но и с исполнением есть вопросы. Что главное в этом — апостольском — посту? Вот, Великий пост есть десятина дней года, то есть попытка саму жизнь принести на алтарь. И еще это — приготовление к Пасхе, подобие добровольного распятия ради последующей пасхальной благодати. А что такое Петров пост?
Исторически он — «компенсаторный», то есть такой, который необходим для людей, не понесших благую тяготу Четыредесятницы. Болел человек или был в далеком путешествии, к примеру. Тогда, насладившись праздниками и дожив до окончания Пятидесятницы, он должен свою десятину Богу принести. Такова внутренняя причина для возникновения Петрова поста.
Потом, со временем, по законам цветения и разрастания жизни, это первичное семя обрастает дополнительными смыслами. И вот, мы уже можем слышать о том, что Петров пост установлен в подражание Христовым ученикам. Те, отправляясь на всемирную проповедь, укреплялись молитвой и постом, и мы должны брать в руки оба вида духовного оружия и воевать по мере сил.
Это распространенное толкование мне нравится. Только не очень нравятся вопросы «что можно есть?» И рецепты постных блюд мне нравятся, только если их не чересчур много и если они не выходят на первое место в сознании, как некое тонкое воцарение чревоугодия над якобы постящимся человеком.
Лето на дворе: овощей надо есть побольше, зелени. Сама природа к легкости зовет. Но важно не забывать, что человек одним хлебом, то есть земной пищей, жив быть не может. Он живет полноценно, если кроме хлеба вкушает всякий глагол, исходящий из уст Божиих (см.: Мф. 4:4). Что же вкушать в дни апостольского поста?
А не подсказывает ли нам само имя поста и праздника, которым он заканчивается, в каких книгах нам лучше всего упражняться в это время? Четырнадцать Павловых посланий, два Соборных послания Петра и книга Деяний апостолов, в которой Петр и Павел — главные действующие лица, — вот ответ на вопрос: «Что будем есть в Петровский пост?» Семнадцать кушаний. Это не просто накрытый стол. Это — королевская трапеза с четырьмя или пятью переменами блюд.
Мистический страх перед наличием в печенье сухого молока у нас в крови есть, а любви к уединению с открытой Библией перед глазами — нет. Эту любовь нужно поселить в нас, ее нужно воспитать и укоренить в самых глубинах нашего духовного организма. Это — всецерковная задача. И мы даже представить не можем, сколько благ отсюда в будущем может родиться.
Можно читать по чуть-чуть. Например, встать утром, прочесть два абзаца и потом размышлять о прочитанном по дороге к метро или автобусу. Можно носить маленькие издания Нового Завета с собой и в удобное время давать пищу уму и сердцу радость.
Важно не забывать, что человек одним хлебом, то есть земной пищей, жив быть не может. Он живет полноценно, если кроме хлеба вкушает всякий глагол, исходящий из уст Божиих.
Молодые люди, те, что родились в наушниках и прекрасно разбираются в современной технике (старшим это тяжко дается), могут скачать на портативные устройства Псалтирь или апостольские послания и слушать их в любое время.
Вот так увидишь на улице молодого человека в наушниках, подумаешь, что он, вероятно, какую-то «кислоту» слушает, и забурчишь под нос по привычке. А он в это время назидается толкованием на Послание апостола Павла к Колоссянам. Чудеса!
Так или иначе, по чуть-чуть или большими кусками, регулярно или от случая к случаю, вслух или про себя, мы все обязаны читать Священное Писание. Цель занятия им — да совершен будет Божий человек, на всякое дело благое приготовлен (2 Тим. 3:17).
Мы знаем Петра и Павла по именам. Но очень малое число людей чувствует их близость к себе. Когда же читает вдумчиво человек писания апостольские, то сам пламенеющий дух учеников Господних, приближаясь, согревает дух человеческий. Они, апостолы, должны быть родными нам. Родство это обретается на пути трудолюбивого и постоянного изучения их писаний.
Подлинным плодом хорошо проведенного Петровского поста должно быть чувство сыновней близости к тем, которых зовут Камень (Петр) и Маленький (Павел). Вот как запоют на службе: «Петре и Павле, от Рима сошедшеся, утвердите нас»[43], то стоящий в храме человек вдруг и почувствует, что сердце его знает этих людей. И он тогда повторит за хором: «От Рима сошедшеся, утвердите нас».
Успенский пост
Все в мире имеет свое достоинство и достоинство различное. Ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам; звезда бо от звезды разнствует во славе[44], и пост от поста во славе разнствует. Каково же достоинство Успенского поста?
Мы говорили с вами, что Петровский пост возник как способ попоститься тем, кто пропустил Великий пост, пребывая в болезни или путешествии, или в силу иных объективных условий. Рождественский пост — это приуроченное молитвенное предстояние Рождеству Христову. Великий пост — главный и уникальный в этом отношении. Это жертва Богу десятиной дней года.
Успенский пост — похожий на Великий пост период воздержания. Праздник Успения Пресвятой Богородицы называется еще Богородичной Пасхой Успения и, по аналогии с Пасхой Господней, также предваряется постом.
Успенский пост возник намного позже других. Думаю, что апостольский пост возник раньше, чем Успенский, потому что почитание апостолов органично возникало по мере ухода их из жизни, и их имена вырастали в значении для всей Церкви.
Исходя из условностей нашего информационного бытия, для духовного здоровья необходим «информационный» пост. Он сегодня гораздо более важен, нежели пост телесный.
Значение Божией Матери для Церкви все более и более прояснялось со столетиями. Постепенно люди стали понимать, Кто же Она такая, эта благословенная в женах, о Которой так мало пишет Евангелие. Вместе с тем значение Ее выходит далеко за рамки всякой святости мысленной и фактической. До конца истории мира Ее слава будет возрастать и возрастать.
Думая о Ее исходе земном, о Ее смерти, приготовляясь праздновать день Ее смертного сна, после которого Она была воскрешена Иисусом Христом, христиане посчитали достойным поститься. И этот пост нужно провести строго — насколько возможно.
Напоминаю, что современный человек должен поститься информационно более, чем телесно. Вопросы по части того, как столоваться, сохраняют свою актуальность, но вопросы о том, что видит человек и что слышит, что думает, что говорит — они становятся более значимыми.
Представьте себе жизнь человека в селе даже не в седьмом-восьмом веках, а буквально в начале века двадцатого. Сколько информации входило в его сознание? Что он слышал, что он видел? Что он успевал впитать в себя нового? По сравнению с сегодняшним днем — ничтожное количество этих мегагигабайтов. Сегодня за одну неделю человек может получить информацию, равную той, которая раньше он получал за годы. Психика не безразмерна, она ломается. Люди сходят с ума натурально, просто они не лежат в больницах и не обследуются. На самом деле мы живем в больном мире и сами больны.
Исходя из условностей нашего информационного бытия, для духовного здоровья необходим «информационный» пост. Он сегодня гораздо более важен, нежели пост телесный. И вот об этом стоит подумать во время всякого поста. То есть меньше смотреть, меньше говорить, меньше вникать в ненужное, меньше слушать, меньше празднословить. Это сообщит душе большую степень целомудрия и здравости, нежели воздержание от молока, мяса и всего прочего. Пища сама по себе менее вредна, ибо пища для чрева и чрево для пищи, но и то и другое Бог упразднит.
Когда-то Марк Твен сказал, выступая в одной из школ Соединенных Штатов, мол, дорогие девочки и мальчики, был такой Мафусаил в Библии, один из потомков Адама, который жил 969 лет, так вот вы в ближайшие пять-шесть лет увидите больше, чем Мафусаил за всю свою жизнь. А было это дело еще до изобретения телевидения, а тем более интернета, тогда были только радио и газеты. Но это очень справедливые слова.
Поэтому, мальчики и девочки, желающие поститься, пожалуйста, затыкайте уши, и закрывайте глаза, и прикусывайте язык. И можете не сомневаться, что это полезней, чем даже если вы при этом котлетку съедите, (которую я не благословляю есть, чтобы вы не подумали часом, будто отец Андрей благословляет есть гамбургеры и ни с кем не разговаривать, — нет, я так не говорю и так не считаю). Я просто говорю вам, что если взвешивать на беспристрастных весах духовной Фемиды, у которой завязаны глаза и которая не знает, что взвешивает, то, конечно, молчание, хранение зрения и слуха полезнее даже в том случае, если вы будете кушать, например, хот-дог, особенно если вы студент и вам больше есть нечего.
И еще очень важно в течение Успенского поста ежедневно приносить какую-нибудь молитву Божией Матери: или самую простую «Богородице Дево, радуйся…» сколько-нибудь раз — двенадцать, тридцать или больше, или какой-то канон Ей читать, или акафист — например, тот единственный, который знала дониконовская Русь, ибо только он в полной мере прописан в Типиконе, — «Взбранной Воеводе победительная…» Это нормативный акафист, эталонный. Это «матрица» акафистов, по образу которой написаны все остальные. Он, по сути, уникален и неподражаем, он красив, правилен и глубок, он богословский, филигранно богословский, и сладкий как мед.
Приносите молитву Божией Матери и работайте над тем, чтобы перекрыть доступ в ваш внутренний мир лишним впечатлениям в виде слов, слухов, мысленных и зрительных образов. Таким образом доживите до Успения и скажите Божией Матери: «Радуйся, обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая».
Предметно-именной указатель
Август, Октавиан 272
Августин Блаженный, св. 50, 197
Авель 48
Авраам 16, 65, 87, 102, 225, 226, 272
Австралия 265
Адам 55, 85, 107, 108, 208–210, 272, 278
Адвент, См. также Пост Рождественский 270
Азия 104, 213
Амвросий Оптинский, прп. 141
Америка 17, 201, 265, 266
Андрей Критский, прп. 139
Андрей, Христа ради юродивый 239, 240, 242–244, 246
Анна, прав. 13–16, 35
Антоний (Блум), митр. 138
Антоний Великий, прп. 136
Апокалипсис 102–104, 106, 108, 211, 242
Апостолы
Андрей 213
Варфоломей 213
Иаков 13, 112, 115, 269
Иоанн 102–104, 112, 113, 115, 122, 178, 210, 211, 222, 235, 245
Лука 63, 74, 85, 86, 102, 112, 225, 230
Марк 102, 112, 230
Матфей 39, 102, 112, 212, 230
Павел 21, 30, 31, 37, 52, 54–56, 86, 102, 105, 114, 118, 124, 125, 138, 140, 158, 168, 179, 191, 195, 196, 199, 205, 209, 213, 219, 233–237, 241, 261, 270, 274–276
Петр 105, 112, 115, 124, 125, 127, 158, 178, 207, 211, 213, 219, 222, 233–237, 271, 274–276
Филипп 213, 235
Фома 127, 235
Афон 165
Афония 127
Африка
Северная 265
Южная 266
Бесы, бесовство 20, 31, 48, 49, 77, 267, 268
Библия, См. также Священное Писание 12, 94, 102, 103, 108, 142, 158, 168, 200, 261, 274, 278
Благовещение 85, 86, 88, 90, 91, 124, 221, 246
Благодарность 34, 45, 50, 59, 75, 80, 84, 148, 161, 166
Благодатный огонь 205
Благодать 27, 34, 43, 46–51, 63, 71, 77, 86, 87, 97, 109, 110, 113, 147, 155, 156, 163, 174, 181, 184, 185, 187, 188, 190, 193, 195, 198, 203, 221, 224, 236, 273
Блуд, См. также Похоть, Разврат 14, 20, 54, 160, 176, 231, 257
Бог, См. также Господь, Иисус Христос 6, 7, 12, 14, 16, 18–21, 24–27, 31–38, 41, 44–46, 50–55, 57, 59, 61, 63–74, 76–79, 81, 83, 85–94, 98, 99, 101–105, 107, 109–113, 115–122, 124–126, 128–131, 135–141, 143, 144, 146–149, 151–156, 158–180, 182–185, 188, 190, 191, 194–205, 207–209, 211–213, 215, 220–224, 226–228, 230, 233, 236, 242, 244, 245, 248, 251, 254–259, 261, 264, 268–271, 273–276, 278
Богатство, сребролюбие 15, 30, 90, 125, 129, 137, 157, 170, 201, 226, 232
Богородичная Пасха Успения, См. Успение Пресвятой Богородицы
Богоявление, См. Крещение Господне
Божия Матерь, См. Пресвятая Богородица
Болезнь, недуг 22, 53, 161, 170, 209, 276
Варавва 95
Введение во храм Пресвятой Богородицы 35, 36, 124, 246
Вениамин (Федченков), митр. 201
Вера 7, 20, 21, 23, 24, 26, 28–30, 33, 37, 43, 54, 55, 62, 65, 68, 74–79, 83, 84, 106, 107, 111, 115–117, 120, 135, 139, 146, 147, 151, 156, 160, 168, 177–180, 184, 188, 191, 195, 197, 198, 205, 206, 222, 226, 230, 271, 273
Вербное воскресенье, См. Вход Господень в Иерусалим
Вифлеем 56, 68, 84, 177, 270, 272
Влахерны 246
Воздвижение Креста Господня 17, 21
Вознесение Господне 43, 53, 55, 97–100, 174, 192, 199, 233
Вольтер 81
Воскресение Христово, См. также Пасха 18, 21–24, 33, 42, 43, 53, 81, 95, 97–99, 101–103, 119, 125, 164, 166, 168, 169, 173, 174, 183–185, 188, 190, 192, 199, 202,
Восток 180, 256
Враг, вражда 8, 20, 54, 55, 150, 152, 159, 167, 168, 188, 191, 207, 213, 231, 252, 253, 257, 261, 266
Второе Пришествие, См. также Страшный Суд 55, 83, 99, 100, 120
Вход Господень в Иерусалим 92–96
Гавриил, архангел 53, 85, 88–91, 127, 221
Галилея 23, 196
Гефсиманский сад 13, 53, 173, 174
Глупость 42, 68, 95, 136, 138, 214, 216, 226, 227, 241
Гоголь, Николай Васильевич 194
Голгофа 17, 20, 21, 25, 26, 33, 34, 42, 75, 81
Гордость, тщеславие 14, 23, 68, 81, 121, 142, 159, 163, 185, 212
Господь, См. также Бог, Иисус Христос 7, 12, 14, 21–27, 29, 31–34, 36, 53–56, 59, 61, 66–68, 70–72, 77, 80, 81, 83–87, 90–96, 98, 101, 103–106, 112, 115, 118, 119, 122, 124, 125, 130–132, 135, 136, 139, 145, 149, 153–156, 160–162, 166, 167, 170, 171, 173–176, 178, 180, 181, 183–185, 192, 194, 196–200, 202, 203, 206–210, 212–216, 220, 223, 224, 228, 236, 242, 243, 247, 248, 259, 260, 266, 267, 270–273
Грех 14, 21, 22, 34, 44, 45, 47–51, 56, 65, 66, 70, 75, 78, 85, 86, 107, 110, 111, 114, 119, 121, 135, 136, 141, 147, 159, 161–164, 168, 172–174, 186, 187, 188, 193–195, 203, 210, 211, 230, 234, 236, 257, 259
Греция 206, 265
Грузия 150
Давид 18, 36, 43, 76, 82, 89, 167, 188, 203–206, 209, 225, 240
Дальний Восток 154
Дамаск 102
Дева Мария, См. Пресвятая Богородица
Джелаль-ад-Дин 150, 151
Джойс, Джеймс 39
Диавол (дьявол), См. также Сатана 36, 64, 68, 184
Димитрий Ростовский, свт. 270
Добро 19, 37, 43, 52, 56, 78, 81, 83, 114, 129, 138, 148, 157, 164, 168, 194, 199, 237, 259
Добродетель 12, 56, 194, 195, 268
Дохиар 163
Дух Святой 23, 25, 31, 34, 46, 51–54, 61–67, 69, 71, 75, 77–81, 83, 84, 89, 101, 102, 109–111, 114, 115, 118, 126, 139, 140, 143, 146, 147, 165, 167, 168, 183, 196, 205, 212, 221, 227, 228, 233, 256
Ева 85–87, 129, 209, 210
Евангелие 23, 34, 42, 61, 62, 66, 71, 86, 92, 101, 105, 107, 126, 151, 157, 158, 190, 196, 236, 261, 277
от Луки 86, 112, 225, 230
от Марка 112, 230
от Матфея 39, 112, 212, 230
от Иоанна 246
Евгений Онегин 262, 263
Европа 94
Египет 25, 37, 51, 89, 200
Екклесиаст 15
Елена Константинопольская 17, 19, 20, 23, 26, 29
Елеонская гора 13, 95
Елисавета, прав. 64, 225, 226, 228
Енисей 70
Енох 55, 98, 121, 246
Епифаний 246
Ефес 105, 106
Ефрем Сирин, прп. 139, 140, 184
Завет
Ветхий 22, 27, 36, 51, 155, 213, 221, 224, 252, 272, 275
Новый 57, 73, 115, 118, 146, 147, 155, 224, 237, 272
Старый, См. Завет Ветхий
Зависть 159, 212, 226
Закхей 137
Запад 48
Заповеди 14, 37, 64, 111, 129, 135, 128, 160, 166, 167, 188, 194, 227, 259
Захария 88, 93, 225–227
Зло, злодеяния 20, 22, 37, 43–45, 68, 94, 96, 114, 128, 207, 209, 212, 226, 231, 252, 259
Зосима, прав. 163, 165
Идол, идолопоклонство 26, 141, 147, 153, 154, 186, 187
Иегова, См. также Яхве 33
Иерофей (Влахос), митр. 188
Иерусалим 17, 18, 20, 23–26, 28, 80, 92–97, 119, 120, 123, 174, 175, 178, 181, 195, 209, 211
Иерусалим Небесный 117, 122, 130, 211
Израиль 20, 51, 57, 66, 73–76, 80, 83, 93, 94, 119–121, 199, 203, 204, 272
Иисус Навин 223
Иисус Христос, См. также Бог, Господь 7, 11, 12, 18, 20–26, 28–34, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 48–56, 61–69, 71, 74–79, 81–84, 92–104, 107, 109, 112–121, 123–126, 129–132, 135–137, 139–141, 148–155, 162–164, 173–178, 180, 181, 183–185, 188, 191, 192, 196, 199–216, 220–225, 228, 233–237, 239, 240, 242, 244–246, 254, 256, 259, 260, 262, 264, 266, 267, 270, 271, 273, 277
Индия 25, 57, 201
Индокитай 152
Иоаким, прав. 13–16, 35
Иоанн Богослов, См. Апостолы: Иоанн
Иоанн Дамаскин, прп. 87, 90, 139
Иоанн Златоуст, свт. 166, 169, 183, 186–188, 195, 203, 215, 238
Иоанн Креститель (Предтеча) 12, 64, 82, 88, 90, 118, 120, 210, 219, 225–232
Иоанн Лествичник, прп. 37, 171
Иона Киевский, прп. 139
Иордан 42, 61–63, 66–70, 97, 109, 163, 225
Иосиф, прав. 41, 50, 51, 56, 60, 67, 177, 221, 272
Ирод 49, 50, 231, 232
Иродиада 231
Исав 227
Испания 213
Истина 34, 47, 62, 63, 119, 121, 148, 149, 153, 155, 156, 164, 222, 225, 235, 241, 244, 257
Италия 207
Иустин (Попович), прп. 230
Каин 48
Кана Галилейская 181, 245
Кирилл Иерусалимский, свт. 30, 62
Китай 18, 25
Книга
Апостол 234, 237
Бытия 108, 200, 259
Деяний святых апостолов 102, 274
Ионы пророка 212–214, 267
Царств 203
Колумб, Христофор 201
Комаров, Сергей 237, 238
Константин I Великий 17, 23, 104
Константинополь 239
Конфуций 135, 137, 138
Крещение Господне 42, 61–72
Кротость 191, 236
Кура, р. 150
Лазарь, прав. 92, 175, 180, 181
Латинская Америка 265
Ложь, обман 36, 53, 85, 89, 92, 106, 121, 147, 148, 173, 215, 228, 258, 261, 265, 266
Любовь 16, 22, 43, 50, 53–56, 59, 78, 95, 106, 107, 120, 126, 170, 171, 180, 181, 191, 231, 243, 252, 255, 265, 274
Макарий Великий, свт. 163
Мариам, См. Пресвятая Богородица
Мария Египетская, прп. 162–165
Мария Магдалина, св. 178
Марк Твен 278
Мафусаил 278
Мессия, См. также Иисус Христос 14, 30, 32, 52, 53, 62, 63, 68, 73, 75–77, 79, 82, 87, 94, 96, 97, 116, 119–121, 174, 225
Михаил, архангел 234, 243
Моисей 27, 31, 32, 65, 66, 82, 85–87, 89, 101, 112, 115–119, 122, 124, 137, 166–168, 200, 209, 222, 223
Молитва 13, 16, 19, 20, 21, 26, 36–38, 53, 63, 71–75, 79, 83, 84, 86, 88–90, 99, 102, 109–111, 119, 121, 127–129, 131, 132, 139–141, 143, 144, 150, 151, 157, 161, 163, 165, 166, 168–174, 176, 180, 181, 183, 186, 188, 190, 194, 195, 202, 203, 213, 215, 216, 224, 226–228, 230, 233, 239–248, 251–253, 255, 260, 261, 263, 266–269, 274, 276, 279
Мудрость 31, 32, 47, 54, 68, 92, 101, 120, 136, 137, 163, 167, 170, 171, 204, 235, 236, 269
Мухаммед 54
Назарет 35, 63, 84, 91
Наполеон Бонапарт 17, 94
Неаполь 190
Никодим, фарисей 102
Николай Чудотворец, свт. 247
Нил 70
Ниневия 213, 267
Новый Адам, См. также Иисус Христос 55, 130, 208, 272
Ноев ковчег 66, 110, 199
Ной 65, 66, 108, 109
Обида 114, 159, 160, 171, 216, 252
Обрезание Господне 220–224
Откровение, См. Апокалипсис
Палестина 29, 37, 43, 50, 116, 200
Память святых апостолов Петра и Павла 124, 219, 233–238
Пасха, См. также Воскресение Христово 7, 11, 72, 92, 97, 101, 112, 117, 131, 135, 166, 173, 174, 182–216, 264, 266, 273, 277
Печаль, грусть 44, 46, 48–51, 74, 76, 96, 136, 140, 141, 202, 226, 266
Петр I 17
Понтий Пилат 24, 31
Платонов (Климентов), Андрей Платонович 71
Покров Пресвятой Богородицы 219, 239–248
Пост
Великий 135–182, 264, 273, 276
Петров 233, 237, 273–276
Рождественский, См. также Адвент 39, 270, 276
Успенский 276–279
Похоть, См. также Блуд, Разврат 105, 135, 160, 170, 226
Празднословие 141–143, 278
Праздность 139, 141, 143, 256
Преображение Господне 69, 72, 112–122
Пресвятая Богородица 12, 13, 15, 16, 33, 54, 55, 59, 76, 85, 87–90, 98, 118, 123–132, 156, 176, 201, 203, 204, 239, 243, 246, 247, 279
Пророки
Иезекииль 167
Иеремия 76, 82, 167
Илия 32, 55, 62, 66, 85, 98, 99, 112, 115, 117–122, 225, 231, 246
Иона 208, 212–216, 267
Исаия 62, 76, 209, 214, 228
Михей 272
Протоевангелие Иакова 13
Псалтирь 36, 275
Пушкин, Александр Сергеевич 170, 202, 263
Пятикнижие, См. Завет Ветхий
Разврат, См. также Блуд, Похоть
Рим 213, 233, 270, 276
Рождество Пресвятой Богородицы 12–16
Рождество Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна 12, 225–229
Рождество Христово 11, 12, 39–60, 87, 88, 97, 112, 113, 117, 124, 127, 135, 177, 218, 220, 272, 276
Рувим 227
Савл, См. Апостолы: Павел
Самуил 82, 102, 225
Сарра 16
Сатана, См. также Диавол (дьявол) 121, 178
Святая Пятидесятница, См. Троица, праздник
Священное Писание, См. также Библия 12, 66, 88, 115, 146, 147, 157, 160, 163, 170, 183, 199, 215, 222, 237, 255, 260, 275,
Седьмой Вселенский Собор 147
Серафим Саровский, прп. 114, 128, 183, 242
Сергий Радонежский, прп. 114, 264
Сибирь 142
Симеон Богоприимец, прав. 73–77, 79–84
Смирение 14, 32–34, 52, 56, 63, 90, 100, 116, 120, 136, 138, 193–195, 209, 211, 214, 216, 226, 233, 236, 237, 245
Собор святого Петра 270
Совесть 142, 208, 269
Соломон 76, 129, 141, 170, 214, 260
Софийский собор (Киев) 19
Софийский собор (Константинополь) 19
Сретение Господне 73–84
Страдание 14, 16, 18–20, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 41, 46, 54, 55, 70, 76, 80, 81, 92, 96, 124, 128, 130, 135, 136, 149, 162, 173, 174, 175, 178, 209–211, 213, 214, 233–236, 271
Страшный Суд, См. также Второе Пришествие 55, 56, 97, 99, 100, 111, 115, 128, 130, 145, 237, 254
Тбилиси 150
Терпение 26, 30, 74, 105, 106, 148, 149, 170, 176, 188, 220, 231, 236
Торжество православия 145–149, 153, 156–160
Троица, праздник 101–111
Троица, Святая 63, 65, 67, 69, 109
Труд 29, 37, 71, 72, 105, 106, 110, 129, 135, 138, 140, 141, 149, 162, 165, 171, 172, 176, 184, 186, 188–195, 202, 207, 214, 240, 253, 254, 256, 258, 260, 269
Тургенев, Иван Сергеевич 39
Убийство 24, 25, 34, 49–51, 64, 181, 182, 204, 230, 231
Унижение 30, 159, 162, 175, 209, 241
Уныние 34, 138–143, 186, 252, 258
Усекновение главы Иоанна Предтечи 219, 230–232
Успение Пресвятой Богородицы 123–132
Фавор 32, 69, 112–114, 118, 119, 122, 209
Феофан Затворник, свт. 238
Фиваида 98
Филарет Московский, свт. 168, 171, 173
Филипп, брат Ирода 231
Французская буржуазная революция 17
Хава, См. Ева
Храм
Венеры 20, 26
Влахернский 239
Гроба Господня 205
Иерусалимский 35, 36, 35, 77, 79, 80, 87, 164
Христа Спасителя 19
Честертон, Гилберт Кит 138
Чудо 15, 24, 27, 30, 35, 40, 43, 58, 60, 69, 78, 81, 90, 93, 97, 102, 105, 106, 113, 122, 123, 177, 178, 181, 190, 214, 216, 222, 223, 227, 228, 239, 243, 244, 247
Чудо Архистратига Михаила в Хонех 243
Эгоизм 177, 252, 257
Элия Капитолина, См. Иерусалим
Януарий, сщмч. 190
Япония 151, 152, 265
Яхве, См. также Иегова 33
Примечания
1
В константинопольском храме, освященном в честь Софии Премудрости Божией и захваченном мусульманами после взятия ими Константинополя.
(обратно)2
После подписания Брестской унии в 1596 году киевский собор святой Софии находился во власти униатов до 1633 года.
(обратно)3
На месте уничтоженного храма до 1994 года находился бассейн «Москва».
(обратно)4
См. Слово на Воздвижение Креста Господня св. Андрея Критского.
(обратно)5
Из воскресного песнопения по Евангелии «Воскресение Христово видевше».
(обратно)6
Дориносимый — сопровождаемый почетной стражей копьеносцев (от др. — греч. «δορυ» — «копье») (Прим. ред.).
(обратно)7
Период празднования Рождества и Нового года (в западных странах с 25 декабря по 1 января).
(обратно)8
Предсмертный возглас Спасителя с Креста, который означает: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).
(обратно)9
Цитата из богослужебного гимна «Воскресение Христово видевше».
(обратно)10
День накануне Рождества — 24 декабря (6 января по новому стилю).
(обратно)11
Праздничный период с 25 декабря по 5 января (7–18 января по новому стилю).
(обратно)12
Ирмос 9-й песни Рождественского канона.
(обратно)13
Автор намекает на типичное окончание слов, определяющих мировоззрение: атеизм, неоплатонизм и т. п.
(обратно)14
Свт. Кирилл Иерусалимский. Огласительное поучение третье.
(обратно)15
Кондак на праздник Богоявления.
(обратно)16
Автор адресует свой укор «обрядоверам» — тем, кто пришел за крещенской водой как потребитель, не вникая в суть празднования Богоявления (Прим. ред.).
(обратно)17
«Ибо Ты, Бог наш, водою и Духом обновил обветшавшее от греха естество наше. Ты, Бог наш, водою потопил при Ное грех. Ты, Бог наш, морем освободил от рабства фараону чрез Моисея род еврейский. Ты, Бог наш, расторг скалу в пустыне, и потекли воды, и потоки переполнились, и жаждущих людей Твоих Ты насытил. Ты, Бог наш, водою и огнем избавил чрез Илию Израиль от обольщения Ваалом» (Из молитвословия на великой вечерне службы празднику святого Богоявления).
(обратно)18
Пророку и Боговидцу Моисею приписывают авторство библейской книги Бытие.
(обратно)19
Рассказ о Благовещении изложен в первой главе Евангелия от Луки.
(обратно)20
Автор имеет в виду Синайское законодательство, данное через пророка Моисея.
(обратно)21
На древе познания добра и зла (Прим. ред.).
(обратно)22
Из кондака на праздник Вознесения.
(обратно)23
Цитата из тропаря на праздник Крещения Господня 6/19 января.
(обратно)24
Автор имеет в виду следующие слова молитвы Святому Духу: «И очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».
(обратно)25
Цитата из молитвы «Символ веры», составленной святыми отцами на Вселенских Соборах и отображающей суть веры православного христианства.
(обратно)26
Там же.
(обратно)27
Цитаты из богослужебных текстов.
(обратно)28
См. Лк. 2:2–10.
(обратно)29
Молитва святого Ефрема Сирина читается за богослужением только в будние дни Св. Четыредесятницы (Великого поста).
(обратно)30
В соответствии с русским синодальным переводом.
(обратно)31
Русский писатель советского периода Андрей Платонов (1899–1951). «Чевенгур» — его социально-философский роман, написан в конце 20-х годов XX века.
(обратно)32
Так православные богословы называют иконы в своих работах (см. например: Л. Успенский. Богословие иконы. Вступление).
(обратно)33
Эту поговорку, по свидетельству очевидцев, употреблял свт. Лука Крымский.
(обратно)34
Прп. Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 18.
(обратно)35
См. молитву свт. Иоанна Златоуста из вечернего молитвенного правила.
(обратно)36
Прп. Ефрем Сирин. Слово 58-е в славянском переводе.
(обратно)37
Свт. Иоанн Златоуст. Слово огласительное на Пасху.
(обратно)38
Там же.
(обратно)39
Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на послание к Римлянам. Беседа третья.
(обратно)40
Свт. Иоанн Златоуст. Слово огласительное на Пасху.
(обратно)41
Автор пересказывает цитату из проповеди на Пасху из книги «Господские праздники» митр. Иерофея (Влахоса): «Насколько мы замыкаемся в относительности и не входим в абсолютность этого “никто”, настолько и рыдаем, отчаиваемся и боимся».
(обратно)42
А. С. Пушкин. Евгений Онегин.
(обратно)43
Ипакои на утрене 29 июня/12 июля, в день памяти свв. апп. Петра и Павла.
(обратно)44
Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе (1 Кор 15:41).
(обратно)
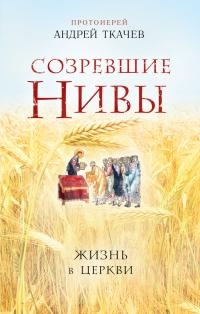

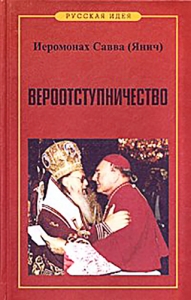
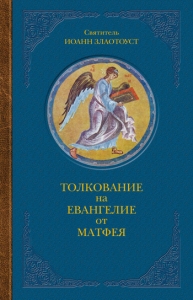
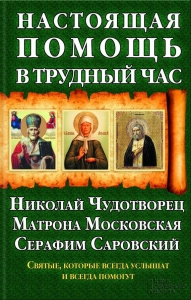
Комментарии к книге «Созревшие нивы. Жизнь в Церкви», Андрей Юрьевич Ткачев
Всего 0 комментариев