Алексей Бакулин КНИГА ВСТРЕЧ
ВСТУПЛЕНИЕ
Я сотрудник православной газеты. Православный журналист.
И надо сказать, что сколько веков существует христианство, столько обходилось оно без журналистов и журналистики. И ничего: вполне успешно обходилось.
Что же такое случилось с человечеством, что в ХХ веке, а пуще того в XXI журналистика стала необходима Церкви, как воздух? (А это так, — можете поверить моему опыту).
Вопрос, как говорится, неоднозначный. И я не стану на него отвечать. Просто потому, что для обстоятельного, вразумительного ответа потребуется ещё одна книга. Скажу только: да, с человечеством что-то происходит; человечество ныне отрывается от собственного прошлого, как космический корабль от земли. Или, может быть, как цветок от родной клумбы: ещё поживёт какое-то время в вазе на столе, а потом… Впрочем, и космический корабль не сможет бесконечно бороздить, так сказать, просторы вселенной; настанет момент, когда придётся или вернуться домой, или погибнуть.
…Да, но я говорил о православной журналистике. Фокус тут заключается в том, что никаких наработок на сей предмет в природе не существует: мы с коллегами идём непроторенными тропами, — как первопроходцы. Или, может быть, тычемся по углам, беспомощно, как слепые щенята. Так тоже можно сказать.
Особенность церковной жизни заключается в том, что новости в ней могут быть только плохие. Если жизнь на приходе, в благочинии, в епархии организована разумно, грамотно, так, как это требуется, — то новостей в ней случаться не должно. Пришла весна — справляй Пасху, пришла зима — празднуй Рождество, — и так снова, и снова, и снова. Для новостей места нет.
Как быть журналисту? Описывать в тысячный раз как владыка освятил очередной храм? Публиковать проповеди к Двунадесятым праздникам?
Право, я не знаю, как ответить на эти вопросы.
Я предлагаю вашему вниманию эту книгу — не как обобщение своего опыта, — упаси Боже!.. — и не как хрестоматию по православной журналистике.
Вообще, предлагаю вам отнестись к ней именно как к книге, а не как к сборнику интервью. Тем более, что тут не только интервью собраны. Тем более, что многие удачные, мне лично весьма дорогие беседы сюда не вошли.
Отнеситесь к этому тексту, как к дневнику.
Более десяти лет я бродил по Православной России — очень примечательная страна, надо вам сказать… Кто судит о ней только по телерепортажам из больших столичных соборов, по книгам, по случайно услышанным проповедям, — тот вряд ли понимает её. Вот книга путевых записок человека, который забрёл в эти края из тех мест, откуда и вы сами родом: из советского детства и юности, из кошмарных 90-х, из университета, из бизнеса, из… До вечера можно перечислять.
И вот я брожу по этой стране, и пока не испытываю желания возвращаться обратно. Более того: мне бы очень не хотелось вернуться. Отнюдь не хочу назвать эту страну раем земным — это было бы непростительным преувеличением. Но я не пишу о том, что мне не нравится. Это отдельный разговор. Здесь я пишу именно о том, что мне нравится, о том, что меня греет и питает. О том, что меня здесь удерживает.
……………………………………………
ПОХВАЛА ИНТЕРВЬЮ
(необходимые пояснения)
Слово «интервью» мне очень не нравится: совершенно не обтесавшееся в русском языке слово, ломающее речь, как запечённый в мягком каравае камешек ломает зубы. А производные от него!.. «Интервьюер» — это уже не камешек, а приличный булыжник; «интервьюируемый» — произноси, кому зубов не жалко!.. Я бы премию дал тому, кто найдёт слову «интервью» приличную русскую замену. Это не так просто: «беседа» не подходит — в беседе обе стороны равны, а в интервью есть своя иерархия; «разговор» — слишком неопределённо; я сочинил было «вопрошание», но это нелепо и выспренне. Словом, знатоки языка, вперёд!..
Да, слово «интервью» мне не по сердцу, но вот сам жанр…
Есть такой анекдот: «Писать пьесы просто. Слева пишешь, кто говорит, справа — что говорит». Так и с интервью: сначала пишешь вопрос, потом пишешь ответ — дело нехитрое. Однако…
Приходилось ли вам замечать, что слова в разговоре играют не самую важную роль? Задайте человеку простой вопрос, допустим: «Вы уже пообедали?» — и получите простой ответ: «Да, пообедал». Тысяча человек скажут эти два слова, и каждый вложит в них свой, понятный собеседнику, смысл. «Да… (насмешливо хмыкнул) пообедал…» — и вам ясно, что обед был не слишком хорош; «Да! (сияет, довольный) Пообедал!» — этот вполне удовлетворён трапезой. «Да (не отрывает головы от бумаг), пообедал…» — этот весь в делах, даже не заметил, что и ел… И это простой вопрос! А если спросить о чём-то более замысловатом?
И вы говорите, что достаточно записать на диктофон ответ собеседника, а потом расшифровать его слово в слово? Да ничего подобного! Приходится словесно передавать всё, что было сказано глазами, жестами, улыбкой, движением бровей, паузой, замедлением речи, нарочитой скороговоркой, умышленной невнятностью и так далее, и так далее, и так далее — все эти трудноуловимые оттенки, всё, о чём говорится «это к делу не пришьёшь!» — всё приходится старательно пришивать к делу, искать всему точное речевое соответствие, намертво закреплять на бумаге.
А такая вещь, как обаяние собеседника! Или, напротив, — неприязнь к нему… Этого-то уж точно не передашь простой расшифровкой диктофонной записи.
Нет, работа с расшифрованным текстом — это работа тонкая, творческая, интересная.
Но вообще-то прежде чем расшифровать запись, надо её получить! Надо, чтобы собеседник заговорил с тобой, надо, чтобы он начал отвечать на твои вопросы. Зачастую бывает: ты спрашиваешь человека о бузине в огороде, а он тебе рассказывает о дядьке в Киеве — просто потому, что дядька ему ближе, понятнее, а про бузину говорить скучно… С кем-то нужно показать себя полным неучем: тогда он начнёт говорить с тобой понятным, человеческим языком и объяснять всё подробно, развёрнуто. Кому-то нужно дать понять, что, мол, тема-то и без него известна, но хотелось бы увидеть какой-то новый поворот, необычный подход… Хорошо обращаться к собеседнику с вопросом умным, глубоко продуманным, серьёзным… Но иногда и простейшее «что-что?» поворачивает разговор на сто восемьдесят градусов. Спросишь у человека: «Как вы сказали?..» или — «Правда?..» или «Вы так думаете?» — и человек прерывает гладкий поток привычных, затверженных фраз и начинает задумываться: «А вправду ли я так считаю? А может быть, надо выразиться иначе?»
Впрочем, всё это кухня, как сейчас говорят, «наши проблемы», вам это, может быть, и неинтересно. Главное-то в другом.
Вам никогда не приходило в голову, что интервью — жанр очень православный по своему духу? А это так. Вопрошающий всегда смиряется перед собеседником, признаёт его более сведущим, более мудрым. И, поскольку читатель интервью невольно отождествляет себя с журналистом, то и он, в свою очередь, становится смиренно вопрошающим, ждущим ответа.
В прежние времена Закон Божий изучали по Катехизису. А что такое Катехизис, как не большое интервью? Вопрос-ответ, вопрос-ответ… «Каковы ипостаси Пресвятой Троицы?» — «Они суть таковы…»; «Иисус Христос — Бог или человек?» — «Совершенный Бог и совершенный Человек»… Длинное, длинное интервью…
А каковы два самых замечательных интервью в истории Православной Церкви? Не знаете? Кто-то, возможно, вспомнит Книгу Иова — и будет отчасти прав, но только отчасти… Я-то имею в виду, во-первых, книгу «Бесед» святителя Григория Двоеслова: вот интервью в чистом виде, без малейшей натяжки. Старец беседует с молодым монахом, разговор течёт живой, не вымученный; молодой монах задаёт вопросы дельные, логично вытекающие один из другого; старец отвечает дружелюбно, красочно… Отличное интервью, хотя и растянутое на целый томик. Кстати, и прозвище своё Григорий Двоеслов получил оттого, что в его книге два собеседника — вопрошающий и отвечающий.
И второе интервью, намного более краткое, но по значению своему намного более важное, чем книга свт. Григория Двоеслова. Я говорю о беседе Николая Мотовилова со св. прп. Серафимом Саровским. Беседа о цели жизни христианской, о стяжании Духа Святого. Вот величайшее интервью в истории Русской Церкви — бездна премудрости, луч света для всех нас, христиан последних времён. Слава за него преподобному старцу, но какими словами отблагодарить и смиренного Мотовилова: что ни говори, а он вопрошал, он записал, он принёс нам этот дар! Вот образец для всех нас, православных журналистов, вот о ком мы должны молиться денно и нощно: об упокоении души раба Божия Николая, чтобы он, соединив свои молитвы с молитвами прп. Серафима, вымолил для нас просвещение ума и сердца!
Кто-то может сказать: мало быть Мотовиловым, надо, чтобы собеседник у тебя был Серафимом Саровским!..
Ну, это уж как Бог даст. Будем заботиться о своём деле, а там… Порою и ребёнок скажет такую премудрость, что не снилась десяти старцам!
ЧАСТЬ I. В СЕНИ СМЕРТНОЙ
Начну, пожалуй, с неё, с Натальи. Я её не скоро забуду. Она мне — как укор, как вечное напоминание… Мало ли приходилось видеть людей, о которых спокойно, без обиды, как само собой разумеющееся, думаешь: «Да, этот выше меня. Мне до него тянуться и тянуться»… Примерно то же самое я думал и глядя на Наталью, — но её-то превосходство признать было не просто, не безболезненно. Да, да, я бы наверное, — я бы конечно, так не смог, — но как же так?!. Почему?!.
1. БЛАГОРАЗУМНАЯ РАЗБОЙНИЦА НАТАЛЬЯ
В районном городе — не скажу, в каком, в храме — названия его я вам не сообщу, — работает свечницей женщина по фамилии… Но зачем вам знать её фамилию? Зовут её Натальей, а лет ей… Да разве в годах дело? Дело совсем в другом.
Настоятель храма и матушка его строго-настрого мне наказали:
— Вы только не забудьте с Натальей нашей поговорить! Это человек удивительный!..
Хорошо, поговорю.
— Простите, вы — Наталья? Можно с вами побеседовать?
— Пожалуйста, у меня есть свободный час.
И вот сидит передо мной удивительный человек Наталья и начинает говорить, и с первых же слов я начинаю понимать: да, тут есть чему удивиться.
— У меня всё было как у людей. Школа, учёба, летом — спортивные лагеря. Занималась художественной гимнастикой, лыжами. Походы, ночёвки у костра. В городе — любимый двор, друзья. Закончила школу — средний балл четыре с половиной. С таким баллом меня в медицинское училище взяли без экзаменов. А потом… Потом немножко не сложилось… В тюрьму я села. Это был 1985 год, перед перестройкой, — ужесточение порядков… И несмотря на то что было мне всего-то семнадцать, мне дали шесть лет.
— А за что?
Наталья секунду молчит, смотрит на меня, потом твёрдо отвечает:
— За разбой.
Наталья вообще говорит твёрдо, и хоть женщина она на вид достаточно хрупкая, сила в ней чувствуется большая…
Ещё одна секундная пауза…
— Я себя ни в чём не оправдываю. Хотя можно было бы принять во внимание и молодость… Да и смягчающих обстоятельств было немало. Можно было бы и не ломать людям жизнь… Ну, теперь уж что?.. На суде услышать про шесть лет срока было страшно, думалось: шесть лет — это же целая жизнь, потом уже и не останется ничего! Но я вам не скажу, что годы заключения были для меня такими уж тяжёлыми. Нет. Отсидела своё и вышла.
Не нужно быть великим психологом, чтобы догадаться: да, Наталья и вправду сидела. Сама поза, в которой она сейчас расположилась передо мной — вся оттуда; движения рук, излом бровей, улыбка, тон… Не сотрёшь. И очень верится в то, что она и в тюрьме не потерялась. Сила в человеке дышит, — нешуточная душевная сила, которую, впрочем, можно легко направить как в одну, так и в иную сторону… Хотя о физической силе речь, как будто не идёт совсем: с виду Наталья — женщина скорее хрупкая, даже болезненная. Не красивая — скажу и так. Да более того: её внешность можно бы назвать прямо отталкивающей, — если бы не сила в глазах, — и если бы не уверенность, что она свою силу обуздала, возобладала над ней, направила по доброму пути…
— Отсидела я, — продолжает Наталья, вышла… И оказалась в другом мире. Вы представляете, да? 85-й и 91-й: другая эпоха, другие люди, другая жизнь. А я вся из того, из советского времени, в котором, между прочим, мне жилось хорошо, к которому я никаких особых претензий не имела. И в новом времени я себя найти не могла — вот что плохо. И началось. В тюрьме держалась, а тут… Наркотиками увлеклась. Да, увлеклась…
Рассказ Натальи не похож на исповедь, да и что ей передо мной каяться? Она в Церкви не первый год и школу покаяния проходит долго. И она не жалуется ни на что. Она просто ещё раз вглядывается в своё прошлое и ещё раз судит его — по всей строгости, без снисхождения.
— …Но переламывала себя сама. Как я это делала? Мне помогло то, что цены как раз поднялись, и наркотики стали для меня дороговаты. И я подумала: если продолжать, то где деньги брать? Нужно будет опять сделать известный шаг — и опять сесть… Нет, это не подходит. И я оставила у знакомых всё оставшееся зелье, и сказала: «Если в течение двух недель не вернусь за ним, значит, не вернусь вообще». Взяла рюкзак, палатку, поехала в лес, на озеро, подальше от людей… И с той поры с наркотиками я не знаюсь. Человек должен сам решить, надо ему что-то или не надо. Это в наших силах — принять такое решение, Бог не настолько бессильными нас сотворил.
Ну хорошо, завязала… Но дух-то, душа-то!.. Их-то мы своими силами не пропитаем!.. Ушли наркотики — а что осталось? Пустота. Пустота ужасная! И вот одно заменяется другим, подобным. Стала пить. И пять лет пила, и очень сильно пила. И выходить из этого не хотела. А зачем? Переехала из Питера сюда, к маме, но и тут жизнь свою не поменяла.
И вдруг заболела. Сильно заболела: двустороннее воспаление лёгких. О том, что я выживу, врачи и разговора не вели. Всё, конец. И тогда, лёжа на больничной койке, я решила для себя: если Бог даст мне выкарабкаться, то я найду в себе силы, чтобы изменить жизнь. Через месяц поправилась. С тех пор со спиртным всё кончено.
— Вот вы про Бога-то сказали… А вы уже верили тогда?
— Да как верила? Признавала, что Бог есть, — вот и вся вера. В детстве, помню, идёшь с дедушкой в лес и говоришь про себя: «Господи, пошли мне грибочек!» И находишь сразу. И думаешь: это мне «Господи» его посадил! Это «Господи» его для меня вырастил! Но с тех пор — и до болезни моей — вера эта не продвинулась ни на шаг. А когда стоишь на пороге смерти, когда физически чувствуешь: всё! приехали! — и после этого выходишь из больницы здоровой, то ты не сможешь не понять: помогли тебе не люди, помог тебе Кто-то Высший, и ты уже никогда не обманешь Его.
Я вышла из больницы с диагнозом «туберкулёз» — а через год мне его сняли. Но вскоре я опять заболела — только теперь было уже по онкологической части… А мама моя при церкви тогда помогала… И надо вам сказать: батюшка с матушкой меня не оставили, возили на своей машине по всем врачам. А я едва шевелилась тогда. И когда я в очередной раз вернулась к жизни, то попросилась у батюшки поработать в церкви. У нас же, знаете, храм в ту пору был не каждый день открыт; люди приходят — а двери на засове. И я предложила: пусть он не закрывается, а я в нём буду дежурить.
— Значит, в ту пору уже потянуло душу к церкви?
— Да нет, всё не так просто. Это больше от благодарности к батюшке. Я когда зашла в храм, увидела эти ряды икон и подумала: «Эх ты, сколько же разных святых! Нет, мне их никогда не запомнить! Не буду и стараться…» Бабушки-прихожанки, стали, естественно, меня учить, а я им отвечала: «Не надо меня дёргать. Это вы сюда приходите молиться, — вот и молитесь. А я прихожу работать». Но постепенно, очень постепенно… Во-первых, приходят люди с вопросами, и нельзя сидеть полной дурой, надо что-то и ответить им. Стала почитывать литературу. Библию четыре раза начинала читать — всё без толку. Батюшка мне говорит: «А ты Закон Божий возьми!» Открыла — и так меня захватило!
Но душа-то у всех у нас упрямая. Читаю про Заповеди Божии и думаю: «Прекрасные правила жизни! Очень верные, очень мудрые! Но что получится, если все начнут им следовать? Это что же — весь мир под одну гребёнку?! Какая-то безликая масса праведников? Нет, мне это не нравится!» И нескоро, очень нескоро мне разъяснили, как я была неправа…
— Вы, Наталья, свою жизнь считаете тяжёлой?
— А как сказано в святоотеческих книгах? — Господь не даёт крест тяжелее, чем ты сможешь понести. И чем сильнее человек, тем больше ему даётся… И я вам даже так скажу: чем сильнее человек, тем больше у него грехов. Больше! Потому что чем слабее человек, тем он бездейственнее. А тот, кто действует, тот больше ошибается и больше грешит. И соответственно, ему и искушений больше достаётся: если ты сумел какую-то черту переступить, то сумей и с бедой справиться, сумей боль выдержать. И что значит: «не везёт»? А может быть, мы не хотим, чтобы нам везло? Иногда хочется сказать кое-кому: ребята, да вы сами притягиваете к себе все неприятности!
— Бывает такое, верно… Но, мне кажется, бывает и наоборот: беда сваливается безо всякой причины…
— Нет, для всякого действия нужен толчок. Просто мы невнимательны к своим поступкам. Жёны на мужей жалуются: вот, дескать, запил. А вы открутите свою семейную историю на несколько лет назад… Незначительная ссора, ваша грубая фраза — вы её не заметили (свои-то грехи всегда незначительны и простительны!), а мужу ваша грубость так занозила душу, что он пошёл, взял бутылку — и ему стало легче. Стало легче раз, стало легче два, а потом… На ровном месте никто не споткнётся. И если понять это, то никогда никого не будешь винить в своих неприятностях. Однажды я поехала в город, и там у меня украли фотоаппарат. Я не стала винить людей, просто сказала: «Молодцы ребята! Так ротозеев и надо учить!» Надо уметь обходиться минимумом вещей.
— Ну, это философия не для сегодняшнего дня… Отовсюду кричат: тебе нужно то, тебе нужно это! Надо иметь, надо иметь, надо иметь! А если ты не имеешь, значит, ты вообще никуда не годный человек!
— Люди всегда и везде очень завистливы. Но что толку терзаться своей неустроенностью? В конечном счёте мы просто унизим себя. Может быть, лучше оставаться самим собой? У нас не такая большая зарплата, но зато мы свободны, мы прекрасно знаем: даже если останемся без работы — уж на такую-то зарплату мы место найдём всегда! Бывает, сидишь и думаешь: у кого-то весь дом мебелью заставлен… А у меня только кресло, диван и телевизионная тумбочка. Но, друзья мои, — это же всё, что мне нужно! Да, ещё телевизор: я позволила себе подключить спутниковое телевидение, чтобы иметь больше информации. Для чего мне пять машин, если я за одну не сяду никогда? Единственное, чего у меня много, так это животных.
— Кошки?
Глянула на меня не без тайной насмешки:
— Нет, собачки. Я собак люблю, а не кошек. А ещё я научилась всё делать сама: ремонтировать дом, чинить электричество. Мне не надо кого-то нанимать. Потом, я никогда не чуралась никакой подработки. Я не ворую у соседа по бревну, чтобы топить свою печку. Я лучше к тому же соседу пойду и поработаю день на грядках — ничего страшного. У меня свой домик, свой участочек; я вышла и чувствую: это моё, это кусочек моей земли. Зимой выходишь на работу: настроение порой неважное, а смотришь — деревья стоят все в инее… Так здорово, так красиво! И сразу на душе легко! Природа лечит, природа прекрасно всё лечит… Я зимой вижу чистый белый снег, а вы в Питере что видите у себя под ногами? Помню, в первый раз после большого перерыва приехала в город… Зашла в метро, жду поезда… Поезд пришёл — и все как ненормальные ринулись к дверям, а я как стояла, так и осталась стоять. Не протиснулась! Вот оно что: здесь протискиваться надо! Вот закон городской жизни: беги и протискивайся! Нет, это не моё. А что моё? Вот, смотрите: мой городок, мой храм, мой дом, моя душа. Всё при мне. И мой Бог на небесах. Уж какие мы ни есть: сильные, слабые, грешные, праведные, а Он — наш Бог. Что суетиться? Он везде с нами: и в беде, и в нищете — везде он нас ведёт. Идите за Ним, и всё будет хорошо.
* * *
Вот такая в общих чертах получилась беседа… Я слушал Наталью и думал: «Даже и не мечтай! Пройти тюрьму, наркотики, водку, затем смертельную болезнь, одиночество, — и найти в себе силы из всего этого вырулить к свету? — Даже не мечтай: ты бы и четверти этого пути не одолел. Почему же эта маленькая, болезненная, неладно скроенная и небрежно сшитая — смогла?..»
И тогда вторая встреча пусть строится на контрасте: пусть теперь будет человек слабый, очень слабый…
2. ПОБЕДИТЕЛЬ ЗАБИРАЕТ ВСЁ
Знал я людей, которые после трагедии в Беслане молились о том, чтобы Господь послал Чечне конец Содома и Гоморры, — стер бы с лица земли весь этот народ, вместе со стариками и малыми детьми. Люди молились так, прекрасно сознавая, как опасна подобная молитва, как легко тут перейти определенную границу… Но не было больше сил со связанными руками наблюдать избиение, хотелось хоть молитвой внести свою лепту в эту неравную битву. Никого уже не обманывали слова о том, что есть плохие чеченцы, а есть и хорошие (где они? почему первые не бросились на своих подонков? почему сами не остановили их?). Давно отброшены были мечты о примирении: бандиты, оставшиеся безнаказанными, наглели все больше и больше. Люди рассуждали так: если нам не дают защитить себя, пусть Господь Сам обрушит Свой гнев на негодяев. Но видно, не пришло еще время…
Я знал людей, которые молились о гибели Чечни, и меня их молитвы не удивляли. Удивиться пришлось позже, услышав из уст петербургской девушки такие слова:
— Все началось с того, что мне в руки попала газета с портретом Шамиля Басаева. Это было в дни Беслана. Я посмотрела на портрет и… Какое-то такое чувство возникло… даже не знаю, как его назвать. Знаете, когда школьнице нравится какой-нибудь мальчик, первое желание у нее бывает — посмеяться над ним, подразнить, поднять на смех… Вот и мне захотелось сказать ему что-нибудь вроде: «Эй ты, герой!..» Потом я отложила в сторону газету и забыла об этом желании. А потом оно вернулась. И я уже сознательно стала искать портреты Шамиля и любоваться им, отыскивать публикации о нем. Все мысли были только о нем. Я и батюшке об этом говорила на исповеди. Он мне велел все портреты выбросить, но я вообще-то их и не хранила.
— Ольга, — обращаюсь я к 25-летней петербурженке (высшее образование, хорошая работа, внешние данные не дают повода для комплекса неполноценности, прихожанка одного из питерских православных храмов, живет с родителями, надеется поступить в аспирантуру), — Ольга, а может, эти симпатии объясняются очень просто: может быть, у вас в роду были чеченцы или другие какие кавказцы? Хотя, если судить по внешности, это глупое предположение.
— Нет, не было у меня в роду никаких чеченцев. Батюшка на исповеди мне сказал: «Это у вас культ силы!» Ну, тут мне возразить нечего… Правда, есть такой культ. Я с детства чувствовала в себе готовность к подчинению силе. Даже преклонение перед силой. Если попытаться анализировать, то, может быть, это такой протест против реального давления? Я говорила: «Такому-то человеку я согласна подчинить себя, но не вам!» И потом, я не чувствую себя защищенной, а женщина всегда тянется к сильному. Конечно, эта сила может оказаться направленной против нас же самих, но об этом ведь не думаешь…
— Вот именно, против самих же беззащитных. Вы не замечали, что самые громкие чеченские «подвиги» — Буденновск, Беслан, «Норд-Ост» и т. д. — это война против тех, кто заведомо не может дать отпор. Неужели это может привлекать?
— Видимо, может… Потом, мне жалко было этого Шамиля: конечно, он погубил столько людей, но ведь он же и сам себя погубил! Хотелось поговорить с ним, объяснить ему, в чем он не прав… Ведь он мог бы стать нормальным человеком… Вы знаете, я, и читая книги, всегда становлюсь на сторону отрицательных героев. В «Трех мушкетерах» мой любимый персонаж — Миледи. Я для себя придумывала, что когда-то это была прекрасная девушка, настоящий ангел, но потом тяжелые обстоятельства вынудили ее стать тем, кем она стала… И мне хотелось, чтобы Дюма придумал другой конец этой истории, чтобы Миледи исправилась и вернулась к Атосу… А Шамиль Басаев мне всегда казался Арагорном из «Властелина Колец». Арагорн — мой любимый герой, он для меня долгое время был каким-то идеалом. Критерий был поступков один: Арагорн бы так не поступил.
— Арагорн — это в книжке. А в реальной жизни вы были знакомы хоть с одним чеченцем?
— Нет, никогда. Но я общаюсь с ними по интернету.
— И каково впечатление?
— Честно говоря, безтолковые абсолютно. Учат меня жить, зарабатывать большие деньги: «Почему ты работаешь за копейки? Ты молодая, ты должна делать карьеру». Я одному подыграла: «Ты же мусульманин, у вас духовное должно стоять выше материального!» И знаете, что он мне ответил? — «Зачем мне понадобится душа, если я буду умирать от голода?!» Вот в таком ключе. Но тут, видимо, дело в том, что через интернет общаются не самые умные люди. Некоторые говорят, что они, мол, не против русских. Один сказал: «Было здесь много нечисти — русские помогли нам от нее избавиться». Другой заявил, что очень много прекрасных людей погибло и с той и с другой стороны. Но это все отдельные случаи, а в остальном… Я была удивлена. Наверное, я ошибалась, но мне казалось, что не очень цивилизованные люди должны быть более безкорыстными, что ли…
— И эти интернет-общения вас не разочаровали?
— Но поймите, сейчас у меня увлечение Басаевым практически прошло… Оно было, и я понимала, что это не вполне хорошо, и боялась этого своего состояния, но теперь его нет, а осталось только увлечение исламом…
— Исламом?
— Да. Раньше такого интереса у меня не было, раньше я его вообще не воспринимала, как что-то реальное. Православие — вот что было для меня единственной реальностью, а ислам — это как будто что-то искусственное. Но тут он мне сразу ближе стал, что ли… Видимо, в нем действительно есть что-то притягательное, какое-то очарование… Что-то в нем есть! Я бы сказала, что это ложная религия, но немного побаиваюсь этого слова, ведь очень многие люди его исповедуют — что же, они все ошибаются? Хотя в том же интернете один немолодой уже человек даже предостерег меня: «Берегись! Будешь так интересоваться, станешь мусульманкой!» Я удивилась: «Зачем вы меня предостерегаете? Вы же мусульманин, вы должны быть заинтересованы в моем обращении!» Он ответил: «Потому что надо сделать такой шаг осознанно, как подвиг!» Но я вообще-то никогда и не хотела переходить в ислам. Просто мыслей таких не было.
— Вы читали Коран?
— Нет. Честно говоря, у меня просто не хватает терпения, чтобы засесть за такую книгу. Но если говорить без глупостей, то к представителям ислама я отношусь хорошо, а их религия для меня никакой роли не играет.
— А вы знаете, что чеченцы заметно отличаются от прочих мусульманских народов? Мне это хорошо известно по армейским годам: у нас служило много кавказцев и среднеазиатов — чеченцы на их фоне выделялись разительно, не столько внешностью, сколько манерой держать себя, выражением лица, духом. Я служил задолго до чеченской войны и никакого предубеждения к ним иметь не мог, но, поверьте, уже тогда все видели какое-то темное облако вокруг них, какую-то нехорошую печать на их лицах…
— Да, мне так и сказал один мой интернет-собеседник: «Нам ни в какой толпе не затеряться, нас везде узнают!» Но, может быть, это-то в них и нравится… И сама их жестокость притягивает к ним многих — и меня в том числе.
— То есть вы поддались темному обаянию?
— Да, вот именно… Но я ведь не уникум какой-то, я часто и слышала, и читала, что женщины ими увлекаются — и вообще кавказцами и Шамилем Басаевым в частности. Что-то, значит, в них есть. Возможно, это наваждение такое — не знаю…
— А история Евгения Родионова вам известна?
— Да, конечно. Я помню, как меня шокировала фраза его матери: «Над пленными издевались не только боевики. Деньги из солдатских матерей тянули не только боевики. Я другой такой нации не знаю. Не имеют они права жить рядом с нормальными людьми». Потом я подумала, что уж кто-кто, а она-то имела право так сказать. А вообще я стараюсь найти какую-то разумную середину. Но они же есть, чеченцы, от них же никуда не деться! Я стараюсь себе объяснить, что в принципе они такие же люди, как и все. Ну да, может быть, среди них больше, чем у других наций отрицательного, но в принципе, они такие же люди.
— Но ведь даже то, что среди репрессированных Сталиным народов оказались именно чеченцы, этот факт должен же о чем-то говорить? Не молдаване, не эстонцы, — хотя в Прибалтике было мощное сопротивление советской власти, — а именно чеченцы…
— Ну так что же, давайте возьмем гранатометы и всех их перестреляем, — так что ли? Неужели они все до одного — плохие? Я этого не могу представить: я вообще с плохими людьми в жизни сталкивалась очень мало. Честно говоря, мне в жизни повезло. Я вот все жалуюсь, я ругаю свою жизнь, а мне так повезло: я по-настоящему плохих людей в жизни не встречала. Ни разу! Я слышала о них, я о них читала — и только…
— А по-настоящему хороших? Таких, о которых хочется сказать: вот это человек!
— По-настоящему хороших? Как Арагорн? Даже не знаю. Ведь у каждого человека есть свои недостатки.
— Ну, не то чтобы ангела, но человека, к которому бы вы испытывали настоящее уважение.
— Даже не знаю… Нет… Наверное, нет…
Собственно говоря, на этом можно и точку поставить в нашем интервью. Все главное уже сказано. Хочется подвести итог.
Я знаю, что есть люди, которых позиция Ольги нимало не удивит: тех, для кого чеченская война — проявление «русского империализма» и «стремление к порабощению малых народов». Этих людей много, но хочется сразу вынести их за скобки: я обращаюсь не к ним. Я обращаюсь к тем, кого слова Ольги неприятно поразили. Я знаю, что осудить Ольгу легко. После Беслана влюбиться в Басаева — это, пожалуй, что-то запредельное.
А что, если — нет? А что, если это — в порядке вещей? Мне рассказывал один ветеран, участвовавший в штурме Кенигсберга: едва отгремели залпы, едва русские вошли в город, как навстречу им вышли немецкие женщины. Завязались знакомства, пошли флирты, ну — и так далее. Меня этот рассказ поразил: как ни относись к солдатам вермахта, но ведь для этих женщин они были мужьями, отцами, братьями, они с оружием в руках защищали их родной город, и — что же?.. Потом я вычитал в какой-то исторической книге: когда вождь гуннов Атилла приближался к Риму, все знатные римские матроны были заочно влюблены в него и только ждали момента, когда Рим падет, чтобы лично засвидетельствовать вражескому предводителю свои чувства.
Итак, дорогие друзья, — те, кто уже осудил Ольгу за непатриотизм, за равнодушие к чужим страданиям, за книжное представление о жизни, — задумайтесь над этими двумя примерами. Задумайтесь и взгляните на себя. Ольга — всего лишь двадцатипятилетняя горожанка, выросшая под крылом у папы с мамой, с нее нельзя требовать многого. Многое нужно требовать с нас. Темное обаяние берет силу, когда нет светлого. Любовь к отрицательному персонажу появляется тогда, когда положительный прописан слабо. Ольга никогда не встречала по-настоящему хорошего человека — почему мы не стали этими людьми? Мы не стали ими — и мы проигрываем, чему же удивляться, чему возмущаться? Победитель забирает все, проигравший все теряет.
* * *
Странная вещь это тёмное обаяние. Как это говорится: «Человек удобопреклонен ко греху…» В сущности говоря, что это значит? Мы, грешники, всегда найдём себе оправдание, мы сошлёмся на непростую жизнь, на политику, на здоровье, на обычай, на необходимость, — но правда в том, что нам просто нравится грех. Нравится бескорыстно и от души. Я сейчас не стану прятаться за собеседником, — поговорю немного от себя. Недавно в России отмечался юбилей государственной табачной торговли, — по этому случаю довелось мне написать вот такие строчки:
3. ДЕЛО — ТАБАК
Курение — это грех в чистом виде, грех, как таковой, незамутнённый никакими благими намерениями, никакими вескими оправданиями, никакой жизненной необходимостью. Если вы хотите понять, что такое грех, рассмотрите попристальней курение.
Всякий куривший (курящий) прекрасно помнит свою первую затяжку. Такое не забывается. Более омерзительное ощущение представить себе трудно. И вот я стою в коридоре общежития, опершись о подоконник (иначе упаду) и затяжку за затяжкой выкуриваю свою первую сигарету, а вокруг столпились друзья-товарищи и только что не аплодируют: цирк приехал! такой-то начал курить! Разве я не знал о вреде курения? Прекрасно знал. Разве мне было приятно, разве я хоть малейшее удовольствие от этой сигареты получал? Нет, и более того: казалось — ещё одна затяжка, и помру. И всё-таки эту затяжку делал. Может быть, я чаял получить какие-то выгоды от курения? Хотел, может быть, выглядеть более мужественным? Да нет же: некурящих наших товарищей никогда никто не считал за хлюпиков.
Итак, подведём итоги: мне было чудовищно противно — это раз; я знал, что курение вредно, — это два; смутно осознавалось, что курение может бить по карману, — это три; я не раз слышал (а вскоре и на собственной шкуре узнал), что такое зависимость от сигареты, когда каждый шаг приходится сверять с пачкой — её наполненностью, — это четыре… Знания, простая житейская логика, даже физиология — всё криком кричало мне: не надо курить!
Я и начал курить.
Как объяснить это? — Стадным инстинктом? — так не было никакого стада, курящих и некурящих вокруг меня было примерно поровну. Любопытством? — но любопытство удовлетворилось первой же затяжкой, и продолжение не требовалось… Нет этому никакого объяснения, кроме одного: грех для нашей падшей души привлекателен сам по себе, без дополнительных оправданий. Когда Ева сорвала запретный плод, она убеждала себя, что делает это потому, что «дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание» (Быт. 3, 6), но в сущности её привлекала сама возможность сделать то, чего делать нельзя.
Вся сладость запретного плода — именно в его запретности. Откуда в нас это неистребимое желание переступить черту, эта поперечность, это злорадство над самим собой, над своей душой? Наивный, как дитя, Чернышевский сочинял свою теорию «разумного эгоизма»: дескать, поступай всегда сообразно со своей личной пользой, и общество от этого выиграет. Если бы человек мог! Нет, его неудержимо тянет поступать наперекор себе, во вред себе, в погибель себе. Душа наша не только от рождения христианка, — она и праведница, она всегда видит, где зло и где добро, и всегда даёт нам знать об этом. Мы её слышим — и с удовольствием поступаем наоборот. «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». (Рим. 7, 18–19).
…Да, под любой грех можно придумать соответствующее оправдание:
— блуд — это, дескать, врождённый инстинкт к продолжению рода;
— чревоугодие — необходимость поддерживать жизненные силы;
— ложь — «иногда полезно скрыть правду»;
— воровство — «но я же с голоду помру, если не украду»;
— убийство — «но должен же я отомстить этому гаду!»;
и т. д., и т. д., и т. д. Любой грех можно повернуть так, чтобы он не казался грехом. Любой — только не курение. Человек курит просто потому, что этого делать нельзя. Просто потому, что это грех. Удобный в обращении, необременительный, компактный грех.
В самом деле, как часто от серьёзного греха нас удерживает не столько моральное чувство, сколько нежелание «заморачиваться». Ведь влезать в такой грех слишком хлопотно, неудобно, опасно, это ломает привычный уклад жизни… Увы, имеет место такое рассуждение, — Бог и таким образом удерживает нас от греха. Чтобы сорвать запретный плод, надо прежде влезть на дерево, а это трудно, и ленивый не решится; а если и решится, то пока лезет, может передумать…
Надо, следовательно, — что? Надо сделать грех как можно более доступным! Посмотрите вокруг: все усилия современной цивилизации направлены именно на это. Мало разрекламировать грех, надо сделать так, чтобы до него легко было дотянуться. А курение — оно всегда было беспроблемным занятием.
…Я бросил курить лет десять назад, и с тех пор раз примерно в полгода мне снится, что у меня снова во рту сигарета. Это всегда кошмар — во сне меня страшно мучает совесть: не выдержал! не осилил, опять упал!.. А другой голос пищит: ну, ладно, ну что уж теперь поделаешь, ну давай-ка ещё затяжечку, давай-ка ещё сигаретку!.. Просыпаюсь и с невыразимым облегчением понимаю, что этот стыд, эти мучительные сделки с совестью — всё это мне только приснилось… Но порою — вы не поверите, но это правда — во рту ещё чувствуется вкус дыма, а на губах словно крошки табачные налипли, — знаете, как после сигареты без фильтра?..
* * *
Наталья — сильный человек. Она, не смотря на годы тюрьмы, на годы болезни, смогла одолеть тягу к грешной жизни. Ольга — слабый человек. Она не пережила и сотой части того, что пришлось вынести Наталье, она живёт в тепле и уюте, она не знает никаких бед, — и притом неудержимо влечётся к чему-то тёмному, к чему-то безусловно запретному, к явной погибели… А вот вам человек не безнадёжно слабый, но и не наделённый богатырской силой. Он бьётся, — но, как говорится, с переменным успехом. Как большинство из нас… Видимо, поэтому он не прячется, фамилии своей не скрывает, и не возражает против того, чтобы вы взглянули на его фото.
4. РОЗА БЕЛАЯ С ЧЁРНОЙ ЖАБОЙ
Сначала я хотел делать о Вячеславе Соловьёве, тридцатилетнем петербуржце из Колпина, два материала. Один — о Вячеславе-поэте. Ибо он — поэт. Не профессиональный, не состоящий ни в каких творческих союзах, но явно отмеченный печатью таланта. Муза его — непричёсанная, угловатая, неловкая, порой просто безграмотная, но это именно Муза — со своим голосом, своим сердцем, своей болью. Со своей верой.
Но говорить о Соловьёве только как о поэте — значит не сказать всей правды. Ибо его душа имеет и свою тёмную сторону. Назовём вещи своими именами: он пил и употреблял наркотики. (Помогай ему Господь; надеюсь, я не зря поставил глаголы «пил» и «употреблял» в прошедшем времени). О тёмной стороне его души тоже можно рассказать — история получится поучительная.
Но как разделить душу Вячеслава на две части? Есть две половинки: тёмная и светлая, — но душа-то одна. Она не делится надвое. Две бездны открыты душе: бездна небесная и бездна адская, но человек — один. Такая чёткая раздвоенность — это, если хотите, тоже дар Божий: мало кому из нас случается видеть сразу и небеса, и преисподнюю; большинство, как правило, не видит ни того ни другого — ни чёрного, ни белого, одна серая мгла перед глазами. Может быть, этим и интересен рассказ о Вячеславе Соловьёве: посмотрите, на каком распутье стоит человек, какой страшный выбор перед ним. Посмотрите на Вячеслава и поймите: такой же выбор стоит и перед нами, просто мы этого в суете и гордыне своей ещё не замечаем.
— Слава, начнём с самого начала. Когда вы в первый раз написали стихотворение?
— В три года. Помню, мама моя сидит на качелях, я, трёхлетний, ползаю вокруг и сочиняю песенку — про маму, про качели, про баян… Баян — это мамин любимый инструмент: она у меня деревенская была и всё мечтала купить его для меня, чтобы я играть научился. Но вышло так, что купили мне не баян, а гитару. Мне было 13 лет тогда. Гитара есть — начал песни писать. Потом пел их товарищам по тусовке. Двое парней плакали даже, когда меня слушали… Не скажу, что наши ребята были какими-то особенно плохими, — наоборот: никого мы не трогали, просто торчали на лестнице, болтали друг с другом. С нами и девочки тусовались, но отношения с ними были вполне целомудренные. Девочки вообще были лучше нас, парней. Но если где-то появляется компания подростков, тут же приходят какие-то старшие ребята и начинают учить: попробуйте эти таблетки, попробуйте другие… А нам же любопытно… На траву мы подсели очень сильно, курили каждый день. Без анаши я даже улыбнуться не мог, то есть если я на трезвую голову слышал какую-то шутку, то мне было не смешно. Мне нужно было сначала покурить травы, тогда и улыбка появлялась. Но это уже позже. А сперва я писал песни про любовь.
— А Церковь как появилась в вашей жизни?
— Как я в первый раз в храм пришёл? Да не знаю, как и рассказать… Помню, было ужасное похмелье… В таком состоянии страшно мучает совесть, и я просто с ума сходил от раскаяния. Выскочил из дома и не знал, куда идти: то ли опохмелиться, то ли утопиться… Брёл по городу неведомо куда и у всех встречных просил прощения, как перед исповедью. И вдруг очутился перед храмом — а храм закрыт. Я, помню, грохнулся на колени перед запертой дверью: «Господи, прости! Пусти меня помолиться!» И тут вдруг открывается дверь: бабушка вышла подмести крыльцо — чудо Божие… Я сказал: «Бабушка, пустите!», взбежал на второй этаж и на пол рухнул. И так заплакал — никогда не думал, что у человека может быть столько слёз. Ну, люди видят, что дело плохо… Сказали: приходи, мол, завтра, поговори с батюшкой. И к счастью, я нашёл в себе силы, чтобы после этой истерики не застыдиться и опять прийти в церковь. Пришёл, с батюшкой поговорил, а потом опять ушёл… Надолго. Меня в тот раз опять повернуло в противоположную сторону.
«Безумный окажется мудрым, а мудрый окажется злым… Поверить в Бога не трудно — трудно пойти за Ним».— Многие считают, что есть какая-то внутренняя связь между греховностью и склонностью к поэзии. Хотя, с другой стороны, все люди греховны, но поэтов не слишком много на свете…
— А может быть, поэзия — это такой способ раскаяния? Человек грешит и пытается потом стихами выразить, как ему стыдно перед Богом, как ему больно. Мне кажется, что лучше всего у меня получаются стихи, когда я в падении. Вот я сижу в грязи, и благодать отступает, остаётся только моя грешная душа. Ей же надо что-то сказать. Молиться она ещё не может толком, а что остаётся? Остаётся кричать стихами.
— Да, видимо, чтобы душа запела, нужно, чтобы ей стало больно. Но есть такое расхожее мнение, что поэт не может ничего написать без водки…
— Нет, нет… Я пьяным вообще не могу писать. Я пробовал несколько раз, но ничего не получается. Ни с кем себя не сравниваю, но и Есенин ведь писал только на трезвую голову.
— Да, многие пьют, многие наркоманствуют, но немногие при этом ещё и стихи пишут.
— Я очень благодарен своей гитаре. Мне всегда было плохо, я всегда понимал, что живу неправильно, но гитара меня спасала. Почему алкоголикам и наркоманам трудно подняться на ноги? Я это понял, глядя на своих ребят: они хоть и строят из себя крутых, но с годами перестают себя уважать. На них давят все: милиция, родные — и правильно давят, за дело, и они сами чувствуют, что виноваты… Но самоуважение при этом теряется, и вернуть его можно только с помощью допинга. А я своими стихами возвращал себе радость жизни.
«Радуюсь синему небу, радуюсь серому небу, радуюсь свежему хлебу, радуюсь чёрствому хлебу! Радуюсь мудрому слову, радуюсь смыслу молчанья, — солнце ли, дождик ли снова, трава под ногами иль камни»…— Слава, вы в Чечне успели повоевать, в Первую чеченскую… Расскажите об этом.
— Да рассказать-то и нечего. Приехал после учебки, даже автомата в руках ещё не держал — такая учебка у нас была. К тому же я мальчишкой был и просто не понимал, что на войне нахожусь. На ночном дежурстве курил… А снайпер-то вражеский видит огонёк моей сигареты: там такие профессионалы были!.. На чеченской стороне воевал наш танкист-предатель, который вместе с танком к ним перешёл, — про него говорили, что он безошибочно стреляет на звук… Однажды заснул на дежурстве, а чеченцы подкатили миномёт и чуть весь наш батальон не расстреляли. Командир меня за это здорово побил, но — что поделать? Парнишка с гражданки иначе не поймёт: ему объясняй не объясняй, он всё равно будет спать. Я вам скажу, что чаще всего там погибали именно по глупости. Для нас война — романтика. Я помню, как мне было интересно, когда мы шли в колонне до Грозного: едешь по всей Чечне, на тебя девочки молодые смотрят, и я такой герой — в бронежилете, без каски (каска мне не шла, так я её и не носил), с автоматом!.. То, что меня может снять снайпер с сопки или из окна дома, — я вообще об этом не думал. В общем, всё обошлось благополучно, даже наградить меня хотели… Но вот песни о Чечне я не написал ни одной.
— Вы говорили, что учились писать стихи у наших рок-музыкантов: у Виктора Цоя, у Егора Летова из «Гражданской обороны»… Выходит, рок-музыка на вас повлияла положительно?
— Всё гораздо сложнее. Я уверен, что Егор Летов — очень талантливый человек. В душу молодёжи он глубоко проникал. Он чем-то даже на юродивого похож. Есть в его песнях такие строчки, что до сих пор сердце сжимается, — но всё же я уже не покупаю его дисков. Прошло то время. Или, допустим, взять того же Константина Кинчева — вот, говорят, он пришёл к Православной вере… Вообще-то он мне никогда не нравился… Да, он поёт о Боге, и это хорошо, но что-то у него не получается.
— Да, как поэта Кинчева не спасло обращение к Православию. Скучно его слушать. А где скука, там нет искренности.
— Как бы он себя не погубил этим!.. Я смотрю на его слушателей и думаю: вот поёт он о Боге, а толпа просто беснуется. Некоторые даже не понимают, о чём поёт. Может быть, Кинчев действительно заставит кого-то мыслить по-другому, но мне кажется, что он и сам-то ещё не научился петь о Боге. А может быть, року и нельзя таких тем касаться? Может быть, достаточно просто петь о хорошем? Ведь о чём обычно поют, о какой гадости? Я слушать это не могу, мне стыдно перед Господом.
«Извращённая злом красота соблазняет на каждом шагу отказаться совсем от креста и поверить, что сладко в аду…»— А самого себя вы к кому относите: к поэтам или к певцам — как это называется? — к авторам-исполнителям?
— У меня есть песни, которые без музыки не звучат. Вы же знаете, что мелодия даёт иногда особый акцент, особую силу простым, в общем-то, словам. Я всю жизнь писал песни, а на стихи перешёл потому, что однажды выкинул гитару: мне, мол, надо работать, мне нужно учиться молитве, нужно чаще бывать в храме, а гитара теперь просто мешает. Кстати, за эту гитару меня все соседи ненавидели: я по ночам сочинял песни и иногда выходил из себя, играл на полную мощь… А тут я решил помириться с соседями и начал с того, что стал здороваться с ними. И теперь, если где-то что-то случится, люди идут ко мне за помощью. Начал писать стихи и продолжаю писать. Сначала у меня в стихах много фанатизма было — перебор… Это и понятно: я же из такой грязи в такую чистоту попал, в Церковь… У меня всё в голове перемешалось… В ту пору я уничтожил свою единственную драгоценность — чёрную кожаную куртку-косуху. Думаю: вот, она меня связывает со старой моей жизнью, надо её убрать с глаз долой. Взял ножницы, разрезал её на куски и выбросил. А ведь я в ней церковь начал ходить — в косухе, в тяжёлых ботинках с подковами, — хорошо хоть догадался бандану снять с черепом и костями. А в кармане — иконка Пресвятой Богородицы. Я её нашёл где-то — такая полустёртая, кажется, «Утоли моя печали». Носил её в кармане и молился ей своими словами, потому что молитв никаких не знал. Потом начал рвать свои старые стихи. Стихи неглупые вроде, и говорится в них о чём-то хорошем, но местами вставлены жаргонные и матерные слова — чтобы слушателя зацепило, чтобы он вздрогнул.
«Распяты, но не святы, поём, но нас не слышно, пока в стихах нет мата, пока не едет крыша. И мы дырявим вены, сжигаем водкой глотки, а вы идёте мимо уверенной походкой…»Сначала я пытался всё это исправить, а потом понял, что не хочу в грязи копаться. Жалко было стихов — ночами не спал, когда писал их. Но принёс я эту жертву: разорвал все рукописи и начал писать заново. Вот как я воцерковлялся.
— И после этого вы опять сорвались?
— Да. Помню январь 2003 года — я как раз первое своё всенощное бдение отстоял. Тут зло и вмешалось… Пришли друзья, принесли какой-то новый, не пробованный ещё наркотик. Эфедрин называется. Они мне вкололи — и я сразу на него сел. За три месяца я упал так…
«Всё не обрету равновесия, то взлетаю, то снова падаю, то со злобой смотрю в Небо бесом я, то лечу, спешу к Небу ангелом…»— А зачем же было колоться?
— У меня всегда так: другие пьют, когда у них всё плохо, а я — когда у меня всё хорошо. Вот отошёл немного от греха, успокоилась душа — ну почему бы теперь и не выпить рюмочку? Или не уколоться? А через два-три дня, смотришь, — ты уже и работу прогулял, и началось… А этот эфедрин — это страшная вещь: с ума сходишь по-настоящему; за одну ночь можно просадить всё, что имеешь. Там есть такой привлекательный для новичка момент: эфедринщики, они любят, чтобы всё было чисто вокруг, чтобы атмосфера была хорошая, чтобы музыка звучала приятная — не мои песни, а какое-нибудь «Эльдорадио»… Эта самая девчонка, которая меня на эфедрин посадила, — вы бы никогда не сказали, что она наркоманка: очень ухоженная, стильно одетая (кстати, талантливая швея)…
«Ты мне разрешила выключить свет и свет погас на много лет. Во мраке тлело одно окно, а в сердце было совсем темно…»И вот сидишь в чистоте, и наутро вся квартира аккуратно прибрана — а на душе так погано, как никогда. Потом я опять в храм пришёл… Это когда у меня руки загнили от уколов… То ли вену не нашёл, то ли игла была грязная, но руки у меня очень сильно загнили. Дело уже об ампутации шло. «Оставалось по последнему уколу, по последнему полёту в пустоту…» И вот я поставил свечку св. вмч. Пантелеимону, потом пришёл к врачу. Врач мне скальпель в рану суёт — а я и боли не чувствую… Но вылечился в конце концов. С тех пор я хоть и падал, но ни разу уже не укололся. Однако гепатит С всё-таки заработал.
— Из ваших друзей никто в церковь не пришёл?
— Пытался я кого-то уговорить… Но если человек сам не раскаялся, то на исповедь его глупо тащить. Даже не глупо, а грех. А мне обидно: я молюсь в нашем Колпинском храме и не вижу рядом своих друзей. Там стоят люди, как мне кажется, совершенно правильные. Благополучные. Что им до таких, как я? Есть некоторые ребята, на которых я смотрю и думаю: да, этот, может быть, тоже из наших… Но в основном почему-то благополучные, а наши не идут. Есть у меня такая песня: «Незабытое прошлое ухмыляется за спиной: что б ни сделал хорошего, всё равно ты плохой».
«Тебя не достать, так достанут невесту иль друга. Тебя не сломать, так сломаются брат иль сестра. Но в этом и соль — не снимай же отныне кольчугу, и вместе со всеми не пей на привале вина. Пусть празднуют мир — для тебя наступила война…»В личной жизни у меня всё очень сложно. Вроде бы недавно встретил человека и, по-моему, снова теряю. Кстати, я хотел бы дать объявление к вам в «Совет да любовь»: мол, ищу православную девушку с гепатитом С. Это возможно? Я был бы рад. Я ведь детей люблю. У меня есть стих об одном малыше; он заканчивается так:
«И страшна его опала, и от Неба его милость: ведь глазами самых малых (правда эта мне открылась) смотрят ангелы устало, говорят детей устами, и имеющие уши будут лепет детский слушать… И спасут, быть может, души!..»* * *
Говорят, что война калечит души… Может быть, это и верно, — хотя чаще приходит в голову другая мысль: душа человеческая более гибка, упруга и неподатлива, — даже такое страшное потрясение, как война, мало что способно в ней изменить. У души своя жизнь, свой путь. Вячеслав, к примеру, как наркоманил до войны, так и после не отстал, — как пел до войны свои песни, так и на гражданке не замолк… Если его тянет вниз, в бездну, — тут не война виновата; и если он пытается взлететь к небесам, — это не потому, что его война научила.
Вот ещё один человек, прошедший войну, — и гораздо дольше, чем Вячеслав, ходивший по её дорогам… Эти ли дороги привели человека к Богу? Решайте сами…
5. СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК ХРИСТОВА ВОИНСТВА
— Вам Афганистан снится ещё?
Задумалась мать Леонилла, нахмурилась…
— Да нет… Ушло то время… А раньше, бывало, снился… И знаете, как? — не люди, не события, не пейзажи, а жара. Жара снилась! Это горячее марево над землёй, колеблющийся воздух… очень страшный сон. А как же иначе? Я всю жизнь в армии, всю жизнь начальником столовой, погоны старшего прапорщика носила; и вот моя служба — столовая, кухня; температура жарочной поверхности плиты — 360 градусов, а на улице — 60 градусов! Кандагар! Повара мои в обморок падают от теплового удара, а что делать? — надо работать, надо готовить, надо ребятишек наших, солдатиков, кормить…
Инокиня Леонилла, матушка, старший прапорщик, ветеран Афганистана и обеих Чеченских кампаний… Что для нас эти войны? — кровавые бои, смерть, отчаяние, отвага, героизм… А героизм тоже всякий бывает. Стоять у раскалённой плиты среди кандагарского пекла — это легко? Попробуйте…
— Да что там наши плиты… — пожимает матушка плечами. — Вот как ребятам в бою бывало!.. До танковой брони дотронься только — ожог получишь. А наши солдаты в этих танках в бой шли. В песке яйца можно было печь — это не сказка, это вправду так делали иногда; а наши солдаты по этому песку по-пластунски…
— А где было тяжелее: в Афганистане или в Чечне?
— Как сказать? Война — она и есть война. В Чечне у меня было три молодых солдата-поварёнка. Они полгода отучились в учебке, и мы попали с ними в Чечню. Как им тяжко приходилось! — каждый день в четыре утра встать — а вокруг снег, холод, палатки, условия полевые, и бандиты рядом, и что у них на уме — не угадать… Но поварята мои трудятся, не ропщут, и меня с моим характером тяжёлым терпят…
Мать Леонилла очень хочет по-женски заплакать; слёзы так и стоят в глазах. Нет, нельзя: монахам плакать можно только о грехах своих. Усилием воли берёт себя в руки:
— Нет, пожалуйста, слёзы в сторону. А как вспомнишь Кабульский госпиталь… Там была перевалочная база для раненых — потом их оттуда в Москву отправляли. А мы, женщины, как-то принесли туда фрукты-овощи — поддержать-то мальчишек надо… И вот что терзает память: парень без рук, без ног. Мы ему яблочки, конфеты, печенья… А он кричит: «Зачем мне это? Вы мне ноги-руки вернёте? Нет? Ну и идите отсюда!» Тяжело, конечно. А вот что ещё страшно: все инфекции вокруг свирепствуют, весь букет заразных болезней! — и малярия, и тиф, и паратиф, и гепатиты все… Солдатики пойдут на операцию, вода у них закончится, они с арыка попьют — и всё… В соседней бригаде две трети солдат полегло. И потом в госпитале, помню: матрасы, матрасы — лежат прямо на земле, и солдатики на них все жёлтенькие… Как же страшно! Мы в столовой по два часа вымачивали в хлорке посуду — лишь бы не заразить ребят…
А Чечня? Нет, для меня тяжелее был Афганистан. В Чечню вся бригада наша пошла, все сослуживцы, все знакомые, друзья — всё-таки полегче. В Афганистане — жара, в Чечне — грязь. Там почва своеобразная, особенно весной: чернозём перемешан с нефтью… Дорог нормальных просто нет. Увязнешь — и конец! А почему я, начальник столовой, о дорогах безпокоюсь? А потому что за девять месяцев службы у нас было 24 перехода. Утром просыпаешься — а тебе два часа на сборы: грузи всё своё хозяйство, всю столовую в машину — и вперёд, в колонну, по горам! Машина идёт — с одной стороны пропасть, с другой — гора. В горах бандиты. Куда следуем? — кто его знает! Однажды едем, а метрах в двухстах от нас идёт бой — наши САУшки бьют прямой наводкой! Знаете: обычно у них ствол под углом, дальность стрельбы 17–20 километров — а тут в упор палят, и ствол горизонтально поставлен. На водителей смотришь: мальчики-мальчики! Как только везти им такие огромные машины по чеченской дорожной каше, над пропастью?! А если ещё САУшки — в них же по 49 тонн!.. Это героизм. А меня всегда назначали старшим машины, но я садилась в кабину, закрывала глаза — и всю дорогу их не раскрывала: страшно!
Вдруг мать Леонилла весело улыбается, и что-то озорное вспыхивает в её глазах:
— Я же вам ещё не рассказала, как я из машины спаслась! Ну, слушайте. Получилось так, что мы попали в аварию. Дорога скользкая, перед нами пропасть, а водитель вместо тормоза нажал на газ. Могли бы свалиться, но врезались в дерево и зацепились за него. Машина уже не подлежит восстановлению, двери в кабине заклинило, не выйти… И вот мы висим над пропастью, зацепившись за дерево. Водитель-то что? — он мальчик худенький, выскользнул через боковое окно — а я сижу. А дерево трещит да трещит, а за ним пропасть в полтора километра. Весь мой дивизион собрался, зампотех полковник Николаенко прибежал… «Сейчас, — говорит, — будем вытаскивать тягачом. Скоро он придёт!» Скоро? А дерево-то не скорее ли треснет? Вот — опять трещит! И случилось первое в моей жизни чудо. Окошечко в КамАЗе знаете какое узенькое? А я — видите какая? И как только дерево в очередной раз затрещало, я — раз! — и в момент проскочила через окошко на волю! Как я это сделала — не помню. То ли головой вперёд, то ли ногами… Не помню ничего! Стою, плачу, полковник меня обнимает — маленький такой… Тоже чуть не плачет… И вдруг он поднимает голову, смотрит на крошечное это окошко и так изумлённо спрашивает: «Люда, а как же ты умудрилась в него пролезть?» И весь дивизион захохотал! А я потом экспериментировала — и не раз… Нет, ничего не получается: даже и подумать нельзя, чтобы в это окошко с моими габаритами проползти.
Инокиня Леонилла живёт в посёлке Каменка, в Выборгском районе, подвизается при храме св. вмч. Георгия Победоносца. Маленький этот храмик окормляет большую воинскую часть, одну из двух крупнейших в России миротворческих бригад. Когда-то в бригаде этой служила и мать Леонилла — старший прапорщик Людмила Хмелевская.
— Как же вы, матушка, — из армии и сразу в монашество? Как такое возможно?
— Служили Родине, сейчас служим Господу — простите, что такие высокие слова говорю, грешная… У солдата — приказ, у монаха — послушание. Я особой разницы в быте не чувствую… Сегодня вышла на улицу, смотрю — солдаты в противогазах бегут, наверное, боевая тревога. Эх, жизнь знакомая, родная — всё сердцу близко!
— Я служил ещё в советское время и теперь часто слышу: «Ну, тебе удалось в настоящей армии послужить, а сейчас и армия, и служба — декоративные!..» Что вы об этом думаете?
— Героизм — и в прежние времена, и в новые — я видела настоящий, никакой не декоративный. Героизм в том, чтобы точно выполнить приказ; как монах в послушании становится святым, так солдат в послушании становится героем. Русский солдат — он всегда русский солдат; он, по-моему, любой приказ выполнит — что в Афганистане, в советские времена, что в Чечне… И знаю: солдаты на самом деле закрывали собой командиров — это действительно так, а не то что какая-то пропагандистская выдумка. Мне и в разведбате пришлось послужить — я-то знаю!.. Я помню, что старослужащие в бою головой отвечали за молодых, прикрывали их, как старшие братья, окормляли их по-солдатски. Потом, в казарме — да: молодой и ботиночки «старику» почистит, и работу какую за него сделает, но в этом тоже есть какая-то справедливость, верно?
— Расскажите, как вы пришли к вере.
— Не знаю. Не знаю. Это тайна — и для меня тоже. Как и путь к монашеству — это тоже великая тайна. Всё сокровенно вызревает в душе — а потом вдруг замечаешь, что не можешь иначе… Может быть, это с моей стороны слишком дерзновенно так говорить, но я думаю, что мы спасаемся молитвами погибших воинов. Вот у нас в храме список павших… Я его читаю: этого помню, этого помню, этого хорошо знала, этот моим соседом был… И считайте, каждый — герой! Мы их помним, а они нас? Конечно! И молятся за нас, молятся! Их молитва к Богу доходчива. Ею спасаемся — не нашими слабыми силами…
Я помню: вылетаешь из Афганистана, пересекаешь границу — и вот она, мирная жизнь. Как не похоже на только что виденное! Дети… Мы же в Афганистане детей не видели!.. Листья на берёзе распустились!.. И я их срывала и ела — такая ностальгия была! Люди поют, танцуют, играют, в кино ходят — живут, живут! Так не похоже на Афганистан… Вот так же, думаю, праведники в Царствие Небесное приходят: всюду свет, всюду радость — так не похоже на нашу жизнь…
* * *
Афганистан, Чечня… А когда слышишь слово «война», в первую очередь думаешь о Великой Отечественной. Почему так? Кажется мне, что значение для русского народа той войны, той Победы (единственной Победы, пишущейся с большой буквы) ещё не изучено в полной мере. Та Победа оживила Россию, вернула ей благодать; Россия живёт, благодаря той Победе, — и не потому только, что разбили захватчика, а потому ещё, что 9 Мая 1945 года осенил нас некий животворящий свет, которому нет названия на человеческом языке. Почему так произошло?.. Не знаю, но свет этот чувствую всей душой, всем телом, — и вижу, как старательно стремятся сегодня закрыть его от нас. Это тоже свидетельство: не была бы Победа так важна для России, — её бы не пытались у России отобрать.
6. КЛАДБИЩЕ
Мой дед погиб в 1941 году на станции Войбокало в Кировском районе Ленинградской области. Он не был солдатом, он был машинистом паровоза и возил боеприпасы на передовую. Налетели немецкие бомбардировщики, бомба угодила прямо в состав… От деда ничего не нашли, только обрывки одежды и обложку партбилета. На стеле над братской могилой стоит его имя, но деда в этой могиле нет. Как-то в детстве мне пришла в голову странная мысль: «А ведь летчик, сбросивший ту бомбу, наверное, жив и сейчас. Живет себе где-нибудь в Кельне или Гамбурге и не задумается даже, что вот, моя мать не помнит своего отца в лицо, что детство у нее было горькое, голодное, что бабушка вынуждена была работать с утра до ночи, чтобы только прокормить четверых детей, а на простую материнскую ласку у нее порою ни времени, ни сил не было…»
Недавно я побывал в деревне Сологубовка Кировского района, и здесь пришло мне в голову другое: «А может быть, сбили этого летчика, и лежит теперь тут, в Сологубовке, на немецком солдатском кладбище, в нескольких километрах от моего деда…»
О сологубовском немецком солдатском кладбище вы уже, наверное, слышали, и не раз. Много о нем было разговоров, кто-то возмущался, кто-то рукой махал, а кладбище это все-таки возникло на стыке двух больших красивых русских деревень — Сологубовки и Лезье. То есть оно там и раньше было, но теперь, стараниями Народного Союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, немецкое кладбище было расчищено, обихожено, всячески украшено и даже расширено. Да, именно расширено, потому что сюда, в Сологубовку, были свезены останки многих десятков солдат вермахта, найденные в Ленинградской области. Немецкое захоронение будет расширяться и дальше, планируется свезти сюда более 80 тысяч погибших солдат.
Вспоминаю, как лет десять назад мне пришлось встретиться с представителем этого самого Народного Союза Германии по уходу за воинскими захоронениями. Бодрый широкоплечий старик со смехом рассказывал, как он пытается пробить свою идею, как ищет поддержки у самых разных людей и организаций. К кому только он не обращался!.. Даже к лидерам питерских скинхэдов: просил у них помощи в розыске останков. Впрочем, тут он получил полный отлуп. Бритоголовые выслушали его и ответили: «Помогать вам не станем. Все немецкие солдаты это — …» Неназываемое слово немец произнес по-русски и весело расхохотался: он не терял надежды столковаться с парнями.
Не знаю, к чему привели переговоры со скинхэдами, но с кем нужно немцы, несомненно, столковались. Столковались они и с жителями Сологубовки, которые сначала сильно негодовали, видя, как на их село наступает мертвый вермахт, а потом ничего, смирились, и сейчас на все вопросы отвечают неохотно: «Ну, что ж… Надо и примиряться, в конце концов…» И только один человек, не из Сологубовки даже, а из соседней Мги, инженер Михаил Александрович, сказал мне: «Примирение-то примирением… Но вот ведь какая штука: с современными немцами мне примиряться не нужно — я с ними и не ссорился. А те солдаты с немецкого кладбища — они свое уже получили. Пусть их увозят обратно в Германию, пусть они там лежат, а мы на этом месте своих солдат положим: вон их сколько, не похороненных-то…» Рассказывала и одна пожилая женщина из Сологубовки: «Сколько денег на этом кладбище похоронено… А вы взгляните на наше село: каким оно раньше красивым было! Какие тут дома стояли старинные, красивые! Теперь все рушится, все горит, все разворовывается потихоньку. В Лезье на прошлой неделе сгорело начисто прекрасное здание, еще в царские времена построенное. Заброшенное стояло, никому не нужное, но такое красивое! И вот — сгорело… Школа у нас была четырехлетняя — теперь нет школы, детей возят во Мгу. Осталось лишь пустое школьное здание, распахнутое настежь: входи, кто захочет. Когда-нибудь и оно загорится, и хорошо, если от него пожар не перекинется на соседние дома, а затем и на всю древню. И не будет Сологубовки, а те, кто ухаживает за кладбищем, и не заметят, что рядом чего-то не хватает… Что им до нас, до живых русских: они заняты мертвыми немцами».
Что же представляет из себя само кладбище? За огромным православным храмом Успения Божией Матери, построенном на немецкие деньги, в котором можно уместить все население и Сологубовки, и Лезье, и еще хватит места на несколько деревень, лежит пустырь. Пустырь этот аккуратно обнесен оградой, у входа высится мощное, похожее на бетонный ДЗОТ, здание сторожки. Такую сторожку можно штурмовать целой ротой — и она выдержит натиск. Попав за ворота, посетитель сперва останавливается в недоумении: где ж тут кладбище? Перед глазами унылая, ровная как стол, сильно заболоченная лужайка. Лужайку рассекает надвое асфальтовая дорожка, по бокам дорожки стоят десятка два полированных гранитных плит в человеческий рост. На плитах, если присмотреться, можно различить убористые строчки; ими сверху донизу испещрена каждая плита: это имена немецких солдат, похороненных здесь. Дорожка кончается небольшим холмиком, в который воткнут огромный железный католический крест. Вот и все. Что же до могил, то их замечаешь не сразу. Присматриваясь к окружающему крест болотцу, вдруг замечаешь то какой-то бетонный пенек, чуть торчащий из лужи, то крошечный цементный крестик, то сразу три такие крестика, стоящие вплотную друг к другу… Замаскировались солдаты вермахта. А ведь их здесь немало, если судить по именам на гранитных плитах: полк точно наберется. А если вспомнить планы устроителей, желающих свезти в Сологубовку останки более чем 80 тысяч оккупантов, то становится как-то не по себе, словно объявлен сбор разбитой армии для нового похода… И снова «Gott mit uns» — латинским железным крыжом, а останки наших солдат — тех, кому еще посчастливилось быть похороненными, чьими черепами не играли «черные следопыты», чьи кости не растаскали бродячие собаки, — их останки запечатаны пятиконечной звездой, над ними жгут «вечный» огонь, и никто не скажет: «Господи, огня негасимого и прочих вечных мук свободи мя!..» Мертвый вермахт собирается и строится в колонны, а у входа на сологубовское «Soldatenfriedhof» стоит мемориальный валун с пришпиленным на нем обещанием, что когда-нибудь здесь будет построен памятник и русским солдатам. Их, значит, тоже не забудут… Вокруг валуна рассыпаны ржавые, простреленные русские каски, словно военные трофеи.
…В 1812 году, после кровопролитного сражения у Березины, где французы гибли тысячами, все берега окрест были усыпаны французскими костями. Долго потом — многие десятки лет — Березина вымывала из прибрежного песка эти кости, но вот странно: нет в Белоруссии французского наполеоновского кладбища! Русские цари — люди православные, не злодеи по натуре, да к тому же заинтересованные в нормальных отношениях с Францией, не спешили ставить над французскими покойниками русский храм и в знак примирения народов, забыв о собственных павших, разыскивать по всей России останки Великой Армии. Не было этого! Они знали: здесь наша земля, и с почетом покоиться в ней могут только те, кто ее защищал. Как это просто, как бесспорно!..
Если же вас это не убеждает, то, пожалуйста, вспомните: те, кто лежит на «Soldatenfriedhof» несут непосредственную вину за блокадный ад, вину за огонь и голод страшной зимы 1941-42 гг. Это именно они, те, кто лежит в Сологубовке, стояли вокруг умирающего города, осыпая его снарядами. Да, не они придумали блокаду, и не по своему желанию пришли они в Россию, но во всех судах мира на одной скамье сидят и организатор, и исполнитель убийства, и тот, кто задумал злодейство, и тот, кто по его приказу пошел убивать.
О, да: мы слышали и о том, что если бы Гитлер не напал на Россию, то Сталин напал бы на Германию, а значит ответственность за войну равна у обеих сторон, а значит, нечего нам пенять на немецких солдат — сами такие же. Но вероятность советской агрессии еще нужно доказывать, а немецкая агрессия — это свершившийся факт. Возможно, Сталин и напал бы на Германию, но, как говорят дети, «бы» помешало. Все «альтернативные» варианты II Мировой существуют лишь в чьих-то фантазиях.
Мы слышали, что Германию и Россию стравили некие третьи силы; и значит, в войне не виновны ни та, ни другая сторона. Пусть так, но поддалась этому стравливанию не Россия, а Германия: она, а не Россия пошла на поводу у поджигателей войны, — за что и понесла наказание.
Мы слышали, что немцы несли России свободу от коммунизма, а русские несли мирным немцам смерть, грабежи и коммунистическое рабство. Но Россия не могла освободиться от коммунизма ценой собственной гибели. Победа 1945 года была живительным глотком воздуха для русских: она напомнила нам о величии нашей Родины, воочию доказала, что и после революций, коллективизаций, после расстрелов и лагерей — Россия все еще жива и по-прежнему могуча. Мы не смогли бы выжить без этого сознания, без этой победы. А что до «русских зверств», то почитайте дневник Йозефа Геббельса за 1945 год, и вы увидите, чего больше боялся, на что больше негодовал нацистский министр: на «русских зверей» или на англо-американские бомбежки, которые сжигали дотла целые города вместе с мирным населением — детьми, женщинами и стариками. Разница просто разительная!
Есть, наконец, простое, веками проверенное правило: «Победителей не судят». Если кто-то хочет судить победителей, значит, он недоволен тем, как война кончилась.
Кладбище в Сологубовке — это действительно попытка примирения. Но не с немцами: с ними мы уже полвека живем в мире, и мир этот не нуждается в дополнительных условиях. Это попытка примирить нас с войной, с вторжением, с оккупацией. Попытка примирить нас с мыслью: «Если Россию хотят побить, то это правильно, и сопротивляться не стоит». Именно для этого выстраивают в Кировском районе, как на парад, части вермахта и с леденящим душу цинизмом говорят, что сологубовский мемориальный комплекс станет «еще одной жемчужиной Ленинградской области, объектом посещения многочисленных паломников (!) и туристов» (Анна Соснора. «Храм, примиривший народы»). Пора, наверное, вспомнить, что в этих землях лежат тысячи непогребенных русских солдат, и если их тоже выстроить правильными рядами против сологубовской группировки, то они снова — как и в ту войну — победят.
* * *
Я глубоко уверен: Великая Отечественная война была не войной идеологий — «коммунисты против фашистов». Нет, нет… Идеология — вещь непрочная, она никогда не задана от века, она меняется в зависимости от потребности насущного момента. Человек имеет право на то, чтобы передумать. Раньше думал так, — повзрослел, набрался опыта, повидал жизнь, — стал думать по-другому. Сменил идеологию. А как иначе? Но есть такие вещи, которые не «передумаешь», которые и глубже, и больше, и роднее умственных идеологических построений. Отказаться от них, предать их — значит убить собственную душу. Если признать, что в 1941 году одна идеология ополчилась против другой (всего-то!), то смысл этой войны, этих чудовищных жертв останется неясным. Сотрётся и понятие предательства. Так и говорят сейчас: «Власов-де ничего не предавал, он просто был не согласен со Сталиным, отрицал большевистскую идеологию!» Нет, друзья: на полях Великой Отечественной мы не в шахматы с немцами играли, не научную дискуссию вели. Тут нельзя было заявить: «Вы думаете так, а я — иначе!»
Вот небольшая зарисовка о предательстве…
7. ЛИХОЕ ЛИХИМ ИЗБЫВАЕТСЯ
Эту историю рассказал мне настоятель маленького храма в маленьком городке неподалеку от Петербурга. Мы с батюшкой шли из церкви по заросшей улочке вдоль ветхих деревянных домов, как вдруг навстречу нам вышел старичок — бодрый такой, собранный, живой. Подошел к батюшке, поклонился, принял благословение, сообщил что-то деловым тоном и отправился дальше — в сторону церкви.
— Вот тоже человек! — заметил батюшка, оглядываясь на удаляющегося старика. — Интересный! Ему лет десять назад врачи приказали гроб готовить: все, конец, — надежды нет. Да и возраст не такой, чтобы рассчитывать на выздоровление. А он? Он с врачами согласился: помирать, значит, помирать. Только решил сначала с Богом примириться немного: в храм походить, помолиться, поисповедоваться… Он о Боге-то помнил всегда, но не очень усердствовал. Но вот, начал в храм ходить… Видит: у людей тут забот полон рот — строительство, и то, и се… Начал помогать понемногу. Потом побольше. Потом еще больше… Сейчас — один из основных наших работников, без него — как без рук. А о болезни и забыл с тех пор. Два месяца ему жизни отмерили: а уж лет десять минуло, и все в трудах… Да… Он как-то раз вот что рассказал мне.
Отца у него в 30-е годы забрали. То ли раскулачили, то ли еще что — не помню; факт тот, что всю войну, и много позже просидел его отец в лагерях. Мать одна детей поднимала. А была она настоящей красавицей, за ней полгорода бегало, но она — хоть и соломенная вдова, а при живом муже ни с кем сходиться не хотела. Началась война, пришли немцы в город; раньше по этой женщине комсомольцы сохли, а теперь, значит — полицаи. Один очень надоедал. Она его и так, и так — все безполезно. Наконец, пришлось огреть ухажера чем-то тяжелым, иначе не отвязывался. «Ах, так! — он говорит. — На представителя власти, значит?! Не хочешь от меня добра, — ну вот и не обижайся: никому не достанешься!» Написал на нее куда следует: дескать, укрывала партизан, выступала против германского рейха… И все. Женщину взяли, и, недолго разбираясь, по законам военного времени, расстреляли.
Потом война кончилась, сын ее — этот вот старичок, которого мы встретили, — поехал в лагерь навестить отца. А отец его к тому времени уже освободился, но домой возвращаться не стал, а остался в том же лагере вольнонаемным. Приезжает к нему сын, проходит по территории, рассматривает заключенных и вдруг… Что за чудеса!
— Папа, — говорит, — видишь вон того человека? Знаешь, кто это? Это же тот самый полицай, который нашу маму под расстрел подвел!
— Который, сынок?
— Да вот этот. Ну, не думал, не гадал, что здесь его увижу!
Отец промолчал, и больше к этой теме не возвращался. Но несколько дней спустя, рыбачили они вместе на местном озере. Отец подвел лодку к болотистому берегу и говорит сыну:
— Смотри-ка, сынок, что из воды-то торчит?
Ноги в сапогах из болотины торчат.
— Это он, знакомый наш… Тут я его положил.
Вот такая история. Есть над чем поразмыслить… Месть — это, конечно, грех, да не так все просто, как на первый взгляд кажется… Вот, довел же Господь им встретиться: убийце и сыну его жертвы, сироте. Как это? Среди десятков лагерей, среди тысяч заключенных — разом нашелся, хоть и не искали его. Почему так вышло? Нет у Бога случайностей, тем более, если речь о таких нешуточных вещах идет. Нет, пусть кто хочет осуждает мстителя, а я еще подумаю…
* * *
К слову сказать, батюшку, рассказавшего мне эту историю, зовут отцом Валерианом Жиряковым. Очень интересный батюшка, — мы с ним встречались не раз, и всегда не без пользы. Ярче всего запомнилась мне одна наша беседа…
8. И ЗА СМЕРТЬ СЛАВА БОГУ!
Сидим за столиком в лаврской столовой; вокруг гомонят радостные паломники, довольные тем, что побывали у святыни, дети смеются, вкусно пахнет горячими щами… Мы с отцом Валерианом Жиряковым среди этого веселья, точно заговорщики, заняли столик в углу и вполголоса переговариваемся. Говорим о смерти. Тема такая, что куда уж серьёзнее, но отец Валериан, которого и так-то не назовёшь человеком угрюмым, сейчас заражён общей радостью — улыбается и шутит:
— А что я могу о смерти сказать? Я ещё не умирал ни разу. У меня опыта нет!
— Но, батюшка!.. Вы же всё-таки настоятель храма при больнице Св. прмц. Евгении!.. У вас же там старушки, старики… Смерть рядом ходит.
— Да, старушки, старички… Блокадники. Многим лет по 90 — порог между жизнью и смертью ясно виден… А давайте я лучше скажу о подготовке к смерти. Вот на это я действительно насмотрелся — как люди готовятся к такому переходу. Приближение смерти очень явственно проявляет душевное состояние — это уж точно. На одного умирающего посмотришь: слава Богу за всё! — человек стоит на пороге счастья. А взглянешь на другого — и оторопь берёт: такая тёмная ямина души! И сам отрицает Божию помощь.
— Какая же тут Божия помощь, если человек уже безповоротно умирает? Облегчение предсмертных страданий?
— И это тоже… Но, как это в фильме «Остров» было сказано, «помирать не страшно, страшно пред Господом предстать». А кому пред ликом Божиим предстать не страшно? Тому, кто при жизни хоть в малой степени очистил душу покаянием, укрепил её причастием. А у тех, кто в больнице лежит, не всегда такая возможность есть. Но Господь много милости имеет! Вот как-то раз пригласили меня исповедовать и причастить одну бабушку. А та уже в реанимации, уже чуть жива. Я заторопился и впопыхах взял с собою больше Святых Даров, чем нужно, — целую дароносицу. Прихожу, поисповедовал старушку, причастил, слава Богу… Иду на выход. И вдруг с одной койки голосок: «Батюшка, а меня причастите?» — «А вы крещёная?» — «Крещёная!» Ну, и её поисповедовал-причастил… Опять уходить — и опять меня останавливают: «Батюшка, а я?» Оказалось, эта женщина ни разу не исповедовалась, не причащалась… Но крещёная, и всю жизнь ходила в храм на Смоленском кладбище, только на исповедь решиться никак не могла. А Господь ждал, ждал терпеливо, всегда был рядом… И даже в последний момент жизни привёл к ней священника с запасными Дарами! Не оставляет Господь людей никогда — за всё слава Богу. Всякий раз, когда встречаешься с подобным, слёзы подступают! Такую благодать чувствуешь, такое собственное недостоинство… Но тут, конечно, важно, что женщина сама голос подала: могла ведь и промолчать и умерла бы без покаяния…
Ещё такой был случай. Тоже в реанимации… Приглашают меня старушку пособоровать и говорят: она совсем плоха, в сознание не приходит. Что мне делать прикажете? Всё-таки в таинствах человек должен по собственной воле участвовать… Подумав, решил я положиться на волю Божию: приду, а там видно будет. Пришёл. Бабушка чуть жива, говорить не может, только моргает в знак того, что слышит тебя. И то хорошо! Начинаю служить. И вдруг… Что за мистика!.. — слышу, как мне тихонько-тихонько подпевает кто-то: «Господи, помилуй!» Это же старушка моя поёт! Но как? губы-то не шевелятся! И голос такой тихий, тонкий, точно ангельский. Вот как это понимать? Но это действительно было, было! А к концу соборования у неё и глазки посветлели, и губы шевелиться начали, — но совсем слабо, не так, чтобы членораздельные звуки произносить… А пение-то слышится!
— Но ведь случается, что человек умирает без покаяния! Выходит, не о всех Господь заботится.
— Случается, случается всякое… Случается, что меня зовут к больному и я, нимало не мешкая, отправляюсь по указанному адресу, тороплюсь — и не успеваю! Пришёл — а человека уже и нет! Почему так? Почему не дано было человеку дождаться последнего Причастия? Господь знает, а нам не нужно о том рассуждать. По молодости я очень о таких вещах скорбел и себя укорял за медлительность, а потом понял: на всё воля Божия. Я что смог, то совершил, а дальше не моего ума дело.
— К нам в редакцию заходила медсестра, работающая в реанимации. Рассказывала такую страшную историю: у них который месяц лежит без сознания малыш — и в себя не приходит, и не умирает… Мать его совсем на нет сошла, да и медики тоже изболелись душой. Вот медсестра и спрашивает: может быть, следует помолиться о том, чтобы Господь прибрал несчастного младенца?
— Смерти просить? Да не для себя, а для другого? Ох, это дело непростое. Смерть — великая вещь, она выше нашего разумения. Да, бывает, что и просим о ней, есть и особые молитвы на такой случай… Но ведь что это за случай? Если больной сильно мучается и от страданий начинает терять самообладание, раздражается, грубит, малодушествует, вредит своей душе… И это при том, что в здравом состоянии он был человеком спокойным, рассудительным… Если не понести ему такого страдания, если сам он понимает, что происходит, если родственники его согласны (а это очень важно!) — ну, тогда можно смиренно попросить Господа, чтобы непостыдно и мирно перевёл несчастного в мир иной. А с этим мальчиком… Тут только матери решать — больше никому. А медсестра, если хочет помочь, пусть матери скажет: дети страдают за грехи родителей. Я ни в коем случае не хочу гадать о том, кто в чём грешен и велики ли чьи-то грехи, но совершенно очевидно, что для матери настал час покаяния. Нужно как можно скорее очиститься и просить у Господа, чтобы через родительское покаяние Господь помиловал дитя. Вот эту мысль и нужно донести, но очень осторожно, с большой любовью и сочувствием. А то мы рады навешать на ближних бремена неудобоносимые…
— Случалось ли такое, чтобы умирающий человек напрочь отказывался от вашей помощи?
— Да сколько угодно. Но что об этом говорить? Вот я другой случай расскажу. Обращаются ко мне сродники одного дедушки: мол, хотим, чтобы дед перед смертью причастился, да не знаем, как, — он коммунист твердокаменный. Ну, а что же я могу сделать? Только навредить: подтолкну его невольно на богохульство. Вот в очередной раз приходят: дед совсем плох и уже не отказывается от встречи со священником. Я говорю: «Вы только не произносите при нём таких слов, как «исповедь», «причастие», чтобы не отпугнуть человека. Скажите, мол, батюшка поговорить хочет». Хорошо. Прихожу к старику: «Здравствуй, отец!» А он: «Здравствуйте, батюшка!» — хвать меня за руку и поцеловал её! Словно всю жизнь со священниками общался! «Господь вас да благословит! — говорю. — Хочу с вами побеседовать…» — «Давайте побеседуем!» — «А может, вы и исповедоваться согласны?» — «Ну что ж, и исповедуюсь!» Вот какое чудо Господь сотворил! Но это по сугубым молитвам сродников. Душа человеческая — тонкая материя, к ней надо осторожно подходить, а мы своей неуёмной жаждой катехизации только озлобляем родных. Тонны книг для них тащим, сотни молитв заставляем читать… А человек не готов! «Не вливают вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают» (Мф. 9:17) Тут нужны три вещи: сугубая молитва за такого человека, забота о нём — и не по обязанности, а от всего сердца, — и смирение…
— Существует такое мнение, что по виду покойника можно определить его посмертную участь…
— А зачем вам это определять? Это опять-таки не нашего ума дело. Нет, я не буду отрицать: часто видишь, что человек в гробу молодеет лицом. И не на год-два, а лет на десять-пятнадцать. Конечно, многих покойников убирают соответствующим образом, — но так сильно человеческими стараниями не омолодишь! Всего-то дня два назад ты его исповедовал и причащал, и он был как живой мертвец с виду, а сейчас смотришь на него: он лежит в гробу такой счастливый, как ребёночек!.. И обратное бывает: начинает покойник темнеть лицом… Но ты не смей ни о чём таком гадать: это вещь недопустимая и даже опасная. Тут можно так нагрешить!.. Как мы смеем брать на себя суд: решать, кто достоин, а кто недостоин! Большой это грех.
— Часто ли приходится сталкиваться с тем, что человек боится смерти, не хочет умирать?
— По-разному бывает. Не хотят умирать те, кого в жизни всё устраивало: дети хорошие, внуки здоровые, хозяйство налаженное… Но люди верующие, как правило, просят: «Скорее бы меня Господь прибрал!» И я в таких случаях даже военную хитрость употребляю: «Матушка, говорю, вы уйдёте, а кто же молиться-то будет за ваших родных?» — «И правда, надо пожить ещё…» Действительно, бывает так, что в семье единственный молитвенник — бабушка старенькая; померла она — и семья начала разваливаться. И как больно бывает: умерла такая старушечка — молитвенница, труженица, страдалица, — а родственники ставят перед её гробом рюмку водки. Традиция! «Вы что же, алкоголика провожаете?» — спрашиваю. Не понимают люди…
— Говорят, что людям для стяжания памяти смертной хорошо ходить на кладбища…
— На кладбища всегда ходить хорошо. Крестики, могилки… Успокаивает, умиротворяет… Начинаешь думать о вечном… Но память смертную и на кладбище не обретёшь. Память смертную приводит страх Господень: надо помнить, что всегда перед Богом ходим. А кладбище-то — это хорошее место. Что нам до всяких там страшилок — мертвецы из могил, скелеты с косами в руках… Но вот, между прочим, в народе всегда представляли смерть женщиной с косой в руках — и знаете, я сейчас начинаю видеть, что это не просто так! Я теперь замечаю: люди не поодиночке умирают. Умер кто-то — и через малый промежуток двое-трое следом отправляются. Потом некоторое затишье — и опять двое-трое… Словно косой кто-то машет: размахнулся — скосил, размахнулся — скосил… Кто созрел, того и скосило: смерть — свидетельство зрелости. Умер человек — значит, душа его готова к чему-то большему, чем земная жизнь. А стало быть, за всё слава Богу, и за смерть тоже!
* * *
Говорят, будто верующие смерти не боятся: для них-де жизнь за гробом есть непреложный факт. Да, факт, — но о себе могу сказать, что по-настоящему бояться смерти стал именно с тех пор, как уверовал. Небытие — вещь, в сущности весьма утешительная: она списывает всё, она всё прощает, всё покрывает непроницаемым мраком — и праведника, и грешника, и богатого, и бедного. Сто лет ты прожил или двадцать — в могиле не вспомнишь, не пожалеешь о краткости земного пути. Ни о чём не пожалеешь, ничего не устыдишься, ничего не устрашишься. Другое дело — Суд и вечные, неутолимые мучения совести… И всё-таки, при слове «смерть» первыми бледнеют именно неверующие. Может быть, именно потому, что подозревают: не небытиё их ждёт, а нечто гораздо худшее?..
9. НЕПРИЯТНАЯ ТЕМА
Когда мне было 8-12 лет, я вдруг страшно невзлюбил поездки в соседний городок, в гости к бабушке, и почему? — все потому, что несколько раз подряд во время таких поездок натыкался на похороны. Длинная, медленно бредущая процессия; смертельно фальшивящие музыканты, которые словно издеваются: истеричными взвизгами труб и тяжким оханьем барабана делают и без того надрывную мелодию «садиста» Шопена и вовсе нестерпимой. Потом появляется грузовик-ЗИЛ с опущенными бортами, там — среди кучи еловых ветвей, которые потом долго еще валяются по всей улице, — лежит гроб, а в нем что-то синее с человеческим лицом… Идут разговоры: «Утонула… Молодая была, тридцать лет всего… Сказала: нырну в последний разок, — вот и вышел последний разок… Через два дня только нашли…»
Все, что связано с похоронами, стало мне ненавистно: еловые лапы, красная — как на гробе — материя, вид опущенных бортов у грузовика. В маленьком городе каждые похороны — событие. Вечером взрослые обсуждают: кого хоронили, как умер этот несчастный, а главное — кого из знакомых постигла такая же смерть. Число мертвецов в моей голове множится — с синими, желтыми и белыми лицами среди накрахмаленных кружев гробовых подушечек… Все прошло, давно испарились те детские страхи, а вот городка того я с тех пор терпеть не могу, смертная тоска нападет на меня всякий раз, когда вспоминаю его пейзажи, и на всякой его улице видится мне похоронная процессия.
И вот — глупый вопрос: что же пугало меня в смерти? Я, помню, делился своими страхами с приятелями, и они мне безпечно отвечали, что, мол, ну и что, — подумаешь, смерть!.. Меня нет, и горя, значит, нет никакого. Если меня самого нет, то как же я горевать буду? Кто-то даже сказал такую неглупую вещь: «Когда ты еще не родился, тебе очень было неприятно, что тебя нет? Вот и тут точно так же, и нечего переживать!» Но никакого небытия я за смертью не чувствовал, и успокоительные слова о небытии, бывшем до рождения, нисколько не действовали. Видел или, вернее, чувствовал я в смерти некое совершенно нечеловеческое глумление, унижение, равного которому нет: тридцатилетняя женщина, живая, с какими-то своими мыслями, чувствами, планами на будущее — ныряет и… И превращается в страшное, нечеловеческое, неподвижное, синее… Бессмысленное и отвратительное, которое нужно скорее унести с глаз долой и закопать подальше от города. Вот какие шутки шутит с человеком «природа-мать»! Хороша же мать, хорош же и весь этот мир!.. И если так мерзостно меняется тело, — то что происходит с душой, с сознанием? Легенды о вурдалаках, которым днем я не верил, ночью становились пугающе убедительными.
…Страхи эти мучили меня года два, потом слегка отпустило. Острота переживания ушла, — правда, глубина осталась и в некие минуты вскипала волнами. Хотя с годами этот страх переплавился в свою видимую противоположность: в браваду, в игру с опасностью. Заплыть на реке подальше, пока сил хватает, на самую быстрину, и там, уже едва дыша от усталости, нырнуть, пытаясь достать до дна; пройти по дощечке над разобранной крышей на стройке; забрести в лес, в незнакомое место и, не зная дороги, идти и идти среди болот и дебрей, с радостью чувствуя, что выбираться будет совсем не просто…
И вот, как-то раз, лет уже в пятнадцать, вспоминая эти свои детские фобии, подумал: «А чего человек вообще боится? Боится болезни, бедности, разлуки с близкими… Если обобщить все эти страхи, то выйдет, что боится человек только боли — физической и душевной. А что такое боль? Это предвестник смерти, ее спутник и глашатай. Боль понемногу вселяет в нас смерть, шаг за шагом приводит ее в наше тело, в нашу душу. Так, значит, конечная точка всех страхов — смерть. Чего бы человек ни боялся, он боится смерти».
«Хорошо, — работала дальше мысль, — если смерть — это наш последний и единственный страх, то что же наше последнее и главное желание? Жизнь? Но жизнь сама по себе — не подарок. Жизнь — это еще не счастье, это только условие для счастья. Жизнь, полную болезней и страдания, не лучше ли заменить на небытие? И пустое существование тоже мало кого привлекает. Выходит, дело не в жизни как таковой, а в ее содержании. Что же наполняет жизнь радостью? Не любовь ли? Та любовь, которую мы крошечными дозами время от времени получаем от окружающих, та любовь, что мы теми же дозами отпускаем ближним. Мы страдаем от малости этих доз, нам хочется больше, больше любви — целый океан. Чтобы все меня любили так, как любит мать, — или еще сильнее! Чтобы ничто не мешало моему счастью любить каждого, как самого себя! Вот конечный результат всех стремлений — полная и совершенная взаимная любовь ко всем. Вот в чем мы можем успокоиться — во всеобщей любви, которой, конечно, не бывает, которая существует лишь как полнота идеала, как недостижимая черта горизонта. Не зная, как ее найти, мы придумываем себе различные суррогаты, из которых главных два: блуд и стремление к превосходству над окружающими. Ибо жажда возвышения — это та же жажда любви: если не любят, так пусть хоть трепещут пред моим величием; а величие это может выражаться и во власти, и в богатстве, и в гениальности и так далее…»
«Итак, все мы тщетно пытаемся убежать от смерти и тщетно стремимся достигнуть любви: в этом вся жизнь наша, если обобщить ее до последних пределов. Чего бы мы ни боялись, мы боимся смерти; к чему бы мы ни стремились, мы стремимся к любви. Любовь и смерть — единственное наполнение нашей жизни».
Тогда, в пятнадцать лет, мысль эта, неведомо откуда забредшая в юную голову, показалась мне чуть ли не софизмом, вроде задачки о том, почему Ахиллес не сможет догнать черепаху. А теперь…
Полнота любви — Бог, полнота смерти — грех. Так церковь учит, так в Писании сказано. Бог есть любовь, иди к Нему и найдешь тот самый океан совершенной любви, без которого тоскуешь и мучаешься на этом скудном любовью свете. Грех — это смерть, иди по пути греха и придешь к тому самому вечному громыханию душераздирающего похоронного марша, фальшивого и пронзительного, который навсегда завязнет у тебя в ушах. Два пути, две составляющие человеческой жизни, смерть и любовь, — на земле они неразрывны, связаны и переплетены, но однажды две эти половинки разделятся, и одним достанется только первая, а другим — только вторая…
Разве я что-то новое говорю?.. Это было известно всегда…
* * *
Кажется, Набоков, признался, что собственной смерти не боялся никогда, но всегда боялся услышать о смерти близких… Это, видимо, неизбывный страх: как ни веруй, а потеря любимого человека всегда видится страшным, ни с чем не сравнимым горем. Да, есть такое мнение, что верующему грешно слишком сильно убиваться по своим покойникам, — и это правильно, но когда такую разумную мысль доводят до абсурда, становится не по себе… Умер известный петербургский священник. Во время отпевания его супруга сидела возле гроба в белом платье — и улыбалась. Что она там хотела продемонстрировать: веру в скорую встречу, смирение перед Божией волей?.. Продемонстрировала только собственную бесконечную самовлюблённость: «Смотрите-ка, — у вас так не получится!..» Лучше бы по-человечески поплакала над мужем, как плачем все мы, грешные, над своими покойниками, но — то «все», а то — она…
10. НИЩИЙ НИЩЕМУ ПОДАЁТ…
Однажды мне приснился мой одноклассник, погибший в Афганистане. Он, собственно, снился мне и прежде, да всякий раз как-то не по-хорошему, в кошмарах: то вижу его сидящим на цепи, словно сторожевой пёс, то совершенно голого, замёрзшего… Но в этот раз он был прилично одет и стоял за лотком на улице — чем-то вроде торговал. Я сразу подошёл к нему и спросил: «Серёга, как ты? Всё ли в порядке?» Но он и смотреть на меня не захотел — отвернул лицо и сморщился брезгливо. «Серёга! — продолжал я настойчиво. — Ты скажи, не молчи! Я ведь молюсь за тебя. Тебе стало ли лучше хоть немного?» Не знаю я доподлинно, был ли он крещён, — сильно сомневаюсь в этом и даже почти уверен, что не был. В Афганистане он погиб не от пули — от дизентерии, в госпитале, не успев и полгода прослужить… «Серёга, мне продолжать молиться-то, или что?» Тут он повернулся ко мне — глаза злые-презлые, рот скривлен презрительно… «Не надо, — говорит, — твоих молитв. Уйди отсюда, не хочу тебя видеть». Такой вот сон.
А снам, конечно, верить не стоит, и я, конечно, по-прежнему за него пытаюсь молиться.
Или другое воспоминание: сижу перед телевизором, доедаю котлету, смотрю питерскую криминальную хронику. Рассказывают об очередном «подснежнике» — человеке, убитом осенью, а найденном весной, когда снег сошёл. Самого убитого не показывают — только ноги в красивых когда-то, дорогих ботиночках. Потом во весь экран — его документы. Удостоверение журналиста. Я смотрю на фотографию, на подпись и с ужасом вижу, что это мой однокурсник, мой хороший приятель, который пропал у меня из виду год назад. Мы с ним одно время очень были близки: и жили рядом, и сочиняли в соавторстве, вместе случалось влипать в неприятности, вместе и выбираться… В последний свой год он журналистику бросил, ударился в бизнес; недолго, однако, бизнесменствовал…
А ведь я и телевизор почти не смотрю!.. Надо же было, чтобы Господь именно в этот момент привёл меня к экрану… Не потому ли, что кроме меня за убитого и молиться некому?
Было и такое: случайно в руки попадает газета, в газете — некролог. Умер мой университетский преподаватель — совсем не старый человек; умер прямо на лекции: вошёл, как обычно, в аудиторию, а вышел из неё уже в мир иной… Мне этот человек очень памятен: он проводил со мной собеседование на вступительных экзаменах, а собеседование это по важности само приравнивалось к экзамену; и он отнёсся ко мне очень благожелательно… Как его забыть, как не помянуть в молитвах?
Все мы, пришедшие к вере в конце 80-х, окружены сонмом бедных, нераскаянных, не успевших примириться с Богом душ. Наши родственники, наши друзья, наши знакомые, те, кто жил по-советски честно, и просто не дожил до этих времён, те, кто когда-то выручал нас, те, кто хоть несколько шагов тащил вместе с нами наш крест, те, кто ушёл из жизни, да из нашей памяти уходить не хотят… Все они стоят вокруг нас и ждут. Ждут тихо, смиренно: они уже знают, что в церкви их поминать не положено, и теперь мы для них — самая высшая инстанция, если мы откажем, — больше никто не заступится.
…В редакцию звонила женщина, спрашивала, можно ли молиться за упокой души Анатолия Собчака. Вот, мол, много за ним всего числится, а всё-таки жаль человека, хочется как-то помочь ему… Да почему бы и не помолиться, хоть бы даже и за Собчака? — греха в том не будет, наверное. Вот только… Вот только, стоит ли? Сильные мира сего и после смерти не обойдены людским вниманием; есть у них и почитатели, есть продолжатели, наследники, есть, возможно, и молитвенники… «И без нас большевики обойдутся», без наших скромных молитв.
Другое дело — те, кому кроме нас надеяться не на кого: наши бабушки и дедушки, наши братья и сёстры — безвестные, всем миром, кроме нас, забытые, в монастырских помянниках, как некрещёные, не записанные. У них — только мы, уж какие есть, грешные, не молитвенные, самих себя не могущие вымолить из бездны грехов. Они лишь нашей жалкой, бессильной молитвой богаты, давайте же не будем их лишать хоть этого нищенского куска. Вымолить грешника из ада — задача для великого святого, а мы всё равно, потихоньку, помаленьку, неотступно, каждый день — а Господь, может быть, видя усердие наше, возьмёт да и явит к нашим усопшим Своё неизреченное милосердие.
* * *
…Не так страшна смерть, как её ожидание. Чем плоха старость? Немощи немощами, а больше пугает другое: «Вот стукнет энный возраст, и жди — тогда уж в любую минуту может прийти…» И тут вспоминается мне сейчас одна моя поездка — не далеко от Петербурга, на станцию Володарская…
11. СИДЯЩИЕ В СЕНИ СМЕРТНОЙ
Небольшая больничная палата. В палате пять коек. Каждая койка огорожена просторным белым пологом, так что получается «домик», «келейка». Четыре келейки пусты, в пятой полог раскрыт, и оттуда в палату выглядывает крошечная, очень старенькая, очень ветхая бабушка. Впрочем, «выглядывает» — это сказано неправильно, безтактно. Бабушка — слепая. Глаза у неё закрыты и не откроются уже никогда. Бабушка о чём-то жалобно просит молодую сестру милосердия, та участливо хлопочет вокруг неё. На лице у старушки — бесконечная усталость и страдание, привычно связанные узами терпения.
Рассматривая альбом с фотографиями Покровской богадельни, я уже видел портреты этой старушки, монахини Елизаветы, — какая поразительная разница!.. Мать Елизавета в чёрных иноческих одеждах выделяется на фоне прочих насельниц, как сосна среди берёз: статная, величественная, вся погружённая в молитву… Или ещё одна её фотография: глаза закрыты, кожа мертвенно-желта, но всё лицо испускает тёплый, яркий свет благости, свет мира и любви. Говорят, глаза — зеркало души, но вот — нет глаз, а душа всё равно видна как на ладони…
А сейчас я смотрю на матушку вживе, и ничего, кроме острой жалости, не рождается у меня в сердце: передо мной только очень старый, очень уставший от жизненных невзгод человек. Плоть уже отказалась бороться с недугами, и душа за эту плоть уже не держится, не воюет, душа уже на пороге, душа — вся там.
Насельницы Покровской богадельни на станции Володарской, в приходе во имя прмч. Андрея Критского, — несколько старых-престарых бабушек: не все они монахини, как мать Мария, но все — церковные люди, всю жизнь проведшие при храме Божием. Для меня слово «богадельня», по советской памяти, носит уничижительный смысл, пренебрежительный… «Развели тут богадельню!..» Попасть в такое заведение на старости лет — что может быть хуже?.. И вот спрашиваю у о. Валерия Швецова, благочинного Красносельского округа, духовника Покровской богадельни:
— Быть может, для ваших насельниц жизнь здесь — это форма покаяния? Быть может, они таким образом избывают свои грехи перед смертью?
Батюшка даже рассердился, услышав такое:
— Вы что же, думаете, что наша богадельня — это наказание? Да вы знаете, как мы заботимся об этих бабушках? Сёстры себя не жалеют, сутками ходят за ними, на любой их каприз тут же готовы ответить словами утешения. Кормим мы их хорошо, врачебная помощь — всегда наготове, массажист приходит регулярно… Нет, я считаю, что попасть к нам — это удача, и не всех подряд мы принимаем, а только воцерковлённых людей…
Так сказал о. Валерий, но вскоре я узнал, что хороший уход в Покровской богадельне — не самоцель. Да, помещения здесь светлые и тёплые, еда сытная и добротная, есть уютный зимний сад, есть видеомагнитофон, нигде ни пылинки не увидишь… Но вот что главное: все сестринские хлопоты о бабушках, в сущности, сводятся к тому, чтобы, оградив насельниц от житейских забот и тягот, высвободить их силы для последнего молитвенного подвига. Богадельня — это маленький монастырь, главное дело здесь — молитва. Старушки молятся утром, молятся вечером, днём читают Псалтирь и акафисты, свободное время проводят за житиями святых и святоотеческой литературой.
— Неужели они это выдерживают? Здоровые, молодые люди порой не могут простого молитвенного правила соблюдать…
— Так ведь наши бабушки изначально знают, на что идут, — отвечает управляющая богадельней монахиня Нина. — Они согласны так жить. Они к такой жизни привыкли: ведь это люди, не вчера пришедшие в храм. Всем понятно, что они приходят сюда умирать. Отсюда и наша задача: подготовить насельниц к этому переходу; а как это сделать без сугубой молитвы, без покаяния, без причастия? Мы здесь для того, чтобы снарядить их в путь.
— Но ведь эти бабушки — существа немощные, слабые. Неужели их не охватывает страх при мысли об этом самом переходе? Бывает ли так, что к вам подходит старушка и говорит: «Матушка, мне страшно! Успокойте меня!»
— Что поделать, — говорит мать Нина, — страх смерти — вещь почти неизбывная. Он и нас посещает порой… Плоть восстаёт против уничтожения, но немощи плоти обязана смирять душа. Душа и ум. Умом мы знаем, а сердцем верим, что за дверями смерти нас ждёт новая жизнь, — вот об этом мы и говорим нашим бабушкам. А вообще-то они спокойно думают о неизбежном. Если и случаются страхи, то совсем иного рода. Одна наша насельница, например, начала вдруг слышать голоса — злобные, пугающие. Что это — бесовское нападение или просто старческая немощь, мы не знаем. Бабушка эта хорошая, любит молиться, всем её очень жалко. Голоса её посещают не часто, но уж когда начнут, тогда ей не до молитвы. Тогда она просит сестру побыть с ней рядом и помолиться за неё. Как мы можем отказать в такой просьбе?
— И всё-таки: женский коллектив, да к тому же подверженный возрастным болезням… Наверное, тяжело поддерживать в нём порядок?
— Случается, что старушки начинают капризничать, — конечно, случается. Что тут поделать? Нужна духовная помощь. Приходит батюшка, проводит с бабушками беседы — порой очень строгие. Но не ругает их, конечно, а наставляет, вразумляет… И порядок быстро восстанавливается. А что ещё безпокоит наш коллектив? Вот мать Елизавета, наша монахиня: она привыкла всю жизнь вставать по ночам и молиться; она и здесь не оставляет этой привычки. Однако она ведь не только слепая, но и глухая совсем!.. Она сама себя не слышит, она молится в полный голос и не даёт никому спать!.. Мы все её очень любим и уважаем, но что с такой бедой поделать? Просим её, уговариваем…
Слова матери Нины ещё раз подтверждают моё наблюдение: сёстры в богадельне к насельницам относятся с большой заботой и любовью — но без сюсюканья, без слащавости; слово сестринское произносится «мягко, но твёрдо», со властью. Удивительная связь между ними: старушки находятся на послушании у сестёр, а сёстры — на послушании у старушек, у их немощей, хвороб, страхов… Так и спасаются и те, и другие.
И как запретить молиться матушке Елизавете, если молитва — её дыхание, если даже во сне она поёт песнь Богородице? Вот какие слова приснились ей однажды:
«Вся Ты, Владычице, Свет, Вся — Святыня, Вся Ты Благость, Вся — Премудрость, Всегда Ты одна и та же, Всесовершенная, Всё Ты можеши, яко Мати Всесовершенного Царя Славы».Смотришь на старушек из Покровской богадельни: иногда кажется, что это почти ангелы — настолько плоть уже чужда им, настолько она уже сроднилась с землёй. А с другой стороны, тяжко душе такую плоть таскать, хватит ли ей сил на что-то другое? Вспоминается библейское: «сидящие в сени смертней»… Да, сень смертная уже распростёрлась над ними. Но богадельня-то — Покровская, так, может быть, это не смертная сень, а Омофор Владычицы?.. И не правильнее ли будет в данном случае вместо церковнославянского «сень» вспомнить русское слово «сени»? «Сени, прихожая»; тогда получится, что насельницы сидят «в сенях у смерти», в преддверии новой, чистой, милосердной жизни…
* * *
Потери бывают разные. Вот рассказ об одной потере, от которой душа тоже болела, и до сих пор болит…
12. ТЕПЕРЬ ИХ НЕТ…
(Вместо некролога)
Место: Ленинградская область, Подпорожский район, деревня Волнаволок. Время: 2004 год, 13 июня, День Всех Святых, в земле Российской просиявших, около 10 часов вечера.
Подпорожская земля вообще необычайно красива, но деревня Волнаволок даже здесь заметна: не затерянная в лесах, не задушенная советскими новостройками, лежит она между двух озер — большого Пидьмозера и маленького, безымянного, на просторе… Десятка два деревянных изб, в которых ныне живут одни дачники, да на вдающемся в Пидьмозеро высоком мыске — две церкви.
Две церкви: зимняя и летняя, старая и новая. Старая, ХVII века, — во имя Покрова Богородицы, и новая, середины XIX, — во имя сщмч. Власия. Службы в них с 30-х годов не велись. Стоят они на мыске рядом, едва ли не вплотную друг к дружке, возвышаясь над всем Волнаволоком; старая — сильно порушена, без купола, без шатра над колокольней, но сруб еще крепкий, и без труда видишь в ней знакомые черты деревянного храмоздательства, общие для всего русского Севера. Новая сохранилась много лучше: даже половицы в ней не сгнили; а строили ее по-новому, как каменные храмы в городах строят, с круглым куполом и деревянными колоннами дорического ордера.
Как и все деревенские церкви, Покровская и Власьевская строились так, чтобы объединять, сплачивать вокруг себя всю окрестность, быть ее зримым центром и осью; и хоть 70 лет не велись здесь службы, постепенно разошлась, обезлюдела деревня, но стояли церкви, и видно было издалека, что не угас дух до конца, что можно и деревню на ноги поднять, можно и службы церковные возобновить. С самых дальних подступов, едва только увидишь купол Власьевского храма, сразу поймешь: это место хорошее, благодатное, здесь жить можно, здесь душе легко будет.
Так и стояли 70 лет волнаволокские церкви, дожидаясь, пока о них люди вспомнят… Не дождались. В этот год, на день Всех Святых, в земле Российской просиявших, вечером разожгли рыбаки костер на берегу озера, огонь перекинулся на многолетний сухой малинник, окружавший оба храма… Сухая малина горит не хуже пороха. В один миг оба храма охватило пламя. В сгустившихся сумерках оно было видно на многие километры вокруг. Жители, едва поняв, что происходит, тут же вызвали пожарных, и те, надо отдать им должное, приехали очень быстро. Но горело так, что помочь уже было ничем нельзя. Церковь Покрова Богородицы сгорела дотла, от Власьевской церкви остался один сруб, который, впрочем, на другой же день разобрали. И не стало церквей.
Что ушло вместе с ними? Волнаволок — деревня поистине древняя. В летописях она упоминалась впервые в XVI веке, а историки говорят, что еще до крещения Руси, и даже до Рождества Христова, было здесь поселение. Так вот: пока стояли церкви, было и зримое ощущение этой древности. Каждый, кто приходил сюда, сразу видел, что люди здесь селятся испокон веку и будут еще селиться, несмотря ни на что. Но чем стал ныне Волнаволок без своих церквей? Дачным поселком…
Скажут: зачем в масштабах России плакать по двум ветхим церквушкам в Богом забытой северной деревеньке?
А она не была Богом забыта. Пока церкви стояли, это всякий видел. Они, хоть и стояли праздно, а Дух Божий в них жил и освещал все вокруг Своим неизреченным светом. И больно душе, что погас этот огонек, — пусть даже не навсегда, на время. Чуть-чуть темнее стало на Руси.
Один человек умирает — другой рождается, по мертвому не будешь вечно плакать. Верю, что когда-то на месте сгоревших церквей встанут в Волнаволоке новые. В конце концов, за тысячу лет, что жители Волнаволока ходят в храм Божий, такое случалось не раз. Впервые церковь здесь поставили едва ли не во времена князя Владимира Святого. Горели храмы, рушились от ветхости, и вырастали новые на том же месте…
Верю, что и сейчас так будет. А все-таки мне жалко тех, сгоревших. Когда-то мы приходили к стенам заколоченной Покровской церкви и, прижавшись лицом к шершавым ее замшелым доскам, молились, просили помощи. И было нам по молитвам нашим: приходила помощь, хотя, казалось бы, — неоткуда ей было прийти. И это не забудется никогда.
Вечная им память, скромным деревянным храмам Божиим, в маленькой деревушке на Севере России.
* * *
В Петербурге, пожалуй, нет мест, столь преисполненных тишиной и миром, как тот холмик в деревне Волнаволок где стояли когда-то две деревянные церковки. Или всё таки есть?.. Есть, конечно: на Смоленском кладбище, у часовни Ксении Блаженной.
13. К МАТУШКЕ ПРИШЛИ…
…Смоленское кладбище подобно спящему ребёнку: глубоким миром и чистотой веет на его аллеях. Ради чего только не идём мы ко Ксении Блаженной! Выплакать горе, вымолить удачу — и каждый замкнут в себе, в своей беде, в своей радости… В своей молитве. И это понятно, и странно было бы прийти ко Ксении, чтобы поглазеть на народ. Но вот я впервые у Блаженной не ради молитвы, а именно ради молящихся. Смотрю, озираюсь, вглядываюсь.
Удивительно! Нет на этих людях всем нам знакомой печати «церковности», привычного благочестия, заученной молитвенности. Люди одеты не слишком благочестиво, зато в глазах, на устах не вычитанная из книжки молитва — из сердца рвущаяся мольба. Заговорить с ними? Но они сюда не для бесед пришли.
Вот мужчина — солидный, хорошо одетый, уверенный в себе. Подходишь к нему с вопросом — а он вдруг в слёзы:
— Сын погиб… Виталик… Двадцать три года было… Может, хоть Ксения подскажет, как дальше-то жить?
Вот нарядная дама с маленьким ребёнком:
— Я Ксении очень благодарна… Она мне так помогла… Чем? Ну, я любила одного человека… И очень хотела выйти за него… И вышла. А сейчас о другом прошу: мне операция предстоит… Так боюсь…
Молодой парень смущается:
— Я когда с девушкой своей поссорюсь, всегда сюда прихожу… Помогает…
Мужчина спортивного вида охотно отвечает:
— В первый раз сюда пришёл, когда на тренировках перестарался: сместились позвонки, еле двигался. Дополз сюда, прочёл акафист — обратно пошёл как новый. А сейчас я в Америке живу. Но Ксению не забываю: как останусь без работы, так сразу ей молюсь — и сразу что-то очень приличное находится.
Женщина в слезах:
— У меня папа умер. Остались мы с мамой вдвоём… Мне Ксения однажды очень помогла: получила я через неё очень ценный совет… Верю, что и теперь поможет.
Пожилая женщина:
— Поживите-ка с моё по коммуналкам, узнаете, почем фунт лиха. А Ксения мне квартиру послала чудесным образом…
Всё-таки, для хорошего разговора нужен свой человек, церковный, понимающий, что к чему. И нашёлся такой человек, даже двое, супружеская пара — АлександриМарина Соколовы. Сидим с ними в храме и беседуем не спеша.
— Когда вы впервые узнали, что есть такая святая Ксения? Можно этот момент вспомнить?
— Можно, можно, — отвечает Александр. — Лет 15 назад наша соседка дала нам книжечку почитать — житие матушки Ксении. И прочитали, — а сами ещё и не крещены были. И никакого особого впечатления не получили: так — приятное, познавательное чтение, сердце спокойным осталось. Но прошёл год, мы крестились… И вскоре привёл Господь встретиться с Матушкой, так сказать, лицом к лицу… Шёл тяжёлый 1993-й. Возвращаюсь из отпуска и вижу: тёщенька моя из Пскова приехала. Плачет горько! На работе её сократили, с жильём какие-то трудности начались, и ещё что-то, и ещё… Тут же отправляюсь с ней на вокзал — едем во Псков, чтобы на месте посмотреть, чем можно помочь. А как помогать?! Ума не приложу! Я с такими делами не сталкивался никогда — с чего начать? Чем закончить? И вот, не доходя до вокзала, я ни с того ни с сего отправляюсь в ближайший храм и покупаю акафист Блаженной Ксении. И всю дорогу до Пскова, четыре часа с лишним, читаю его. И всё решилось самым лучшим — и совершенно чудесным — образом. Меня словно за руку кто-то вёл.
И это ещё не всё. Возвращаюсь в Питер счастливый, умиротворённый: не столько оттого, что беду от тёщи отвёл, сколько оттого, что молился всей душой и был услышан. Это впервые со мной такое! Удивительно! За окном лето: смотрю, улыбаясь, как мимо проносятся коттеджи наших первых богачей… Думаю: Бог с ними, с богачами, а вот строителям этих дач можно позавидовать — работа на природе, понятная, интересная, и деньги за неё платят… А у меня-то… И ведь не просил ни о чём, не молился, но приехал в город, не успел домой прийти, как мне встречается знакомый и предлагает: «Бросай ты свою работу, иди с нами коттеджи строить!» И все эти тяжёлые 90-е годы мы с семьёй прожили спокойно: новая работа кормила исправно. Вот с тех-то пор мы с Мариной и уцепились за зелёную юбку матушки Ксении — так и идём по жизни… Любим мы Матушку. Всегда она с нами. Это не фантазии, не восторженность, это действительно так.
В жизни чего только не пришлось вынести… Вот дочка младшая у нас умирала… Онкология… Лежала в реанимации, и никто нам ничего утешительного не говорил. Всё, конец! Что делать? Как всегда — идём ко Ксении. Цветы купили для Матушки… Стоим, молимся — но не словами: какие там могут быть слова? Душой говорим. И ведь что такое поход на Смоленское? Стоишь там, в часовне, на душе и боль, и отчаяние — а всё равно сердцу тепло, и чувствуешь, что рады тебе, и уходить не хочется… Возвращаемся домой: куда делась тревога? Всё спокойно, надежда тверда… И надежда не посрамила: Маша вышла из больницы.
— Мне предстояла операция, — рассказывает Марина. — Врачи сказали: или решайся, или оставишь детей сиротами. Ну, решилась… А для операции-то деньги нужны! А денег нет. Просто нет, и всё! Я сама не своя, а Саша мне говорит: «Да ты ко Ксении сходи!» И я сразу как-то успокоилась, пошла на Смоленское, помолилась… Иду опять к врачам: «У меня нету денег! У нас трое детей…» И вдруг зав. отделением мне говорит: «Ну ладно, а 150 рублей у вас найдётся на шприцы?» И сделали всё безплатно! Как за такое благодарить?
— Обо всём не расскажешь, — говорит Александр. — Но вот что случилось не с нами, а с нашим знакомым. Он попал к сектантам. И крепко там увяз, и не просто рядовым прихожанином был, а пост какой-то занимал немаловажный… А человек-то хороший! Мы любили его и всегда молились матушке Ксении, чтобы вывела его на верный путь. И что же вышло? Сектанты его сами выгнали! Он занимался искусственным мрамором — реставрировал дворцы, музеи, храмы… Вот пригласили его с бригадой поработать в одном храме… Сектанты узнали об этом и выставили ультиматум: «Или уходи из секты, или откажись от заказа! Как ты смеешь работать на этих еретиков!» Подумал наш знакомый: как отказаться от заказа? На нём же бригада, людям деньги нужно зарабатывать! И ушёл из секты. И больше к ним не вернулся. А недавно мы узнали, что его бригаду пригласили реставрировать Ксеньину часовню! Это ли не ответ на наши молитвы?
А бывает, что и не приветит Ксения. Я тоже хотел поработать в её часовне, договорился обо всём, отпуск взял посреди зимы… Ждал-ждал вызова — не дождался, всё сорвалось! Не пустила меня Матушка. Почему? Стало быть, есть за что…
Вы поймите: Ксения Блаженная — это человек, рядом с нами со всеми живущий, это не машина для исполнения желаний: ткнул на кнопку — и получил заказ! Нет… Тут только любовью всё делается. Я замечал: придёшь, бывало, на Смоленское без особой просьбы — просто пообщаться молитвенно с Матушкой… Постоишь, приложишься к могилке, прочтёшь акафист… Возвращаешься обратно, и в душе такое чувство, будто произошло что-то очень важное! Что? Трудно сказать, невозможно сказать… Но это «что-то» бывает важнее иной исполненной просьбы. И такая радость: чувствуешь, что вот она, Матушка, рядом, не забывает тебя, привет передаёт. Нет, это не фантазия, не воображение, — это живое, тёплое чувство. Те, кто любит всё объяснять по-житейски, — те любому чуду найдут объяснение. Помню, говорил с товарищем по работе: делились друг с другом своими мечтами… Потом предлагаю ему: давай на Смоленское сходим — может, Матушка поможет нам?.. Он с недоверием, но согласился… В течение года большая часть его желаний исполнились! Я ему говорю: «Ну теперь-то ты веришь?» А он усмехается и начинает всё объяснять простыми житейскими причинами… Да ведь причины причинами, а жизнь могла повернуться совсем иначе — и ни одно желание не исполнилось бы!.. Нет, всегда надо замечать ответ на свою молитву, а заметив, — благодарить. Вот, цветы к часовне принести… Мы тут решили: что зимой простые цветы нести, — они же погибнут тотчас. Давай купим цветок в горшке! Так и сделали — теперь и стоит наш цветок возле могилки…
ЧАСТЬ II. СВЕЧА ПОД ПОЛУДЕННЫМ СОЛНЦЕМ
Всё-таки, беседы со священниками — это главная обязанность для сотрудников нашей редакции. Колесишь по области, из деревни в деревню, отыскивая никому в городе не известные храмы, знакомясь с батюшками не прославленными, не «раскрученными» (простите уже за такое словцо), — и не без удивления убеждаешься, что нынешний сельский поп — он зачастую и бодрее, и умнее (да, да…), и глубже, и искреннее, и живее, и речистее своего столичного собрата, — пусть столичный и по телевидению выступал, и массу «духовных чад» имеет, и порою даже «старцем» величается… И вот вам для примера — не старец, не оратор, не вождь, не трибун, а…
1. …ПРОСТО СЕЛЬСКИЙ БАТЮШКА
Говорит настоятель церкви во имя св. Архистратига Михаила в деревне Бегуницы о. Леонид Трофимук.
…Вот вы спрашиваете, как люди 60-х годов рождения, воспитанные в неверующих семьях, становятся священниками? Да, это вопрос…
Прежде чем стать батюшкой, надо сперва ещё к Богу прийти. Как это происходит? Ну, со мной ясно: я был крещён во младенчестве. Приехала к моим родителям бабушка поздравить их с новорожденным — со мной то есть — и спрашивает: «А крестить-то вы его собираетесь?» — «Возможно, когда-нибудь… Потом… Попозже…» — «Не попозже, а сейчас! Пока не крестите, я отсюда не уеду!» И понесли меня крестить. Нет, это не здесь происходило, не в Бегуницах, а в Рождествене — я из тех мест родом. Знаете тамошний храм во имя Рождества Богородицы? Вот это и есть моя родная церковь! Зима, мороз лютый, родители убиваются: как это меня, такого маленького, будут в холодном храме в холодную воду опускать… А ничего, всё очень хорошо вышло: крестили меня в особом таком домике возле храма, в крестилке так называемой: растопили там большущую русскую печь, нагрели воды, отца выставили в коридор, чтобы не мешал, и совершили обряд честь по чести. Отец в коридоре чуть не умер от волнения… Он на юридический факультет в ту пору поступал, был кандидатом в члены партии… Естественно, потом ни о какой церкви в семье речи не было, и рос я нормальным советским безбожником.
А как начал приходить к вере? Это для меня самого такая тайна, да и никому о себе этого не понять… Я заметил: кто бы что ни говорил о том, как он впервые уверовал в Бога, — всё это будет не правдой… Не полной правдой, точнее… Первый Божий призыв тих и почти не слышен, не остаётся в сознании… Но душа его уже ухватила, уже встрепенулась, хотя ум продолжает пребывать в прежнем качестве. А я уверен: наш брат приходит к Богу, когда за него кто-то начинает крепко молиться: или кто-то из ныне живущих, или предки на небесах… Господь не будет насильно толкать человека к вере, а вот по чьей-то просьбе, по молитве — это пожалуйста; даст душе первый толчок и посмотрит на реакцию: ага, встрепенулась душа, значит, можно ещё раз…
Короче, впервые я надел крест в армии. Просто захотелось его надеть — и всё. Без объяснений. И все мои сопризывники тоже в то же время стали носить кресты. Помню, едем на дембель, зашли в вагон, кительки расстегнули, а какая-то пассажирка нос сморщила: «Ой, смотрите-ка, кресты нацепили!..» (Это я вроде как впервые подвергся гонению за Христа). Что бы на моём месте сказал в ответ любой 20-летний парень? — да ляпнул бы что-то грубое, чтобы замолчала надолго… А я почему-то ничего не сказал — и сам удивился тому. Не хотелось говорить худого, хотелось ответить по-доброму, но ничего доброго о кресте православном я тогда ещё не знал — потому и смолчал.
Но знать хотелось! Дома перерыл всю родительскую библиотеку, искал ответ на вопрос: Кто же такой Христос? Чего только не начитался… Тьфу, противно вспоминать. Добрался до ПСС В.И. Ленина — от отца мне осталось, — нашёл там работы на тему «Коммунизм и религия»; думаю, стану исходить из противного: где Ильич что ругает, там, стало быть, добро и скрыто… И какое же разочарование! Ничего, кроме ругани! Никакой полезной информации: только безпредметное, безтолковое поливание грязью! Одна вода — точнее, одни помои! Видимо, Ленин никогда религию не изучал, никогда о вере не задумывался, а только ненавидел её нутром, — и это всё.
Ладно, решил я, без Библии тут не обойтись. И вообразите только себе: едва я так решил, как какой-то священник на улице подарил маме Библию! Знаете, такую — финского издания, малого формата, на папиросной, тончайшей бумаге, — но перевод канонический, Синодальный. Знаете, конечно! В нашем поколении многие с таких Библий начинали! И уселся я за чтение. Как человек добросовестный, решил читать с первой страницы до последней. Ну и хлебнул горя! Ещё Книга Бытия — куда ни шло, более или менее понятно, но дальше: Числа, Судьи, Паралипоменон!.. Отложу, бывало, книгу, измерю толщину страниц пальцами: нет, до Евангелия, до Христа ещё читать да читать… Вы представляете, что это за труд для неготовой души? Но я не сдавался. Я придумал себе такой порядок: сижу за Библией, пока голова не начнёт пухнуть, а потом беру — знаете что? — сборник сказок народов мира. Почитаю денёк сказки — в голове всё уляжется, и снова возникает желание сесть за Писание. И так одолел всю книгу.
Но вы же понимаете: от Библии до храма дорога не близкая! Сектанты вон читают Библию, читают, а к подлинной вере так и не приближаются. А меня же словно отталкивал кто от церкви. В свою родную, Рождества Богородицы — и носа не показывал! Разве иногда в Гатчине, где меня никто не знал, забежишь на минутку в Павловский собор — и скорее назад! Но любопытство всё-таки жило в душе. Однажды на Успение зашёл в храм — и тут откуда ни возьмись появляется какая-то женщина (это регентша была, как я потом узнал) и хвать за руку железной хваткой: «Пойдёмте, пойдёмте, нам помощь нужна: вы же хорошо читаете — будете читать для нас Евангелие». Я не смог устоять перед таким напором, но в душе всё сопротивлялось: как это? я стою посреди церкви?! я читаю вслух Евангелие?! — бежать, скорее бежать!!! Но не убежал. Потом мне регентша говорит: «Вот спасибо! Приходите ещё!» — «Да, да, — бормочу, — приду обязательно…» — а сам думаю: «Да никогда в жизни! Да ноги моей здесь не будет!» Однако… Вот, видите сами, чем всё закончилось. Был в Рождествене церковным сторожем, был псаломщиком, чтецом, ну и наконец…
Как здесь, в Бегуницах, стал настоятелем? Тут история такая: бегуницкий храм во имя Архистратига Божия Михаила открылся в 90-х, но постоянного священника здесь не было. А прихожанки наши — они знаете какие активные? Кто-то им посоветовал писать прошение владыке, так они завалили епархию письмами! И сами в Питер приезжали не раз. Их уже в лицо стали узнавать: «Ах, это бегуницкие идут! Будет вам батюшка, будет, подождите только!» И тут как раз моё рукоположение случилось. Уж как они обрадовались, что теперь у них свой батюшка есть, хоть и молодой! Теперь, как собираюсь куда ехать, они уже бегут: «Вы, отец Леонид, куда? Вы не насовсем от нас?» А мне о таком и подумать невозможно: я с 2001 года тут уже корни пустил, мне здесь всё родное, как отсюда ехать?
И правда: очень хорошее место. У нас даже если человек считает себя твердокаменным неверующим, он церковь хулить не будет и к нам относится хорошо. Это меня Господь пожалел: по слабости моей да по неопытности послал такой приход: прихожане сильные, горящие верой, население дружелюбное — служи и радуйся!
А храм не так чтобы очень старинный. Его князья Волконские строили в середине XIX века. Строили-строили, да как-то всё достроить не могли. Ехал однажды по нашей дороге сам царь Александр II. Смотрит: начато строительство храма да заброшено. Пожелал остановиться, узнать, в чём дело. Денег нет? Ну вот вам деньги! Если какие вопросы будут, прямо ко мне обращайтесь! — и дальше поехал. Так с царской помощью и достроили храм и один из приделов освятили во имя царского святого покровителя Александра Невского. Ну, конечно, закрывали храм большевики… Причём довольно рано его закрыли, когда в прочих храмах ещё и не думали, что их та же судьба постигнет. Нашёлся, представьте, какой-то жук — письмо написал куда следует: «Мы, мол, тут, в деревне, хотим культурно развиваться, постигать революционную премудрость, а как это сделать, если под носом рассадник мракобесия?» И закрыли нас… И сперва, как водится, устроили в храме клуб. Вот, где алтарь, — тут сцена была. Но вышла незадача: икону, написанную прямо на стене, замазали масляной краской, а она возьми да проступи опять! К каждым советским праздникам её замазывают, а она снова проступает: не очень ясно, но разглядеть можно без труда. Так и не могли ничего поделать с ней, и после войны уже переделали клуб в тракторную мастерскую, алтарную стену вовсе снесли, чтобы был проход для тракторов, всё запачкали, закоптили… Вы не поверите: тут от пола до потолка всё черным-черно было. Службы шли там, где сейчас трапезная… А сейчас — да, чисто, красиво… Ну так я же вам говорю: у меня прихожане очень хорошие — им и приказывать ничего не надо, они сами всё сделают, я смотрю только…
Когда службы начались, приходит какой-то дядечка… «У меня, говорит, мать старенькая помирает… Сюда меня прислала… у неё кусочек есть от вашей церкви, так она отдать его хочет…» Как это — кусочек от церкви? — «Да вот, взгляните!» — и протягивает мне дощечку. Её, видимо, выломали из алтарной двери, на ней чей-то лик написан — ну как разберёшь, чей? И тут видим надпись: Архангел Михаил. Вот оно что!.. Сам Архистратиг к нам явился, благословляет нас, ободряет, говорит: «Это я вернулся! Я снова с вами!» Сейчас эта дощечка у нас на почётном месте, на особом аналое…
Строимся, восстанавливаемся потихоньку. Сейчас, конечно, цари по нашей трассе не ездят, чтобы, значит, помощи у них попросить, но помощники всё-таки и без того есть, слава Богу: и в совхозе нашем, и в администрации, и даже в соседней колонии. Мы туда приезжаем время от времени: ох как жалко тех, кто там сидит! Как им вера нужна! Они, конечно, молчат, сами не скажут, что душа у них тоскует, но только заведёшь с ним разговор — и у него сразу столько вопросов появляется, и чем дольше разговор, тем больше вопросов… Они уже бригадку свою сколотили, чтобы нам помогать: с удовольствием ездят на работу. Но не все, конечно: есть там группа таких, которые, хоть и помирают от безделья и скуки, а за работу ни за что не примутся… Странные люди. А когда бригада работает здесь, то наши прихожане ими и руководят: у меня золото, а не прихожане. Живём с ними очень дружно; как у кого из наших именины — обязательно собираемся все вместе в трапезной, празднуем, как положено. Помню, на недавних именинах кто-то сказал такой тост: «Хочу, говорит, поднять эту чашку чая за то, чтобы всех нас отпели в нашей родной Архангельской церкви, да и под звон колоколов!» Это намёк: чтобы, значит, поскорее колокольню батюшка возводил. Ну что ж, будем стараться. У нас и план есть старинный, подлинный, мы знаем в точности, как наш храм выглядел в прежние времена, так что дело за малым: начать да кончить. Сделаем, всё сделаем, будьте уверены.
* * *
И ещё одна беседа с отцом Леонидом. После первой встречи захотелось продолжить знакомство: ясно, что этот молодой, улыбчивый священник не всё ещё сказал, не весь свой багаж выложил… Это ведь чувствуется: с одним поговоришь час и понимаешь — всё, приехали, дальше будет только повторение уже сказанного (хорошо, если другими словами). А другой говорит-говорит, а ты видишь — он до главного-то своего богатства ещё не добрался, он только присказку начинает, он смотрит — сумеешь ли ты эти первые слова принять как должно? И если сумеешь, — тогда…
Тут поймите меня правильно: я не о болтунах говорю. Болтун всегда пуст. Болтуна устаёшь слушать через десять минут. Я говорю о тех, у кого «от избытка сердца глаголют уста», — и чем сердце глубже, тем уста сильнее.
2. КОНЕЧНО, ВЫЖИВЕМ!
— …Тут ведь вот какое дело: мы с вами, допустим, собрались, поговорили, обсудили — решили, что воцерковление в России должно идти по таким-то путям, с такой-то скоростью… А в жизни почему-то всё выходит совсем иначе. У нас было столько светлых идей, столько полезных наработок… Мы, образно говоря, выкопали русло, пустили воду… А вода пошла совсем иным путём. Ручеёк сам выбирает себе дорогу, не спрашивая нашего мнения. Вот давайте вспомним советские времена. После революции многие задумывались: а что же теперь будет с Россией? Что будет с верой православной? Многие давали свои рецепты спасения, многие даже пытались эти рецепты воплотить в жизнь… И что же? И Россия спаслась, и вера православная, несмотря ни на что, сохранилась, — и всё это случилось совсем не так, как указывали мудрецы. И сейчас всё повторяется: Россия воцерковляется, но иначе, чем мы это себе представляли. Нам и хотелось бы, чтобы люди стройными колоннами двинулись в храмы, а на деле…
— Ну, может быть, стройными колоннами и не надо: это как-то по-советски получается…
— По-советски? Я вам так скажу: чтобы собрать людей в колонну, нужно, чтобы они сами к этому стремились, чтобы чувствовали живую связь друг с другом, чтобы помнили, что все — одна семья. Тогда это будет настоящая колонна — крепкая, сплочённая, единая. Но за эту-то сплочённость, за эту родственную связь, испокон века живущую в русском народе, нас и били все прошедшие двадцать лет. Соборность наша была объявлена — чем? Тоталитарным мышлением! А ведь общинное сознание всегда было характерным для России. Для русского семья — всему голова, и народ в нашем понимании — это большая семья… И вдруг такой стиль жизни объявлен тоталитарным мышлением!.. Не раз и не два нас обвиняли в тоталитаризме: в течение 90-х годов только об этом и говорилось, — и западными голосами, и нашими собственными подголосками. Твердили, твердили, обвиняли, стыдили… И сработало в конце концов! Сейчас всё, что хоть немного напоминает об общем делании, вызывает у народа суеверный ужас: «Опять нас к тоталитаризму хотят привести!..» Все разбежались по своим углам, все залезли по уши в собственные дела… А Церковь — это общий путь. Литургию индивидуально перед каждым верующим не служат. Нужно собраться — в единомыслии и любви, — и вместе помолиться. И тут народ одолевает страх: «Собраться? Вместе? А не будут ли при этом ущемлены мои личные права? А не хотят ли меня обезличить в общей массе?» Я помню своё детство, 70-е годы, — не такое уж давнее прошлое: у нас в Рождествено и в Батово каждые выходные люди выносили на улицу столы, устраивали общие праздники под открытым небом, — сегодня один двор всех угощает, в следующий раз другой… Собирались и знакомые, и не очень знакомые… Потом этот обычай стал понемногу забываться… Дальше — больше, — а сегодня и вспомнить об этом странно. Сегодня и семью-то, близких родственников собрать трудно: у всех свои заботы, — не до семейных посиделок.
— Так что же делать? Как побороть индивидуализм? И возможно ли нам тягаться с современной пропагандисткой машиной?
— Возможно или нет, — не знаю, а знаю только, что если мы будем кричать в пустыне: «Люди! Не будьте индивидуалистами!» — ничего у нас не выйдет. Как не раз говорил покойный Патриарх Алексий II, — Церковь должна идти в народ. Я, признаться, раньше не понимал эти слова. «Что же, — думаю, — разве мы уже не в народе? Я сижу в своих Бегуницах, — разве не среди народа?» И только сейчас начинаю понимать Святейшего. Народ наш потихоньку пытается выжить, — не только физически, но и духовно. Народ пытается восстановить разорванные связи… Понемногу образуются какие-то неформальные группировочки… Вот в соседней деревеньке есть библиотека, а при библиотеке сам собой образовался кружок любителей чтения: люди собираются, обсуждают прочитанное… Вот куда нужно идти батюшке, — и не с проповедью сразу, а тоже — как читателю, как простому кружковцу… Вот, глядишь, и образовалась общинка. В школу надо идти, — но не на торжественные линейки, в полном облачении и с кадилом, а на классные часы, для простого разговора о школьных делах. И требы! — требы очень важны!..
— Вот как? А многие батюшки, я знаю, боятся, что их будут считать простыми «требоисполнителями»…
— Требы — великое дело! Какие-то кратенькие службочки, какие-то молитвочки на местах. Люди хотят молиться, — я это вижу. Нельзя сказать, что советские годы прошлись по народу катком и оставили за собой одну духовную пустыню: нет, народ живёт, народ стремится к свету, — но всё это довольно дикий вид имеет, непричёсанный… Надо просто объяснять людям, что и как. Здесь у нас хлебопекарня есть. Как-то встретились мы с директором, он и говорит: «Что, если вам, батюшка, нашу продукцию освящать?» Сам попросил! С тех пор я к ним хожу, совершаю молебны, — и работники на них с охотой ходят, и осмысленно молятся, — хотя в храм пока не спешат заходить… Храм их ещё пугает, — а здесь всё своё, всё привычное, здесь можно молиться спокойно, — никто не засмеёт. И так служишь молебны — то тут, то там… Люди привыкают начинать дела с именем Божиим. Сейчас я сам к ним иду, — я иду в народ, а завтра, с Божией помощью, народ пойдёт ко мне. Думаю, что большинство приходских, деревенских священников давно сами додумались такой же мысли.
— Слышал я не раз от нецерковных людей: потому, дескать, нет массового воцерковления, что Церковь не ответила на какие-то народные потребности. Церковь отдельно, а народ отдельно…
— А что такое «народные потребности»? Потребности у народа самые разные, — в том числе и несовместимые с христианством. И потом, если пытаться ответить на все-все запросы — народа ли, государства ли, — то этих запросов будет всё больше, больше… Всё капризней человек становится, и рано или поздно вспоминает древний лозунг: «Хлеба и зрелищ!» А хлеба и зрелищ никогда не бывает в меру, этого всегда мало, мало… Так что же, я должен под всех подлаживаться? «Чего изволите?» Кончится это тем, что мне скажут: «Попляши-ка теперь перед нами!» Да я бы и поплясал, если бы это на пользу пошло, но тут уместно вспомнить слова Спасителя: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». (Мф. 11. 17) Не на всякую потребность должна откликаться Церковь, а только на потребность духовного оздоровления, на потребность пообщаться с Богом, — и я говорю, что сегодня это народу вовсе не чуждо…
— Я всегда думал, что если однажды некий самый большой начальник стукнет кулаком по столу и скажет: «Ну-ка все бегом в церковь!», — то все и пойдут, и начнётся настоящее воцерковление, — причём, искреннее, а вовсе не из-под палки… Такое случалось в истории: сначала крестится вождь, а вслед за ним и весь народ…
— В этом есть своя правда. Для меня одно несомненно: если десять человек пойдут молиться по приказу, то девятеро потом уйдут из храма, но десятый обязательно останется, потому что почувствует — душа его нашла то, что искала. Можно и так сказать: народ всегда смотрит на своих вождей и — кто вольно, кто невольно — берёт с них пример, прислушивается к их мнениям, старается подлаживаться под их шаг. Тем более, если сверху призовут не к чему-то непотребному, неприемлемому, чуждому, — а к молитве в наших родных русских храмах. Но большой пользы от приказов — даже самых благочестивых — ждать нельзя. В конце концов, так было и в дореволюционной России: люди хотели соответствовать тем требованиям, которые предъявляла к ним власть и общественное мнение, а потому старались вести христианский образ жизни. Но когда рухнули вековые устои, когда сверху стали доноситься совсем иные призывы, большинство стало подстраиваться под новый шаг. В храме остались только те, кто всей душой хотел там остаться. Однако, в Царствие Божие тоже попадают только те, кто всей душой этого хочет…
— Если сравнить ваших прихожан и всех остальных жителей Бегуниц, — можно ли понять, почему эти стали воцерковлёнными, а те не стали? Есть ли между ними какое-то психологическое отличие?
— Я думаю, можно, если постараться, подметить какую-то внешнюю разницу: у этого, мол есть такая чёрточка характера, а у того её нет… Но мне кажется, это будет слишком поверхностно и по большому счёту неправильно. Воцерковление — это тайна. Душа человеческая — страшная глубина, — попробуй, разгляди, что в ней делается. Почему один светится от любви к людям, а другой любит только двух-трёх самых близких, — а третий и вовсе не любит никого? Тайна. Это гораздо глубже, чем воспитание или социальное положение. Такие глубины только Бог ведает. И только Бог знает, какие струны нужно затронуть в душе у человека, чтобы он обратился. Мы этого знать не можем, но мы можем работать, — и Господь укажет нам верную дорогу к человеческому сердцу.
— Если представить себе, что через некоторое время все строительные проблемы во всех храмах будут решены, — всё будет отстроено, отремонтировано, — легче ли тогда пойдёт воцерковление народа?
— Да, увидев золото куполов, многие зайдут полюбопытствовать: «Ого, как у вас тут красиво!..» — и уйдут. А скорее всего реакция будет такая: «Ого! У вас, значит, всё золотом покрыто?! А у нас на улицах нищие!» — и сразу вспомнятся им все вселенские невзгоды человечества, и виновными в них окажутся отстроенные, позолоченные храмы. И поэтому тут та же самая пропорция: десять придут, привлечённые красотой, — девять уйдут, один останется.
— Обычно по нашим деревням много наркоманов, — такое время сейчас. Нередко встречаются среди деревенских жителей даже прямые сатанисты… Как с этим в Бегуницах?
— Что-то, конечно, встречается, но в целом дела обстоят не так уж плохо, — лучше, чем где-либо. Я думаю, что причина тут вот в чём: коренного населения здесь мало. Когда-то люди приезжали в наши края на комсомольские стройки, — это были люди активные, созидательные, положительные… Видимо, традиции тех лет ещё живут. Индивидуализма здесь мало, — а индивидуализм главное зло нашего времени. Люди хотят жить по-человечески, — а жить в полной мере по-человечески можно только, если ты живёшь по-Божьи. Постепенно народ это начинает понимать. А каким путями пойдёт воцерковление? Пути найдутся. И не обязательно те, на которые мы сейчас рассчитываем. Каждое время указывает свою дорогу к сердцу человеческому, и нельзя всё время ходить одними и теми же тропами, воображая, что мы всё ещё живём в XIX веке. Люди пронесли через советское время искорку веры, — и вот теперь её раздуло в небольшой огонёк. Будем верить, что огонёк этот разгорится в большой, всех согревающий костёр.
* * *
Огоньков сейчас по России горит много. Вот один из них: женский монастырь в Старой Ладоге. Когда я его посетил, казалось, что этому огоньку не разгореться ни в коем случае: слишком мало пламя, слишком силён ветер. Однако, монастырь растёт, и, как говорят, сейчас уже значительно обустроился. Тогда же, в 2007 году, всё выглядело так…
3. ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ПЕПЕЛИЩУ
Как это бывает? — растёт-растёт дуб, — и сто лет, и двести, и триста, а потом — буря, молния, не выдерживает старый дуб, валится с треском, и долго-долго, может быть, ещё сто лет, на том месте, где он стоял, только пень расщеплённый торчит. Но проходит время — и вот из пня поднимается побег — тонкий, слабый, но живой, с двумя-тремя дубовыми листочками. Как хочется, чтобы выжил, вырос…
…Древний-древний монастырь. Не самый ли древний на землях области? Во всяком случае, есть такое мнение, что основан он ещё св. прп. Анной Новогородской, бывшей в миру супругой Ярослава Мудрого. Монастырь крепкий, богатый, владевший многими землями и деревнями на берегах Волхова — Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь. Старая Ладога у большинства из нас связана в памяти с Никольским мужским монастырём, а про девичью обитель, возрождённую в 2005 году, ещё мало кто слышал. Когда я сейчас смотрю на насельниц этой обители — настоятельницу, матушку Ангелину (Васильеву), двух юных инокинь и нескольких послушниц, сосчитать которых хватит пальцев на руках, — вот такое и приходит сравнение на ум: тоненькая веточка на останках могучего некогда дуба.
День солнечный, безветренный; Волхов у монастырских стен так чист и невозмутим, словно монахини каждое утро старательно полируют его. А я бы не удивился, если бы это и вправду было так: вся обитель (а она занимает ни много ни мало — четыре гектара) носит следы неустанной женской заботы. Монастырь весь в руинах, но никому он не покажется мёртвым, заброшенным: растёт побег на старом корне. Посреди монастыря — огромный Успенский собор, построенный ещё в XII веке, недавно отреставрированный, весь сияющий одновременно и новизной, и древностью. Внутри он чисто отштукатурен, кое-где видны остатки фресок очень старого письма, — вот образ какого-то святого, а какого — и не различишь уже, — то ли Георгий Победоносец, то ли Целитель Пантелеимон… Но в этом великолепном древнем храме службы проходят редко. Главная монастырская церковь ныне — Крестовоздвиженская. Туда ведёт меня инокиня Дарья, по пути рассказывая об истории монастыря:
— …На этом месте стояла келья Евдокии Лопухиной. Помните из истории? — первая жена Петра I. Сначала её не в наш монастырь сослали, и по первым годам она никак смиряться не хотела. «Меня, — говорит, — насильно постригли, так мне монастырский устав — не закон!» Какие-то заговоры против бывшего мужа… Потом все заговоры раскрылись, сообщников её казнили, а её перевели в Ладогу. Тут она уже смирилась, зажила как инокиня, тут и Пётр с ней примирился: приезжал сюда, подарки ей посылал. Вот две древние липы стоят: по легенде, их Лопухина сажала. Внутри уже пустые, прогнившие, а листья ещё дают…
…Подходим к Крестовоздвиженскому корпусу, и тут инокиня Дарья предостерегает меня: «Осторожнее: здесь у нас собака живёт — очень злая. Хотя вообще-то она хорошая, — она нам так помогала… Мы на ней даже воду возили из источника. А что поделать? Воды поблизости нет, помощников тоже — вот и возили на собаке».
Ещё недавно обитель была коррекционной школой для детей, отстающих в развитии. Планировалось, что после завершения очередного учебного года дети переедут в новое, более благоустроенное помещение и оставят обитель монахиням, но переезд всё откладывался, и сёстрам пришлось делить кров с детьми целый год.
— Да нет, с детьми мы, в общем-то, ладили, — говорит инокиня Дарья. — Дети — они и есть дети… Хотя, конечно, в тех условиях, в которых они жили, трудно не озлобиться. Тут же ни отопления не было, ни воды горячей, зимой температура в помещениях выше десяти градусов не поднималась… А им, бедным жить-то надо. Вот они и растаскивали потихоньку всё, что осталось от монастыря: доски, кирпичи — и продавали на сторону. Мы стали от них откупаться, — то есть, выкупать эти стройматериалы, или даже заранее платить детям, чтобы они не воровали. Чем платили? Деньгами, конфетами… По счастью, всё это началось перед самым их отъездом, а то бы у нас просто средств не хватило. Но с детьми ещё можно ладить было. Хуже другое: возле монастыря, оказывается, был городской пляж, и летом местные жители целыми днями бродили по обители в купальниках, с пивом, песнями… Мы тогда решили каждый вечер обходить обитель крестным ходом, с молитвами, — тем и спасались. Сейчас обнесли территорию монастыря оградой, посторонние здесь не ходят, но от крестного хода мы всё равно не отказались.
Вот и матушка настоятельница идёт к нам навстречу, и, переняв меня у Дарьи, начинает рассказывать о том, какие бои пришлось выдержать ей, прежде чем в Старой Ладоге вновь открылась девичья обитель:
— Не всем, к сожалению, хотелось бы видеть здесь монастырь, многие мечтали устроить на этих землях нечто иное…
— Что-нибудь коммерческое?..
— Да… Вот там должна была стоять сауна, за ней — гостиница, там — ресторан, и посредине всего этого древний храм, как главная приманка для туристов. Шла непрестанная борьба: тихая такая битва, но очень она затрудняла нашу жизнь. Мы здесь Божиим чудом выжили: отопления не было, стёкол не было… Совершенно промёрзшее здание. У меня сегодня девчонки-трудницы проснулись оттого, что на них с потолка штукатурка упала.
— Где же вы, матушка Ангелина, находите таких девушек, которые согласны жить в подобных условиях?..
— Сложный вопрос вы задаёте… Здесь уже немало сменилось людей. Так, наверное, во всех новооткрытых монастырях бывало, особенно в 90-х годах. Тогда это модно было: монашеская одежда, томный взгляд… А потом схлынула волна, искатели моды ушли, и на их место пришли те, кого привела Богородица да Сам Господь. Без Их зова в монастырь идти безполезно: на собственной воле, на собственном хотении монашескую школу не пройдёшь. Наша школа очень сурова. В миру у человека с младенчества воспитывают гордость: «Ты обязан всего добиться сам, твоё Я — мерило всему!..» А тут — наоборот: «Без Бога ты не сможешь ничего, от своего Я нужно отречься». Так попробуйте же собственной волей отречься от собственного Я! Если не зов Божий привёл тебя в обитель, трудно тебе придётся.
Большинство монастырей в России возрождено в начале 90-х, а мы — в 2005-м, когда народ уже наигрался в монашеские игры. Сейчас в обитель идут не для того, чтобы красоваться в иноческих нарядах, а для того, чтобы стать рабами Божиими. То есть собственно рабами в полном смысле этого слова: отречься от своей воли, безропотно выполнять послушания. Люди в массе своей страшатся такой жизни. Но есть другие — их единицы, — которые боятся другого: боятся своего недостоинства, но всею душою желают, чтобы их признали быть невестами Христовыми. Это те, на которых держится любой монастырь. Я пришла сюда с двумя девочками. Всего с двумя. Одна из них вас сегодня водила по монастырю — инокиня Дарья, наша первозванная. Ей ещё долго придётся преодолевать свой характер и ту гордость, что даёт светское образование, и всё-таки — она с нами с первого дня, а ещё раньше мы с ней вместе восстанавливали подворье Введено-Оятского монастыря. Была у нас Анастасия-послушница — тоже с первого дня… Восемь лет жила с нами, а недавно вернулась в мир… После восьми лет! Видите, как это сложно! Посмотрим, сможет ли она забыть эти годы, эти службы, на которых она читала Апостол, звонила в колокола, сможет ли она всё это вычеркнуть из своей жизни. И другая у меня есть инокиня — Илария, — благочинная.
Мы как слепые идём, ощупываем путь, выбираем дорогу… Настоящие монастыри — они пока в будущем. А мы — это камешки, которые закладываются в основание любого здания. Мои девчонки — это те самые камешки, о которых потом, может быть, никто и не вспомнит, но на них возрастёт будущий монастырь.
— Но разве всего три монахини — не мало для такой большой обители?
— Конечно, мало. Конечно, я хочу, чтобы нас было больше. В обители есть послушницы, которых я надеюсь в будущем видеть монахинями. Но ведь их нужно проверить — по каноническим правилам не меньше трёх лет. А брать готовых инокинь… Сейчас много монахинь настригли — они бродят из обители в обитель, чего-то требуют, что-то клянчат. И пусть народа у нас маловато, но беглых монахинь я не беру: это не монахини, они не знают главного — они не прошли школу послушания. Самомнение у них весьма великое, книжных знаний нахватано много, благословение на постриг взято у знаменитого батюшки… А что с того, что её постригли по благословению знаменитого отца, если у неё после этого гордыня выросла, а смирение сошло на нет?
Пожалуйста, приходите к нам, оставайтесь у нас, но сначала послушайте о наших трудностях. Во-первых, о нас не знает никто: знают Никольский мужской Староладожский монастырь, а о нас почти не слышали, и значит, в центре почтительного мирского внимания вам здесь не бывать. Благодетелей у нас нет, помощников очень мало, значит, всё придётся тащить на себе, а это груз очень и очень нелёгкий. Что там говорить — даже постираться как следует негде. В прошлом году нам хоть продукты кое-какие привозили: крупу, масло подсолнечное, сахар, а нынче и этого нет. Ремонта много, а строительных материалов не хватает. Нам машина нужна — хоть старенькая, лишь бы на ходу… А утварь церковная: и напрестольное Евангелие, и подсвечники — всё это слишком дорого для нас… Так вот, если всё это вас не пугает, если тяга к монашеству сильнее страха перед трудностями, — приходите, попробуйте свои силы на послушании.
— Тогда скажите, матушка, людей какого типа вы бы ни за что не хотели бы видеть в Свято-Успенской обители?
— Каких? Тех, которые приехали за должностями. Есть такая категория людей, у которых в мирской жизни ничего не получилось, и они решили делать карьеру в монастыре. А Господь зовёт нас на трудности, взамен же обещает спасение нам и нашим родным. Ведь хорошие монахи своим трудом вымаливают не одно поколение родственников.
Вот вы говорите: как люди приходят в монастырь? Был некогда здесь, в Старой Ладоге, такой Костров, купец и подрядчик. Это здание, больничный Крестовоздвиженский корпус, строил именно он. И не было у него детей. Они с женой молились-молились, просили, но пока не дали обет, что отдадут ребёнка Богу, дети так и не рождались, Но вот они принесли этот обет, и родилась у них девочка, Оля. В восемь лет её привели в наш монастырь, и в своё время эта самая Оля Кострова стала здесь настоятельницей. Вот путь Господень, вот как нужно слушать Божий зов. Или другая наша настоятельница — схиигумения Евпраксия. Она была очень известной в своё время подвижницей. О ней написано много книг, и, говорят (я точно не знаю), что Зарубежная Церковь её уже прославила. А ведь её привела сюда Богородица. Будущая наша игуменья Евпраксия жила в Арзамасе. Однажды она заболела — и уже умирала, но в один из праздников Успения входят к ней мужи светлые, несут икону Успения, сходит с этой иконы Богородица и говорит: «Что лежишь? Тебе ещё послужить Мне надо в Моём монастыре». Она встала и пошла искать Успенскую обитель. Нашла. Вот мне и хочется, чтобы к нам так приходили люди, — не обязательно ждать такого же великого чуда, но ведь зов Господень всегда слышен! Его нельзя пропустить! Если люди, услышавшие такой зов, идут по другому пути, — ничего у них не выйдет. Это я по себе знаю. Потом оно само всё получится: где-то скорбями подстёгивая нас, где-то радостью привлекая, — Господь приведёт в монастырь.
Есть люди, которых Господь изначально предназначил для монастыря. Раньше, когда в семьях было по десять человек детей, то все видели: один из десяти не такой как все, иной, инок будущий. А сейчас? — в семье ребёнок один, родители бьются над ним — как же его в монастырь, а кто род продолжать будет? Но если он, этот единственный, предназначен Господом для монастыря, то и родители грех совершают, и дети коверкают свою жизнь. Вот я и посоветовала бы людям очень внимательно прислушиваться к своей душе.
Помню такое: исповедовал меня, тогда ещё инокиню, мой духовный отец — архимандрит Кирилл (Начис). И вдруг, ни с того ни с сего, без всякой понятной мне причины, наклонился к моему уху и говорит: «Настоятельница со своей должности не уходит. Она или в могилу уходит, или в схиму». Эти слова прозвучали совершенно неожиданно, и ясно было, что они предназначены мне. Вот так же и мысль о монашестве приходит: неожиданно, помимо тебя. Если ты её не услышишь, она ещё раз придёт, и ещё раз: «Смотри, смотри, думай, поворачивайся в ту сторону, там твой путь!»
А вы слышали гимн нашей обители? Его наша сестра написала, — там есть такие слова:
«Там монашества путь сквозь века — Тяжек труд, но молитва легка… Там ко всенощной благовест Собирает Христовых невест, И чуть слышен невидимый хор Древних инокинь — наших сестёр…»Древние инокини — они незримо с нами. И мы у них — как на ладони: все наши дела, все помыслы, — всё им ясно Божией волей. Как бы не осрамится перед ними… А всё остальное — приложится: Бог милостив.
* * *
Матушка Ангелина и её сёстры — исхудавшие до предела, чуть живые, но светящиеся душевной силой, — это одно из самых сильных впечатлений, которое я вынес из поездок по епархии. Другое сильное впечатление — батюшка из деревни Надкопанье, монах, отец Антоний (Волков).
4. ГДЕ ХРИСТОС РОДИЛСЯ?
…Изрядно продрогнув на заледенелом дворе, мы вошли в коровник — и словно в парное молоко нырнули. Тёплый коровий дух показался дыханием иного, давно ушедшего мира; свет подслеповатых лампочек тусклым золотом ложился на деревянные стойла. Захлебнувшись неожиданным теплом, я чихнул.
— Что, навозом пахнет? — рассмеялся отец Антоний. — Ничего! Самый рождественский запах!.. А как же? Это же коровник! Ясли! Вот и животные, всё, как положено; осла, правда, нет, и волов не держим… Коровки, бычки — вот наша рождественская скотинка… Господь ею не побрезговал, так нам ли нос воротить? Деревенская жизнь! Христос где появился на свет? В Вифлееме? Это, знаете ли, не совсем так… Вифлеем — город, а Он за городом родился, в сельской местности, и первыми к Нему пришли пастушки — простые сельские ребята. О чём это говорит, а? Как вы думаете? А вот вы подумайте, подумайте… Сейчас время такое — можно хоть в сам Вифлеем на Рождество съездить; а многие верующие из Питера едут всё-таки к нам, в Надкопанье, чтобы у нас праздник встретить, в нашем Рождественском деревенском, скромненьком храме…
Тут иеромонах Антоний (Кузнецов) немного хитрит: Надкопанье и вправду деревня, и добраться до неё из Петербурга не так просто, но вот храм в ней таков, что многие городские соборы позавидуют. Чтобы по-настоящему оценить его, нужно от станции Паша, куда вас довезёт рейсовый автобус, идти до Надкопанья пешком. Километра три, не больше, по шоссе, вдоль реки Паши, через однообразные заснеженные поля, под пасмурным зимним небом… В ту самую минуту, когда вам покажется, что конца-краю не будет этому пути, впереди вдруг забелеет колокольня Рождественского собора — высокая, стройная, чистая; потом покажется и вся церковь, и в первый миг вы скажете себе, что в жизни ничего красивее не видали, чем этот храм — ослепительно белый, словно серебряный… Это первое впечатление — но оно у вас уже не пройдёт никогда. Тут, кстати, полезно будет вам вспомнить, что дивную эту церковь иеромонах Антоний, сидя в своём медвежьем углу, вдалеке от города с его богатствами, возводил из руин едва ли не в одиночку — и вот почти уже возвёл: ещё два года назад она была серой, как это зимнее небо, а теперь радует глаз свежестью и чистотой. Работы впереди ещё много, но сейчас — сейчас праздник.
— А Рождество — оно и есть Рождество; не хочу я его затуманивать выспренним богословием, не надо! — говорит о. Антоний. — Это чистый праздник, очень-очень чистый… И главное, его богословие всем понятно: всем, у кого в доме ребёнок есть. У вас есть? Ну вот, вам и объяснять ничего не нужно! Вспомните, как вы его ждали. Как вообще ждут появления ребёнка? Тихо, с замиранием сердца, с радостью, с тревогой, с сугубой молитвой, если супруги верующие… А даже если и неверующие — у многих в такой момент сердце тянется к молитве. Вот вам и образ подготовки к Рождеству: пост, тишина, молитва, радость… Разве будущая мать питается чем попало? Нет, строгая диета… По-нашему — пост. Разве она будет скакать на дискотеках, ходить на шумные праздники, широкие застолья? Нет, если она нормальная. Вот вам тишина душевная, и чем ближе к родам, тем всё тише, всё строже… Ожидание! Это очень важно тут — терпеливо ждать. Я, бывает, даже летом говорю своим: «Ну ничего, дорогие, скоро Рождество!» — пусть заранее настраиваются… И вот — родился человек! И настала минута для того, чтобы вздохнуть облегчённо, и порадоваться, и попраздновать от души, — но опять-таки не чересчур, чтобы новорожденному не повредить и молодой маме… Не столько внешняя шумиха, сколько огромная радость в сердце, растворение в любви. Вот — всё Рождество в этом, всё рождественское богословие… Семья, мир, любовь, таинство рождения… Вот чему вас иеромонах-то учит — семейной любви… А если вы этого не постигнете, то на что вам богословие? Умствования одни…
В надкопанском Рождественском храме хранится замечательная богородичная икона «Неувядаемый Цвет». Отец Антоний нашёл её ещё до того, как постригся в монахи: валялась у кого-то в сарае — чёрная такая, старая, неразбочивая… А сейчас глаз от неё не отвести — такая яркая стала, нарядная, праздничная. Сидит Владычица на троне, одной рукой обнимает Младенца, а в другой держит цветок: не какой-нибудь сказочный или редкостный садовый, а простые деревенские ромашки — знаете, как они в поле растут: длинный стебель, а на нём три-четыре цветка. И прихожане, и паломники очень любят перед ней молиться. А спросите у отца Антония, бывали ли чудеса по этим молитвам…
— Ох-хо-хо… — он морщится болезненно, смеется и машет рукой. — Чудеса!.. Знамения! «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему…» (Мф. 12. 39). Я чудес боюсь. Не хочу их. Я простой человек, грешник, а какое грешнику может быть чудо? Чудо — это то, что я, недостойный человек, стал иеромонахом, принял ангельский образ… А главное чудо сегодня — это спасение души человеческой в беснующемся житейском море. Страшно штормит сейчас — как бедному христианину удержаться? Его, бедолагу, крутит, тошнит от качки, он не знает, как повернуться, как вывернуться. А глядь — Христос на берегу стоит: «Дети, идите сюда! Что вы там мучаетесь? Тут берег, тут огонь разведете, рыбку испечете… Кушайте хлеб, пейте живую воду!..»
Чудеса вам подай, чудеса… Все ждут чудес… Вам сколько килограммов чуда — два, три? Как в некоторых монастырях делают? Составляют реестр — «Список чудес, произошедших после погружения в наш источник»; и далее по списку: «Чудо № 1», «Чудо № 2», «Чудо № 3»… Ну нельзя же так! Ну стыдно это, несерьёзно!.. Чудо — это что-то такое личное, такое глубинно-душевное… Тайна сокровенная! А вы из неё книгу рекордов Гиннесса хотите сделать. Нельзя так. Нельзя. Приучайтесь смотреть на весь мир, на всю жизнь свою как на чудо. Вот мы говорили о рождении ребёнка — чем не чудо? Это же не какой-то химико-биологический процесс, рост клеток, образование костной ткани и так далее… Это личность, душа живая появляется на свет! Новая душа человеческая является нам! Хорошо, возьмём другое — рождение не ребёнка, а церковного прихода. Это не чудо разве? Как можно из бывших гонителей религии, из махровых атеистов сделать людей верующих, смиренных, терпеливых, размышляющих? Чтобы вчерашний гордец сказал о себе: «Вот какая я дрянь, а Господь-то меня терпит!..» Это так важно! Ведь однажды придя к Богу, уже не уйдёшь от Него. Будешь бегать, метаться, искать чего-то, но от Бога не уйдёшь. И в конце концов Господь тебя примет, примет таким, какой ты есть, а не таким, каким хочется. Как блудный сын, придёшь к Нему: «Отец, возьми меня в своё лоно!» — «Пришёл — молодец! Заходи, праздновать будем: вот Пасха, вот Рождество — для тебя приготовлены…» Отец принимает тебя в Свою семью, а потому-то Рождество и должно быть тёплым, семейным праздником, плодом радостного ожидания. Нет, нам мгновенность подавай: вошёл в Интернет, нажал на кнопку «Чудо» — и вот перед тобой на экране чудеса — замечательно! Но только что дальше-то? А мы ещё злимся, бывает: молимся-молимся, на кнопку жмём-жмём: «Господи, дай, дай, дай!» — а результата нет! Как же так? И не хотим услышать то, что Господь нам говорит: «Тебе это ещё не нужно. Тебе это ещё рано иметь, подожди, поразмышляй, помолись… Позавидуй, помучайся — изживи в душе зависть!» Ведь чудо — это не просто некий нелепый, не вяжущийся с обычным ходом вещей случай. За настоящим чудом развивается длинная цепочка событий — доказательство чего-то, удовлетворение чего-то, подтверждение чего-то, ответ на просьбу. Каковы последствия этого чуда для человека, с которым оно произошло? Вот что главное!
Выходим мы с отцом Антонием из коровника, идём к храму. Безо всяких прожекторов, без подсветки белеет Рождественская церковь в темноте, ярко, как свечка.
— …Что бы вы посоветовали молодому батюшке, принявшему деревенский, совершенно разоренный приход?
— Да какой я советчик-то… Одно скажу: не надо сразу влезать по уши в строительную суету. Нужно в первую очередь заняться людьми: я это по собственному опыту знаю. Нужно людей согреть, подружиться с ними: стариков приглашать на чашку чая, молодых утешать, направлять… и женить, — да! Говорить им изо дня в день: скорее женитесь, детей скорее давайте! Нужно быть соучастником судеб людских. И молиться надо самому, и людей приучить к молитве! Семью свою нужно крепко держать, детишек кучу завести, чтобы все говорили: «Вот у батюшки детки какие хорошие! А какая матушка!..» Часто ли увидишь такую идиллию? А священник обязан создавать ее в своем доме, чтобы в комнатах — чистота, в огороде порядок, скотинка ухожена — обязательно скотинку заводить! Собачка, кошечка — тоже нужны… Конечно, молодому священнику тяжело в сельском приходе. Конечно, хорошо бы ему быть уроженцем деревни. Да ведь не всегда же так получается!.. Тогда нужно учиться деревенскому уюту. Жизнь в деревне, по идее, должна быть уютнее городской. И служба церковная должна быть мягче… К нам, в Надкопанье, паломники приезжают и говорят: «У вас тут как дома. Домашняя такая служба — спокойная…» Постояли, помолились вдумчиво… Кто-то поплакал… И довольные, спокойные поехали обратно в город… Так и должно быть: в храме человек должен находить упокоение — через это и лечим людские души. Да, молодым сейчас в деревне тяжело. И потому еще им тяжело, что мало духовных наставников. Скоро все наши старцы уйдут — кто же останется? И поэтому духовную жизнь сельских приходов необходимо поддерживать… Пастыри мы, пастыри, а не прорабы! Нам приход нужно строить, любовь в людских душах возводить — вот где наша стройплощадка. Это так важно: научиться самому и других научить, как возлюбить того, кто рядом с тобой. Что для любви нужно? Терпение, терпеливое ожидание — вот как ожидание Рождества Христова. Пост идёт, тяжко тебе, устал от молитвы — а ты терпи. Терпи и ожидай: праздник впереди. Любовь впереди. Знаете, наверное, как в монастырях говорят: если два монаха в одной келье живут душа в душу, это значит, что один из них всё терпит, всё сносит, весь гнев в себе смиряет, — а другой только пользуется плодами чужого смирения. Но любовь будет обоим дарована, как праздник для всех приходит без исключения.
Стройте любовь. А иначе… Ну выстроите храм… А дальше что? Куда дальше-то руки приложить? Ещё одну церковь рядом строить? Так у вас и в первой-то прихожан раз-два и обчёлся! Вы сперва согрейте её, чтобы человек, приходя с мирского мороза, сразу чувствовал тепло. Сейте мир, как и Христос сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27). Этот мир и надо сеять в душах каждого, приходящего в храм. Как только человек умиротворится в душе своей, так он и перестанет бегать и искать, где церковь покрасивее да где батюшка поосанистей, — для него и свой, деревенский, колом подпёртый храм лучше всех городских… Здесь к нему ангел спускается, здесь его общая молитва поддерживает, здесь он возвышается к горним… И здесь он хочет работать и помогать приходу: ему и так хорошо, но он хочет, чтобы стало ещё лучше. Помню, как мы первое Рождество Христово справляли — в 1999 году, когда тут ещё полная разруха царила. На улице — минус 18, в храме, кажется, ещё холоднее, хотя включено несколько обогревателей. Кадило к руке примерзает, надо его через тряпочку брать… Но вот вам чудо: люди выстояли службу, хотя буквально зуб на зуб не попадал ни у кого. И как все рады были потом! И как хорошо работа пошла!
— А не хотели бы вы, о. Антоний, устав от жизни деревенского священника, когда-нибудь, в будущем, перебраться в монастырь?
— Коварный вопрос!.. Но на все воля Божия, от моего хотения здесь ничего не зависит. А вообще-то, беда современных монастырей — оскудение старчества. Может быть, это несколько резковато звучит, но таково мое глубокое убеждение. Время требует старцев. Многие монастыри благоукрасились, расцвели материально, но настоятель в них — строитель, а не старец.
— Если нет старцев — откуда же их взять?
— Молиться о ниспослании старца! Есть старые приходские священники, которых монастырь мог бы взять к себе на покой. Есть ведь очень мудрые священники… Вы за ним поухаживайте, тарелочку супчика ему дайте, бельишко постирайте, а он за вас помолится… Не обязательно искать знаменитостей, нет! — простой, скромный батюшка из негромкого храма… Ему уже тяжело жить самостоятельно — в монастырь бы его!.. Старичок поживет с недельку в монастыре и подскажет: тут у тебя не то, а я вот так делаю… Это был бы выход не на семинарский, школярский уровень, а несколько повыше! Старики — такие, к примеру, как о. Иоанн Миронов — умеют успокаивать своей мудростью, своей рассудительностью, своей искренней верой в Бога. Он тебя видит насквозь, как ни лукавь перед ним, что ни говори, о чем ни молчи, — все напрасно. Вот она — школа духовная.
Сейчас люди немощны духом, зато сильны гордыней: каждый всё знает, у всех ответы есть на любой вопрос… Все мы больны переизбытком информации: много её, поступает она быстро, переварить её не успеваешь — порою и не проглотил ещё, а тебе уже новую порцию несут… Несварение страшное, но все воображают, что всё им известно, что они самые умные… Такие-то умники в церковь и идут… И всех надо принимать, всех терпеть, каждому сказать: погоди, не торопись — я знаю, как тебе быть, ты только помедли чуть-чуть, переведи дух, а я тебе всё объясню не спеша… И люди начнут потихоньку изменяться. Может быть, это не мгновенные изменения: сначала посмотрят-посмотрят, потом задумываться начнут, а потом и оттаивать сердцами. Может быть, для того нам и дано Рождество, чтобы напоминало не только о приходе в мир Спасителя, но и о том, что каждая душа ныне должна родиться заново. Бог родился Человеком — а человек должен родиться богом. Как сказано: «Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы» (Пс. 82. 6). Эти слова из Псалтири и Господь напомнил иудеям, и добавил: «Он (Бог-Отец) назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание» (Ин. 10. 34). Вот ведь какая задача перед нами стоит: родиться в святости; и может быть, она станет немного понятнее нам, если мы ещё раз в терпении дождёмся чуда — Господня Рождества.
* * *
Не так-то часто приходится видеть в церковной среде настоящий праведников… В конце концов, настоящий праведник, — он не выставляет себя на всеобщее обозрение, он стоит в тени, он, если и попадает на глаза журналисту, то стареется отвести внимание от себя: говорит о своём храме, о своих прихожанах, о своих учителях. И ты его не видишь, и не понимаешь, кто перед тобой! Но сколько раз приходилось мне встречаться с тем явлением, о котором в Евангелии говорится: «Сила Божия в немощи совершается». Человек грешный, человек, может быть, даже весьма грешный по нашим, мирским понятиям, — а общаешься с ним, и чувствуешь явную благодать. Такое было у меня с «Разбойницей Натальей», (разговором с ней и началась эта книга), такое у меня было и с отцом Александром. Не стану говорит подробно о его немощах: что нам в них… Да вот, что он сам о себе говорит:
5. Я, НАСТОЯТЕЛЬ…
— Церковь наша Никольская…. А Святитель Николай был первым святым, которого я узнал. В юности, будучи еще не крещеным, захожу как-то в Преображенский собор, озираюсь, осматриваю церковную красоту, а мне бабушка-свечница говорит: «Нельзя к алтарю-то спиной становиться!» — «А я, — говорю, — местных порядков не знаю. И святых не знаю никого!» Она берет меня за руку, подводит к какой-то иконе и говорит: «Это святой Николай Чудотворец. Молись ему, он всегда людям помогает!» А помогать мне было просто необходимо: по молодости я часто в разные истории влипал. Не ангелом был, нет. Было и такое: однажды в армии из нелепого мальчишеского ухарства мы решили самовольно покататься по городу на бронетранспортере. Вот катим мы в город, а за нами следом погоня, и навстречу тоже едут!.. Мы свернули с дороги, грохнулись в овраг, и дальше по тундре, по снежной целине… Вот тут-то я и взмолился Святителю Николаю: «Помоги! Не дай в дисбат попасть!» И помог Чудотворец! Мы благополучно ушли от погони, и ничего нам не было. А ведь если бы попались, вся жизнь иначе бы пошла!
Как-то раз приятель мне посоветовал: «Учись на повара: всю жизнь в тепле и еда рядом!» Ну, я и выучился. Начал работать по специальности, — и так совпало, что тут-то впервые меня по-настоящему потянуло к Богу. А вы представляете, наверное, что такое работа в общепите?.. Скажу одно: искушений слишком много… И тут я со своими мыслями о Боге! Сижу бывало в перерывах, читаю Евангелие, а мимо официанты идут, ухмыляются: «Что, поп, грехи-то нам отпустишь?..» Я человек был вспыльчивый: «Как дам сейчас!.. Забудешь все грехи свои…» Чувствую, что так дальше продолжаться не может, пора уходить. И ушел — в ученики водителя; стипендия 50 рублей. Это после изобильной-то поварской жизни!.. Иной раз не знал, на что хлеба купить… Потом стал водителем автобуса; там тоже деньги лопатой не гребут. Но никогда не пожалел о том, что ушел. Крестился, стал в церковь ходить; у нас с женой был уговор — как бы мы себя ни чувствовали, какая бы погода ни была, а воскресенье с утра в церковь. И поверите ли: автобус мой порой ломался, и иногда весьма некстати, но перед церковной службой — никогда! Так Господь помогал воцерковиться! Вскоре стал я алтарником, а потом предложили мне и диаконом стать. Я сперва долго не решался: стыдился своих прежних грехов. Чтобы разрешить сомнения, поехал за советом к блаженной Любушке. Спрашиваю ее: «Могу я быть диаконом?» А она мне: «Будешь батюшкой!» Вот тебе раз! Уехал озадаченный. Потом снова к ней приехал с тем же вопросом, а она снова: «Будешь батюшкой!» И в третий раз то же самое.
Стал я диаконом, и тут пошли искушения. Появились гордые помыслы: «Диакон — это фигура! Большим человеком ты стал!» Но вот беда: человек-то диакон большой, а деньги ему платят маленькие. Это, между прочим, очень серьезный вопрос: диаконам в наше время тяжело живется. Даже в городе, в крупных соборах, они подработку ищут, а в деревне и вовсе дело плохо… А у меня семья. И начал я в свободное от службы время подрабатывать таксистом. За шесть лет диаконства накатал несколько сот тысяч километров… Но не безполезна была для меня эта практика. Когда я автобус водил, Он меня приучал к терпению: пассажиры люди капризные; а когда таксистом стал, учил меня Господь ни над кем не возноситься, и в каждом пассажире видеть в первую очередь человека… Ведь кого только не приходилось возить по ночному-то городу!..
Как-то собрались мы к отцу Николаю Гурьянову. Едем, а я думаю: «Ну, сейчас старец начнет мои грехи при всех обличать — вот сраму-то будет!» Приехали. Наш батюшка представляет меня отцу Николаю: «А это наш дьякон отец Александр!» Старец взглянул на меня и промолвил только: «Скоро будет священником!» Вот тут-то я и вспомнил Любушкино уже подзабытое пророчество, и стала меня крутить гордыня: «Уж я таким буду священником — не в пример прочим! Все батюшки ошибаются, а я их ошибок избегну!» Итак, жду я иерейства месяц, жду год, но никто меня, такого великого, не рукополагает, — что ты скажешь! И только когда перегорели мои горделивые мечтания — не раньше того! — Господь сподобил меня священства. И вот я — иерей, настоятель Никольского храма. Храм наш освящал св. прав. Иоанн Кронштадтский; а я заметил, что он всегда заботится об освященных им храмах — и о нашем тоже. Кто только на Никольскую церковь ни зарился, но она благополучно пережила и революцию, и войну, и даже хрущевские гонения. При Хрущеве, правда, в ней устроили гуталинную фабрику, но ведь хотели-то взорвать, а не взорвали. И Царь-мученик о нас молится: он деньги жертвовал на Ушаковскую церковь. Храм очень красив — строгий, краснокирпичный, небольшой, но по-своему величественный… Хотя, как подумаешь, сколько всего ремонтировать надо после гуталинной-то фабрики, даже страшно становится. Но — глаза боятся, а руки делают. Видите, как у нас все беленько, чистенько, иконостас готов, иконы заказаны, а многие уже и готовы… Нет, старых икон не сохранилось, но есть у нас маленький образ Святителя Николая. Его особенно полюбили шоферы-дальнобойщики. Ведь наш храм стоит возле самой трассы, и дальнобойщики часто останавливаются, чтобы помолиться здесь, — многих я уже в лицо знаю… Среди шоферов неверующих нет: они хорошо знают, что в рейсе без помощи Божией — никуда. Так вот, дальнобойщики очень полюбили нашу иконку Николая Чудотворца и всегда молились перед ней, а кто-то даже повесил на нее свое золотое кольцо… Особых чудес тут у нас не происходит, да я и не люблю эти восторженные рассказы о сомнительных чудесах… Но одно могу сказать: Николай Угодник всегда помогает мне в моих настоятельских трудах. Забот, сами понимаете, выше крыши; и вот, когда не знаешь, как быть, скажешь только про себя: «Батюшка Николушка, помоги!» — и откуда что берется!.. Было такое своеобразное чудо: прошлым летом возле храма несколько раз подряд ломались туристические автобусы, и туристы целыми толпами заходили в церковь: кто свечку купит, кто записку подаст… Один раз даже иностранцы зашли… Сам Святитель их сюда приводит. А вот нашим, ушаковским да тосненским прихожанам добираться до храма трудно: летом еще ничего, а зимой маршрутки не ходят… Бывает, сам привезу шесть-семь бабушек, а больше-то не получается… И все же наш храм очень любят, и летом здесь народу бывает много. Немало молодежи, а она душой веру понимает порой даже лучше стариков. Потребность в исповеди молодые ощущают очень остро…
* * *
Когда я во второй раз приехал к отцу Александру, мне довелось познакомиться с двумя его помощниками, — людьми в своём роде замечательными. Вот как это было…
6. ОТЦЫ-СТРОИТЕЛИ В ДЕРЕВНЕ УШАКИ
Читаю письмо из Германии, неумело переведённое с немецкого: «…Храм строил мой прадядя Виктор Шрётер… Двоюродная сестра Виктора Мари Шрётер сделала копии «Вечери» Леонардо и для створок дверей святых даров четырёх Евангелистов и лик Мадонны… Руководил строительством Макс Энгельманн… Для поддержки был студент-строитель Отто… Кузнечные работы были выполнены нашим очень старательным кузнецом Яном Соотла… Это получилась очень красивая церковь. И вот наступило освящение. Приехал губернатор граф Модем. Чтобы обставить всё по-настоящему великолепно, пригласили чудотворца святого Иоганна…»
— Вы не думайте, — говорит мне отец Александр, — они все были православными людьми, не хуже нашего. Ну что поделать: во всех окрестных деревнях всем заправляли русские православные немцы. Они и строили наш Никольский храм.
— А святой чудотворец Иоганн? Это кто — немецкий святой?
— Да это же Иоанн Кронштадтский! Просто переводчица не разобралась! Вот, читайте дальше: «Наш кучер Константин, очень набожный человек, был вне себя от счастья, что он должен был везти святого отца от вокзала до церкви. Целые дни он начищал повозку и лошадиную сбрую. Но о ужас, как повозка стала выглядеть после освящения! Всё было испачкано, переломано, лак и кожа содраны. Когда святой Иоганн сел в повозку, толпа богомольцев кинулась к нему за благословением. Вся улица была черна от людей. Полицейские и жандармы были бессильны… Кучер хлестнул лошадей и просто поехал в толпу, Иоганн благословлял рукой направо и налево над головами людей…»
Я смотрю на шоссе, идущее через село, и пытаюсь представить, как по этой дороге двигалась повозка с Иоанном Кронштадтским, как бежала вслед за ней огромная толпа богомольцев… Это было ровно сто лет назад: в сентябре этого года Никольский храм отмечает свой вековой юбилей… История этой красивой, высокой краснокирпичной церкви, в общем-то, обычна: сначала открыли, потом закрыли, превратили в гуталиновую фабрику, закоптили все стены вершковым слоем гуталиновой гари, потом и фабрика приказала долго жить, потом то, что осталось от здания, великодушно вернули Церкви…
Впрочем, на этом история не закончилась. Года два назад (храм давно уже действовал, уже ремонт был проведён немаленький, уже ничто не напоминало здесь о производстве гуталина) случился пожар. Нет, неправильно сказал, не «случился» — устроили пожар. Подожгли. Некто ночью на Страстной седмице пробрался на кладбище, вырвал из могилы железный крест и этим крестом стал таранить зарешёченное церковное окно. Проделал дырку в решётке и через эту дырку швырнул в храм то ли бутылку, то ли пакет с какой-то зажигательной смесью, а чтобы тяга была получше, разбил и все остальные окна. Вспыхнуло хорошо. По идее, должен был сгореть храм дотла. Но Бог-то всё видит, и Святитель Николай — заступник скорый, и праведный Иоанн никогда не забывает храмы, в судьбе которых он принимал участие. Огонь подобрался к иконе Чудотворца Николая. Жар стоял чудовищный, стекло на иконе запузырилось и потекло, занялся киот…
И тут взорвался висевший рядом огнетушитель!
Когда пожарные смогли войти в храм, им открылась такая картина: всё выгорело и лишь три иконы остались нетронутыми — Никола, Иоанн Предтеча и Ксения Блаженная.
— Вот, смотри, — говорит отец Александр, — киот чуть-чуть обгорел у Чудотворца… У Крестителя уголок попортился… А в остальном… Ещё у нас была Казанская. Она сильно почернела: если смотреть на неё прямо, так сказать, глаза в глаза — ничего не понять, чернота, ужас, страх… А если подойти сбоку — пожалуйста, всё видно, икона как икона! Поразительно! Я её нашему Ивану Ивановичу отдал на хранение — он теперь перед ней молится, и она его защищает, да!
Вот и зашла речь об Иване Ивановиче Цытрикове, человеке, восстанавливающем после пожара Никольский храм.
— Вы о нём обязательно напишите, — просит отец Александр. — Не без благодати Божией человек! Он жил как все, ни достатком, ни положением не выделялся среди прочих… К Богу пришёл уже в зрелом возрасте… И вот — начал молиться Святителю Николаю: молиться о деньгах! Встаёт каждый день перед иконой и говорит: «Отче Николае! Будет у меня — будет и у тебя!» И что же вы думаете? Открыл своё дело, и деньги пошли. А Иван Иванович обещания-то своего не нарушил: на эти деньги он наш храм восстанавливает. Вот посмотрите, какой пол сделали! Был деревянный, на пожаре он выгорел совсем, — мы с Иваном и думаем: «Сделать деревянный — опять, не дай Бог, сгорит! Сделаем каменный». И посмотрите, какая красота! Какая полировка! Бабушки наши сперва думали, что это вода разлита по полу.
— Теперь нам надо иконостас завершить, — замечает Иван Иванович. — Надеюсь, что сделаем его своими силами — и не деревянный, а гранитный. Только если вы обо мне писать хотите, то напишите непременно и о жене моей, рабе Божией Елене. Дело у нас семейное, всё решаем вместе. Я изначально знал, что прибыль наша пойдёт на восстановление храма, — но как она на это посмотрит? Неизвестно… А она меня поддержала от всей души — и вы не представляете, как это было для меня важно… А вообще должен вам сказать: деньги — ноша тяжкая. Когда я к Богу начал приходить, от меня сразу половина друзей отшатнулась; знакомо вам такое явление? А когда деньги появились — и остальные друзья ушли… Теперь только храмом и живём, только помощью Божией.
— Казанская хранит! — заявляет батюшка. — Сколько разных наездов на него было!.. Приедет, бывало, весь расстроенный: «Всё, отец Александр, бизнес кончается…» А я говорю: «Угодно дело Богу — значит, не кончится». А он: «Мне бы только месяц протянуть!» А я: «Время на тебя работает!» Не потому, что я такой премудрый, — но это же всем понятно: пока Бог бережёт, никакая сила нам не повредит. И вот уже год прошёл, и слава Тебе Господи… Это потому, что Иван перед нашей Казанской молится. Казанская икона — великая сила! А вы знаете, что в деревне новая церковь строится? Во имя Казанской иконы! Представляете себе: Никола Чудотворец да Казанская — это какая же мощь будет! Какая защита для села! Вот — Александр Иванович её строит. Иван Иванович да Александр Иванович — это наши отцы-строители, так я их называю.
Александр Иванович Карпик говорит:
— Вообще-то храм во имя Казанской иконы Божией Матери был в Ушаках давно. Они почти ровесники — Никольский и Казанская… Только в Никольском сделали гуталиновую фабрику, а в Казанской — клуб. Танцы в ней танцевали… Сам Путин Владимир Владимирович — у него тут рядом дача была — тоже в молодости захаживал…
— Да что Путин! — подхватывает батюшка. — И я пытался здесь танцевать. Перед армией дело было. Мне через день уходить, вот друзья и говорят: пошли, мол, в ту деревню, там клуб хороший, потанцуем на прощанье. Я согласился, конечно. Мне тогда и в голову не могло прийти, что буду служить здесь, что стану священником! Какое там… Да если бы мне просто сказали, что я в Бога уверую!.. Но мне здесь не понравилось: не успели зайти в клуб, как местные начали нас задирать, да такая толпа, а нас всего-то трое… Пришлось убираться подобру-поздорову…
— Много драк было, — соглашается Александр Иванович. — Бесчинства творились большие — видимо, потому Господь так судил, чтобы клуб этот в один прекрасный день сгорел дочиста. И только фундамент остался, а на нём со временем берёзки выросли. Когда мы начали восстанавливать храм, я эти берёзки выкопал аккуратно и у себя на участке посадил: церковные! Прежний храм был деревянный, а мы строим каменный…
— Красивый, просторный! — восхищается батюшка. — Раза в два просторнее Никольского!
— Было такое, — продолжает Александр Иванович, — раскапывали мы фундамент, и возле бывшего входа в клуб выкопали небольшую каменную плиту с вырезанным на ней крестом… Батюшка сразу определил, что на этой плите стоял в прежнем храме престол. То есть, понимаете: раньше она под престолом лежала, а они её у входа положили, чтобы посетители ноги об неё вытирали! А почему мы решили храм восстанавливать? Однажды зимой увидели: к месту, где церковь стояла, протоптана кем-то тропинка… Там делать-то нечего: пустое место и всё! Значит, протоптал тот, кто помнит о храме, кто молится потихоньку, для кого эта земля свята. И тогда начали мы храм строить. Я первым делом подумал: пусть местные мужики поработают на святом деле, и деньги будут иметь опять же… Они взялись за работу — и тут словно мор на них нашёл: то спирта палёного перепьют — двоих везём на кладбище… Через несколько дней те, кто их хоронил, сами следом отправляются: подрались, убили друг друга… И так один за одним… Понятно, что не храм в том виноват: деревни ещё раньше вымирать стали — целые улицы пустеют.
— В прежние времена здесь жило 15 тысяч народу, — поясняет батюшка, — сейчас полторы тысячи… Ну, может быть, со временем выправимся. Вот храмы закончим… А сколько народу тут на шоссе передавили! Шоссе опасное, дальнобойщики тут носятся один за одним… Сшибают народ… А мы в прошлом году два креста поставили на дороге — с двух концов села, — и целый год ни одного наезда. Не знаю, может быть, совпадение… А вы лучше спросите Александра Ивановича, как он в Америке оказался! Он же у нас американец — вы не знали? Уехал в Штаты ещё при советской власти — и хорошо там жил!..
— Не жаловался, — соглашается Александр Иванович. — Имел дом в Нью-Йорке, офис на Манхэттене, успешный бизнес. И не думал возвращаться. А тут решил в гости съездить в родные места. На месяц, не больше. Месяц прошёл, пора в Америку, да что-то мешает: какие-то дела уже затеял, родственникам помогаю… Останусь ещё на недельку. Потом ещё на недельку. Потом ещё. А потом думаю: да на что мне эти Штаты?
Батюшка:
— А как его убить хотели! Но его ангел хранил…
— Не то чтобы убить… Наши русские бандиты приехали на промысел в Нью-Йорк и решили выкрасть какого-нибудь бизнесмена, чтобы потом выкуп получить. Выбрали меня. Стали расставлять мне всякие ловушки — и всё напрасно: никак поймать не могут. А я и не знал ни о чём: впервые услышал про этих бандитов, когда их уже поймала нью-йоркская полиция. При аресте они сами заявили: «У этого парня очень сильный ангел-хранитель: пальцем не дал до него дотронуться. Мы его ждём на одной дороге, а он в последний момент сворачивает на другую, мы его ищем там, а он вдруг оказывается здесь…»
Мы едем смотреть недостроенный храм Казанской иконы. Он и недостроенный кажется красивым и величественным — просторный, двухсветный… Поднимаемся на колокольню, где уже висит колокол — древний, новгородский, найденный археологами, подаренный новому храму. Батюшка раскачивает било, и над деревней плывёт суровый, чуть глуховатый, словно из глубин русской древности доносящийся звон. Отцы-строители, сияя улыбками, слушают эту музыку, батюшка приговаривает: «Никольский храм да Казанский храм — сила! Никто деревне не страшен будет!»
Стоят на колокольне три русских мужика в полном, что называется, расцвете сил… Уж какие ни есть — в чём-то, может, и немощные, в чём-то и грешные, но не о немощах и не о грехах вспоминаешь, когда на них смотришь. Некий свет свыше явственно покрывает всех троих, ведёт, даёт им силу… Погаснет свет — что с ними будет? Но не погаснет — верю, что не погаснет…
* * *
…Подвёл диктофон. До сих пор об этом жалею. Отец Гурий рассказывал мне, ни много ни мало, о своей встрече с Богородицей… В редакции, расшифровывая запись беседы я с ужасом обнаружил, что на этом самом месте диктофон отказал, — из рассказа батюшки не записалось ни слова. Я попытался воспроизвести рассказ по памяти — не вышло ничего: какие-то важные детали я забыл начисто, а без них рассказ распадался, не складывался в логическое повествование…
7. ЯМБУРГСКИЕ КУПАНИЯ
— А сейчас мы с вами купаться поедем! — заявил отец Константин Королев, садясь за руль своей «Оки».
— Купаться?!. — вот уж чего я не ждал. Осень в разгаре…
— Не бойтесь! — добродушно усмехнулся сидящий рядом с водителем архимандрит Гурий (Кузьмин), настоятель собора во имя вмц. Екатерины. — Мы вас в освященных источниках искупаем. Я в паломничества езжу по святым местам и отовсюду привожу понемногу святой воды: немножко из Иордана, немножко из источника Божией Матери в Назарете, из цареградского Живоносного источника, из афонского источника прп. Афанасия… Привожу всю эту воду к нам, в Ямбург… Уж извините, я наш город никогда Кингисеппом не назову. Ямбург — это и звучит красиво, и исторически верно. У нас в Ямбургском районе много своих источников есть… Вот мы и взялись их освящать, и освящаем-то не иначе, как добавляя в них воду из источников Святой Земли. Пусть и наша, ямбургская водичка послужит людям во исцеление. Есть теперь у нас источник Ильи Пророка, Пантелеимона Целителя и еще много других…
— Вот мы вас в каждый и окунем! — подхватывает о. Константин.
— Не пугай человека! — хмурится о. Гурий, — Не бойтесь, силой мы вас не потащим, а немножко искупаться все же советую. Наши прихожане купались и рады были… Может, чудесных исцелений и не было, а благодать ощущали все…
— Это правда, — говорит отец Константин — Как окунешься, так потом весь день хорошо себя чувствуешь! Я-то готов в каждом из них купаться.
— Конечно, ты молодой… Давно ли гимназию нашу закончил?
— Давно! Уже и семинарию закончить успел! А вы знаете, — поворачивается о. Константин ко мне, — ведь у нас в Ямбурге работает первая в России православная гимназия! Есть у нас в городе такая замечательная женщина — Римма Григорьевна Наумова: это ее и о. Гурия трудами гимназия открылась и существует до сих пор. Они сумели сделать так, что и с общеобразовательной, и с церковной точки зрения там все было на возможно высоком уровне. Я и сам там учился, — перешел из обычной школы. Должен был идти в седьмой класс, а в гимназии пошел в четвертый — заново пробежался по всем ступенькам общего образования, лишь бы ни одной церковной дисциплины не упустить…
— Я старался гимназистам преподавать все, что сам знаю, — заметил о. Гурий, — целыми днями занимался с ними, часов до десяти вечера, пока родители их искать не начинали…
— Зато закончили мы гимназию очень подкованными. Когда я поступал в семинарию, — подхватил о. Константин, — я уже знал и церковную историю, и Ветхий, и Новый Завет… По уставу одни пятерки имел. Моя сестра, которая со мной вместе училась, сейчас послушницей в Пюхтицком монастыре… Мы, гимназисты, могли всю службу пропеть самостоятельно, без подсказок… Да так и случалось, когда батюшка отлучался куда-то. А посвящали нас в гимназисты в нашем храме во имя вмц. Екатерины. Мы особую клятву произносили, — ну, не клятву, а, скажем так, обязательство… Все было очень торжественно, все ребята в стихарях, братский гимн пели. Слова для этого гимна я взял из сборника стихов о. Николая Гурьянова, а музыку пришлось самому подбирать. Пока помещение не получили, занимались во дворе, на самодельных лавках: два пенька, на них доска. Бывало, кто-то неловко покачнется, доска соскальзывает и целый ряд сыплется на землю… Весело было… И представьте себе: я не помню, чтобы наши гимназисты хоть раз за все время учебы поссорились друг с другом, разругались… Нет, мы жили, как дома, как одна семья!
— Некогда было ругаться, — уточняет о. Гурий, — вы работали…
— Правда! Я, например, приходил в 6 утра, доил двух коров и козу, кормил теленка, выгуливал лошадь, а потом — на занятия. Зато у нас молоко всегда было, творог, яйца. А сколько я в гимназии провел ночей… Работаешь, работаешь, а потом уже поздно… Матрас расстелешь на полу и спишь… Крыша протекла — забираемся на крышу и меняем шифер до полуночи… Ребята сено заготавливали, строили сараи, работали в поле… А ведь было нам тогда лет по четырнадцать. Но нас любили, и нам хотелось как-то ответить на эту любовь.
— Помню я, как ты в поле работал! Ты там монеты искал!
— И это правда! Удивительная вещь: на нашем церковном поле можно было найти массу старинных монет. Я заранее знал: поработаю часок — найду два екатерининских пятака. Самая старая моя находка — денежка 1557 года. Есть монетка 1666 года, а уж за XIX век — этих и не счесть. После дождика они вымывались из земли, как картошка. А вот археологи приезжали к нам: копали-копали — ничего не нашли.
— Интересно, — говорю я, — ваша гимназия уже который год существует, — неужели каждый раз набирается нужное количество учеников? Ямбург — город небольшой…
— Да, набираем, — кивает о. Константин, — к тому же уже три года, как мы начали брать детей из детдома. Некоторые родители жаловались: как это наши дети будут вместе с этими хулиганами?.. Но дело пошло, и многие детдомовцы меняли потом образ жизни. Конечно, тяжело с ними, но наш директор Римма Григорьевна справилась, — наверное, потому, что всю жизнь работала помощником прокурора. К нам в Ямбург многие приезжают именно для того, чтобы на нашу гимназию посмотреть.
— Ну, не только на гимназию — и на храм, — замечает о. Гурий.
— Да, и на собор. Собор у нас замечательный! Его еще Растрелли строить начал, но не успел закончить и достраивал другой знаменитый архитектор — Ринальди. Во время войны в храм бомба попала — прямо в купол, и, конечно, все было разрушено… Хотели его и вовсе снести, — была у нас такая деятельница районного масштаба, у которой на счету уже имелась одна разрушенная церковь. Ей все мечталось побольше кирпича из нашего храма добыть для нужд города. Но Екатерининский собор удалось отстоять. В 1978 году его восстановили и сделали краеведческим музеем, а в 1990 году, стараниями о. Гурия, вернули церкви.
— После музея его снова пришлось восстанавливать, — вздыхает о. Гурий, — но зато теперь он почти такой же, как был в старые времена. И знаете, что интересно: выкрашен он в те же самые цвета, в которых обычно изображают на иконах святую Екатерину.
— Полностью вернуть ему прежний вид, наверное, невозможно, — говорит о. Константин, — слишком сложная работа. Он у нас теперь такой строгий, подтянутый, а был в таком же примерно стиле, как верхний, Богоявленский храм в Никольском морском соборе… Весь узорный, затейливый, как и полагалось в эпоху барокко… Среди православных ямбуржцев такая легенда ходит: когда храм закрывали, колокола не отдали властям, а закопали где-то…
— Это не легенда, — говорит о. Гурий. — Есть у нас одна бабушка-прихожанка — ей 95 лет, а она ходит в храм без всякой помощи… Она и рассказывала мне, где колокола закопаны. И другие подтверждают… На территории автобусного парка они лежат, неподалеку от собора. Если с приборами там походить, то можно найти. Вот, правда, у автобусников к церкви отношение плохое…
И тут о. Константин притормозил свою «Оку» у обочины шоссе.
— А вот мы и приехали… Здесь у нас источник Ильи Пророка…
По сырой от дождя траве спускаемся к неширокому ручью, быстрому, каменистому, от одного взгляда на который по коже пробегает озноб. Знаю я эти ямбургские речки: в них и летом-то купаться — призадумаешься… Но отец Гурий невозмутимо достает кадило, начинается молебен, батюшки поют, я подхватываю, как умею, а сам все прикидываю в уме, как буду лезть в воду. На берегу стоит синяя купальная кабинка, все вокруг вычищено, ухожено, и даже камни в ручье сложены так, чтобы удобнее было проходить к небольшой ямке, выкопанной в русле ручья, куда, собственно, и полагается окунаться.
— Сюда мы приходим крестным ходом, — поясняет о. Константин, служим здесь долгие молебны, настоящие… Народу много бывает… Я первый окунусь, чтобы вам не так страшно было, — и усмехается: — Воду согрею для вас — собственным телом!..
Вот батюшка и окунулся, — моя очередь. Захожу не спеша в воду — не уронить бы достоинство, не показать бы, что трушу! — Делаю несколько шагов — ноги словно и не чувствуют никакого холода. Прыгаю в глубину: раз — со страхом, потом, подумав, еще раз — чтобы лучше прочувствовать, ну, и в третий — как водится… Что за вода! Как свежий воздух после душной комнаты! Словно не промозглой осенью купаюсь, а жарким летом: легче дышится, и осенний туман в голове рассеивается, и сердцу веселее… А холодно ли было? Что-то я этого не понял…
Батюшки уже ждут меня в машине:
— А теперь к святому Пантелеимону поедем!
И мы едем к святому Пантелеимону, где родник маленьким фонтаном бьет посреди ручья, и к следующему источнику — тихому, светлому, вдалеке от шумной дороги, и проезжаем едва ли не половину Ямбургских земель — древних русских владений, где родников больше, чем жителей, и батюшки рассуждают друг с другом:
— Надо бы еще тот источник освятить… и в этой деревне тоже… и там… и там…
— Во исцеление души и тела… — говорит отец архимандрит, — в просвещение ума и очищение сердца… Да откроет всем нам Господь очи сердечные, чтобы не променять нам будущих вечных благ на временные, суетные утешения… Понравилось ли вам купание наше? Ну, тогда — по вере вашей да будет вам! С нами Бог!
* * *
А вот рассказ самого отца Гурия, — вернее, та его часть, которую пожелал записать мой диктофон…
8. ОЙ ВЫ, ДНИ МОИ, ГОЛУБИ БЕЛЫЕ…
Архимандрит Гурий (Кузмин) кормил во дворе шумную стаю голубей. Он стоял, в вихре пронзительно хлопающих крыльев, чиркающих его по лицу, грозящих сбить скуфью с головы, — спокойный, сосредоточенный, и равномерными движениями рассыпал пшено. Когда птичья толчея несколько утихла, батюшка пристально оглядел своих подопечных и строго спросил:
— А где же Даня? Даня, Даня, выходи!
Из-под сарая неуверенно вышел голубь. Шел он, чуть припадая на бок, и одно из его крыльев торчало вкось.
— Давай, болящий, поспеши, обедать пора! — Отец Гурий поднял раненого голубя и принялся кормить его с ладони. И, не сводя глаз с больной птицы, начал рассказ:
— …Я долго некрещеным оставался. Одно время ходил у нас по дерене священник, требы какие-то совершал, и я просил у мамы: «Пусть он меня окрестит!..» А мама мне: «Да чем же мы платить-то ему будем? Маслом что ли? Он маслом не берет!» И правда, в ту пору денег колхозникам не давали, а платили им «палочками», трудоднями… Мама не знала, чем нас-то накормить, а не то, чтобы платить кому-то непонятно за что: она ведь не слишком-то верующая была… А я тогда очень огорчился, даже заболел… Тяжелые времена… Однажды мама не удержалась, принесла домой с колхозного тока два килограмма ржи; и пришлось ей заплатить за эти два килограмма шестью годами лишения свободы. И остались мы с братом на попечении у бабушки и дедушки в маленькой самарской деревушке…
Был такой случай: братишка мой старший поехал креститься. Возвращается, весь в слезах, и просит рубль: ему на крестик не хватило. А батюшка, оказывается, узнал, что денег у него нет и сказал такое: вот, мол, на вино-то у вас всегда деньги находятся, а на крестик не можете наскрести! Большая обида вышла, и мне это запало на сердце.
Но к Богу меня тянуло все-таки очень сильно. Я ведь в школе, хоть учился и хорошо, а ни октябренком, ни пионером никогда не был: противно мне это было, хотелось чего-то нездешнего, небесного. В деревне нашей была только начальная школа, и с пятого класса жил я в районном центре, в общежитии. Однажды брата моего призвали в армию, и захотелось мне его проводить. Дело было зимой, транспорта нет, и чтобы попасть домой, мне нужно идти из райцентра пешком, через лес, почти без дороги. Соседи по общежитию, — те, кто постарше, — строго-настрого запрещали мне идти, но я потихоньку удрал от них и отправился в путь. Иду — вокруг непроглядный морозный туман, снежные горы, дороги не видно. Поплутал немного, и понял, что совсем заблудился. Тут охватила меня паника, хотел я зареветь в голос, но потом подумал: «Чего реветь-то? Кто услышит-то меня? Вот я лучше помолюсь». Молив не знал никаких, а так — слышал что-то краем уха от бабушки. И начал я впервые в жизни молиться. И что же: тут же рассеялся туман, я понял, где нахожусь, и поспешил домой. А по дороге повстречал одного татарина с лошадью, который тоже заблудился, и на его телеге мы очень быстро добрались до деревни. Так я впервые молитвенно обратился к Господу и получил от него скорую помощь.
Окончил я школу, — к тому времени и мама уже вернулась, — стал работать в колхозе, на тракторе и был там первым работником — меня даже в район возили напоказ, как передовика производства. Вот работаю я однажды, и вдруг приходит одна моя родственница: «Поехали, Коля, с нами в церковь, — покрестишься!» «Э, — думаю, — не выйдет! Денег у меня нет, а получать от батюшки выговор не хочется. Не пойду!» И не пошел. Не проходит и часа, как она возвращается и — что бы вы думали? — приносит мне деньги: мою зарплату. Сейчас трудно понять, что это было за чудо из чудес, но ведь случилось это в 1954 году, когда колхозникам только-только начали платить настоящими деньгами! Впервые в жизни мне было за что-то начислено три рубля, а я об этом еще и не слышал ничего. Чудо самое настоящее! «Вот, Коля, держи! Пойдешь теперь?» Теперь, конечно, пойду! Я хлебы пек в тот момент, но, раз такое дело, бросил все и побежал вместе со всеми креститься.
Вот пришли мы — за 18 километров по страшной жаре — в храм. Кланялись в ноги батюшке, просили, чтобы он окрестил нас, но он не захотел. «Я, — говорит, — не буду, а вот идите-ка вы к новому священнику, он только что с Колымы вернулся, — он вас окрестит!» И правда. Тот колымский батюшка, отец Прохор, он очень добрый был, окрестил меня, дал мне белую рубаху, молитвослов, и сказал: «Ходи в церковь!» И я это принял как закон. Тут же целую службу отстоял — это был Петров день, и на следующий тоже… И радость такая была: я и забыл обо всем земном — небо для меня открылось! Хотя не понимал еще в церковной жизни совсем ничего. Мне говорят: «Смотри, это монах!» А я о монахах знал только дразнилку: «Монах в синих штанах», — и отвечаю: «Какой же он монах: где у него штаны-то синие?!» Вернулся домой, а тут мама: «Где ты ходишь? Нам вчера разрешили сена покосить, а сегодня уже поздно! Остались мы без сена из-за твоего крещения!» Я умом-то понимаю, что она права, а на душе — полное спокойствие. И говорю я ей так: «Не волнуйся, будет у нас сено!» — хотя сам не знал, откуда бы ему взяться. Но вскоре и вправду нам с братишкой удалось столько сена накосить, сколько ни у кого в деревне не было.
В ту пору подружился я с двумя бабулями: с Агафьей и Акулиной. Эти старушки Божьи были слепыми, но все Евангелие знали наизусть, всю службу помнили, и все мне объясняли. Бывало, придешь к ним, а они: «Ты, Коля, знаешь, какой праздник приближается? Такой-то. А в чем его смысл? А вот в том-то». Много знали наизусть духовных стихов. Мне особенно ложился на душу стих про Алексия Божия человека. Невольно приходили в голову мысли: а я-то смогу так же? или нет?.. Полюбил я общаться с Агафьей и Акулиной. А в колхозе, прослышали, что я крестился, что я к бабушкам слепым в гости хожу и стали меня звать Святым. Да со злостью такой: «Эй ты, мол, Святой!..» «Ты, Святой, — бригадир мне говорит, — если на праздник в церковь убежишь, мы тебя догоним, свяжем, да в тюрьму!» Может, пугал, а может и нет, а только я все-таки убежал. Возвращаюсь, — они меня уже ждут. «Ну, — говорят, — теперь берегись! А попу твоему мы все волосы выдерем!» Вот тут я испугался по-настоящему. Батюшка только-только с Колымы вернулся, а ему такие неприятности! И утром снова побежал я в церковь, чтобы предупредить батюшку. Бригадир за мной на лошади гнался — не догнал. Прибегаю: рассказываю, а отец Прохор был не пугливый: «Пусть — говорит, — приходят, ничего! А ты, раб Божий Николай, живи при церкви, мы тебя в сторожке определим». И я сразу понял, что так и нужно и остался у батюшки. Учился всему понемногу, и к Рождеству уже выучил всю службу, знал неплохо устав, умел прислуживать в алтаре… Однажды захотел я вымыть иконостас, — забрался на него, да как грохнусь вниз на цементные ступеньки! Здоровенный кусок цемента отломился, а мне хоть бы что!.. В храм народ стекался со всех сторон… Так люди в церковь тянулись!.. Представьте только: за один день бывало у нас по 150 крестин и 75 венчаний!.. Тому причиной было и то, что именно в эти годы в наших краях произошло знаменитое «стояние Зои». Сам я в ту пору в Самаре не был, но сестра о. Прохора побывала рядом с домом «каменной Зои» и видела, какие огромные толпы народа осаждали этот дом, как даже крыши всех окрестных зданий были переполнены людьми, и как пытались власти безуспешно разогнать толпу при помощи пожарных брандспойтов…
…Так и прожил я у о. Прохора до 1960 года, а потом батюшка самочинно сделал в церкви ремонт и за это уполномоченный отобрал у него регистрацию…
Приезжали к батюшке два семинариста, оба Николаи, один из Московской семинарии, а другой из Ставропольской. Тот, что из Московской, очень сильное впечатление на меня производил: бывший моряк, одет всегда в костюм, всегда при часах; а более того поражал он меня своим знанием и своей, — как бы это сказать? — значительностью. Смотрел я на него, смотрел, и сам захотел в семинарию. А второй Николай, ставропольский, он службу знал хуже меня, неученого, и тем не менее, вечно пытался меня поучать… Я отлично понимал, что знаю о церковной жизни больше, чем он, семинарист, и это, как ни странно, тоже заставляло меня мечтать о учебе. Вот, что, кстати, любопытно: этот семинарист не хотел быть монахом, а собирался жениться на батюшкиной племяннице, но та перед самой свадьбой сбежала с другим. Расстроился Николай, долго переживал, а потом отправился за советом к старцу, к архимандриту Гавриилу, что сейчас в Ульяновской области причислен к лику местночтимых святых. Старец тоже не сказал ему ничего о монашестве, а велел обратиться к такой-то девушке — назвал ее имя, дал адрес, благословил… Николай обрадовался, поехал по указанному адресу, и сходу предложил девушке руку и сердце. Но та вежливо его выслушала и вежливо отказала. Второй раз у Николая ничего не вышло с женитьбой. Он третьего раза испытывать не стал, а пошел в монахи. Мне эта история очень запала в душу…
А сам-то стал монахом совсем иначе. Учился я в нашей Академии, и не знал еще, какой мне путь избрать. И не задумывался особо над этим: мол, как Господь управит, так тому и быть. В Академии много слышал я про старца Андроника, который жил в Тбилиси и был очень в ту пору известен своей прозорливостью. Очень мне захотелось съездить к нему, наставиться у него в духовных вопросах и посоветоваться о своей будущности. Уговорил я своего друга отправиться вместе в Тбилиси, но как туда ехать-то мы и не знали. Решили: возьмем билеты на ближайший поезд, куда бы он ни шел. Ближайший поезд шел на Одессу, — нам это подходило, но билетов достать не удалось. И что же? Поговорили мы с проводником, и он взял нас без билетов. Приехали в Одессу, — теперь нужно пароходом ехать до Батуми. Билетов опять нет, но едва мы, не солоно хлебавши, отошли от кассы, как кассир кричит нам вслед: «Молодые люди! Нашлись билеты! Какая-то женщина два билета сдала!» Так нас Господь всю дорогу вел за ручку. И вот уже в Тбилиси, в храме св. Александра Невского мы старца Андроника нашли. Когда я его увидел впервые — ох, у меня сердце встрепенулось и ноги задрожали! Я думал, это сам Серафим Саровский к нам вышел, — такое от его сияние исходило. Он как увидел нас, так сразу говорит: «О, священники ко мне приехали, священники!» А одеты мы были по-мирскому, и бород у нас не было: как догадаешься, что мы будущие священники? Старец с нами был ласков, дал отдохнуть, познакомиться с городом, и только потом повел с нами беседу. О чем мы беседовали, я сейчас говорить не буду, скажу только, что благословил он меня выбрать монашеский путь, и я, нимало не раздумывая, по приезду в Ленинград подал прошение. В тот же год меня постригли в монахи с именем Гурий. Никогда не думал, что будет мне такое имя, но так оно вышло…
Служил я по разным приходам: в Рождествено, в Тихвине, в Ополье, преподавал Устав в Академии, пока не прибыл, наконец, в Кингисепп, или, вернее, в богоспасаемый город Ямбург, — никаким иным названием мне его называть не хочется, — и впервые увидел здешний красавец-собор во имя св. вмц. Екатерины. В ту пору размещался в нем городской краеведческий музей. И начал я ходить на приемы к первому секретарю горкома с просьбой: отдайте храм верующим! Секретарь мне, обычно отвечал: «Мы на восстановление этого собора затратили два миллиона рублей, а вы хотите его даром забрать?» «Во-первых, — говорю, — разрушали его не мы. А во-вторых, построили его не для вашего музея, а для того, чтобы в нем Богу молиться!» Но, конечно, ничего из таких разговоров не получалось: с шуточками да с улыбочками, первый секретарь от решительного ответа уходил. Тогда я стал проводить регулярные дежурства возле храма: народ собирался, читали Псалтирь, молились… Нас пытались прогнать, нам угрожали, но мы не отступали. Как-то раз, уже в перестроечное время, меня пригласили принять участие в торжественном шествии по случаю Дня Победы. Идем мимо собора. Верующие меня просят: «Батюшка, давайте остановимся здесь и отслужим панихиду по убиенным воинам!» Я им объясняю: «Подождите, не время сейчас! Вот дойдем до кладбища, там помолимся!» Но люди эти, что обратились ко мне, были настроены решительно. Они остались возле храма: пока, мол, молебен не будет отслужен, не уйдем отсюда! Я в это время молился на кладбище, — вдруг ко мне приезжает городское начальство: «Батюшка, успокойте народ! Что это у вас за незаконное сборище возле собора?» Я в ответ: «Обещайте, что передадите собор Церкви, тогда мы разойдемся!» Им делать нечего: пообещали. И я этому обещанию поверил. Но проходит полгода, год, — а дело с места не двигается. Я снова к властям, а они мне: «Мы бы рады, да не знаем, куда девать экспонаты музея!» Тут я им и говорю: «Вы что же, думали меня обмануть? Так знайте, что обманули вы самих себя. В этот раз я на 9 мая уезжаю в Москву: успокаивайте народ сами, как хотите!» Тут они очень быстро подготовили все документы, и вскоре мы уже выносили из храма музейные стеллажи, и весь тот хлам, что сотрудники не потрудились убрать за собой.
То был 1990 год… Четырнадцать лет прошло с тех пор: каждый день новые труды, новые хлопоты — одна только Православная гимназия сколько сил требует… Собираемся строить новый храм, освящаем источники по всему району… Хватает забот, но Господь и без утешений не оставляет — и больших, и маленьких: вот, например, научился я грибы собирать. Теперь, как мои сотрудники собираются за грибами, так и я с ними, хотя к лесу еще недоверчиво отношусь, — побаиваюсь его пока от непривычки…
* * *
К своим поездкам по области никогда не относишься как к паломничеству, хотя порой случается бывать у самых настоящий святынь, — и не просто бывать — молиться у них… И всё-таки, командировка — это не паломничество. А сколько раз я бывал в настоящий паломничествах? Раз, два — и обчёлся. Пальцев на одной руке хватит, чтобы перечесть. И более того: когда и вырвешься в такую поездку, непременно попадёшь в такие искушения, что и не рад бываешь… Вот рассказ об одном таком паломничестве.
9. В БОЛЕЗНИ
Чувствовал я, что заболеваю, когда отправлялся в паломничество по святыням Вологодской земли. Чувствовал, но, понятно, от паломничества отказываться не хотел: авось, болезнь не сильно зацепила; авось, обойдется; авось, за два дня не помру. Не помер, но зацепило довольно сильно.
Как вообще узнаешь, что приближается болезнь? Кто как, а я так: глаза перестают видеть хорошее, красивое. Идешь знакомыми любимыми улицами — и видишь только трещины на стенах, только грязь, разбитые бутылки, собачьи следы… На людей лучше и не смотреть: город превратился в передвижной паноптикум. Взглянешь ли на ребенка — и видишь в нем только будущего взрослого: вот этот мальчишечка будет таким мордатым лысым дядькой, а эта девчушка — толстой неряшливой теткой… И вот после получаса таких неутешительных наблюдений тебя вдруг осенит: «Э, брат!.. а не пора ли нам принять антигриппин?» И вскоре все приходит в норму.
Да, но ехать в паломничество в таком состоянии?
В автобусе только спишь и сквозь сон ощущаешь мучительную дурноту. Из автобуса выходишь — то слишком холодно, то слишком жарко. Прошел сто метров — ноги гудят, как после суточного перехода. Монастырские службы — это просто пытка. Экскурсовод все время что-то говорит, — а почему бы ему не помолчать минутку?..
И это паломничество, и это приобщение к святыне? Это та поездка, о которой я мечтал? У меня слюнки текли, когда мне рассказывали о Ферапонтове, о фресках Дионисия, о Кирилло-Белозерском монастыре. И вот я здесь, я вижу все это — но сквозь туман, сквозь страшную усталость; и думаю только об одном — скорей бы ночлег.
Вот к концу первого дня стою я на вечерней службе в Кирилло-Белозерском монастыре. Монастырь огромный, таких я еще и не видел. Сравнить его можно только с Валаамом, но на Валааме сама природа поражает своей мощью, монастырский дух там — в скалах, в вековых соснах, монастырское безмолвие разливается необъятной Ладогой, человек веками старался только сгладить, усмирить эту мощь. В Кириллове — наоборот: среди мирных, исполненных покоя пейзажей высится суровая рукотворная твердыня, крепость для воинов духа (впрочем, и для простых воинов тоже). И в этом огромном монастыре — три или четыре монаха, а некоторые даже утверждают, что их всего двое. И вот, эти двое монахов служат всенощную в небольшом храме — единственном, действующем на весь монастырь (который по большей части принадлежит музею), служат вдумчиво, никуда не торопясь, протяжно поют знаменным распевом — час, другой, третий, четвертый… Я подпираю колонну, даже не пытаясь молиться. Рядом со мной рака какого-то святого. Несколько часов я бессмысленно пялюсь на нее, пока, наконец, мне не приходит в голову прочесть надпись на покрове. «Святой преподобный Кирилл Белозерский».
Вот оно как! Преподобный, которого вся Россия почитала наравне с Сергием Радонежским, который повторил все чудеса, явленные Спасителем в земной Своей жизни (хождение по водам, воскрешение мертвых, насыщение многого народа малой пищей и т. д.), один из тех, чьими молитвами Россия до сих пор держится, — и я стою столбом перед его гробницей, и даже помолиться толком не могу! Господи, за что же мне это? Если уж нужно было мне поболеть, то почему болезнь не застигла меня дома, почему нужно было портить такую прекрасную поездку? Утром я уже «побывал» таким образом в Ферапонтово — сквозь туман припоминаются белые, точно фарфоровые, монастырские стены на фоне темного пасмурного неба, припоминается бездонная синева дионисиевых фресок, а пуще того припоминается головная боль и ломота в ногах.
На следующий день — Спасо-Прилуцкий монастырь. С утра приободрившись, иду на Литургию — исповедь, причастие… Потом сразу экскурсия по монастырю — и тут бодрости как не бывало. Большой мужской монастырь на окраине города Вологды, на берегу реки Вологды. Прочные крепостные стены, сторожевые башни, на храмах купола не луковицами, а воинскими шлемами… Я хожу, передвигаю ноги и думаю: если сейчас, в гриппе, меня все это так поражает, то что бы почувствовал я здоровый? Ведь болезнь, как было сказано, все хорошее с глаз прячет…
И вот, уже в Вологде, проезжая по милым ее улицам, мимо старинных деревянных особнячков, мимо дома, «где резной полисад» (оказывается, в Вологде один-единственный такой дом остался, да и там полисад новодельный, восстановленный), пытаюсь рассудить здраво. По человеческому уму — сорвалось мое паломничество: ни молитвы не получилось, ни новых впечатлений не набрал толком. Но ведь на все же воля Божия. Значит, не было так задумано, чтобы я гулял по вологодским святыням, приплясывая. Пришел, посмотрел, дома галочку поставил: еще одно место на земле осчастливлено моим визитом.
Нет, Вологда так просто не дается. Эта земля — не обычная, и святость ее (о которой основательно подзабыли современные православные) — слишком высока, чтобы «приобщиться» к ней с налету. Она не терпит «паломнических туров», она ждет паломнического труда, и не любования красотами (хотя любоваться тут — не налюбуешься), а трудной борьбы с собственной немощной плотью (не только с физическими ее недугами). Вологодские святыни и видом своим напоминают неприступные крепости: возьми-ка такую за два дня! Она лежит — вологодская земля, чуть дальше, чуть глубже в России, чем мы, и чуть тверже, чем мы, укреплена в почве, и чуть крепче, чем мы, привязана к небесам. Ты хотел сюда прогуляться? Нет, ты соверши сюда восхождение, как на гору духовную. А что ты хочешь? Северная Фиваида — это название не вчера придумано, и к чему-то оно обязывает каждого, кто вступает сюда. Не берусь я сравнивать этот край с Афоном, с Дивеевым, с Оптиной: нет у меня такой линейки, чтобы их замерять, но что-то мне подсказывает — равновеликие это величины.
А какие святые здесь лежат! В России святость — не в редкость, но много ли ты насчитаешь мужей, подобных Кириллу Белозерскому? А вот мало кому известный прп. Игнатий, чьи мощи покоятся в Спасо-Прилуцком храме. Пятнадцати лет отроду он, как возможный, но нежелательный претендент на Московский престол, был заточен Иваном III в темницу, и с тех пор на свободу не выходил 32 года — до самой смерти. В темнице он принял постриг, и всю жизнь молился за московского государя, лишившего его человеческой жизни как за своего благодетеля. Вот святость! И мимо этого пройти, как мимо незначительного экспоната в длинной музейной экспозиции?
Нет, может, чего я и не углядел из-за болезни, но что-то главное я все-таки понял, чего здоровым не понял бы ни в коем случае: поставил бы Вологодский край в одном ряду с другими-прочими и со временем забыл бы об этой поездке. Теперь не забуду — нет!
* * *
Иная командировка в пределах епархии поражает не меньше, чем паломничество в знаменитый монастырь, — особенно, если ты не ожидаешь увидеть ничего особенного. Выходишь из электрички после двух часов езды — перед тобой обычный… посёлок — не посёлок, деревня — не деревня… населённый пункт! — с унылыми линиями-улицами и одинаковыми яблонями за типовыми заборами. «Где ж тут церковь?» — спрашиваешь у первой, подвернувшейся старушки (такие вопросы можно задавать только старушкам, если хочешь получить вразумительный ответ). Но тут и старушка долго хмурит брови, шевелит губами… «Это какая же церковь? Это новая, что ли?» — «Ну, не знаю… Наверное, новая. А что есть и старая?» — «Нет, старой нету… Новая — есть… Дак она далеко… Километров пять… Вот туда идите — и выйдете…» Иду. Выхожу за границы посёлка, шагаю через поле… Церкви пока не видать. Прохожих тоже — спросить не у кого. И вдруг, как-то сразу, на горизонте вырастает большой, новый деревянный храм — до того красивый и так удачно вписанный в пейзаж, что дух захватывает. Это храм святых Царственных мучеников, а настоятелем здесь — известный в епархии священник, писатель, проповедник, духовник отец Александр Захаров.
10. ТЯЖЕЛО ОВЕЧЕК МЫТЬ…
…На евангельском чтении в звучал отрывок о Гергесинских бесноватых, а когда запели Херувимскую, в храме кто-то громко заплакал. Заплакал не так, как обычно плачут люди в церкви, но резко, отрывисто, зло. Плакал, словно ругался. К рыдающей женщине подошли сердобольные старушки, но она свирепо отмахнулась: «Не надо! Ничего мне не надо! Уйдите все от меня!». Потом трое здоровых мужчин пытались подвести эту женщину к Чаше, а она как будто и не сопротивлялась, но сдвинуть её с места оказалось очень не просто…
Всё-таки причастилась, успокоилась…
На проповеди отец Александр Захаров сказал:
— Все люди по-разному воспринимают явное присутствие Божие. Те, кто верит — или только хочет уверовать, — у тех в душе рождается радость, благоговение, благодарность. И совсем иное творится в душах людей, которые не верят и верить не хотят. Противление — вот чем наполняется их сердце. Так случилось и у жителей страны Гергесинской. Так случается порой и у нас…
Батюшка говорит негромко, но голос его отчётливо слышен во всех уголках церкви. Прихожане слушают, затаив дыхание, — духовные дети отца Александра, прихожане-горожане. Однако сейчас город остался очень далеко. Мы стоим в большом деревянном храме во имя святых Царственных Страстотерпцев в деревне Сологубовка. Даже не в деревне — за деревней, в поле, и храм — словно корабль, плывущий по морю ромашек и иван-чая. Запах полевых цветов мешается с кадильным дымом.
После службы мы разговариваем с отцом Александром — усталым, задумчивым…
— Батюшка, наверное, нести крест духовничества не всякому по силам? Как вы справляетесь? У вас слава заботливого и внимательного духовника…
— Какая там слава… Не слушайте вы, пустое это… А духовничество… Всякий священник как примет сан, как взглянет впервые на свою паству, так, хочешь не хочешь, становится духовником: люди идут к нему на исповедь, совета начинают спрашивать… Я-то к этому отношусь просто. Когда ко мне просятся в чада, я говорю: «Если будешь постоянно ходить в наш храм, так поневоле станешь моим чадом — естественным образом». Чад ведь не выбирают — как и родных детей. Не закажешь — мне дочку или сына, и такого-то роста, и чтобы глаза такого-то цвета… Какого Бог пошлёт, такого и надо принимать. А есть такие, что напросятся в чада, а потом их по полгода или по году не видишь — что толку было и напрашиваться?
— Вы за таких боретесь? Не даёте им уходить? Или целиком на волю Божию полагаетесь?
— А как без воли Божией? У меня, конечно, есть такой синодик, куда я записываю всех людей, которые оставили какой-то след в моей жизни. Я всех помню и до конца дней своих молиться буду за них. Всё по-разному складывается, но те, кто в синодик ко мне попал, могут быть уверены, что не забыты. А синодик этот всегда у меня в кармане, всегда при мне…
Отец Александр достаёт объёмистую записную книжку с портретом Царя-Мученика на обложке:
— Вот их сколько!
— Батюшка, люди день за днём высказывают вам свои грехи, вытряхивают перед вами всю свою грязь… Вы за эти годы не разочаровались ещё в роде человеческом?
— Верно, есть повод разочароваться, и давно бы так случилось, но… Помню, в семинарии на уроках богословия нам преподавали доказательства бытия Божия — теоретические, а сейчас, став священником, я получил ещё одно доказательство — практическое. Оно заключается в том, что, если выслушивать рассказы о грехах без помощи Божией, то очень скоро начнёшь презирать людей и превратишься в неисправимого циника уже после сотни-другой исповедей… Даже и сотен не надо, десятков достаточно. А благодать, милость Божия — она всё покрывает. И любовь к бедным грешникам даётся только милостью Божией. Мне тут с одним московским диаконом довелось разговаривать о любви к ближним. Он говорил весьма убедительно и красноречиво, вспоминал известные Евангельские слова о пастыре добром, который оставляет девяносто девять овец и идёт искать одну, заблудшую… «Скажите, отец Александр, — говорил этот диакон, — есть ли сегодня такие пастыри? Где они? Может ли кто-то так заботиться о своих чадах?» Я его слушал-слушал, и говорю: «Отец диакон, ты всё правильно сказал… Я и сам-то никудышный пастырь — но ты погоди, не суди нас слишком строго. Ты станешь священником и откроешь для себя такую неприятную вещь: одну отбившуюся овцу ты к стаду вернёшь, вторую вернёшь — а потом эти овцы начнут чудить. И только ты овечку из лужи вытащил, отмыл, а она опять в эту же лужу — плюх! Другая туда же — плюх! А третья мало того что сама плюхнется — она ещё и окружающих обляпает грязью, и тебе самому достанется. И после третьей, пятой, десятой овцы тебе захочется не идти на поиски заблудших, а самому убежать в лес подальше, залезть на большую ёлку, спрятаться в её ветках, чтобы тебя никто не смог найти, сидеть там и поскуливать тихонечко». И если мы так не делаем, то единственно помощью Божией, а всякая человеческая сила иссякает очень быстро.
— Бывает такое, что во время исповеди человек вас раздражает, вы его слушаете и думаете: «Не то говорит, неправильно говорит!»?
— Если честно, то я в последнее время стараюсь исповедь вполуха слушать. Не столько слушаю, сколько молюсь, чтобы Господь нас всех простил — и его, и меня. Молюсь, чтобы подсказал: что мне посоветовать кающемуся, как ему помочь, чем утешить… Какое тут раздражение? — не до того. Другие заботы.
— Нарисуйте образ идеального духовного чада. Пусть такого не бывает в действительности — но должны же мы знать, к чему стремиться!
— От духовного чада ждёшь того же, что и от чада по плоти. Не надо по мелочам докучать папе, потому что у папы забот хватает… Особенно если много чад… Но в то же время по каким-то ключевым жизненным вопросам надо не забыть посоветоваться с отцом и прислушаться к мнению человека, который просто опытнее вас — по-житейски даже, не говоря уже о духовной жизни.
— За время вашего духовничества вы как-то изменили отношение к этому служению?
— В какой-то степени да. Любой человек, который добросовестно относится к своему послушанию, начинает в нём потихонечку усовершаться. И в чём же это усовершенствование заключается? Если раньше я думал, что понимаю, как следует вести себя духовнику, то теперь, подобно древнему мудрецу Сократу, говорю: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Считаю, что это большой прогресс.
— Слышал я от одного мирянина такое: «Для мужчины подчинение духовному отцу не обязательно. Женщины — они действительно нуждаются в водительстве, а мужчина пусть сам отвечает за свои поступки. Он, конечно, должен ходить на исповедь, каяться в своих грехах — но в остальном нужно самому за себя ответ держать». Мне кажется, что какая-то правда в этом есть. Мы же видим, что вокруг духовников собираются в основном женщины…
— Я бы сказал, что перекладывать свою ответственность на духовника нельзя не только мужчинам, но и женщинам. Впрочем, для мужчин это важно в особой степени: мужчина — хозяин очага, глава домашней церкви, он должен быть самостоятельным. И всё-таки… Все мы знаем, что жизнь порой так повернётся, что собственным скудоумием и не решишь — как тут быть, как поступить. Нельзя порой обойтись без совета — в особенности совета духовного. Это не только мирян касается, но и священников. Я и сам за советом хожу к тем, кто мудрее меня.
— К кому же вы сейчас ходите?
— К отцу Иоанну Миронову. А вам я посоветую: помните, что духовник — это живой человек, а не машина для выдачи ценных советов. И духовник, и чадо должны быть ведомы любовью. Заботьтесь о том, чтобы любви не угасить, и тогда всё у вас получится.
* * *
Вот ещё одна встреча с отцом Александром. Случилась она после того, как по городу разнеслась весть: на батюшку напали какие-то злоумышленники, пытались убить…
11. И ЭТО ТОЖЕ СЧАСТЬЕ
«Что же случилось с о. Александром Захаровым?» — этот вопрос за последние недели нам приходилось слышать весьма часто. Тревожная весть из Кировского района не оставила равнодушным никого из петербургских православных: многие знают о. Александра лично, многие слышали о нём добрые слова… У всех сжалось сердце от печального известия: «На о. Александра напали… хотели убить… ворвались в дом… ранили… лежит в больнице…» Люди недоумевали: кто хотел убить? за что? каково нынешнее состояние батюшки? Естественно, тут же пошли домыслы, слухи: «В него стреляли… нет, ударили ножом… матушка не пострадала… нет, она вместе с ним в больнице…»
Мы получили информацию из первых рук — от самого о. Александра. Ещё не оправившийся от ран, слабый, исхудавший, он, однако, сразу согласился встретиться с нами и рассказать, что же в действительности произошло на станции Сологубовка.
— Батюшка, как ваше здоровье?
— Слава Богу! Вроде на поправку пошёл. Сегодня делали очередной снимок пробитого ножом лёгкого и по-своему, по-медицински, сказали, что, мол, «наметилась динамика в сторону улучшения…»
— А правду говорят, что это нападение случилось накануне вашего пятидесятилетия?
— Да, так оно и есть… 28 августа у меня юбилей, а в ночь с 25 на 26 появились эти разбойнички. Прибежали, исколотили меня, озорники этакие, и убежали, — прости их Господи! Такой вот подарок к юбилею мне припасли. Хотя, с другой стороны, — действительно, подарок: Господь посетил. Как сказал мне один прихожанин, чадо моё духовное: «Господь батюшке на юбилей подарил вторую жизнь!» И правда — ведь могло бы меня уже не быть; то, что жив остался — это явная милость Божия. Во всём надо руку Его видеть и за всё Его благодарить.
— Как же всё это было? Расскажите, пожалуйста, поподробнее…
— Как было?.. Ночь была… Два часа ночи, — мы с матушкой припозднились в тот раз. Домочадцы все уже спали: дочь наша семилетняя, моя крёстная — ей уже 93 года, прихожанка одна — старушка на восьмом десятке и двое работников, которые на строительстве храма трудятся… Дверь мы не запирали — не боялись никого. И вот в два часа они вламываются: четверо добрых молодцев… Вернее, не очень добрых… Скажем так — четверо дюжих парней в камуфляже, в масках, в перчатках, вооружённые монтировками и ножами. Матушка с ними столкнулась в коридоре, — вернее, с одним из них. Тот сразу замотал ей рот скотчем и стал держать, чтобы она не убежала, а второй на меня накинулся. Я ещё не успел ничего понять, как мне на голову обрушился удар монтировкой, и я потерял сознание. Когда пришёл в себя, он уже на мне сидит и требует показать, где деньги. Я говорю, что деньги в кошельке, в куртке… Он проверил карманы и возмутился: «Так этого мало!.. Ещё должно быть!» Я говорю: «Больше не будет вам никаких денег». И вот тогда они начали меня бить. Я понимаю — нужно что-то предпринять, пока силы ещё есть, а не то будет поздно. Попытался сбросить его с себя, — и милостью Божией мне это удалось. Тогда я ухватился руками за монтировку и начал его заваливать на пол. Он крикнул товарищу, который держал матушку: «Помоги! Он сейчас сомнёт меня!» Тут они вдвоём начали меня колотить, и я опять потерял сознание. Но зато матушка, освободясь из-под опеки, времени не теряла: сорвала скотч и принялась громко кричать, звать на помощь. Этим своим криком она дело и решила: бандиты решили не ждать, пока кто-то придёт, бросили нас и со словами: «Уходим!» — убежали.
— Больше никто в доме не пострадал?
— Из домочадцев — никто. А вот рабочим, которые ночевали с нами, мужчине и женщине, тоже досталось: мужчину ударили монтировкой по лопатке, а женщине сломали палец на руке. В остальном всё — слава Богу. Дочка наша даже не проснулась от шума, раскрыла глаза, только когда меня увозили на скорой.
— Вы тогда были без сознания?
— Нет, в сознании… Очнулся, когда они уже убрались, вижу — в боку рана ножевая. Во время драки я её даже не почувствовал, а теперь… Кругом, конечно, кровь… Приехала скорая, милиция, меня положили на носилки, увезли… Первый день в больнице я то проваливался в безпамятство, то снова приходил в себя; на второй день сознание уже не покидало меня, а на третий — начал я быстро выздоравливать. Это истинное чудо Божие, что выздоровление пришло так быстро — просто на глазах поправлялся. Это всё потому, что молились за меня добрые люди, я просто физически ощущал их молитвы. Прихожане меня навещали часто, — спаси их Господь.
— Как вы думаете, батюшка, ваши ночные гости были из местных, из сологубовских?
— Нет. Нет, ни в коем случае.
— А какое к вам, к храму отношение в деревне?
— Хорошее отношение. Ведь это же мои родные места, здесь я рос… У меня здесь бабушка жила… А теперь вот храм здесь строим.
— Батюшка, вы побывали на пороге смерти. Принято считать, что люди после таких случаев как-то пересматривают свою жизнь, по-новому на неё смотрят… Вы согласны с этим?
— Не то чтобы я посмотрел на свою жизнь по-новому… Задача каждого христианина — строить свою жизнь так, чтобы через неё прославлялось имя Божие, чтобы во главу угла поставить исполнение воли Господней. Это понятно любому православному; к этому нас и Господь призывает, и апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос». (Гал. 2, 20). И я к этому и стремился всегда, особенно в последние годы, но стремился как-то… теоретически, что ли… А теперь, после такого приключения, всё стало как-то естественнее и проще. Фактически моя жизнь закончилась в минувшем августе, — а сейчас началась новая, добавочная жизнь: это уже не то, что имеет каждый, это уже не моё, а только Божие. И жить, и спасаться с таким сознанием легче.
— Батюшка, а почему бандиты именно вас выбрали своей жертвой, — вы догадываетесь об этом?
— Не догадываюсь и даже не хочу об этом гадать. Следственные органы уверяют, что обязательно найдут этих голубчиков. Вот, когда их найдут, тогда они сами всё и расскажут — зачем они это делали, для чего и почему.
— А вы, батюшка, зло на них держите? В общем, это было бы вполне естественно с вашей стороны…
— Нет, не держу. Честно — никакой злобы. Я по милости Божией с самого первого момента не чувствовал к ним никакого отвращения, не держу на них обиды и не горю жаждой мести. Мне их жалко. Это правда, ведь посмотрите, что получается: я, конечно, остался побитым, но душе моей они не повредили. Я был счастливым человеком, и я им остался. А они? Что сейчас творится в их сердцах, какое смятение? Лучше и не гадать. Как же их не пожалеть — людей, которые сами себе изранили всю душу?
* * *
По моему глубокому убеждению, умение прощать своих врагов — самое трудное искусство в христианской аскетике. Что говорить о врагах? — даже простой обиды, полученной от человека близкого или даже постороннего, простить не можешь порой годами… А прощать надо. Надо. Но как? На этот вопрос трудно получить удовлетворительный ответ. Зачастую слышишь лишь пустые отговорки, — и понимаешь: этот человек сам не умеет прощать, — более того, — никогда и не пытался… Есть один батюшка, к которому я обращаюсь с наиболее трудными вопросами, — зовут его отцом Михаилом Петропавловским. Сейчас он — настоятель нового, Петропавловского храма в Сестрорецке. С ним мы говорим об искусстве прощения.
12. КОГДА НАКОПИТСЯ ОБИДА…
Вообще-то в русском народе принято было относиться к обиде, как к дурной болезни: старались не выставлять ее на всеобщее обозрение и как можно скорее залечить. В словах — «вечно он на что-то обиженный!» — явственно слышится суровое осуждение, даже презрение… Человек, стойкий к обидам, весьма уважается в любом обществе…
А все-таки, кто из нас в этом мире застрахован от обид! Прилетит, как шальная пуля, внезапно и больно — и что тут будешь делать? Нет, правда, что делать, если рана от обиды все болит и болит, и нет никакой надежды, что в ближайшем времени затянется?
— Прощение требует немалой душевной силы. Но как человеку стяжать эту силу? Есть ли на этот счет какие-то особые духовные рецепты? Вообще, согласны ли вы с тем, что умение прощать — самая трудная вещь в «искусстве христианской святости», нечто, затрагивающее самые глубины человеческой души?
— Вот вы говорите — «глубины души»… А что у нас, грешников, скрывается на этих глубинах? До самого дна души у пораженного грехом человека простирается гордыня: наиболее сильная страсть, которую и святые одолевают только под конец жизни… Обида на первый взгляд кажется пустяком, который легко забыть, но на поверку это оказывается не таким-то простым делом. Почему? Потому что обида — как айсберг: на поверхности ничтожный повод, а под водой, в глубине — огромная, уязвленная гордыня. Задумайтесь об этом, и вы сами увидите ответ на ваш вопрос: чтобы научиться прощать, забывать обиды, нужно сначала одолеть свою гордыню. А одним решительным приступом ее не сломить: победа над гордыней — результат сложной, кропотливой покаянной работы, которую всю жизнь ведет каждый православный христианин. Нет никакого отдельного «искусства прощения» — есть общее искусство духовного восхождения. На этом пути каждый шаг важен, но об особой важности прощения обид сказал Сам Господь, уча Своих учеников молитве: «Отче наш!.. остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть Господь готов простить нас ровно настолько, насколько мы сами научились прощать.
— Может быть, неспособность прощать — это результат печального жизненного опыта: ведь всех нас обманывали — и не раз! — и мы не хотим повторения? Сами посудите: легко простить человека, если он сам раскаивается, но как простить наглеца, который в лицо тебе говорит: «И сделал гадость, и еще раз сделаю!» Да нужно ли такого прощать?!
— Нужно в первую очередь одолеть собственную обидчивость. Я вам скажу так: представьте себе, что у вас на теле есть рана или язва; всякое прикосновение к ней приносит боль, страдания, по крайней мере — неприятное ощущение. Разве вы не поспешите эту рану залечить? А воспаленная гордыня — это та же рана. Все мы неимоверно чувствительны, нас обижает каждое неловкое слово, даже каждый неласковый взгляд. Порою человек и не хотел нас обидеть, а мы все-таки обижаемся на него. Больная гордыня, как рана, не терпит и малейшего прикосновения! Ну, а уж если гордыня ложится на гордыню, то обида выходит в сто и в тысячу крат сильнее: наглец, о котором вы говорите, он не только пакостит вам: у него и глаза особые — обидные, наглые. Вы правы: есть люди, которым даже интересно уязвлять нас, ведь в состоянии сильной обиды мы теряем разум и выглядим весьма комично. А обидчик, глядя на нас, потешается. Так вот, хотя бы для того, чтобы не попадать в подобное глупое положение, нужно бороться не столько с отдельными обидами, сколько со своей обидчивостью в целом. Христианские церковные таинства — молитва, пост, подвижничество — это и есть тот самый пластырь, тот елей, которым врачуется наша уязвленная душа, которым усмиряется наша гордыня.
— Верно ли я понимаю, что, говоря о прощении, нужно иметь прощение только своих личных обид? Ведь нельзя простить за кого-то: нельзя «простить» хулигана, который в твоем присутствии нападает на слабого, нельзя «простить» врага, напавшего на твою страну, и т. д. …
— Мне кажется, тут вопрос не в том, прощать или не прощать. Тут нужно решить для себя: что я могу сделать? чем помочь? Самое время вспомнить, что христианин обязан полагать душу за други своя, себя самого подставить под удар, чтобы этой высшей любовью покрыть все зло, которое он в данном случае видит.
— Если нет сил к подлинному прощению, от души, нужно ли «прощать формально» — одними словами, не сердцем, объявить: я, мол, тебя прощаю?..
— Нет сил потому, что, опять-таки, все мы больны гордынею. А может ли больной человек нести нагрузку здорового? Конечно, нет… Поэтому есть некоторая польза и в прощении «формальном»: оно нужно, чтобы не затягивать обидное противостояние, чтобы выиграть время для работы над собой, для прощения «неформального». Судите сами: если вы простите сразу, то обида, даже самая сильная, зарубцуется. Уже через час простить — даже «формально» — будет гораздо сложнее. А через день вы так распалите свою гордыню, что ни о каком прощении и слышать не захотите.
Обида — это злейший яд для души, и если долго принимать его — даже по капле — в душе произойдут необратимые изменения. Душа в состоянии обиды крепко связана, порабощена гордыней нашей. Причем, и наглец, о котором мы говорили, и застенчивый человек горды бывают совершенно одинаково, просто проявляется это у них по-разному. Все мы больны разными формами гордыни. Вы скажете: а где же гордыня у того, кто сам себя порицает? А ее обнаружить очень просто: укажите этому человеку на тот самый недостаток, который он порицал в себе десять минут назад, — и получите в ответ обиду: сам-то он готов критиковать свои недостатки, но извне никакой критики не потерпит.
— В Писании заповедано прощать «до седмижды семидесяти» раз (Мф. 18. 22). Но разве не полезнее иногда именно не простить, отомстить — чтобы вразумить человека, чтобы «дать ему по рукам», чтобы «неповадно было»?..
— …или «чтобы не сели на шею», — это тоже расхожее выражение. Этого тоже боятся люди: прости раз, прости два — тебя сочтут тряпкой и сядут тебе на шею…
Указанное вами место из Евангелия можно отнести к с самым близким и дорогим людям, к домочадцам. Именно с близкими мы подчас теряем контроль над собой, отпускаем тормоза: дома мы смелы, дерзки, безпардонны, не то что на службе, перед начальством… Все мы — эгоисты. Мы влюблены в себя, а наш ближний себя любить не должен — только нас! Мы редко просим прощения у ближних: они, мол, и так никуда от нас не денутся!.. Конфликты затягиваются, напластовываются один на другой, обида ложится на обиду… Очень часто мы обобщаем вину наших сродников: человек допустил какой-то малый проступок, а мы это суммируем с прочими его винами, говоря: «Вот и вообще ты такой плохой, грешный, невнимательный, дерзкий, жестокий и т. д.» И если ко всему этому букету конфликтов прибавить еще и «месть в воспитательных целях», то положение станет совсем безнадежным.
Да, трудно представить, чтобы так часто — «до седмижды семидесяти раз» — нас обижали посторонние люди: мы стараемся отойти от тех, кто так или иначе досаждает нам. Но если это не удается сделать, если мы связаны работой, соседством или еще какими-то узами с людьми, которые часто нас обижают, — очень важно воспринять соседство такого человека, его постоянное пребывание в нашей жизни, как несомненную волю Божию. И даже если он обижает нас совершенно несправедливо, нужно понимать: пусть мы сегодня и не виновны в том, в чем он нас обвиняет, но в прошлом мы, конечно же, были в этом виновны. Это одна из форм искупления грехов — появление в нашей жизни такого человека. И примирившись с этим назойливым обидчиком, мы с вами приобретем те самые добрые христианские качества, которые ожидает от нас Господь.
— Опять-таки: в одном месте Господь велит прощать «до седмижды семидесяти раз», а в другом устанавливает некую градацию: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним… если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». (Мф. 18. 15) Я не совсем понимаю, как совместить эти две заповеди…
— Вы сравниваете на слух похожие, но по сути своей совершенно разные повеления Господа нашего. В первом случае Господь говорит именно о прощении обид, а во втором случае речь идет о таких грехах, которые вводят человека в соблазн, которые искушают наших братьев по вере. То есть это, собственно говоря, не реакция на личную обиду, а попытка не допустить соблазн в лоно Церкви.
— «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку…» (Мф. 5. 39). Приходилось слышать о людях, пытавшихся буквально исполнить эту заповедь и разочаровавшихся в такой возможности: был нервный срыв, было любование собственным «всепрощением», а обида не снималась — только загонялась глубже в подсознание…
— Тут Господь наш Иисус Христос имеет в виду простой духовный закон: зло не уничтожается другим злом. А именно уничтожение зла является главной целью пришествия в мир Господа. Иными словами — нельзя злом принудить человека любить тебя. Зло есть грех, противление воле Божией, разрушение божественного миропорядка, нарушение божественного замысла. И если мы в ответ станем точно так же ломать божественный замысел, то какая же это будет борьба со злом?
— Иногда вообще непонятно, как можно простить хоть что-нибудь! Ты как будто давно простил и забыл, и прошло немало лет, а вдруг вспомнилась старая — даже порой детская — обида, и переживаешь ее, как нечто совсем недавнее — и где твое прощение?
— Без сомнения, так часто бывает… Что тут посоветовать? Помните, пожалуйста, что не всякий наш обидчик — совсем уж плохой человек. Чаще всего он гораздо лучше и чище нас, и напрасно мы на него так долго обижаемся. Наш эгоизм не позволяет увидеть то богоподобие, тот образ Божий, который носит каждый человек. Вместо того, чтобы возненавидеть грех, мы ненавидим носителя этого греха, а ведь и сами таскаем ту же ношу…
И еще скажу: обидчивость как черта характера имеет некоторые противоположные свойства — отходчивость и злопамятство. И вот что интересно: не всегда отходчивость однозначно хороша, а злопамятность однозначно плоха. Все мы судим о ближних по себе. Отходчивый человек воображает, будто все вокруг так же легко забывают обиды, как и он сам, и потому с легкостью оскорбляет окружающих, не задумываясь о последствиях. Злопамятный же долго страдает, пытаясь простить своего брата, и потому бывает очень осторожен в отношениях с людьми, зная наперед, какую тяжкую муку он может ими доставить.
Вспомним же и о том, что часто человек, обидевший нас, мучается не меньше нашего — от раскаяния, но гордыня не позволяет ему попросить прощения. Упредим же его, поможем ему, попросим прощения сами — и лед отчуждения растает. Вот и Прощеное воскресение близко — да не будет такого, чтобы оно прошло для нас даром!
* * *
Очень уважаю отца Михаила Петропавловского и ценю его мнение, но искусство прощение — слишком сложное для меня искусство, и потому я не упускаю случая поучиться ему у всякого, кто может научить. Вот такая беседа вышла у меня с молодым клириком храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала отцом Георгием Пименовым накануне очередного Прощённого воскресенья.
13. КАК ПРОСТИТЬ ГОСПОДА?
— …А зачем он нужен, — этот формальный чин покаяния? Подходят друг к другу почти незнакомые люди, просят простить неизвестно за что, их охотно прощают, поскольку никакой действительной обиды не помнят… А если даже есть обида, — неужели так вот, за секунду её можно простить? Настоящее, искреннее прощение, прощение от души, от сердца — это огромный труд, его одним поклоном не вымолишь!
Отец Георгий вздыхает:
— Ну, давайте мы отменим чин прощения… Давайте ещё что-нибудь отменим, — сначала одно, потом другое… И где же мы окажемся в конце концов? Формальность… Вы не относитесь к нему формально, вот он и не будет формальностью… Я видел, как в одном старинном монастыре проходит чин прощения: все насельники, от игумена, поседевшего в монашеских трудах, до последнего послушника, который, может быть, только неделю назад перестал наркотики принимать, — все просят друг у друга прощения… И не раз в год — каждый вечер! Вот где благодать, — удивительный, непередаваемый дух примирения… Но это, конечно, сродни чуду. В остальном же я с вами согласен: настоящее прощение требует неустанных душевных трудов. Приходилось видеть, как люди падают в ноги перед теми, кого обидели, — те в свою очередь приходили в умиление, заливались слезами… Но, если говорить правду, такое происходило, главным образом между молодыми девушками. А между людьми взрослыми, повидавшими жизнь, много лет друг друга знающими — никакие поклоны, никакое внешнее смирение — ничего не работает!.. И у меня, и у вас, — и каждого, наверное, есть знакомые, есть родные, с которыми никак не налаживаются отношения. И так стараешься, и этак, — всё напрасно. И если я буду кланяться им в ноги, если проползу за ними на коленях через весь Петербург, — разве изменится что-нибудь? Беда в том, что и у меня самого не хватит смирения ползать перед ними на коленях, да и они не воспримут этих моих показных попыток помириться… И я для себя пришёл к такому выводу: в случаях застарелых обид нужно упорно, не отчаиваясь, искать способов к примирению, и неустанно молиться за этих людей. Однажды Господь поможет, — главное, не унывать. А чтобы обиды не крепли, не делались от времени каменными — почаще просите прощения в самых ничтожных случаях. Чуть-чуть повздорил с кем-то, — не забудь сразу, как только пыл пройдёт, сказать: «Ну, дорогой, прости ты меня, грешного!»
— Молиться за тех, кого мы обидели, и за тех, кто нас обидел, — это правильно, с этим не поспоришь. Но иногда старая вражда так допечёт, что хочется найти более действенные способы для её разрешения…
— Вот, на мой взгляд, очень действенный способ… Я нашёл его у митрополита Антония Сурожского, и — как это часто бывает, — до глубины души поразился мудрости этого человека. Владыка Антоний говорит примерно так: «Прежде, чем просить у Бога прощения, сам прости Богу всё, что Он тебе сделал». Понимаете? Простите Богу! Это, с одной стороны, звучит кощунственно, а с другой — бьёт нам не в бровь, а в глаз. Сколько обид мы держим на Бога!.. Как часто Он нас (по нашим маленьким, суетным понятиям) обижает: и родителей Он нам дал не таких, каких мы бы хотели, и супругов, и детей, и работу, и место жительства, — и историческую эпоху!.. Простите Бога. Если не можете понять всей премудрости Его Промысла, — простите Его, смиритесь перед ним! Иначе говоря: примите безропотно свою судьбу. И когда вы научитесь прощать Богу, — вам будет много легче прощать ближнего. Это наиболее общий путь. Если же говорить о конкретных случаях, то каждый из них нужно разбирать особо. Ведь существуют десятки тысяч видов обид. Как часто мы обижаем человека одним взглядом, одним движением!.. Мы ему ничего худого не делаем, злых слов не говорим, но он по самой походке нашей видит, что мы его презираем, — и обижается на нас. В таких случаях хорошо попросить прощения именно в Прощёное воскресенье: поклониться человеку в ноги, показать своё смирение. И не растекаться словесами, не впасть в ненужный анализ подробностей: прости меня Христа ради, — и всё! А если начать долгие обсуждения, — можно зацепиться за некую шероховатость, и вражда вспыхнет с новой силой. Другое дело супружеская ссора. Здесь, может быть, полезно именно совместное исследование её причин: «Я-де недоволен тобой потому-то…» Ведь как часто супруги пытаются не поднимать скандал из-за мелочей, покрыть мелкие обиды любовью… Но обиды-то копятся, — однажды прорвётся всё разом… Может быть, лучше каждый раз спокойно, по-доброму обсуждать всякое недоумение…
— А может быть, лучше попросту забывать обиды? Усилием воли стирать их из памяти? Такое возможно…
— Возможно, — да только это не поможет вам в будущем избегать ссор. Вы подумайте: Господь попускает обиды, — значит в них есть какой-то смысл, какая-то польза для нас. Дело не только в тренировке смирения. Говоря по-научному, всякий конфликт несёт в себе некую положительную информацию. Мы начинаем лучше понимать себя, лучше видеть ближнего, мы упражняем свой ум, своё сердце, свои духовные силы. Забыть, сделать вид, что ничего не было, — это значит, в сущности, солгать самому себе. Ложь никогда не даст добрых плодов. Нужно извлечь из обиды всю ту пользу, которую вложил в неё Господь, и тогда в будущем мы сможем обходить стороной этот подводный камень.
— Как быть, если обидчик постоянно, день за днём ранит твою душу? Допустим, я такой смиренный, — каждый раз прощаю его. Но вечером я его прощаю, а утром всё начинается сначала. Тут и святой потеряет терпение…
— Да, знакомая история. Со мной однажды было такое — в коммунальной квартире, — и мудрые люди мне посоветовали: каждый день ставь за обидчика свечку в храме. Каждый день, неукоснительно. Ну и, разумеется, не формально, не ради галочки, — а всякий раз с искренней, сердечной молитвой за обидчика. Я послушался. Прошло сорок дней, сгорело сорок свечей, — и обидчик мой совершенно успокоился. Попробуйте и вы так же, — и по вере вашей да будет вам. Очень может быть, что человек, который упорно на вас нападает, возбуждаем диаволом. Но не забудьте: если некто возбуждает в вас гнев, значит, гнев-то этот в вас есть! Был бы ты совершенно безгневный, так жалел бы обидчика, сострадал ему — и не более того. Так, может быть, его нападки — это те лопатки Божии, которые выскребают гнильцу из твоей души?.. И ещё один мудрый совет я слышал: «Не обижайтесь, если люди внешние нападают на вас: может быть, они по-другому не могут попросить ваших молитв… Они этого умом не понимают, а душой чувствуют… Если уж вы христиане, так молитесь за обидчиков: назвался груздем, полезай в кузов!»
— Вершина христианского смирения, способности прощать обиды выражена в заповеди Господней:«Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку»(Лк. 6. 29) Вам приходилось в жизни видеть человека, способного так поступить? Или хотя бы приблизившегося к такому состоянию души?
— Я расскажу о том, что слышал от очевидца. Некогда работала у нас в храме раба Божия Татьяна, Царство ей Небесное. Она была здесь от самого начала, с того дня, как Воскресенский храм у Варшавского вокзала вернули Церкви. Возвращение это прошло отнюдь не гладко. Некая община, к Русской Православной Церкви не принадлежащая, одновременно с нами добилась разрешения занять храм. Произошла настоящая битва: православных с боем не пускали в церковь, Татьяну нашу связали и пытались выбросить за порог… Приехал тогдашний правящий архиерей — владыка Иоанн (Снычёв), — но и его не хотели пустить. Затем случилось вот что: кто-то из наших противников ударил митрополита по щеке. И владыка Иоанн повернулся и подставил другую щёку. Это видела Татьяна, это видели многие, присутствовавшие при том. Вот вам человек, в точности исполнивший Христову заповедь.
— Во время поста душу нередко терзает раздражение на близких: мало тебе действительных обид, — так ты ещё отыскиваешь обиды мнимые, раздуваешь ничего не значащие пустяки до размера тяжёлого оскорбления…
— А может быть, это у вас пост чрезмерный? Подумайте: вы и так пребываете в подвиге поста, а тут вам предлагают ещё и подвиг прощения, — не многовато ли?.. Сколько мы знаем случаев, когда люди питаются одними сухариками, и при том волками смотрят на ближних… Кому такой пост нужен? И я попросту говорю: если ты раздражаешься, значит, может быть, пост у тебя слишком строг?.. Возьми благословение: рыбку ешь, молоко ешь… Только ближнего не ешь. Хотя есть, конечно, такие батюшки, который строго постятся и при том в мире пребывают, — но я такой меры ещё не достиг. Ведь неспроста Великий пост начинается Прощёным воскресеньем: пусть у нас оно несовершенно проходит, пусть сто человек ты простишь одними устами, а не сердцем, но сто первого, может быть… И ты видишь покаянные слёзы людей, — и невольно сам приходишь в сокрушение, невольно вспоминаешь, что у тебя есть один или два человека, с которыми ты не примирён, которым этот чин недоступен, — с ними надо как-то по-другому. И, может быть, в течение поста Господь даст тебе ума и сил, чтобы всё-таки примириться с ними. А не будь чина прощения, — ты, может быть, и забыл бы об этих ссорах, раны остались бы не излеченными, камень остался бы лежать на душе, — как знать, не потянет ли этот камень нас ко дну, когда пойдём на мытарства?
* * *
И ещё одна беседа с отцом Михаилом Петропавловским, случившаяся вскоре после знаменитого пожара в Пермской дискотеке «Хромая лошадь».
14. МЫ СИДИМ ПОД БАШНЕЙ СИЛОАМСКОЙ…
…Кажется, все уже успокоились, все всё забыли, все окунулись в предпраздничную суету… Не век же плакать о погибших! Не век… Пермская трагедия уже отошла в историю… Но теперь — какая трагедия на очереди? И возможно ли эту очередь совсем упразднить? Или хотя бы проредить, чтобы катастрофы не сыпались на нас, как градины из чёрной тучи?.. Ведь у каждого из нас есть более или менее ясное ощущение, что причина бедствий не только в плохой администрации или в нерасторопности пожарных… А в чём же тогда?
— Как правило, в подобных случаях люди церковные вспоминают слова Спасителя: «Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13. 4–5). Надо ли это понимать так, что люди, кающиеся в своих грехах, не гибнут от несчастных случаев?
— Конечно, это не правильно. Вспомните, сколько раз в день святая Церковь молится о даровании всем нам «христианския кончины жизни, безболезненны, непостыдны, мирны»… Если церковная жизнь автоматически обезпечивает нам достойную смерть, — зачем тогда столько молиться об этом? Я советую вам внимательней прислушаться к тем самым словам Спасителя, которые вы только что процитировали. Сказано: «Если не покаетесь, все так же погибнете». Как — «так же»? На всех не кающихся упадёт башня? Все погибнут в охваченном огнём здании дискотеки? Задохнутся в давке, — как на пивном фестивале в Минске? Подпадут в железнодорожную или авиакатастрофу? Нет, — всё-таки смерть от несчастных случаев суждена далеко не каждому. Господь говорит о другом несчастье, — несравненно большем, чем самая трагическая гибель: о нечаянной смерти, о смерти в суете, в пустых делах, в забвении или — не дай Бог! — во злобе или в прямом грехе. Впрочем, тем и страшна смерть в катастрофе, что не даёт времени ни на раздумье, ни на покаяние; от неё, к сожалению, не застрахован никто, и Господь, напоминая ученикам случай с Силоамской башней, призывает всех нас быть постоянно готовыми к смертному часу. Мы должны жить так, чтобы ни на минуту не забывать о своей греховности, всегда пребывать в покаянном настроении, и тогда смерть — приди она в глубокой старости, после долгой болезни или совершенно внезапно — не застанет нас неготовыми.
— Услышав о подобных бедствиях, определённая часть православных начинает просто-таки злорадствовать: «Вот-де, как Бог наказывает грешников!.. Нечего было ходить в пост на дискотеку!..» Неужели соединение поста и дискотеки неизбежно ведёт к трагедии?
— Я давно жалею о том, что у нас в Церкви не ведётся статистика несчастных случаев, происходящих во время постов или церковных праздников. А ведь это было бы весьма поучительно: можно вспомнить и тот же Минский пивной фестиваль в дни Петрова поста, когда трагедия произошла буквально на пустом месте, — ничто её не предвещало! Можно вспомнить и то, как на Сретение 2004 года рухнул аквапарк «Трансвааль» в Москве, как 4 декабря 2005 года, на Введение обрушилась крыша бассейна в городе Чусовом Пермской области (опять Пермь!) Что ни говорите, а в нашем технократическом, насыщенном различными опасностями мире, просто необходимо вести религиозно-нравственую статистику всех несчастий. К сожалению, память у нас столь коротка, а бедствий творится так много, что мы зачастую не помним и того, что случилось в прошлом году. Видимо, такая забывчивость становится преступной. Злопыхательства, злорадства быть не должно, — тут вы правы. Мы, православные, обязаны соболезновать пострадавшим и помогать тем, кому ещё можно помочь, — но в то же время спокойно, с фактами в руках объяснять людям духовные причины катастроф. Именно с фактами! Потому что в светские люди и соболезнуют по-светски, хают российские законы, взяточничество, безхозяйственность, безалаберность, ругают администрацию, милицию, пожарных… Но когда говоришь им, что не без воли Божией сие произошло, то в ответ слышишь озлобленные крики: «Вы-де злорадствуете, — не может Бог наказывать людей так, чтобы дети оставались сиротами, жёны вдовели, старые родители оказывались без помощи…» Поэтому позицию православного сообщества надо доносить до нецерковного народа очень тактично, коротко, смиренно, не навязывать своего мнения и всегда помнить тот факт, что и сами мы — не дай Бог! — может попасть в такую же беду. И ещё следует помнить, что как бы там ни было, а суды Божии невозможно знать никому, и нельзя нам говорить с внешними людьми от имени Бога, так, словно мы до тонкостей постигли все пути Его Промысла… Но всё-таки статистика — тщательно подобранная и основанная на бесспорных фактах, — окажет нам серьёзную помощь в разговоре с неверующими. Кстати, вы знаете, что одним из пассажиров «Невского экспресса» был известный священник нашей епархии? Он милостью Божией остался жив и невредим, — как и все пассажиры того вагона, где он ехал… Вот вам ещё один говорящий факт.
— Но неужели за танцы надо наказывать смертью? Молодёжь и танцы — понятия нераздельные… Что же это будет за общество, где молодым запретят танцевать?
— Чтобы по-настоящему ответить на ваш вопрос, следовало бы учесть все конкретные обстоятельства Пермской трагедии: узнать, что за народ собрался в этот день на дискотеку, вспомнить, что это была местная элита, что и вечеринку нельзя было назвать обычной, рядовой… И вспомнить, как именно она развивалась, о чём там говорили, что пели, как танцевали… Да, именно: как танцевали? Пусть это звучит страшно, но приходится сказать: современные танцы являются большим грехом. Да, молодёжь во все времена, в городах и деревнях любила поплясать и попеть: это было и весело, и красиво, требовало умения, ловкости, вкуса, чувства красоты движений… То же можно сказать и про бальные танцы… Иное дело — популярные сейчас латиноамериканские танцы: они уже несут в себе заряд пошлости, сладострастия… И если вам доводилось видеть детей, танцующих что-то латиноамеркианское, то вы согласитесь, что такое зрелище весьма неприятно. Просто омерзительно! Как не соответствует чистота детских лиц этим вульгарным, похотливым движениям… А то, что творится на наших дискотеках… Я давно задавался вопросом: почему для современных танцев не нужно света? Почему так желательна здесь темнота? Почему, если и зажигается свет, то только короткими вспышками в бешеном темпе? Почему звучат именно те ритмы, которые совпадают с биоритмами самых низменных человеческих страстей?.. И в общем-то ответ напрашивается сам собой. Я не призываю запрещать танцы и закрывать дискотеки. Мне бы хотелось иного: чтобы в нашей стране развивалась танцевальная культура. Мои прихожане, побывавшие на зарубежных дискотеках, с изумлением рассказывали мне, какое это было красивое и чистое зрелище. Просто люди умеют танцевать, люди помнят, что танцы — это искусство… И им не нужна темнота, им не нужны безумные ритмы, мигание светомузыки, — их увлекает красота танца. Искусство — это то, что не всякий сумеет сделать. Чтобы им овладеть, нужно поучиться, преодолеть свою лень, неловкость, неумение… Но если этого достигнуть, то дискотеки наши приобретут совершенно иной вид, — скорее всего, не только внешне, но и внутренне.
— Какой-то нездешней жутью веет от этой огненной гибели более сотни человек… Невольно хочется назвать такие катастрофы знамением (и даже — знамением близкого конца света!) А может быть, лучше просто пожалеть пострадавших и их семьи?
— Вы правы в одном: эта трагедия знаковая. Пройти мимо или коснуться её вскользь — нельзя. Случай очень значительный. И я бы сказал, — в чём-то даже пророческий. Ведь в чём был смысл пророческого служения? Не в том, чтобы просто сообщить народу о готовящейся каре Божией — о войне, голоде, эпидемии, — не в том, чтобы возвестить беду, а в том, чтобы отвести её, подвигнуть народ на покаяние, — как это сделал, к примеру, пророк Иона в Ниневии. Жители этого города покаялись, — и беда отошла от них; а жители Израильского царства не вняли вещим словам Илии, — и бедствие обрушилось на них в полной мере… Сейчас иные времена — иные и пророчества. Те несчастные, что сгорели на Пермской дискотеке, своею гибелью предсказывают нам: «Если не покаетесь, все так же погибните!» Давайте не забудем этого пророчества, за которое они заплатили жизнью.
— Наверняка, погибшие были при жизни очень разными людьми: кто-то получше, кто-то похуже, кто-то, может быть, был совсем неплохим человеком… И всех их одновременно постигла одна и та же мучительная смерть. Где тут справедливость?
— Задумываясь над этим неразрешимым вопросом, мы действительно сильно смущаемся: «Надо же, — Господь одновременно покарал людей совершенно разного нравственного и религиозного достоинства!..» Но мы забываем простую христианскую истину: смерть сама по себе — не наказание. В данном случае наказанием явилась форма смерти. Если бы кто-то из посетителей дискотеки остался в тот день дома, но всё-таки умер бы (допустим, от сердечного приступа), — в кругу своей семьи, успев проститься с близкими, покаяться, причаститься, — то эту смерть можно было бы назвать приобретением! Другой же образ смерти можно считать наказанием и возмездием. Однако нужно помнить, что катастрофа катастрофе — рознь: по крайней мере два их вида мы можем выделить. Первое — это коллективная гибель людей в самолёте, в поезде, на шахте… Это одно. И совсем другое — гибель в аквапарке, на дискотеке, в горящем театре, где люди заняты увеселением, делом далеко не духовным, а зачастую и безнравственным. Что же касается справедливости, то Господь понимает её совсем не так, как мы, грешные. Бог есть любовь, — и любовь эту Он, Безгрешный, нам явил на Кресте, показав тем самым, чего стоят наши грехи. К сожалению, нецерковные люди не привыкли всерьёз размышлять над своими проступками. Да и нам с вами зачастую кажется, что у нас не грехи, а так — грешочки. Не жизнью же за них платить!.. Но Господь не случайно сказал: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя» (Мф. 18. 8.) Вот какую страшную цену имеют наши отступления от правды Божией. Рассуждать о справедливости нам, людям грешным, не пристало. Мы должны говорить о любви Божией, о том, как долго Господь терпит нас — отнюдь не по справедливости! А смерть — да, это событие страшное, — но и страшна-то она только тем, что за ней следует суд, на котором мы узнаем, чего стоила наша жизнь.
И последнее, о чём мне хотелось бы сказать… Братья и сёстры! Рассуждая с неверующими о случаях, подобных пермскому пожару, остерегитесь оправдывать Бога в глазах своих собеседников. История знает много людей, бившихся над неразрешимой задачей: как оправдать Бога перед людьми, как оградить Его от всего того зла, что творится на земле… Не надо делать этого. Мы знаем, что Господь — Вседоволен и Всеблаг, и суды Его только спасительны. Надо не Его оправдывать, а человеческую совесть будить: это будет и вернее, и спасительнее.
* * *
Батюшки, батюшки, батюшки… Город Святого Петра, слава Богу, не обделён ими — замечательными, мудрыми, духоносными, да и просто честными и добросовестными. И в Питере их немало, и во всей России… А диаконы?..
15. ГОРНИСТ НЕБЕСНОЙ РАТИ
— Диаконы? Ну, у нас в городе — ещё куда ни шло… В Москве тоже… А вообще-то по России диакон — это что-то из области фантастики. Диакон — это роскошь: если в каком-то храме есть диакон, значит, дела там идут очень хорошо. Недавно побывал в Тверской епархии, служил со старейшим тамошним батюшкой, — так он даже плакал от радости! И целый день от меня не отходил: «Ты пойми, — говорит, — для меня это такое счастье! Я же 25 лет диакона на литургии не слышал!»
И улыбается при таком приятном воспоминании протодиакон Свято-Троицкого Измайловского собора отец Сергий Шалберов.
— Для меня диаконство — самое лучшее служение. Пускай батюшки не обижаются, но мне кажется, что диаконом быть лучше! Такая благодать, такая красота!.. Вся служба меняется, когда хороший диакон! Вы подумайте только: мы призываем народ к молитве, — а молитва — это же кровь, это дыхание нашей души. Молитва — это дорога в небеса, и диакон, как армейский трубач, сзывает людей в поход по этой дороге. Вот что такое диакон — впереди идущий, вперёдсмотрящий!
Я человек не очень сильный, для меня священническое служение слишком тяжело; не понести мне такую ответственность. Во мне ни учительности нет, ни добродетелей особых. А вот диаконство — это прямо для меня! Петь я люблю (и люди говорят, что у меня вроде получается), чувствую красоту и благодать церковной музыки, знаю, как можно пением поднять человеческую душу к молитве… Это моё — и слава Богу за такой дар!
И чтения Евангельские… Да, толковать по-богословски Писание — это не для меня. Но знаете ли вы, что диакон может так прочесть Писание, что и толкования не потребуется, — одним голосом выразить всю глубину богословия? Я, конечно, не хочу сказать, что всегда поднимаюсь до таких высот, но… всё-таки… Иногда Бог даёт благодать и силу, и тогда читаешь — словно ангелу вторишь. Так и служишь: читаешь каждый день Писание и жизнь свою по нему выверяешь; может ли быть что-то лучше этого?
Да, диакон — трубач. Но ведь трубач в одиночку сражения не выигрывает: за ним войско должно идти. А из кого состоит церковное войско? Да из вас, дорогие мои, из прихожан. Есть такая поговорка: «Каков поп, таков и приход»… Верно сказано, конечно, но поговорка эта имеет и обратную силу: «Каковы прихожане, так и священнику служится». Я хоть и не иерей, но прекрасно это чувствую: иной раз поёшь молитву — и словно тяжкий воз за собой тащишь… Почему? Потому что, кроме тебя, никто в храме не молится, все о своём думают. Ох, как тяжело тогда… И наоборот. Бывает, что начинаешь петь — и всем существом чувствуешь соборную молитву. Это удивительное чувство: словно некая волна возносит тебя в небеса. Нет, друзья, — ради таких минут стоит идти в диаконы!
— Но вообще-то церковная молодёжь смотрит на диаконство как на некую переходную форму к священническому сану, как на не слишком приятную обязанность…
— Ну что ж, есть такое… Оно и понятно, и я не осуждаю никого. Если человек стремится ко священству, то ему и хочется скорее достигнуть желаемого. Но вот мой совет: не спешите, не спешите убегать из диаконов! Ваше от вас не уйдёт, а опыт, который даёт наше служение, велик и неоценим! Походите в диаконах хотя бы года три — и вы сами увидите, насколько легче вам будет входить в обязанности хозяина прихода. А может быть, вы поймёте, что Бог-то вас вовсе не в иереи готовит, может, Он вам диаконский талант дал…
— Вот вы говорите «диаконский талант»… Это что — умение петь? Хороший голос?
— Нет, не только голос… Знаете, как о нашем брате со старых времён говорят? Что диакону нужно? — «Голос да волос, ухо да брюхо!» Ну, голос и ухо — это понятно: для пения. А волос? — это для представительности: многим нравится, когда у диакона этакая львиная грива. И брюхо — это тоже для солидности, опять же, помогает Евангелие держать — свой личный аналойчик…
Да шучу я, шучу… Всё пустяки — даже голос и ухо. Первое, что нам нужно, — это любовь к молитве и умение молиться. Вот — всё! Без этого — никуда! А если есть это — остальное приложится: даст Бог и голос, и умение петь. К сожалению, я знаю много церковной молодёжи, для которой молитва вроде бы и в тягость. Строить храмы, трудиться — это пожалуйста, а молиться они не умеют. Как такое объяснить? Не знаю. Многое от изначального настроя души зависит, от Божьего дара, но ведь мы и сами должны бороться за свою молитву, в поте лица своего стяжать её. Слёзную молитву стяжать — не словесную просто. Хочу, кстати, вспомнить своего наставника, протодиакона Алексия Довбуша. Работал я в своё время сторожем в Князь-Владимирском соборе, а он там служил протодиаконом. Как-то я его спрашиваю: «Отец Алексий, вы же чуть ли не каждый день участвуете в Литургии… Как же вы успеваете вычитывать всё правило?» Он отвечает: «Сие невозможно. В монастырях можно всё правило читать, а в миру — как? Нам надо иначе поступать. Ты так делай: подумай о своей греховности, о том, как ты перед Господом виноват, упади на колени перед Престолом и со слезами скажи: «Боже, милостив буди ко мне, грешному!» Но только чтобы от самого сердца, со слезами». И так он это сказал, с таким чувством, что я сразу и понял, как молиться нужно. Молитвенность — это необходимое качество для диакона, необходимое! Вот ещё вспомню: про свою родную деревню Шапки… Деревня, деревенский храм — сами понимаете, профессиональный хор взять неоткуда; поют люди, кто как может. И батюшка наш, отец Вадим, благословил изучать регентское искусство местную учительницу — замечательную, благочестивую женщину. Она в слёзы: «У меня же ни голоса, ни слуха!» А что поделать? Есть такое слово — «надо». Она перекрестилась и со слезами начала петь — по послушанию. И через месяц Господь ей голос открыл. Вот что значит сердечная молитва. Истово человек поёт — и голос открылся. Вот так-то и нам нужно — не только петь, но и жить.
— Вот вы, отец Сергий, как диакон, постоянно читаете Евангелие — наверное, наизусть уже его знаете… Чувствуете ли вы влияние этого чтения на свою душу? И есть ли у вас любимое Евангельское чтение?
— Ну что значит «любимое чтение»? Это же не беллетристика… Я иначе скажу: читаешь на службе какой-либо отрывок из Евангелия — и кажется порой, что никакого отношения он к твоей жизни не имеет. Ну просто из другой области что-то, не твои проблемы, не твои вопросы… Но нет! Обязательно в тот же день — именно в тот же день — Господь тебе тем или иным образом покажет, что прочитанное относится и к тебе лично, именно к тебе!
Вообще говоря, Евангелие должно быть в центре нашей жизни. Ведь чтение Писания — это беседа с Самим Богом, почему же мы ею пренебрегаем? Все вопросы имеют своё разрешение на Евангельских страницах: только спроси, и Господь тебе ответит. Хотя, конечно, нужно уметь понимать прочитанное… Я сейчас повсюду наблюдаю расцвет какого-то новоязычества: люди — наши, церковные, православные люди — старательно ищут себе кумира. Найдут и поклоняются ему как Богу. У всех на уме какие-то старцы, какие-то провидцы, какие-то учителя… Недавно вернулся я с Афона — ко мне тут же со всех сторон с вопросами: «Отец Сергий, что афонские старцы говорят по такому-то поводу? А что по такому-то? А что они думают об этом? А что о том?» — «Дорогие, читайте Евангелие: там все вопросы объясняются. А старцы — они молятся за нас, в этом их миссия! Слава Богу, что есть ещё такие дерзновенные молитвенники, — может, отмолят и нас от геенны огненной!..» Приснопамятный отец Василий Ермаков умер недавно. Я его весьма уважал: он был духовно опытным священником, обладающим очень редким даром рассудительности. Но был ли он старцем?.. Бог весть. Когда погребали отца Василия, я приезжал Евангелие читать… Прочитал несколько глав — и тут подходит ко мне молодой человек, весь в слезах: «Как теперь жить?! Отец, скажите, как теперь жить без батюшки?!» — «Как жить? Открой Евангелие, читай и живи! Молись, участвуй в таинствах — и Господь тебя не оставит!» Но, конечно, нам легче свалить ответственность за свои поступки на некоего старца… Читать, молиться — нам не до того… А неужели вы думаете, что сумеете спастись без общения с Богом?
Вот я про Афон-то вспомнил, а ведь на Святой Горе явственно чувствуется сила соборной молитвы. Я всё думал: в чём секрет Афонской благодати? Неужели только в огромном количестве святынь? Нет, не в том дело. Вот взгляните на любой из приходов — хоть бы и на наш: из ста человек молятся — не делают вид, а истинно молятся — только трое. Говорю об этом нашим батюшкам, а они мне: «Ты оптимист! Не трое, а один!». А вот на Афоне-то — там всё наоборот: там из ста человек 98 молятся! Вот где образец-то христианской жизни! — Царство Божие возможно и на земле, и оно показано там. И какая же благодать! Я вернулся, говорю о. Геннадию Бартову, нашему настоятелю: «Всё! Хочу постричься и на Афоне жить». — «Нет! — отвечает. — Забудь и думать об этом: нам собор восстанавливать надо!»
— Отец Сергий, дайте несколько советов молодым диаконам.
— Я как-то раз поднимал вопрос: «Есть, мол, такая книжка — «Спутник псаломщика»; есть книга «Спутник священнослужителя»… А где же «Спутник диакона»? Старые диаконы уходят, молодым учиться не у кого. И, слава Богу, к моему голосу прислушались, издали тоненькую книжечку «Спутник диакона». Я думаю, что нужно второе издание, нужно собрать все примеры диаконских распевов, возгласов… Ведь в каждой епархии по-разному поют. Мне довелось сослужить в Троице-Сергиевой Лавре — и так это благолепно получается, когда один диакон московским напевом, а другой — нашим, петербургским, а третий — валаамским напевом возгласы даёт…
И вот мой совет молодым: прежде всего, надо петь, а не орать. Не форсировать звук. Молитва должна быть в сердце, и, следовательно, звук должен исходить из сердца. Очень многие молодые — особенно когда они в большом соборе служат — начинают орать. Но если человек кричит, Господь его не услышит — вот в чём дело-то!.. Надо не кричать, надо молиться!
На Троицу приезжал к нам отец Николай Ленков из Олбани (США), старейший диакон Зарубежной Церкви. Старичок. Да у него, может быть, и прежде не было мощного голоса. Но для нас он — лучший пример служения: он вышел, начал молиться своим старческим, дребезжащим голосочком… И каждое слово ясно слышно, каждое слово от сердца идёт — и каждое слово до нашего сердца доходит! Вот как нужно! Диаконское искусство, церковное пение — это же слава нашей Церкви, наша красота, наше, если хотите, оружие. Князь Владимир почему Православие избрал? По разным причинам, но первое, что его привлекло, — благолепие службы, дивное пение; и выходит, что благодаря нам, диаконам, Русь и крестилась… Это я шучу, конечно, но, знаете, в каждой шутке… Во всяком случае ответственность на нас огромная, и награда нам велика, и счастье наше — необъятное. Помните об этом все, кто решил Богу послужить!
* * *
Да, в деревенских церквах о диаконах и не мечтают. Но, честно говоря, приехав в какой-нибудь дальний уголок епархии, разглядывая старые храмы, разговаривая с местным настоятелем, как-то и не думаешь, что отсутствие диакона — это такая уж беда. И без диакона молитва в такой церкви доходчива до небес…
16. ЗАСТАВА НА КОЗЬЕЙ ГОРЕ
— Козья Гора? Это деревня такая, — поясняет настоятель Покровского храма в Сланцевском районе о. Олег Нецветаев. — Бывшая деревня, её нету уже. Деревни нет, а храм остался.
— Да ещё какой храм! — удивляюсь я. — И как сохранился здорово! Словно вчера построен.
Отец Олег только головой качает в ответ. С виду-то всё хорошо, лучше и не надо. Мне-то что: приехал, посмотрел, восхитился, уехал. А он здесь живёт, он здесь служит. Ему каждая трещинка в кирпичной кладке известна. Каждая трещинка ему — словно в собственной коже заноза: попробуй не заметь, запусти — сразу расползётся в обширную рану. За всем надо следить. Вместе обходим мы храм; я смотрю на белизну высоких стен, на искусную, щегольскую, можно сказать, архитектуру, на стройную колокольню, на взлетающий ввысь купол, батюшка смотрит на отвалившуюся местами штукатурку, на расшатанные кое-где кирпичи, на старые, проржавевшие жестяные карнизы. Я бы и не заметил этих ранок. Я такие храмы видал — в чём только душа держится; но батюшка вздыхает: «Работы-то, работы-то сколько!.. Когда всё успеть?»
— Вот, росписи на стенах, видите? Это местные умельцы малевали… Уже пообсыпалось местами… Самодеятельность народная… Не дело это! Храм Божий, жилище Духа Святого — тут не для любителей занятия. Всё должны мастера исполнять. Бог даст, скоро заменим это безобразие мозаикой.
— Не люблю дилетантов! — снова заявляет о. Олег уже внутри храма, и палкой своей слегка пристукивает по полу. — Разве можно кому попало поручать писать иконы? Что мне тут говорят: всякая, мол, икона законна, лишь бы освящена была… Нет! Икона — окошко в небеса, человек должен только взглянуть на неё и сразу в молитву уйти. А если намазано не пойми что… Карикатура какая-то… Откуда тут молитве взяться? С прошлых времён у нас накопилось такой продукции — я теперь очищаю понемногу. Вот, зато взгляните-ка, какие у нас иконы есть! Настоящие, — красота!
Батюшка водит меня от образа к образу, с любовью всматривается в искусную живопись, в финифтяные оклады, а я не могу оторвать взгляда от огромной — наверное, в три человеческих роста — Старорусской иконы Божией Матери. Именно иконы — не настенной росписи. Потемневшая позолота, скорбный лик, строгий, испытующий взгляд…
— Немцы её хотели с собой увезти, — поясняет батюшка. — Эти края ведь под немцами были… Они как начали отступать, так всё ценное с собой решили прихватить. И икону эту тоже. Что там случилось, толком не известно. Кто говорит: с места её сдвинуть не смогли; кто говорит: уложили в машину, а мотор не заводится… Не знаю, кто прав. Важно одно: хотели украсть, да не смогли, Богородица не пожелала отсюда уходить.
— Немцы сами и открыли храм?
— Местные жители открыли. Как коммунисты ушли, так крестьяне сразу замки с ворот сняли — и возобновилась молитва. А немцы уже приняли это как свершившийся факт. Тут и батюшка нашёлся, известный батюшка, отец Алексий Кибардин, духовное чадо св. прп. Серафима Вырицкого. Он случайно на оккупированной зоне оказался: из Ленинграда приехал по делам, а уехать не успел. Ну, видит — церковь есть, надо, стало быть, службу вести. И служил здесь сколько-то лет. Потом вернулся в Вырицу, а там его арестовали за то, что храм этот не бросил на произвол судьбы.
Отца Алексия Кибардина арестовали, а дело, начатое им, не прекращалось, не прерывалось богослужение в Покровском храме на Козьей Горе. Идёт оно и сейчас, хотя население в окрестных деревнях сильно поредело и что-то не горит желанием Богу молиться.
— Как тут быть, батюшка? Как привлечь народ в храм? Может, с ними беседы какие проводить?
— Беседы… Приходят тут ко мне, пытаются поговорить по душам… Знаете, к чему все эти беседы сводятся? «Дай, батюшка, денег на водку!» Вот и весь духовный разговор. Или смотрят, нельзя ли стянуть чего. Нет, я так поставил — если вижу, что идёт ко мне, воровато озираясь, и начинает пьяные слезливые речи разводить о своей несчастной жизни, я отвечаю просто: «Палку видишь? Тресну по спине — мало не покажется». И всё: теперь уже мало есть желающих побеседовать. Стараются обходить церковь стороной.
— Зачем же так сурово? Может быть, с кем-то и следовало бы поговорить?
— А надо, чтобы люди видели в храме именно Дом Божий, место, где проходит богослужение. Нужно в первую очередь к этому их приучить. В храм приходят, чтобы молитвенно обращаться к Богу, а не для того, чтобы поговорить по душам с батюшкой. Вот когда народ это поймёт, тогда и можно будет говорить о каком-то возрождении веры. А до тех пор моя задача: не прерывать богослужение, не подменить его пустопорожней болтовнёй и уберечь от разграбления Божий храм. Я тут на страже стою. Я воин Христов. Я принадлежу к земной, то есть воинствующей Церкви, и моя задача — быть во всеоружии.
— Да ходит ли кто-нибудь сюда на богослужение?
— Бывает, что и никто не приходит. На Великий пост зачастую одни мы в церкви с матушкой Варварой. (Матушка Варвара — это монахиня, келейница отца настоятеля, делящая с ним все труды по храму). На праздники, конечно, народу много бывает; на Пасху храм полон… Но, опять-таки: все приходят, чтобы поучаствовать в крестном ходе, а до конца службы остаётся ли хоть один? Я тут на минувшую Пасху автобус заказывал, чтобы ночью развезти по домам прихожан, — так не понадобился и автобус, сами разбежались… Я так думаю: чтобы началось настоящее возрождение веры в русской деревне, нужно ещё несколько десятилетий ждать.
— Несколько десятилетий? Так много?
— Да и то, если всё это время людей спаивать не будут. Сейчас кто-то привозит в деревни спирт. Кто? Поди узнай. И все усилия у населения направлены на то, чтобы этого спирту раздобыть. Травятся, мрут, как мухи, а всё равно… О работе и речи нет. Что уж тут говорить о работе, если не хотят даже самогон гнать? Самогоном, по крайней мере, не отравишься… Нет, куда там — это же усилия какие-то надо прикладывать! Легче денег наклянчить, наворовать, да спирту ядовитого купить. Вы посмотрите, какие лица у людей! Можно ли их лицами-то назвать? Я недавно служил панихиду в соседней деревне по строителю тамошнего храма… Фотографию его разглядывал… Какое лицо ангельское! Чистое, одухотворённое, черты правильные, благородные, — а ведь тоже местный крестьянин, только жил до революции.
— Покровскую церковь тоже крестьяне строили?
— Да — из деревни Рудницы крестьянин Андрей Кудрявцев и из Поречья Максим Егоров, личный почётный гражданин, — уж не знаю, как этот титул расшифровывается… Конечно, оба — богатые люди. Но ведь они строили не просто храм: они хотели учредить женскую обитель. И стала обитель. Небольшой монастырь, небогатый, тихий, а может быть, так оно и лучше для спасения-то души… Настоятельницей в нём была дочь Андрея Кудрявцева, в монашестве мать Мария; он, выходит, для дочки своей монастырь строил… Освящали наш храм два новомученика: владыка Кирилл (Смирнов) — он в ту пору был епископом Гдовским, а через несколько лет боковые престолы освятил другой Гдовский епископ — Вениамин (Казанский), будущий Петроградский митрополит. Вот их святыми молитвами и существуем по сей день…
— А нет ли планов возродить монашескую общину? Вот ведь одна монахиня, мать Варвара, уже живёт здесь…
— Планы, планы… Всё должно не по человеческим планам, а по Божьему произволению твориться… Мать Варвара, когда впервые появилась здесь, звалась ещё Людмилой, и в мыслях не держала, что станет монахиней — не было у неё таких планов… Господь неприметно привёл к постригу…
— Я к Богу не просто шла, — вздыхает матушка. — Начинала у сектантов, у американцев каких-то… Библию изучали… Сходила на несколько занятий, чувствую — что-то не так. Что-то не ложится на душу, не по-русски всё. Но мне очень хотелось Библию знать, и потому занятий я не бросала. А однажды перед нами выступала одна американка, рассказывала, как Бог помог ей разбогатеть. «Вот, — говорит, — теперь у меня есть большая ферма, а на ферме растёт кукуруза…» И прямо на сцене зажигает она газовую плиту и начинает из своей кукурузы готовить попкорн, а в зале — одни дети… И берёт она свой попкорн, и одним махом швыряет его в зал. Что тут началось! Дети ползают между скамейками, словно голодные, собирают попкорн — с полу и в рот… Стыдно до боли! Я выбежала из зала и больше уж к американцам — ни ногой. В ближайшее время пошла в православный храм и впервые в жизни исповедовалась…
— Я тоже не с рожденья в церкви, — замечает батюшка. — Мне уж было под сорок, когда я священником стал… А до того вёл обычную мирскую жизнь: была у меня и любимая работа, и хорошая должность… Но — Бог позвал, и вот я здесь, на Козьей Горе, хоть и не строил на сей счёт никаких планов. То, что от Бога, приходит незаметно, как бы само собой, просто потому, что нельзя иначе… Не мы Бога выбираем, а Он нас. Есть, конечно, люди, которые воображают, будто это они сами себе веру выбрали… Был у меня знакомый один, геолог… Красивый, сильный мужчина, — он и сам знал, что он красивый и сильный, и ценил себя за это. Он мог на несколько недель уйти в глухую тайгу, без запасов, с одним ружьём, и возвращался целым и невредимым, умело охотился, ходил на разных зверей, прекрасно стрелял… И среди людей был душою общества, и всегда ему нужно было во всём быть первым, во всём быть на голову выше остальных. Вот он и думал: чем бы ещё таким выделиться из массы? Ага, стану-ка я в церковь ходить! Пришёл в церковь раз, другой — что-то не то. Народу много, все молятся, на него никто внимания не обращает… Так не пойдет. И начал подумывать, не сменить ли конфессию: стал старовером. Вот тут ему было бы раздолье: в старообрядческих храмах один старушки, а он среди них, как орёл! И среди товарищей тоже хорошо получится: спросят — «Вы в Бога верите?»; он и ответит — «Да. Я старообрядец. Придерживаюсь древнего благочестия». Очень эффектно выйдет. А среди православных разве выделишься?..
— Слыхал я, что некоторые из православных готовы даже бесноватыми прослыть, лишь бы на них внимание обратили, — говорю я, и сам почти не верю своим словам: говорили мне когда о чём-то подобном, а самому встречаться с таким не приходилось. Но, к моему удивлению, и о. Олег, и матушка Варвара кивают головами:
— Конечно, бывает, что притворяются люди бесноватыми. У нас была такая прихожанка. Падала перед аналоем, падала, когда чашу выносили… Мы-то сперва за чистую монету это принимали, а потом стали замечать: тут что-то не то… А потом она и сама призналась подруге… Хочется людям быть в центре общего внимания, хочется, чтобы весь храм на них оборачивался, чтобы батюшка ими лично занимался…
Что-то ещё говорит о. Олег, а я думаю: вот уж, куда дальше от центра общего внимания — бывшая деревня Козья Гора, одинокий храм среди леса… Зимой сюда и вовсе дорог нет… Батюшка так поясняет своё здесь служение: я, мол, человек уже немолодой, инвалид третьей группы (а был второй, но поменял группу, чтобы работать), в городе жить не могу, воздух там отравленный, а здесь — тишина, покой… Но что-то не похоже, что он ищет здесь покоя. Храм стоит в лесах, работа кипит, богослужение идёт, стража Господня не дремлет… Может, Бог даст, к матушке Варваре присоединятся новые инокини, возродится монастырь. Для кого всё это? Кто оценит эти труды? Петербуржцы про Козью Гору и не слыхали, а местным жителям пока не до церковных дел.
Но время идёт, работа продолжается, молитва летит к небу, и в лесу, в глухомани, в безвестности и безмолвии понемногу вырастает будущее России.
* * *
Вот ещё одна поездка в глухомань, — хоть и не слишком далеко от Петербурга, но чувство такое, что отсюда хоть три года скачи — ни до какого города не доскачешь. Испокон века селились здесь люди, а чувства обжитости, доброго человеческого уюта — нет как нет. Или, может быть, это нынешнее время так погуляло по русской земле, что древние наши деревни, — ещё недавно цветущие и людные, теперь кажутся дикой пустыней?
17. ТИХИЙ ПОСЁЛОК ШУМ
Церковь Покровская стоит на Старо-Ладожском тракте. Когда-то по этому тракту шли Пётр Великий и Александр Меншиков. Шли-шли, притомились, решили чайку попить. Вот как раз деревня Пейчала — «Садись, Алексашка, пей чай!» Аппетит приходит во время еды, после чая захотелось им поесть по-настоящему — и в деревне Пиргора закатили они пир горой. Такой пир, что до села Саря доносился шум, с тех пор это село и переименовали в Шум. А в другой деревне слышали звон и вой бокалов — теперь эта деревня так и называется — Войбокало. Такая есть легенда в здешних краях.
— Шутка, конечно, — говорит отец Алексий Луковский, настоятель Покровского храма в селе Шум Кировского благочиния. — Легенда-анекдот. А вот я вам расскажу не анекдот и не легенду, а сущую правду. В 1701 году, в начале Северной войны, в селе Саря (это наш нынешний Шум) 400 новгородских стрельцов держали осаду пятитысячного шведского войска. Помощи стрельцам ждать было неоткуда. Двенадцать дней они здесь сидели, одиннадцать шведских атак отразили… И тут, как написано, «явление было честного креста ладожскому стрельцу Иоанну Васильеву. Исшед бо к нему некий муж, благославляя его крестом, и велел сказать начальным людям и всем ратным без боязни сидеть, и крест велел им взять в горницы, и с собою вынести из засады, и поставить в церкви, и тот крест вынесен». Понимаете? Некий святой явился к стрельцу Ивану, вручил ему крест и благословил безбоязенно выходить из окружения. И спаслись наши воины, все четыреста.
— А это не сказка? Откуда это известно?
— Так ведь чудесный крест, полученный из рук святого, до самой революции хранился в Старой Ладоге, в Климентьевской церкви. Там же можно было прочесть и тот рассказ, который я вам процитировал. Нет, это не выдумка, а чистая правда; это было, было здесь, рядом с нами. Когда начинаешь изучать историю шумских земель, просто дух захватывает: столько всего интересного узнаёшь!.. Мне повезло: все архивы, посвящённые истории нашего прихода, сохранились. И вот представьте себе: раскрываешь какой-нибудь старый документ и читаешь, что в 1738 году жил здесь священник Антоний, матушка его Евдокия-просфорница, 63 лет, да ещё псаломщик Иван Евстигнеев, 54 лет, да жена его Елена, да дети Ваня и Маша, 6 и 14 лет… Так ясно всех их видишь, как будто в гости к ним сходил. А новгородский тысяцкий Фёдор, который жил здесь в 1500 году!.. А помещик Пётр Мышецкий, друг несчастного царевича Алексея, сына Петра Великого? Он в 1721 году выстроил здесь заново деревянный храм, но помолиться в нём толком не успел: царевича арестовали, Мышецкого сослали на Север, там он с горя ударился в старообрядчество и кончил тем, что принял всесожжение. Потом здесь жили помещики Ильины. Была такая барыня Анна Алексеевна Ильина. О ней так говорят: чуть кто в селе рожает — она бежит помогать, и подарки богатые с собой прихватывает; чуть где пожар — она бежит с «Неопалимой Купиной», обходит вокруг дома, поёт молитвы во весь голос: глядишь, пожар и потухнет; всегда жаловалась на больные ноги, а все службы в церкви выстаивала от и до, и тем, кто рядом с ней стоял, молиться было легко… А вообще-то на недостаток прихожан местные батюшки никогда не жаловались. Что удивительно: после отмены крепостного права количество прихожан в нашей церкви резко возросло, так что пришлось расширять храм. Много было крестных ходов, устраивались церковные чтения, весной проводили обряд освящения скота: на поле строили специальный помост, батюшка в полном облачении взбирался на него с кропильницей и кропил проходящие под помостом стада. Четыре хора в церкви было — о чём это говорит? И какие хоры!.. Шумский хор пережил революцию, пережил храм, стал со временем светским и как-то даже выступал перед Сталиным — говорят, вождю очень понравилось. Но вот что плохо: очень любили местные мужики кулачные бои. Да не просто кулачные! Дрались вилами, лопатами — бились насмерть! Сколько ни боролись и батюшки, и помещики с этим бедствием — всё без толку. Сохранился рассказ о некоем местном старике, который на смертном одре умолял односельчан: «Как будете на кулачках драться, так лучше ко мне придите и меня убейте, не губите только молодых здоровых парней!..»
…Кажется, отец Алексий считает своими прихожанами не только тех, кто ныне ходит в шумский Покровский храм, но всех, кто когда-либо жил в этих краях — с незапамятных времён Новгородского княжества вплоть до сего дня. Он ходит со мной по селу, расспрашивает местных стариков о том, как выглядел дом священника, где помещалась церковно-приходская школа, куда делась матушка последнего шумского священника… Он показывает мне место, где когда-то стоял большой каменный храм:
— Вот, смотрите! Церковь перед вами!
Передо мной чистое поле.
— Что, не можете представить? Тогда вот так сделаем…
Батюшка достаёт фотографию старого храма:
— Вот так держите её перед глазами, чтобы она в пейзаж вписывалась… Видите: как будто и не рушилась, стоит по-прежнему! Теперь понимаете, как это красиво было?
А сейчас шумская церковь — это перестроенный под храм сельский магазин. Несколько лет назад глава местной администрации так сказал Покровскому приходу: «Забирайте это здание и служите в нём! А если вы не возьмёте, отдам мусульманам и будет мечеть посреди села!» И бабушки поспешили занять помещение. А помещение это…
— Я работы не боюсь, — говорит батюшка, — но когда впервые увидел это здание, захотелось мне сесть, обхватить голову руками и заплакать. Если бы не помощь Божия, что мы сами смогли бы сделать? Тут у нас много чудес творится. Недавно такое было: хожу я вокруг храма и молюсь про себя… Да не молюсь даже, просто ною: «Господи, денег нет, материалов нет… Зимой опять крыша протечёт… Фундамент опять не доделан…» И что же: на другой день приезжает катушка с бетоном — люди жертвуют его нам на фундамент. Услышал Господь мой плач! И так много раз бывало… Даже посёлку польза от того, что церковь возрождается. Мы с матушкой недавно привезли с Соловков частицы мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа — и мощи эти, ещё не придя в Шум, совершили чудо: по молитвам Соловецких угодников дорогу у нас починили! Вы бы видели, что у нас была за дорога!.. Невозможно ездить. И никаких надежд на улучшение: расходы на содержание дорог сокращены в пять раз. И вдруг к нашему возвращению из Соловков — к прибытию в посёлок святых мощей! — неожиданно проходит полный ремонт дороги: мы въехали в Шум по гладкому новому шоссе! И ещё о чудесах. Не один человек, а многие, в том числе и такие солидные, как директор нашей школы, рассказывали мне о чуде, которое случилось в 90-х годах: люди видели над посёлком женщину в белых одеждах… У директора после этого чудесным образом исцелилась тяжело больная дочь… Я так думаю, что это был явлен Покров Божией Матери. Вы знаете, что изначально наш приход был Никольским? Почему, же он стал Покровским? А потому, что в конце XVIII века местная церковь сгорела и на пепелище нашли не тронутую огнём икону Покрова Богородицы — она одна уцелела в пламени. И с тех пор не раз местные жители замечали, что Пречистая заботится о нашей земле. Достаточно вспомнить, что во время Великой Отечественной войны именно здесь немцы пытались закрыть второе кольцо блокады, но что-то им помешало — нескольких километров не хватило их частям, чтобы соединиться. Но на этом-то незанятом участке и стояла наша прежняя каменная Покровская церковь. Её в тех же боях разрушили артиллерийским огнём — а всё-таки немцев она не пустила. Храм рухнул, но Покров остался. Жаль, конечно, старой церкви: красивая была, просторная, но как подумаешь, сколько раз здесь храмы менялись… Были и побольше, и поменьше, теперь вот магазин стал храмом… Мы его поднимем, конечно, — нам бы только ограду помогли сделать да крышу новую, а то ведь не крыша, а решето — с 50-х годов не менялась… Может, кто из читателей ваших поможет? Место у нас особенное, я верю: кто наш храм крышей укроет, от того Божия Матерь свой Покров не отнимет…
* * *
Посёлок Сусанино выглядит тоже довольно глухоманисто, — хоть до Питера совсем не далеко. Его знают тысячи православных по всей России. Здесь ещё недавно жила Любушка Сусанинская — знаменитая наша блаженная, шедшая по той же дороге, по которой ходили когда-то Ксения Петербуржская и Матрёнушка Босоножка… Давно преставилась Любушка, и могила её далеко от Сусанина, а в деревню, в храм Казанской иконы Божией Матери, частенько наведываются паломники…
18. СВЕЧА ПОД ПОЛУДЕННЫМ СОЛНЦЕМ
— …Построили этот домик для Любушки прихожане храма на Волковом кладбище, — говорит отец Виталий. — Пожалели её: всё по чужим да по чужим, — пусть в своём доме поживёт. А она тут жить не стала… Сказала: «Он вам самим пригодится». И вскоре уехала в монастырь в Вышний Волочёк, где и преставилась… А домик действительно храму пригождается: у нас тут трапезная… А в этой комнате должна была быть Любушкина спальня. Вот, мы тут и постель готовую держим, тут и фотография её.
Стоит на тумбочке небольшая цветная фотография в рамке — известный портрет: Любушка на нём водит пальцем по ладошке, — молится.
— Да, это она так молилась, — поясняет отец Виталий Капистка, настоятель Сусанинского храма во имя Казанской иконы Божией Матери. — Приходят к ней люди: «Любушка, помоги! У меня такое-то горе!» Она молча кивнёт и начинает пальцем по ладошке водить: молится, значит. Это я с чужих слов рассказываю: сам её не застал…
— Вот прп. Серафим Саровский говорил: стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся… Любушка двадцать лет прожила в Сусанино, — сколько она молилась здесь, сколько людям помогала своей молитвой… Так значит, сусанинцы — особый народ, раз они жили под сенью праведницы? Значит, они уже спасены её ходатайством? Ведь она наверняка стяжала дух мирен?
— Сусанинцы — особый народ? Сусанинцы уже спасены? — отец Виталий невесело усмехается. — Я на днях заходил в администрацию посёлка, посмотрел списки по Сусанинскому избирательному округу — более двух тысяч человек у нас живёт. А в церковь, знаете, сколько ходит? Человек пять! Есть, конечно, и прихожане из соседних деревень, есть и из Питера, есть дачники… Но местных — не более десятка. Вы что же, всерьёз считаете, что можно поселиться возле святыни — и спасение к тебе само собой придёт? Благодать всем дана — это верно. Но кто её взял? Лежит на земле слиток золота, — но надо ведь нагнуться и поднять его, а иначе он твоим не станет. Чтобы приобщиться к Любушкиному духу мирну, надо прежде хоть шаг в сторону храма сделать. А тысячи? — тысячи, действительно, спасутся, но это те, кто не поленился пойти вслед за праведником.
— Хранятся ли в Казанском храме какие-то Любушкины реликвии? Что-нибудь такое, что привлекло бы паломников?
— Паломников привлечь, конечно, неплохо: храму это пошло бы на пользу… Опять же: вещи, принадлежавшие праведнику, нередко несут на себе отпечаток благодати. Вот и к одеждам апостолов люди стремились прикоснуться, ибо одно это прикосновение исцеляло болящих. Да что там! — даже тень апостолов (почитайте «Деяния») могла целить. Но как часто мы в этой тени не видим истинного солнца! Любушкины реликвии… Есть в храме икона из её молельного уголка — икона Спасителя. Но разве эта икона ценна только потому, что перед ней Любушка молилась? На ней — Спаситель!.. Что ещё? Есть Чаша, из которой старицу причащали… Но вы вдумайтесь только: разве Любушка освятила эту Чашу? Там же Тело и Кровь Христовы! — не больше ли эта Святыня всех прочих святынь, вместе взятых? Но Чаша, конечно, замечательная, старинная, 1825 года — почти двести лет ей… Я смотрю на неё и думаю: сколько же людей из тебя причащались, у скольких священников ты в руках побывала, сколько верующих черпали из тебя спасение!.. Вот такие святыни моей душе как-то ближе… Может ли к ним что-то добавить пуговица от чьей-то одежды? Пусть на этой пуговице и почиет некий отсвет божественной благодати, — такое вполне возможно, — но ты приди в церковь и сможешь причаститься всей полноты благодати! Забываем мы об этом, забываем в своём суетном поиске реликвий, святынь и святынек. В миру принято вешать на зданиях мемориальные доски: «Здесь жил и работал великий Имярек». А на храмах не пишут: «Здесь такой-то молился о том-то». В католическом мире средневековые рыцари плутали по земле в поисках святого Грааля. Почему? Да потому, что святой Грааль — эта та Чаша, которую держал в руках Сам Христос и причащал из неё апостолов. Святыня! Но ты приди в любую деревенскую церковь, и там в простой Чаше современного производства увидишь Святыню не меньшую. Маленькие реликвии, если подходить к ним с суетной душой, способны заслонить от нас и Самого Бога, и того святого, кому они при жизни принадлежали. Любушка в Сусанине двадцать лет прожила. Она и сейчас здесь духом пребывает. Вы приезжайте сюда и поговорите с ней, как с живой: она услышит. Она, бесспорно, имеет попечение и о Сусанине, и о всех, кто здесь молится. Она вместе с вами будет молиться.
— А существуют ли какие-нибудь местные предания о Любушке? Какой-нибудь рассказ о ней?
— Нет, пожалуй. Вы поймите: вся её жизнь была молитвой. Ничего внешнего, ничего такого, что мы называем деятельностью. О чём тут рассказывать? Человек святой жизни: к ней приезжали за утешением, и получали это утешение, но получали его — от Бога. Вот и весь рассказ. Любушка, между прочим, всех просителей посылала в храм: «Иди, помолись! Ты ко мне приехал? Если хочешь со мной поговорить, иди в церковь молиться Богу». Церковная молитва — в первую очередь. А мы частенько и не понимаем: зачем нам Бог? Нам нужен добрый дяденька или тётенька, которые за нас решат наши трудности! Мы называем этих добрых дядей святыми, но даже не вспоминаем, что святой — это тот, кто светит отражёнными от Бога лучами. В конце концов, мы к Царствию Божиему стремимся, а не царству добрых людей. Да, мы поём: «Со святыми упокой», но — «со святыми упокой во Царствие Твоем, Господи». Есть тут очень тонкая грань, почти невидная замутнённому суетой глазу: как, законно почитая и преклоняясь перед святыми людьми, не забыть Того, от Кого вся святость? Мы видим сияние, а того не понимаем, что сияние-то это не собственное, а отражённое. Рассказывают, что владыка Иоанн (Снычёв) нередко говорил священникам: «Отче! Ты так сияешь, что из-за твоего света Бога не видно!» А ещё говорил мне некогда один прихожанин: «Мы, православные, порою так рассуждаем: был бы батюшка добрый, — тогда и Бога не надо!» Страшно звучит? Но такое встречается очень часто. Мы попадаем в новый приход и первым делом смотрим: какой здесь священник служит, что об этом священнике говорят? Если плохой священник, — ну, так я и не буду ходить в этот храм. А если хороший — то сюда и только сюда! А Бог-то везде один. Это леность душевная в нас действует… Гораздо более ценен тот человек, который ищет Бога, — о таких говорил Христос: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе». (Ин. 4, 23). Ведь и святые, когда удалялись для совершения своего подвига, то чаще всего уходили не к святым: наоборот, уходили подальше от всяких святынь, порою даже в места, заведомо осквернённые, где явно действовали тёмные силы, — уходили туда и освящали то место своею молитвою. Они уходили, чтобы Бога искать, и искали Его, и находили Его, и Бог по их молитвам освящал то место. А мы ищем не Бога, а людей. Ищем чудотворцев.
— Ну, мы послабее душой, чем прославленные праведники, нам надо за кем-то тянуться, за кого-то зацепиться…
— Послабее, конечно, послабее. Но и они тоже людьми были, — об этом не нужно забывать. Они не боялись своей слабости, они смогли переступить через неё. А мы сами себя боимся. Я понимаю: все мы немощные, но вот что говорит апостол Павел: «Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен». (2 Кор. 12. 9,10). А мы? Ну как же можно быть такими малодушными? И не только сами малодушествуем, но и всё вокруг заражаем своим малодушием. Малодушный малодушного пытается ещё больше умалодушить: не подтянуть его, не взбодрить, а наоборот — совсем расслабить. И в результате видим, что весь народ расслаблен. Дорасслаблялись! — взгляните вокруг! И всё от того, что мы слишком усердно жалеем себя: ах, я несчастный, ах, я забитый… Да мы сами же и виноваты в своей забитости… Единственное, на что хватает сил, так это ездить по стране из края в край и искать святых, искать чудотворцев, которые мановением волшебной палочки разом всё изменят. Ищем, где бы получить подпитку… Или, может быть, у людей складывается впечатление, что Бог слишком далеко?
— Да, я слышал подобные слова, и нередко… И от людей не столь уж малоцерковных: «К Богу страшно обращаться. Вот святые — они как-то ближе…»
— Да: «Бог так далеко!.. До Него не достучаться!.. У Него не допроситься!.. Дайте нам чудотворца!.. Дайте нам экстрасенса!..» Но тут-то и проверяется сила нашей веры. И результаты проверки — увы, не радуют. Впечатление складывается такое, что люди ещё чего-то ждут. Ждут некоего всесветного чуда, которое всё сразу разъяснит. Хотя чего тут ждать? Всё дано уже здесь на земле… Надо просто жить — и всё. Вера — это и есть жизнь: шаг за шагом всё ближе к Богу. Поймите мои слова: вера — это не субъективное ощущение, не состояние ума, не убеждение. Это жизнь, это путь — от крещения до смерти. И это не какое-нибудь самоценное самосовершенствование. Многие говорят: «Я в Православной Церкви не вижу возможности для совершенствования»! А в Православии ни о чём подобном речь и не идёт: ты пришёл Богу и живи с Богом. Просто живи, работай, семью содержи, детей воспитывай, — и радуйся в Боге. И не нужно каких-то целей для себя ставить: вот, я непременно должен совершать чудеса!.. Опять-таки, святые, даже если им Господь давал возможность совершать чудеса, — они же скрывали этот дар, и говорили нечаянным свидетелям: «Смотри, никому не рассказывай об этом!..» А у нас сейчас всё наоборот! Людям непременно нужно чудотворить или созерцать чудеса: без этого вера не оживает… Вот и развелось столько всяких шарлатанов, что порой и к подлинным праведникам доверие теряется, — невольно думаешь: а может, и это очередной «харизматик»?.. Ещё и ещё раз скажу: Бога ищите, к Нему обращайтесь, Ему молитесь. Он вас выведет на верный путь, Он пропитает, Он наставит, Он укажет, где подлинный праведник, а где искусный лжец. К Богу идите.
…Мы сидим с отцом Валерием в трапезной, мы ещё о чём-то говорим, а в соседней спаленке за стеной, приготовленной некогда для Любушки, стоит фотография старицы, — и я не могу отделаться от чувства, что сама Любушка там: сидит, слушает приглушённые обрывки нашего разговора, и молится, водя пальцем по ладошке…
* * *
Я конечно, не претендую на то, чтобы в этом сборнике интервью дать полную картину возрождающегося в России Православия. На это не претендую, но некое понятие о нынешнем положении Церкви дать хочу. Хочу показать Церковь так, как её видят свои, верующие, церковные люди. Со стороны всё видится иначе. Что с того? Это — мой дом, это моя семья, и я вижу в ней в первую очередь родное, любимое, своё. Говоря о чужом доме, можно быть объективным, говоря о своём, — лучше не надо. Тот, кто «объективно» перечисляет недостатки своей родни, выглядит по меньшей мере странно, а вернее — совершенно неприглядно. Вот напоследок несколько мыслей, родившихся после прочтения статьи известного петербургского журналиста, специалиста по вопросам религии, Ильи Стогова.
19. ВЕТЕР ЛИСТАЕТ СТРАНИЦЫ
Илья Стогов — человек, которому не нужно объяснять, что такое христианство и чем, к примеру, отличается Православие от католичества, — высказался в газете «Metro» так: «Не стану я в сотый раз повторять банальную истину о том, что сегодня Россия не может претендовать на имя христианской страны… Перестроечная мода на религию прошла. Ответить на вопросы, интересующие русских, Церковь оказалась не в состоянии». («Metro», 7 декабря, 2006 г. Илья Стогов. «Самодержавие и народность. Пока только вдвоем»).
Я не то чтобы хочу поспорить с Ильёй Стоговым, не то чтобы собираюсь пяткой в грудь себе стучать: «Нет! Россия — христианская страна, а ты, католик, умолкни!» Может быть, опыт у меня и не очень богатый, но я хорошо знаю: Православие в России растёт на камнях или (что более подходит к ситуации) пробивается сквозь асфальт — тяжело, мучительно и без гарантии стопроцентного успеха. Могу и подробнее развить эту мысль, могу рассказать, как спивается русская глубинка, как люди на слова: «Вы же сдохнете от такого пьянства!» — отвечают: «А зачем нам жить?..» Или вот, о степени осведомлённости в религии, — приезжаю в деревню, спрашиваю у какой-то женщины: «Где тут батюшка живёт?» — «Кто-кто??..» — «Батюшка, священник! Понимаете? Священник!» — «Кто-кто??..» — «Ну, человек, который в церкви служит!» — «А-а, этот!.. Так это называется — поп!»
Вот, говорят: мода на религию… Мода — явление массовое, бездумное, плод, так сказать, «коллективного бессознательного». Когда в конце 80-х русские люди обратились к Православию, это не было модой, это было сознательным, втайне продуманным или, что вернее, в тайне выстраданным шагом. Это было действие активных, думающих и чувствующих людей, которые нашли возможность освятить свою жизнь новым, глубоким смыслом. Действие активных людей! А таковых в обществе всегда меньшинство. Они и сейчас остаются в меньшинстве, и завтра, и послезавтра большинством не станут. И не надо делать из этого трагедию — это в порядке вещей. Не надо делать из этого далеко идущие выводы: мол, народ не потянулся, народ не принял, стало быть, и не примет никогда, стало быть, Россия навсегда останется дикой полу-языческой, полу-животной страной.
Народ и сам себя ещё не принял. Народ ещё не знает толком, жив он или нет — ему это всё равно. В России идёт к концу период национального упадка — он сейчас в той самой фазе, когда старое, слабое, равнодушное поколение, «дети разгрома», — активно вымирает, а новое, сильное, от рождения приспособленное к новым условиям, готовое к жизни и к борьбе, — только нарождается. Страница истории приподнялась и готова перевернуться — нужно только подождать немного. И ещё нужно позаботиться о том, чтобы она перевернулась благополучно, чтобы никто её не выр-вал. Нам нужны несколько лет без смуты, без восстаний, революций и т. п. — и Россия сама вернётся на своё место.
Вспомните, как перевернулась страница в тех же 80-х годах. Ещё в 1981-м существующее положение казалось чугунно-незыблемым, а прошло всего шесть лет — и где тот чугун?..
А Илья Стогов пишет: «Ответить на вопросы, интересующие русских, Церковь оказалась не в состоянии» … Русских интересуют многие вопросы, в том числе и те, которые вовсе не в церковной компетенции. Тут налицо некий католический перебор: Церковь, мол, отвечает за всё, римский папа командует и епископами, и королями, он в ответе и за дела духовные, и за мирские…
Но наша Церковь, будем откровенны, ещё не справилась с внутренними делами — не успела пока. Нельзя после тяжкого недуга сразу вскочить с кровати и побежать на сдачу норм ГТО. Тысячи болячек ещё не зажили, тысячи вопросов остаются без ответа. Как восстановить монашество, если прервана иноческая преемственность? Как воспитать новое поколение священников, если достойных учителей не хватает? Как батюшке заниматься духовным окормлением прихожан, если все силы и время уходят на строительство? Как, наконец, это строительство вести, если в деревне спонсоров нет? Человек внутри Церкви всё это понимает, он согласен ждать, он готов по силам помогать: он включён в работу, он живёт вместе с Церковью. А человек со стороны…
Такая картинка представляется: люди строят дом. Некий праздный прохожий гуляет рядом и время от времени вопрошает строителей: «А почему это у вас дом без крыши? Как вы жить-то без крыши будете?» — «Да мы ещё не успели за крышу взяться!» — «Ах, не успели?.. Ну, ну… А у вас и окна не застеклены! Как же так?» — «Ещё время не пришло!» — «Ах, не пришло?.. Когда же оно придёт?» — «Когда нужно будет, тогда и придёт! Не мешайте работать!» — «А что это вы огрызаетесь? Я же вам не мешаю, я просто интересуюсь. Построил дом без крыши и огрызается!..»
Ни дома, ни храмы, ни приходы, ни народы не возникают по мановению волшебной палочки. На всё нужно время, — как ни скучно это звучит.
А Илья Стогов спрашивает: «А сделала ли она (Церковь)хоть что-то, чтобы говорить с обществом на одном языке? Пожилые бородатые люди строят золочёные храмы, но причём здесь лично я? Почему я должен считать их проблемы своими? И вообще, должен ли я им хоть что-то?» Да нет, конечно, не должны. Перефразируя известный анекдот, скажем: «С инославных денег не берём-с!» Да и не в том вопрос, кто кому должен: общество Церкви или Церковь обществу. Общество ещё слишком немощно, чтобы услышать голос Церкви, Церковь земная ещё недостаточно оправилась от погрома, чтобы уверенно вести за собой стадо словесное… Однако главное сделано: живая, дышащая часть русского народа — в Православии. Это — фундамент, на нём уже можно что-то строить; это — передовой отряд, придёт время, и под его шаг подстроятся новые и новые люди. Нужно только подождать, пока страница перевернётся, пока подросшее сильное поколение не начнёт искать твёрдую основу для жизни и в поисках этих не остановит взгляд на только что отстроенных золочёных, несимпатичных Илье Стогову, храмах. Мы работаем для будущего, а время работает на нас.
ЧАСТЬ III. БЕЗ СТРАДАНИЙ ЖИЗНЬ НИЧТОЖНА
Есть такое расхожее мнение среди верующих: «В советские-де времена роль Церкви исполняла культура — литература, музыка, кино, театр». Я не хочу спорить с этой мыслью, хочу только заметить, что естественный вывод из неё: «Теперь, когда Церковь вернулась, в культуре больше нужды нет!..» Кого-то такой вывод испугает, но многие, многие — поверьте мне! — с радостью согласятся с ним!.. Увы, приходится признать: если бы кое-кому из наших, православных дать волю, то они снесли бы с лица земли всё, что ещё уцелело после демократического погрома…
К счастью такое можно сказать не о всех православных. Вот несколько примеров тому.
1. РУССКИЕ ДУШИ ЗАРОСЛИ БУРЬЯНОМ…
На петербургской улице Есенина стихи Есенина вряд ли придут в голову, а Поэтический бульвар, что впадает в эту улицу, почему-то не навевает поэтического настроения… Мы с доцентом СПб государственного университета, кандидатом искусствоведения Ольгой Борисовной Сокуровой сидим в её квартире в брежневской многоэтажке, где за окном — череда таких же многоэтажек, и ведём разговор о современной культуре.
— А имеет ли право на существование само выражение — «современная культура»? В чём, собственно, она заключается? В телевизоре, в интернете, вFM-радиостанциях? Это и есть культура нынешнего дня? Не слабовато ли?
— Давайте начнём с самого начала… Вы знаете, кто на земле был первым деятелем культуры? Адам. Да, наш общий праотец Адам. Он по велению Божию возделывал райский сад, а садоводство — это самая что ни на есть культурная деятельность… Вам известно, что само слово «культура» — сельскохозяйственного происхождения? Первоначально оно означало «возделывание почвы, удобрение её, подготовка к посеву». Это Цицерон первым обратил внимание, что возделывание почвы и воспитание души удивительно похожи: «Как плодородное поле без возделывания не даёт урожая, так и душа. Возделывание души — это и есть философия. Она выпалывает в душе пороки и приготовляет душу к принятию посева». И вдумайтесь: какая удивительная связь между этими словами и евангельской притчей о сеятеле! Семя — слово Божие, но, чтобы прорасти, оно должно упасть в хорошо возделанную почву. Возделыванием этим и занимается культура.
Надо обязательно помнить, что культура — это не собрание каких-то сведений, не сильный ум, не книжные знания, а свет человеческой души. Возделать поле — это огромный труд, и человек должен работать здесь в поте лица своего — по заповеди Божией. Точно так же в душе — только пот, кровь и слёзы помогут по-настоящему возделать землю нашего сердца.
Что представляет из себя сегодняшняя культура России? Безусловно, мы переживаем величайший культурный кризис, — именно потому, что не даём себе труда работать над своими душами. Понимаете, наступили времена, когда от человечества уходит Дух Святой, а без Него мы ничего не можем творить. Те жалкие подобия творчества, которые мы видим сейчас, — прекрасный тому пример. Хотя, как представляется, не всё ещё потеряно. Всё-таки возможно ещё возрождение культуры.
— А на основе чего?
— На основе возделывания нашей душевной пашни. Если душа будет должным образом подготовлена, дары Духа Святого не минуют её, и способность к творчеству возродится.
— Если душа — это поле, то плуг — это…
— Слово. Слово — великий инструмент культуры. Вспомните, что и Адам по повелению Божию нарёк имена всякой твари, то есть, словом определил, организовал всё сущее на земле. И о том ещё вспомните, что наши предки называли себя славянами, а «слава» и «слово» — из одного корня. Слава — это слово высшего порядка. Слава — это то слово, с которым должно обращаться к Богу, славословие. Не клянчить что-то у Господа, не жаловаться Ему, но славить Его своим словом — вот как понимали славяне богообщение, и вот как они понимали истинное назначение слова. Итак, «славяне» — это те, кто верно славит Бога.
— Но они же не всегда Его верно славили. Они же первоначально были язычниками…
— Верно, но предчувствие своей миссии уже тогда жило в славянском народе. Не случайно же, что в наших церквах Бога славят не музыкальными инструментами, а человеческими голосами, пением, словом; единственный музыкальный инструмент — это колокол, но и у него есть язык.
Позднейший подъём русской литературы — тоже не случайность: поэт в России больше, чем поэт, именно потому, что он работает со словом, то есть, с высшим из всех земных материалов, уже почти не земным, а небесным. Мне сейчас вспоминается великий русский композитор Георгий Васильевич Свиридов, который лучшие свои вещи написал для хора — то есть, тоже работал со словом. Недавно впервые был исполнен его шедевр — кантата на стихи Сергея Есенина «Светлый Гость» — явление в современной культуре ни с чем не сравнимое. Оно всё посвящено ожиданию русского воскресения: «Зреет час преображения. Он сойдёт, наш Светлый Гость, из распятого терпенья вынуть выржавленный гвоздь». Когда слышишь эту свиридовскую кантату, — веришь, что не только русская культура ещё жива, но и в то, что вся Россия скоро вновь воспрянет и вернётся к своей великой исторической работе.
— Верить в это хочется, но, честно говоря, оснований к тому что-то не видно… Как раз слово — основа славянского духа — сейчас страдает особенно сильно.
— Да, в самом деле. Зачем закрывать глаза на действительную жизнь? По сравнению с нашими согражданами и Эллочка-Людоедка, и товарищ Шариков кажутся просто витиями. Теряя язык, мы теряем народ. Воздух в городе так пропитан ненормативной лексикой, что хоть топор вешай. Нет случая, чтобы выйдя из дома, не нахлебаться этой отвратительной словесной жижи. Мы знаем, что промышленные отходы из заводских труб разрушают озоновый слой над планетой. Но над нашей Землёй есть ещё один защитный слой — Покров Божией Матери, а наша брань, летящая к небесам, скоро оставит нас и без этой защиты. Надо как-то бороться с такой опасностью.
— А вы считаете, что этому можно как-то противодействовать?
— Во всяком случае, нужно звонить во все колокола. Вот и ваша газета — это один из таких колоколов. И нужно иметь мужество остановить хульников. Ведь русский человек, впадая в то или иное безобразие, зачастую сам понимает, что ведёт себя некрасиво и подсознательно ждёт, когда его остановят. Я в этом совершенно убеждена — на собственном опыте: бывали случаи, когда хама ошеломлял отпор, человек начинал извиняться, замолкал… Может быть, мне просто везло, но так бывало не раз.
— Возможно, женщине легче воззвать к мужской совести. Но ведь сейчас сами женщины сквернословят не хуже мужчин. И, как это всегда бывает, любой грех на женщине смотрится гораздо гаже, чем на мужчине. Ругающийся мужчина просто груб, ругающаяся женщина — омерзительна.
— Соответствовать своему полу — это тоже культура, особая, очень важная культура. Мужчина — это человек в чине мужа. Есть на небесах чины ангельские, есть на земле чины земные, и свой земной чин человек ронять не должен. Соответствует ли этому чину тот, кто сидит, развалясь, глядя стеклянными глазами на стоящую пожилую женщину? Соответствует ли этому чину тот, кто не заботится о своей семье, не готов принести себя в жертву, а требует жертв для себя любимого? Навряд ли. Точно так же и женщина: она тоже имеет свой чин, чин жены, она должна быть на необыкновенной высоте, прежде всего, на высоте чистоты и благообразия — чего сейчас почти не встретишь. Нынешняя мода, кстати, очень роняет женщину, унижает её. Между прочим, слово «наглость» имеет прямую связь со словом «нагота». Нагота — это форма наглости. И об этом имеет смысл задуматься. Из мира уходит благообразие…
— Это не только к женщинам относится…
— Разумеется. Я хочу сказать вот что: мне посчастливилось — моим духовным отцом был старец Иоанн Крестьянкин. Я помню: во всех его манерах, в каждом жесте, в каждом движении, в каждом слове сияло необыкновенное благообразие. Наверное, иначе и нельзя, если чувствуешь себя всё время предстоящим Господу, ходящим перед Лицом Божиим. А мы очень неряшливы во всём: и в собственном быту, и в отношениях с близкими. К сожалению, и в отношениях с Богом. Меня пугает порой наша болтливость на благочестивые темы. Как это опасно — забалтывать веру Христову!.. Здесь нам тоже необходима культура, необходима аскеза, необходим трепет душевный. Не боимся мы фамильярности в отношениях с нашим Творцом. Снова вспомню старца Иоанна… Незадолго до кончины батюшки я разговорилась с его келейницей Татьяной Сергеевной, и она дала такое свидетельство: «Я ведь с батюшкой встречалась каждый день на протяжении многих лет; и очень придирчиво за ним наблюдала — не проявит ли он какой-нибудь слабости, пусть даже простительной по нашим понятиям. Нет! — и в мелочах он был безупречен». Надо сказать, что эти слова поразили меня больше, чем рассказ о каких-то великих аскетических подвигах: вот это и есть необыкновенная духовная высота! Мелочей в духовной жизни не бывает. Существует цепная реакция зла, но существует и цепная реакция добра.
— А вам не кажется, что быть злым, неряшливым, грубым и т. д. — легче, чем быть добрым, благообразным, благородным? Не иметь культуры легче, чем иметь её. А ведь человек всегда выбирает путь наименьшего сопротивления…
— Но выбор у него всё-таки есть! Известна притча о Сократе, который шёл однажды со своими учениками через рыночную площадь, а навстречу им попалась женщина лёгкого поведения. Она сказала Сократу: «Вот ты их учишь чему-то, тянешь за собой, а я сделаю так, — поманила пальцем, — и они за мной пойдут, и бросят тебя». Ученики возмутились, но Сократ сказал: «Она права, под гору идти легче и приятней. А я веду вас в гору — это путь тяжёлый, но в том-то и дело, что вы можете выбирать свой путь сами». Не случайно на русских иконах часто можно видеть горки — символы духовного восхождения. «Горе имеем сердца». У каждого в сердце есть потребность духовного восхождения — хотя бы потому, что скучно всё время катиться под гору. Душа, как и мышцы, требует работы. Я это вижу по своим студентам. Казалось бы, весь современный, цивилизованный в кавычках мир, весь ад, все его силы брошены на них. Сколько приманок расставлено повсюду! Когда вечером произносишь: «Посреде хожду сетей многих», — то слова эти представляются буквально точными. И начинается отталкивание от зла, — может быть, инстинктивное, — появляется некоторого рода иммунитет. И вообще молодому человеку слишком лёгкий путь скучен: возникает потребность настоящих трудностей. Обратите внимание: сейчас у человека возникает всё большая жажда настоящего. Мы хотим пить настоящую воду, есть настоящий, а не резиновый хлеб, мы хотим настоящей любви, а не партнёрства в любовном бизнесе. Человек жаждет и настоящего себя. И настоящих отношений с Богом. История ещё не кончена, — русская история в том числе. Да, у нас впереди очень большие испытания, но, может быть, эти испытания и отрезвят нас, заставят опомниться, пойти по Богом указанному пути. Это тоже возможно, тут нет ничего невероятного. Так бывало, и я верю, что так будет впредь.
* * *
Взаимоотношение культуры и религии — вопрос, скажем мягко, — не простой. В своё время — в эпоху Руси Православной, России Церковной — он не был решён, как не были решены и многие другие вопросы взаимоотношения Церкви и развивающегося общества. Для меня очевидно, что именно эта невписанность Церкви в меняющийся мир и послужила одной из причин страшного наступления антихристианских сил. Церковь земная хотела жить так, словно Средние века ещё не кончились — и не кончатся никогда. Страшно, что и ныне многие из нас простодушно верят, что достаточно всем мужчинам отрастить бороду в стиле рюсс, а женщинам повязать платочки — и все неразрешимые вопросы разом разрешатся.
Ныне каждый сам для себя решает, как совместить свою веру с жёсткими (точнее — жестокими) законами современности, как не пойти на уступки в главном, и как отличить главное от второстепенного — от того, что может и должно быть изменено.
2. БЕЗ СТРАДАНИЙ ЖИЗНЬ НИЧТОЖНА
— Я с ранней юности считала, что быть актером — это счастье. Я тогда работала в Саратовском театре, и для меня не было других радостей, как только репетиции, распределение ролей, спектакли… Все это было так интересно, так здорово! — рассказывает Наталья Сергеевна Конькова, петербургская актриса, двадцать семь лет проработавшая в Ленконцерте, мать двоих детей, православный, глубоко верующий человек.
— Надо сказать, бездумная у меня была молодость. Я не понимала тогда ни значения актерской профессии, ни ответственности за душу зрителя, — а ведь любой актер эту ответственность несет в полной мере! И только приехав в Ленинград и много лет проработав актером «разговорного жанра» — я читала со сцены русскую классику и лучшие произведения современных авторов, — я начала понимать, что актер — это в первую очередь просветитель. Я уверилась в том, что актер — профессия поистине великая. Он несет со сцены слово, и либо поднимает зрительскую душу почти до небесных высот, либо низвергает ее в тартарары… Талант — дар Божий; вопрос — как распорядиться им… Дар этот — подлинно велик, и обладать им — значит нести огромную ответственность перед Господом.
— Расскажите, пожалуйста, когда вы впервые оценили всю тяжесть этой ответственности?
— С юности мне очень нравился Лермонтов, особенно его «Демон»… И долго жило в моей душе желание сделать чтецкий спектакль по «Демону». Вот однажды — а было это еще до моего воцерковления — я решила, что пришло время. Достала томик Лермонтова, раскрыла и прочла первую строчку: «Печальный демон, дух изгнанья»… И остановилась, начала, по своему обыкновению, примерять прочитанное на себя: самое себя представлять этим «духом изгнанья». И таким страшным, ледяным одиночеством дохнуло мне в душу, таким нечеловеческим страданием, что я испугалась. Испугалась и сразу отложила книгу: не мне испытывать те чувства, что пережил этот… это… существо… Нет, такое не для меня! И вот что я еще подумала: а как же Лермонтов? Как же он написал это — когда? — в четырнадцать лет! Что должен был испытать, что пережить этот малыш?..
— Да, удивительно! Как-то я никогда об этом не задумывался…
— …Представьте себе, через какую боль прошла душа этого мальчика!.. Ну, да ладно: на том моя затея с чтением «Демона» и закончилась. Но была и другая история, которая завершилась несколько иначе… Я всегда восхищалась творчеством Чингиза Айтматова. Прочла в свое время его «Буранный полустанок» — это была модная книга в конце 70-х годов… Ну, и решила прочесть со сцены самый эффектный эпизод из этого романа: легенду о манкуртах. Если вы ее забыли, напомню: в древности завоеватели-чжурчжени с помощью страшной пытки лишали своих пленных воли и разума, а затем превращали их в послушных роботов-убийц, в манкуртов, как это называется в романе. Одного такого манкурта разыскала его мать и попыталась вновь вернуть ему человеческую душу, но ничего не вышло из этой попытки: манкурт не узнал мать, не понял, что она хочет его спасти и в конце концов убил ее. Начала я репетировать эту легенду… Нет слов: она меня волновала до глубины души. Сначала я просто не могла читать: слезы лились неудержимо. Режиссер терпеливо ждал, пока это первое волнение пройдет, и только когда я смогла прочесть ее от начала до конца более или менее спокойно, начал настоящие репетиции… Я уже говорила: всякий текст, с которым мне приходится работать, я пропускаю через свою жизнь, свои обстоятельства: только так я могу сжиться со своими героями, почувствовать их живыми людьми и себя почувствовать в их коже… Так и тут: на месте несчастной матери я представляла себя, а на месте манкурта… На месте манкурта я представляла своего сына. И вышел спектакль, и даже получила я за него какую-то премию… А потом началось страшное. Мой сын тяжело заболел. Заболел духовно: у него, скажем так, начался распад человеческой личности. Это было жутко, это было внезапно, и это так совпадало с моей айтматовской работой, что меня не покидало ощущение: я сама втянула моего сына в этот кошмар! Я и сейчас так считаю. Сколько мне всего пришлось пережить, пока это мрак начал рассеиваться, сколько было слез и молитв материнских… Не буду об этом говорить: слишком больно. Случилось бы это, если бы я не взялась за спектакль по Айтматову? Не знаю. Правда, не знаю. Но в душе я убеждена: связь между спектаклем и болезнью сына была. Я слишком отождествила себя с героиней легенды. Я не должна была этого делать.
— Так, значит, есть какие-то особые «демоны лицедейства», которые подстерегают актера в его работе?
— Их три: плохой текст, плохая трактовка и плохая игра. Вот «театральные демоны», вот актерские грехи. Текст должен отбираться с огромной осторожностью. Нужно по возможности просчитать, чем они отзовутся в душах людских, и нужно помнить, что при неверном выборе первый удар придется по нам же — по актерам. Я всегда старалась работать с русской классикой, а из современных авторов очень люблю Шукшина, Распутина, Астафьева, Белова и всю эту плеяду наших великих «деревенщиков». Вот литература, которая поднимает душу — и у актера, и у зрителя. Читать их со сцены — это значит совершать очень полезную и благодарную работу по исправлению человеческих сердец. А как я любила спектакль по «Старосветским помещикам» Гоголя! Проза такая неторопливая, даже тягучая, но Гоголь настолько глубок, что в нем каждый раз находишь все новые и новые черты, новые грани, и работать с его текстами — занятие захватывающее! «Старосветские помещики» — это такой гимн любви и в то же время глубочайшее исследование семейной жизни, семейного счастья. Сейчас, играя в театре «Комедианты», я снова встретилась с Гоголем — в пьесе «Женитьба», — и как я благодарна этому театру за такую встречу! Гоголь — необъятен.
Но, с другой стороны, нужно понимать, что текст в театре — дело вторичное. Важна трактовка этого текста. Ведь можно и «Преступление и наказание» поставить в виде мюзикла! А что, вы не знаете подобных случаев?
И третье — игра. Либо актер что-то зрителю дает, либо отнимает. Чем духовно богаче исполнитель, тем больше он может дать: выходит, актер ответственен перед зрителем за свою душу. И поэтому самое страшное для меня — это плохое слово, плохой режиссер и плохой актер… Слияние этих трех вещей и порождает тот демонизм, которым питаются современные зрители.
— Сейчас любят говорить, что актер — это профессия не для мужчин, что актерский образ жизни губит в душе мужские качества. Что вы, как женщина, об этом думаете?
— Я думаю, что это чушь. Совершенная чушь. Возьмите, к примеру, Армена Джигарханяна, который во всех своих фильмах и спектаклях — истинный мужчина. В нем всегда ощущается настоящее мужское начало. Нет, оставаться мужчиной, имея профессию актера, — это и возможно, и более того — необходимо. Как ты сыграешь Шекспира, не обладая мужской душой, не понимая истинных мужских страданий? Нет, я с этим не согласна! Сейчас как-то все переворачивается… Я, наверное, уже старый человек, потому что какие-то вещи не понимаю намертво: мужскую инфантильность, например. Женщина, чувствуя ее, пытается вырваться на первые роли, забыв о семье, о детях… И я-то сама, каюсь: за всеми своими спектаклями, гастролями упустила много в своих детях, и приходилось мне наверстывать упущенное, уже когда они стали взрослыми…
— Тогда, может быть, сказать наоборот: актерство — это не женская профессия, раз она вырывает женщину из семейной колеи?
— Нет, почему вырывает? Нет, женщина должна держаться за свою профессию, ей, наверное, нельзя быть только домохозяйкой. Но по крайней мере частицу себя дому отдавать надо. Женское начало в семье — это великое дело. Я вспоминаю о женщинах, которые сейчас начали заниматься бизнесом… Я тоже пыталась это делать. Ничего у меня не получилось. Ничего, совершенно. Мы открыли свое кафе… Но вот приходит к тебе человек, которого надо накормить, а ты знаешь, что у него нет денег. Как быть? И говорить нечего: конечно, мы его кормили. Рядом с нами был центр реабилитации слепых, и время от времени его пациенты к нам заглядывали… Естественно, мы брали с них какой-то минимум, и, естественно, с такой политикой мы вскоре разорились вчистую…
— Наталья Сергеевна, расскажите, как вы пришли к Богу?
— Как и все — через страдания. Только то и ценно, что получено через страдания. Я вам рассказывала о болезни моего сына… А ведь я и сама болела, лежала в онкологическом институте, и никто не мог сказать, буду я жить или нет… Помню, как раз в то время я должна была сдавать худсовету свою новую программу «Спасибо, земля, за праздники!», по стихам Глеба Горбовского. И вдруг — болезнь, и я оказываюсь в этом институте… Что я пережила, вы, думаю, и сами понимаете… Но взамен я получила нечто настолько ценное, что ничего ценнее и представить нельзя. Я поняла, что жизнь наша — это не только то, что здесь, на земле, в этом далеко не всегда прекрасном мире. Есть и что-то более высокое, чем наша повседневная суета. Не скажу, что я сразу стала православным человеком, но начало было положено. А потом — новые беды, новая боль… И это все ближе и ближе приводило меня к Богу, к Церкви… Вы знаете, ту программу — по стихам Горбовского — я все-таки сдала, и уверена, что сделала ее на совсем ином уровне, чем готовила до болезни: намного глубже было мое прочтение. Совсем иначе после болезни произносились слова: «Спасибо, земля, за праздники!» И тут я впервые поняла, что достичь чего-то можно только ценою страданий. Поняла, что только страдания освящают жизнь, только они — настоящая ценность… Живя без страданий, человек неизбежно превращается в ничтожество. Душа, обогащенная болью, способна возвысить и очистить другие души… В нашем веке появились актеры, которые несли зрителю колоссальный духовный заряд. Один из моих последних театральных восторгов — Лебедев в «Истории лошади», — это такая песнь старости!.. У меня было ощущение, что я сейчас на коленях поползу к сцене, чтобы низко поклониться артисту. И вся эта актерская плеяда именно в ХХ веке появилась, а ХХ век был веком страданий, по крайней мере, для России… Мне кажется, я права. Жизнь не должна быть легкой. Не должна. Она должна быть насыщена и страданиями, и радостями, и горестями, и счастьем, но самое главное — она должна быть насыщена любовью.
— Видимо, пришла пора создавать православный театр, — то есть такой театр, который открыто заявляет, что стоит на православных позициях…
— Я считаю, что любой русский театр должен быть православным. То есть он будет православным постольку, поскольку будет русским и станет придерживаться главным образом русского классического репертуара. Возьмите Островского: как он современен! Он и сейчас современнее любого нынешнего драматурга! А Чехов? А Достоевский? А Гоголь? Если не пытаться на их основе создать нечто чуждое их духу, а старательно проникать в глубины их прозы, быть честными до конца, то вот вам и будет настоящий православный спектакль, настоящий православный театр.
* * *
«Без страданий — жизнь ничтожна», — так сказала Наталья Конькова, так я называл своё интервью… С болью я узнал, что прошедшие после этой беседы годы принесли Наталье Сергеевне новые и новые страдания, — но от слов своих она не отказалась…
По совету Натальи Сергеевны я познакомился с ещё одним актёром, замечательным мастером, чрезвычайно интересным человеком — Валерием Михайловичем Ивченко…
3. БЛАГОСЛОВИТЕ ТЕАТР!
Если сказать во всеуслышание, что среди артистов встречаются православные люди, то вряд ли кого-то такое утверждение удивит — разве только горячих новоначальных ревнителей, которые недавно вычитали, что театр — это «бесовское игрище», а все артисты — «куклы сатанинские». Но еще в советские времена люди театра тянулись к Церкви. Для кого-то это было бравадой, кто-то хотел таким образом вымолить у Бога успех, а кто-то… Впрочем, истинно верующих и было и есть немного, — и не только среди артистов. Что я знал, идя на встречу с Валерием Михайловичем Ивченко, актером БДТ им. Товстоногова, исполнителем главных ролей в таких спектаклях, как «Смерть Тарелкина», «На всякого мудреца довольно простоты», «Борис Годунов», «Старик и море»?.. Что он прекрасный, очень глубокий артист, для которого одинаково близки и гротеск Сухово-Кобылина, и тонкая чеховская живопись… Знал, что он имеет репутацию верующего православного человека. Но если актерское мастерство может оценить всякий, пришедший в театр, то внутренняя сокровенная жизнь актера зрителю недоступна. Я, признаться, сильно подозревал, что наш разговор не пойдет дальше рассказа о иконах в гримерке и о крестном знамении перед выходом на сцену. Но вышло все совсем иначе…
— Сейчас уже немного поутихли споры вокруг фильма «Страсти Христовы», но ощущение недоговоренности у меня лично осталось. Что ни говори, а квалифицированных суждений о фильме было мало: высказывались о нем или церковные люди, или люди кино. Или-или, — понимаете? — в одном лице это редко сочетается. А теперь вот я сижу перед человеком, который прекрасно совместил в себе и актерство, и церковность, и хотелось бы услышать его слова о нашумевшем фильме Мэла Гибсона.
— «Прекрасно совместил» — это, пожалуй, сказано слишком категорично… Все не так просто, не так радужно… А что касается «Страстей Христовых», то, извините, ничем помочь вам не могу. Я этот фильм не видел — не знаю, к сожалению или к счастью.
— Но его так рекламировали и даже по телевидению показывали… Вы, стало быть, изначально так настроились против него, что даже не захотели посмотреть?
— Нет, почему же… Я, в сущности, не против воспроизведения на экране евангельских событий… Я в свое время с удовольствием посмотрел фильм Франко Дзефирелли: замечательная, очень талантливая попытка передать евангельское слово средствами кинематографа. Мне особенно понравилось, что режиссер не пытался самовыразиться, а честно передавал то, о чем рассказывали евангелисты. Не надо слишком обольщаться: при переносе текста на экран искажения неизбежны; и более того, — это ведь не механический процесс, — художник создает собственное произведение, и личность автора непременно накладывается на то, что он творит. Так что создать фильм, полностью повторяющий Евангелие, все равно не получится. Тут важно другое — важно знать, с чем художник подходит к своему творению: верующий человек наполнит его своей верой, своим благоговением, а неверующий — самолюбованием, умилением собственным умом, собственными «трактовками». Дзефирелли, по-моему, — человек верующий.
— Вот мне и интересно: почему такие мастерски сделанные картины, как фильм Дзефирелли, или «Евангелие от Матфея» Пазолини, не поднимали особенного шума, а вокруг посредственного фильма Гибсона шум не утихает до сих пор?
— Я думаю, что так и было задумано. Определенные фильмы для того и создаются, чтобы вызвать шум, споры, скандал, привлечь всеобщее внимание к фигуре режиссера… Тут, кстати, верующему должно быть отчетливо видно, что — от Бога, а что — от лукавого. Как говорил свт. Игнатий Брянчанинов, если на сердце тишина, мир — значит там Бог. Если бушуют страсти, возмущения, переживания — значит, не обошлось без нечистого вмешательства.
— Многие утверждают, что человек не должен играть Бога, что это кощунство. А вы, Валерий Михайлович, как считаете?
— Я считаю, что человек не то чтобы не должен играть Бога — он просто не может этого сделать. Это в принципе невозможно. Бог непостижим — в том числе и для художника, для артиста. Как сыграть то, чего не можешь постигнуть и в малой степени? Но вот попытаться своей игрой рассказать о Боге… Думаю, что это было бы правомерно… Это, конечно, невероятно трудно и ответственно, но опять-таки все зависит от того, с чем пришел художник к своей задаче. Нужно ставить перед собой цель послужить Господу, а не самовыразиться.
— Другими словами, если бы вам предложили такую роль, то вы бы согласились? Если бы, конечно, знали, что режиссер — достойный, верующий человек, и не станет кощунствовать…
— Ох, не знаю… Во-первых, я бы испросил благословения. На любое дело нужно благословение. Кстати, когда Владимир Бортко предложил мне сыграть Левия Матфея в «Мастере и Маргарите», я отказался… Я не склонен осуждать Булгакова, он необычайно талантлив, но тут та же история: с одной стороны, художественное произведение не может быть бесстрастным, а с другой — если ведущей страстью становятся неприязнь и обида, то искажается картина мира. Этот роман страстный, болезненный, очень личный. Я не готов участвовать в его экранизации.
— Вот вы сказали, что обычно берете благословение на роли…
— Да, стараюсь. У меня есть благословение и на мою театральную работу в целом.
— Не на Афоне ли вы его получили? Слышал, что вы совершали туда паломничество…
— Ну, паломничеством я бы не стал называть эту поездку… Паломничество — это что-то выстраданное, отвечающее каким-то глубоким потребностям души, а то было… Я бы назвал это православным туризмом: сейчас он очень распространен, и я, каюсь, ему не чужд. В нем тоже, видимо, есть своя польза, но это не паломничество, нет. Хотя, конечно, пребывание на Афоне — это глубочайшее потрясение. Вставать ночью, идти под огромным звездным небом в храм на молитву, всей кожей чувствовать, что вот — грешный мир спит, а монахи в ночи молятся за него… Это духовный заряд на долгие годы. Хотя, с другой стороны, — это и серьезное испытание для неокрепшей души. Многих после такого путешествия распирает гордыня: «Я был там! Я не чета прочим!» Никогда бы не подумал, что это и меня коснется, но — увы…
— Так все-таки благословение на актерское творчество вам дали на Афоне?
— Нет, на Афоне я получил благословение только на роль Бориса Годунова. Его дал мне старец Исидор, отец эконом Пантелеимоновского монастыря. Он так, знаете, задумался сперва, нахмурился… Потом с каким-то облегчением махнул рукой: «А-а-а!.. Благословляю!» Такое было… А мои театральные труды в целом благословил другой старец — безкончено мной почитаемый и любимый о. Николай Гурьянов.
— Вы были и на Залите, Виктор Михайлович?
— Был, и не раз. Когда приехал туда впервые, был еще совсем новоначальным, а новоначальные — вы же знаете — всегда стремятся жить по максимуму: или сразу бросить все — и в монастырь, или принять на себя невероятные подвиги. Вот и я решил, что актерство — это грех, и нужно его непременно оставить. Все же что-то в душе сопротивлялось такому решению, и я отправился к отцу Николаю за советом. Батюшка меня сразу поразил уже одним своим видом: такой тихий, светящийся… Эти глаза его — мудрые, прозорливые и главное — сострадающие… Трудно мне рассказать о том впечатлении, которое он тогда на меня произвел: словами тут ничего не скажешь… Я увидел, — ощутил — вдохнул всей грудью дух той самой любви, которою Бог любит людей. Прежде мне такого не доводилось ощущать. Я задал старцу свой вопрос, он подумал и сказал, чтобы я театра не оставлял. И благословил меня. Тут же рядом стояла одна матушка. Она, услышав мой вопрос, громогласно возмутилась: «Играть?! В театре?! Да разве ты не православный?! Да как такое и помыслить возможно?!» Старец, услышав это, вздрогнул, потом ужасно огорчился, покачал головой и принялся извиняться: «Ох, простите вы меня, простите!» А потом, провожая нас до калитки, он все повторял: «Какие вы счастливые, что в Бога веруете!.. Какие вы счастливые!» Для меня этот случай многое открыл. Во-первых, я получил разрешение своих сомнений, а во-вторых, понял вот что: ведь та матушка, которая возмущалась театром и актерами, была по сути права. Она говорила правду, но правда ее была без любви. А без любви — вот, что важно! — самое истинное утверждение перестает быть правдой. Старец же, одушевленный любовью, смотрел глубже. Он понял, как поверхностны мои сомнения, как они не выстраданны, не зрелы. Допустим, он запретил бы мне играть. А послушался бы я его? Как знать! Не исключено, что нет, что в последний момент не нашел бы в себе таких сил и преступил бы заповедь послушания. Нет, нужно, чтобы я прошел свой путь до конца, чтобы на этом, а ни на каком ином пути служил Богу, поднимался к Царствию Небесному. И если мне удастся подняться до такой высоты, что театр действительно станет мне помехой тогда лишь можно будет оставить его. Но до тех пор я должен спасаться здесь и здесь свидетельствовать о своей вере, посильно нести свет православия своим зрителям, ведь вера не может быть чьим-то частным делом: это всеохватывающая стихия.
— А кто сейчас ваш духовный отец? Кто благословляет вас сейчас?
— Я задавал старцу Николаю вопрос о духовном отце: чувствовал, что мне нужно духовное руководство. А он сказал: «Зачем тебе духовник? Ты ходишь в церковь? Там есть батюшка? Вот у него и исповедуйся». И эти слова тоже показались мне необычно мудрыми. Духовник — это дар Божий. Это надо заслужить. А с другой стороны — по себе знаю — мы ищем такого духовника, который был бы удобен нам, чтобы не докучал моралью строгой, чтобы «слегка за шалости бранил», — этакого психоаналитика в рясе. А как только на исповеди батюшка начинает нас поучать, как тут же все в наших душах восстает. Иметь духовника — это сложно. До этого нужно дорасти.
— Влияет ли ваша вера на вашу работу? Ведь, наверное, взгляд на одну и ту же роль у человека верующего и у неверующего — различен? Вот хотя бы роль Бориса Годунова…
— Если бы я был неверующим, то я бы его просто не сыграл. И более того: мне бы и не дали такой роли. То есть не потому мне ее дали, что знали о моей вере, а вера произвела во мне такие изменения, что режиссер, глядя на меня, понял: эта роль для него. Чхеидзе сказал мне: «Валерий Михайлович, если вы возьметесь за Годунова, то я буду ставить этот спектакль, а если нет, то и спектакля не будет». Невозможно сыграть Бориса, не имея представления о том, что такое покаяние, — представления не книжного, а опытного. Пушкин для меня больше, чем просто любимый поэт, он — часть моей жизни, он помогал мне в трудные дни… И все же «Бориса Годунова» я в прежние времена читать не мог: не чувствовал дыхания этой трагедии — все терялось для меня за бутафорскими бородами и боярскими нарядами. Но после того разговора с режиссером случилось настоящее чудо: я сел за пьесу, прочел ее на одном дыхании, и вся она сразу для меня открылась — и боль грешной души Годунова, и ее раскаяние, и попытки оправдаться, и смиренное принятие кары Божией. Этот покаянный путь я теперь пытаюсь воспроизвести на сцене, это хочу донести до зрителя.
— С Пушкиным все более или менее понятно: православному он может сказать многое. Но как быть в других случаях? Как быть, например, с вашим спектаклем «Старик и море» по роману Хемингуэя? Произведение, написанное неправославным человеком о неправославном человеке… Есть ли тут возможность для христианской проповеди?
— Хемингуэй — это прежде всего писатель, обладавший огромным талантом, даром Божиим. А нередко случается такое, что дар Божий становится более значительным, чем его обладатель. Так и роман «Старик и море»: это творение, которое больше своего творца. Сам того не предполагая, Хемингуэй написал почти библейскую историю о том, как очень сильный, гордый человек вступает в единоборство — можно сказать, с Богом. Да, потому что и безбрежный океан, и огромная рыба, пойманная стариком, и акулы, которые съели эту рыбу, — все эти могучие стихии действуют в книге как десница Божия, а старик Сантьяго противостоит ей. В этой борьбе человек терпит сокрушительное поражение, теряет все, чего он достиг благодаря своей силе. И тут-то происходит удивительная вещь: катастрофа, пережитая Стариком, принимается им как награда. В своем поражении Сантьяго обретает силу веры, новый свет для души, чувствует прикосновение Божие, — то, вероятно, что чувствовал Иов на гноище или Иона в чреве китове. Играя Старика, не надо даже ничего придумывать от себя, нужно просто следовать автору, и это будет настоящей христианской проповедью.
— А вам хотелось бы действительно сыграть в какой-нибудь библейской истории? Скажем, в роли того же Иова или, допустим, царя Давида?
— В этом нет необходимости. Пусть Библия остается Библией, а возможности театральной проповеди обильно присутствуют в русской классике. Чехов, например: это просто сокровищница православной мудрости. Вспомните его знаменитое высказывание: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Посмотрите, как оно перекликается со словами Господними: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). Вспомните его «Чайку» — православному человеку понятно, что это история возрождения человеческой души, которая была соблазнена блеском, мишурой, но потерпела крушение на этом пути, — это история восхождения от юношеской мечтательности и гордыни к смирению и мудрости.
— А как быть православному артисту, если ему приходится играть злодеев? Отказываться от таких ролей?
— Иногда приходится и отказываться. Но, конечно, не всегда. Во-первых, театр — это все-таки производство, и какие-то вещи ты просто обязан делать в силу служебного долга. А во-вторых, нужно учитывать вот что: главный инструмент актера — это страсть. Страсть порождает грех — это знает всякий православный человек… Но я хочу напомнить: есть ведь еще и такое понятие, как страсть бесстрастная, оно тоже известно православным, это — высшая ступень на которую может взойти человеческая душа. Как подняться от страсти греховной к страсти бесстрастной? Давайте отвлечемся от театра, давайте вспомним великопостное «Стояние Марии Египетской». Невозможно прочувствовать до конца святость прп. Марии, глубину ее покаянного подвига, нельзя понять, как это она могла в молитве возлетать на воздух, если не знать прежде, что к святости она поднялась из самых бездн греха, если не помнить, что она была распутницей — и не по принуждению, не по нужде, а по добровольному выбору, по душевной склонности. Об этом, о ее распутстве прямо говорится во храмах перед скоплением верующих, и никто не боится об этом сказать, ибо только так мы сможем оценить высоту на которую она поднялась. Образы кающихся грешников есть в пьесах и классического, и современного репертуара. Но приходится иногда играть и грешников нераскаянных. Это очень тяжело. Актер всегда срастается со своим героем — взаимопроникновение тут очень глубокое. Когда я готовил моноспектакль по Достоевскому «Великий Инквизитор», я был на грани нервного срыва. Но я взял на себя этот труд, потому что, рассказывая о Великом Инквизиторе, Достоевский от противного доказывает нам Божественное величие Христовой веры. Помните, например, какой упрек Инквизитор бросает Спасителю: «Ты возжелал свободной любви человека… свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою…» Инквизитор обвиняет Христа, но в сущности он говорит правду: христианин обязан быть свободным и самостоятельным, чтобы каждую минуту свободно выбирать между добром и злом! Именно поэтому верить так трудно. И трудно бывает стоять в вере. Мне как артисту и как православному человеку приходится общаться с двумя кругами людей: с творческой и с церковной интеллигенцией. Трудно бывает и там, и там: нецерковные интеллигенты, хотя и похваляются своей терпимостью, но верующих людей просто не выносят, относятся к ним с плохо скрытой враждебностью… А наши недавно воцерковившиеся люди, едва лишь узнают, что ты артист, как сразу берут тебя на подозрение, — ты для них становишься человеком второго сорта, пропащей душой… И все же, вера — это счастье, и многие люди этого счастья лишены. Я понимаю теперь, почему старец говорил: «Какие вы счастливые, что в Бога веруете!» И еще я понял, что недостоин этой милости Божией. Порою просто чувствуешь неловкость, говоря: «Я — верующий!» — это такое огромное понятие, вера, что стыдно применять его к своей грешной душе… Но тем не менее иметь веру — это счастье, это милость Божия. И, осознав это, нужно делать следующий шаг: зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме (Мф. 5, 15). Надо свидетельствовать. Как? Мы все страстные люди. Как, не научившись смирению, проповедовать о смирении?.. Вот что самое трудное для меня: понять, в какой мере ты имеешь право учить людей. Мне кажется, что святые люди — это те, кто не на словах, а на деле овладели всем, чему они учат других. А мы… Но если я буду только сомневаться в себе, то как бы за эту нерешительность мне не пришлось отвечать больше, чем за грехи. Путь открыт, надо идти, а идущему Господь помогает.
* * *
Вот отрывки из беседы с другим замечательным артистом БДТ — ныне покойным Андреем Юрьевичем Толубеевым. Я не привожу её целиком, потому что оно во многом повторяет интервью с Валерием Ивченко.
4. «ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА СЦЕНУ КРЕЩУСЬ…»
— Андрей Юрьевич, случалось ли вам прежде играть такие роли, которые — и вы чувствовали это — отрицательно сказывались на вашей душе?
— Да, да! Сейчас я играю Арбенина в «Маскараде»… Видите, у меня свеча церковная горит на столе — я свечу эту держу специально для «Маскарада»: после каждого спектакля час-полтора прихожу в себя. Такое впечатление, что все во мне противится этой роли. Но поймите: я же не купаюсь в арбенинских страстях. Я считаю, что благодаря моей игре люди видят, какое зло приносит подобный эгоизм. Меня некоторые критики поругали за то, что я отношусь к Арбенину как к убийце, к негодяю. Помилуйте, да ведь он шулер, обманщик, отравитель! Моя христианская задача в этом спектакле — не оправдать его! Пусть зрителю не будет его жалко! Пусть зритель воспримет сумасшествие Арбенина, как Божье воздаяние и одновременно — как Божью милость к этому человеку… Психологически показать все это очень сложно…
Расскажу вам такой случай. Как-то раз, в тяжелые времена, к нам приехала делегация из какого-то совхоза: «Концертик не сделаете?» Почему не сделать? «Только нам платить нечем. У нас зверосовхоз, мы вам по шапке подарим». А у нас денег нет, чтобы такие шапки покупать, и мы с радостью согласились. Шапку эту я лет десять уже ношу. А теперь послушайте дальше… Вот вы говорите: плохая роль, плохой спектакль. Известно ли вам, что английские актеры из суеверия никогда не называют трагедию Шекспира «Макбет» прямо? Говорят не «Макбет», а «другая пьеса». Эта трагедия считается дурной, притягивающей зло: там есть чересчур глубокое проникновение в душу злодея. И вот, в те дни, когда в БДТ шел этот спектакль, у меня случались всевозможные несчастья. А ведь я играю даже не самого кровопийцу Макбета, а его друга, Банко, которого он же и убивает. Но каждый раз во время спектакля у меня случалось что-то ужасное: мать заболевала, в реанимации лежала… Она и умерла в день «Макбета», и на девятый день я играл в «Макбете», и на сороковой день, и в годовщину смерти… Проходит еще год — мы с женой ночью возвращаемся после «Макбета» домой. 22 декабря это было; теперь отмечаю этот день, как новый день рождения. Вхожу в подворотню и слышу, кто-то дышит у меня за спиной… Думал, сосед. Я оборачиваюсь, хочу сказать: «Сережа, что ты пугаешь меня!..» И вдруг — страшный удар по голове железной трубой! Смертельный удар. Наркоман какой-то подкараулил меня. А жив я остался благодаря моей шапке из зверосовхоза. У нее одно ухо не очень хорошо привязано: труба и скользнула по этому уху. Потом я трубу-то отнял, погнался за ним, но он убежал. Вот вам: с одной стороны, дурная пьеса, а с другой стороны, честным трудом заработанная шапка — какая удивительная связь! А что до «Макбета», то лучше бы нам его не ставить. На этой пьесе умер Владислав Стржельчик, психически надорвался Михаил Волков и еще один артист… Так или иначе пострадало человек десять, а то и более — не все же открываются в своих бедах.
— А бывало ли, чтобы роль приносила в душу что-то светлое?
— У нас есть такой спектакль «Арт»… Пьеса о том, как люди решили не предавать свою дружбу. Вначале герои ссорятся из-за пустяка: одному не понравилась картина, которую купил другой… Дело идет к разрыву… Но в конце концов они выбирают дружбу и не предают друг друга. Ну чем не хороша идея? И зал огромное удовольствие получает, и нам приятно играть. Самому строгому христианину можно ее смотреть: там ничего скверного нет, хотя пьеса и иностранная. Потом — «Лес» Островского. В финале там грустно, но это такая светлая грусть!.. И много зла кругом, а герои — ну да, могут подраться, могут порой слукавить, но они остаются единственными порядочными людьми среди тех, кто населяет это «лес», кому деньги дороже жизни. Добро все равно побеждает.
— Вы с самого рождения жили в театральной среде. Расскажите, пожалуйста, что такое мир актера изнутри, в частной жизни. Какие типические душевные черты ему присущи?
— Я коротко могу сказать: все домыслы об актерской распущенности — чистой воды ложь. У нас всего этого меньше, чем в других слоях общества. Стадо не без паршивой овцы, но сплоченность людей театра, их способность помогать друг другу не меньше, а порой даже больше, чем где-либо. Люди театра, к сожалению, вынуждены все время подрабатывать, у них и времени нет распускаться! Некогда! Не до того. Чем больше играешь в театре, тем меньше зарабатываешь, и нужно подрабатывать, чтобы прокормить семью. И средств нет на беспробудное пьянство. Содержать любовниц? Это привелегия денежного класса. А нам каким порокам предаваться? Напиваться? Тогда и на сцену не выпустят, сразу потеряешь квалификацию. Другое дело, когда работы нет: иной раз артист от этого запивает. Но, если уж запил — то все, он пропал, вылетел из обоймы. И не надо приводить примеры из жизни великих советских артистов: тогда ведь и времена были особые — безбожные. Наши артисты — Николай Симонов, например, — вынуждены были играть Бог знает что; тут запьешь! Душе-то некуда деться: церковь закрыта, молиться нельзя… Но, с другой стороны, когда развалился Союз, сколько отличных артистов погибло!.. Владимир Ивашов, например, — помните «Балладу о солдате»?… Только что пришла весть с Украины: Бронислав Брондуков умер. Он семь лет лежал парализованный после нескольких инфарктов… Тоже православный был человек. Нет работы на Украине! Жил бы в России, был бы востребован, и здоровье бы сберег. Светлый человек, Царство ему небесное! Словом, уверяю: порядочных людей среди нас не меньше, чем где-либо.
— Мне приходилось слышать, что среди актеров даже в советские времена было немало верующих людей: кто-то заказывал молебен перед премьерой, кто-то молился перед выходом на сцену…
— Это правда. Мой отец, народный артист СССР Юрий Владимирович Толубеев, был верующим человеком. Конечно, в то время он это скрывал, но все-таки не побоялся отпевать бабушку в Никольском соборе. Ох, как это ему потом поминали… Он не стеснялся перекреститься, хотя и не делал это напоказ. Перед выходом на сцену — всегда крестился. Я — тоже. Не сразу стал так поступать, но лет пять поработал в театре, хлебнул всякого и понял, что отец не зря так делал… Не умею объяснить, что дает мне крестное знамение на сцене… Как минимум, помогает сосредоточиться, но это, разумеется, не все… И опять вспомню о «Маскараде»: благодаря этому спектаклю я чаще стал разговаривать с Богом. Вот-вот занавес поднимется, а я молитву твержу. Я считаю себя человеком, брошенным в мир страстей. Следовательно, я должен выбираться, это мой долг. Я должен выбраться сам и чему-то научить людей, указать, где Добро, а где зло. Господь возложил на меня эту миссию.
* * *
Театр театром, а «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Золотые слова!.. Те актёры, с которыми мне довелось беседовать, были людьми по большей части театральными, и о кинематографе говорили несколько снисходительно. Поэтому не взыщите: о кино я буду говорить не с чужих слов, но от первого лица. Вот две заметки, написанные «к очередной дате».
5. НЕРУССКОЕ СЛОВО «КИНО»
Сто лет русскому кинематографу. Сто лет с тех пор, как на киноэкране впервые появились русские люди. Загримированные на скорую руку, играющие так, что их освистали бы и в самой глухой провинции, — но это всё пустяки, это всё простительно, лиха беда начало… Главное, что первая русская кинокартина была посвящена именно русской теме и называлась «Стенька Разин бросает в Волгу персидскую княжну». Тут тебе и русская история, и русский фольклор, и русский характер… Поистине, начало национального кинематографа!..
И казалось бы: Россия дала миру великую литературу, великую музыку, великую (хоть и не оценённую в полной мере) живопись — почему бы не дать ей и великий кинематограф? Однако…
В литературе — Пушкин, Толстой, Достоевский; в музыке — Чайковский, Рахманинов, Мусоргский; в живописи — Суриков, Репин… А в кино — кто? Кто хоть чуть-чуть приближается по своему значению к этим великанам? Увы, увы… Или — останемся в границах кинематографа: где в России режиссёры, равные Феллини, Карнэ, Бергману? Нету таких! И близко никто не стоял из наших киношников к настоящему-то кино: никто не копал так глубоко, как Бергман, никто не блистал такой роскошной фантазией, как Феллини, и не было у нас таких кинопоэтов, как Марсель Карнэ.
Я сейчас не буду подробно разбирать наших корифеев: Эйзенштейна, Довженко, Тарковского и др. Просто советую читателям: посмотрите беспристрастно эйзенштейновского «Ивана Грозного», а потом — «Нибелунгов» Фрица Ланга; сначала — «Зеркало» Тарковского, а потом — «Земляничную поляну» Бергмана, и вам всё сразу станет ясно. С одной стороны — напыщенность и претенциозность, а с другой — тонкость, глубина, творческое бесстрашие.
Только, пожалуйста, не сочтите эти рассуждения признаком русофобии: мол, только за границей всё хорошо, а у нас… Как раз русофобии-то здесь и нет. Нет, как нет на свете и русского кино. Было кино советское, есть кино российское — русского не было никогда. В этом-то вся и беда. Едва начавшись, оно прекратилось, было задушено в колыбели революцией. Когда говорят о том ущербе, который принесли большевики русской культуре, нужно вспоминать не только разрушенное прошлое, но и несостоявшееся будущее — национальный кинематограф, например.
Советская кинопродукция 20-х годов удивительно напоминает сегодняшние фильмы: та же интернациональная безвоздушность, та же погоня за Голливудом (причём даже не под лозунгом «Догнать и перегнать!», а так — петушком, петушком, хоть чуть-чуть бы приблизиться…) Посмотрите «Аэлиту» Протазанова, посмотрите «Удивительные приключения мистера Веста в стране большевиков» Кулешова (и так далее и так далее) — ощущение одно: зрелище жалкое и отвратительное.
Советское кино задышало только тогда, когда стало ясно: в России нужно говорить по-русски и для русских. Появился «Чапаев». Когда сейчас смотришь этот фильм, забываешь о том, что речь идёт о красном командире: с экрана на тебя смотрит национальный герой. Русский герой. Гражданская война дала много таких — по все стороны всех баррикад: красный Чапаев, белый Туркул, зелёный Махно, или Шкуро, или Котовский… Дело не в цветах. Чапаев из фильма дрался не за «Манифест Коммунистической партии» (он сам не знал, за большевиков воюет или за коммунистов), а просто по-русски — за счастье всех людей на всей земле…
И после «Чапаева» дело пошло веселее. Кинематограф начал поворачиваться лицом к нации, к народу, вспомнил, что у народа есть свои идеалы, свои мечты, свои любимцы в родной истории, свои враги — в прошлом и настоящем… Вчерашние интернационалисты учились казаться русскими. Если в 20-х годах Эйзенштейн показывал, как русские солдаты стреляют в детей и женщин («Броненосец «Потёмкин»), как русские городовые швыряют младенцев из окна («Стачка»), то в «Александре Невском» младенцев в костёр швыряли уже немецкие псы-рыцари, а русское войско было силой в целом положительной. И не важно, что св. блгв. Александр Невский в фильме ни разу креста на лоб не положил, — всё-таки некий прогресс был налицо. Не важно, что русские парни в народных комедиях Пырьева говорили несколько по-одесски, — с этим можно было смириться, главное, что темой для кинематографа стало не безвоздушное интернациональное пространство, а всё-таки Россия.
Но беда в том, что взгляд на Россию остался взглядом со стороны, взглядом далеко не всегда сочувственным, любящим и просто понимающим. Снимали не Россию, снимали русскую экзотику — лубок или карикатуру. Кажется, только Шукшин был тут исключением, но он один со всей своей гениальностью не мог стать целым кинематографом. Явления не возникло.
Вся махина советского кино держалась на приказе, на цензуре: снимали не потому, что хочется, а потому, что это заказано свыше, — и так, как заказано свыше. Постоянно старались надуть заказчика: снимали будто бы про то, что требуется, а на самом-то деле… Понятно, что когда перестали поступать приказы и указания, исчезло и кино: никто не знал, про что теперь снимать и как. С поразительной быстротой недавние корифеи растеряли элементарный профессиональный опыт и начали создавать такие беспомощные поделки, что зритель невольно спрашивал: «Да кто же раньше за них снимал?»
Сможет ли российское кино подняться хотя бы до советского уровня? Сможет, если станет национальным. Сможет ли оно стать таковым? Фильм — не стихотворение и не картина: его в одиночку за вечер не создашь. Кино без государственной поддержки существовать просто не может. Так вот: будет государство — будет и кино. Будет Россия — будет и русский кинематограф, возникнет наконец через сто лет после выхода в свет первого русского фильма.
* * *
Резко сказано! Что называется — «в полемическом задоре»… Однако, задор задором, а от слов своих я не отказываюсь, — для всех же поклонников отечественного кинематографа могу предложить заметку, которая призвана слегка подсластить пилюлю.
6. ПОГЛЯДИМ, КАКОЙ ЭТО СУХОВ…
В 2009 году фильму «Белое солнце пустыни» исполняется 40 лет.
Кажется, не самая знаменательная дата для православной газеты… Но как-то не хочется обойти её молчанием: всё-таки сорок лет наш народ живёт с этим фильмом душа в душу, — а такое, в сущности, не так-то часто случается. К примеру, фильмы 30-х годов через сорок лет, то есть в 70-е годы, выглядели безнадёжно устаревшими: стилистика не та, проблемы не те, игра не устраивает, режиссура не дотягивает — и т. д. и т. п.
А «Белое солнце…», снятое в 1969 г., почему-то не кажется устаревшим в 2009-м.
Почему-то современный зритель — даже православный — находит в этом фильме нечто злободневное. Что?
Во-первых, конечно, тема «братских народов Востока». Сегодня, когда эти братские народы всех нас… как бы это выразиться помягче… утомили, приятно смотреть на людей, решающих «восточный вопрос» чётко, твёрдо, решительно, и притом, как ни странно, милосердно. И главное, по-хозяйски. Ибо русский солдат товарищ Сухов ведёт себя на Востоке как хозяин, — не самодур, нет, а именно рачительный, заботливый хозяин. И Восток охотно откликается на это доброе хозяйское отношение (Саид, Гюльчатай). А кто не откликается (Абдулла), тот получает достойное (не жестокое, а именно достойное, по делам) наказание.
Право, по этому фильму можно писать учебник об основных принципах национальной политики в православном государстве. Никакой политкорректности (ведь Абдулла не нарушал свои, мусульманские законы, он нарушил наш, русский закон, за что и был наказан). Но и никакой жестокости, ничего хотя бы отдалённо напоминающего геноцид.
Второе, что привлекает в «Белом солнце», так это то, что другого такого гимна русской великодержавности вы в советском кино не сыщете. Боец Красной Армии Сухов и царский таможенник, верноподданный службист Верещагин, нимало не споря об идеологии, встают плечом к плечу против взбунтовавшихся азиатских орд, ибо эта опасность выше идеологии. Страх за судьбу России перекрывает все разногласия — но, между прочим, Сухов с Верещагиным в фильме не особенно и озабочены тем, что стоят «по разные стороны баррикад» (что, конечно, для советского кино факт беспримерный): Верещагину за державу обидно, и Сухову, конечно, тоже, — и обиду свою они не таят, не лелеют в душе, не страдают молча по своим углам, а действуют.
Что ещё ценного есть в фильме? Образ сильного русского человека. Как любят русских рисовать Обломовыми!.. (Причём Обломов — это ещё не худшее…) И вот товарищ Сухов: человек в каждом жесте свой, русский, родной, и в каждом движении сильный, уверенный, умелый. Конечно, нужно в ножки поклониться Николаю Кузнецову за Сухова: не будем грешить, показать сильного русского человека кино пыталось не раз и не два, но как часто получалось что-то фанерное, в одну краску крашенное, — а тут живой, узнаваемый, обаятельный человек.
Как узнаваем и злодей Абдулла, выряженный в английский (ну, а как же иначе!) френч: в нём все будущие «полевые командиры», все дудаевы и басаевы, с их страстью к эффектам, с жалким самолюбованием, с павлиньей напыщенностью и скорпионьей злобой! И даже тот факт, что играет этого среднеазиатского упыря грузин (Кахи Кавсадзе), тоже смотрится в наши дни как некое пророчество. И то, что припёртый к стене Сухов его всё-таки порешил, — в этом тоже не без пророчества, но всему своё время.
…И совершенно явно, что в успехе фильма режиссёр Владимир Мотыль не повинен ни на йоту. Это было случайное попадание: с завязанными глазами в десятку. Вы согласитесь со мной, если вспомните предыдущий фильм Мотыля («Женя, Женечка и «Катюша») и последующий («Звезда пленительного счастья»), а больше он ничего толкового и не снял. «Женя, Женечка…» — фильм до такой степени нерусский, что даже страшно: немцы в нём — нордические, трагические герои, а русские — свора недоумков, простофиль и грубиянов. О «Звезде пленительного счастья» и говорить не стоит: на нём зевали даже те, кто боготворит декабристов. Нет, совершенно очевидно, что «Белое солнце…» Мотыль снял как-то нечаянно, неосознанно, «не от себя»…
И сколько было снято за советские годы всевозможных революционных боевиков — получше и похуже! Сколько шуму они в своё время вызывали!.. Но посмотрите сейчас хоть тех же «Неуловимых мстителей»… Местами скулы сводит от отвращения и негодования! И везде, везде так: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Рождённая революцией», «Трактир на Пятницкой» — это я только лучшие перечисляю, — и в каждом есть что-то такое, с чем смиряться никак не хочется.
Только «Белое солнце пустыни» по-прежнему сияет в зените и не собирается скрываться за горизонтом. Видимо, потому, что в нём говорится не о революции, а о России, не о красных и белых, а просто о русских людях. Не о русских страдальцах, не об униженных и оскорблённых, не о сусальных мужичках-всепрощенцах — о хозяевах своей (именно своей!) земли, о тех, кто с чистой душой крепкими руками строил и будет строить впредь Русскую империю.
* * *
…И снова об артистах БДТ. О Кирилле Лаврове. О моей с ним встрече. И о том, почему она не состоялась.
7. МОЛИСЬ И РАДУЙСЯ!
Собирались мы в нашей редакции взять интервью у замечательного русского артиста Кирилла Юрьевича Лаврова, собирались… Всё как-то откладывали, всё срочные дела одолевали, а то и дозвониться не могли… Думали — успеется.
И однажды узнали, что — всё, не успелось.
Оно конечно, наше скромное интервью не добавило бы славы Кириллу Юрьевичу, а всё-таки осталось ощущение неисполненного обещания, даже невыполненного долга. Да, долга, потому что это и есть наш долг — давать читателю возможность снова и снова встречаться с замечательными русскими людьми, беседовать с ними заочно, учиться у них…
И вот, чтобы как-то загладить невольную вину, мы решили поговорить о Кирилле Лаврове с его дочерью Марией.
Мария Кирилловна Лаврова— сама человек отнюдь не заурядный. Заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, — да просто очень хорошая, любимая зрителем актриса любимого театра — БДТ. Многим помнится её Антигона, её Хана Джарвис, её Аня из чеховского «Вишнёвого сада»… О ней и о самой рассказать было бы очень интересно — интересно именно для нашего православного читателя, ведь Мария Лаврова, помимо всего прочего, — верующий человек, постоянная прихожанка храма на Серафимовском кладбище, духовная дочь покойного о. Василия Ермакова… И хотя главная тема нашей беседы — Кирилл Юрьевич, пусть прозвучит хотя бы несколько слов о нашей собеседнице — в надежде, что когда-нибудь мы продолжим этот разговор.
— Мне все говорили: вот Мария Лаврова — вот это православный человек, вот с ней бы вам и надо поговорить…
— Так вам сказали? Кто? В театре? Ну, я не знаю… Что же — я самая православная в театре? — ну, это вряд ли. Мы там все православные, только не каждый из нас об этом догадывается. Это они имели в виду, что я в церковь хожу… Так это объясняется очень просто: у меня мама была верующая, и она мне какие-то азы веры внушала. Что-то самое простое. Вот, например, в детстве, на даче… Ночь. Дом большой, деревянный, — скрипы какие-то, стоны; я лежу в кровати и трясусь от страха: сейчас какое-нибудь чудовище из-под кровати вылезет! Мама придёт на ночь меня поцеловать, я ей говорю: «Мама! Как страшно!» — а она мне: «Ты просто перекрестись — и всё!» И сама крестилась, и я всегда крестилась вслед за нею. Иногда даже говорила: «Помолись!» Эти крестные знамения, эти молитвы на ночь — первое, что я помню из детства. Но вообще-то сказать, что мама была воцерковлённым человеком, нельзя. Так получилось, что я сама воцерковляла её, — но это было намного позже… И крестилась я уже в 16 лет. Ещё советская власть была в полной силе… В Князь-Владимире меня крестили, и крёстная у меня была замечательная: она помогала мне по-настоящему к вере приходить; думаю, что и сейчас таких крёстных по пальцам пересчитать, тех, кто не в шутку интересуется судьбой своего крестника. Она же водила меня на причастие — первый раз в моей жизни; она же и венчание моё устроила и оплатила — это был её подарок мне на свадьбу… Она же и родителей моих к церкви приучала: водила их как-то на Пасхальную службу в Князь-Владимир. Светлый-то праздник у нас в семье всегда отмечали по-домашнему: мама пасху готовила, куличи пекла — это я с самого детства помню. А с той службы папа с мамой вернулись такие светлые, приподнятые…
— Вот интересно: ведь Кирилл Юрьевич был коммунистом, и убеждённым коммунистом… Даже на съезды партии его выбирали делегатом… А вы говорите — Пасхальная служба, дочь крещёная… Как же это совместить?
— Не так трудно, как вам кажется. Во-первых, он был крещёным: ещё в детстве его крестили на Леушинском подворье. Во-вторых, он был очень светлым человеком. Он и в коммунизме хотел видеть одну светлую сторону: стремление к народному благу, ко всеобщему счастью, любовь к Родине… Он ведь вступил в партию во время войны, на том патриотическом подъёме, когда слово «коммунист» было равнозначно слову «патриот, защитник Отечества». В этом — вся его партийность. Он не врал, не фальшивил, он всё делал очень искренне и очень серьёзно, ответственно. Вы знаете, когда он вышел из партии? Во время путча — но не в конце его, когда все начали демонстративно рвать свои партбилеты, — нет, в самый его первый день, когда ещё совершенно не ясно было, чем всё это закончится. Сел и написал заявление о выходе из партии. А потом стало понятно, что путч провалился, — и он своё заявление не стал никуда относить. Оставил у себя. Так оно до сих пор у меня и хранится. Но членские взносы папа больше не платил и членом партии себя не считал. Так вот то, что он был светлым, тянущимся ко всему доброму человеком, — это изнутри его и подталкивало к Богу… Хотя церковным он так и не стал. Ему очень хотелось верить. И он верил по-своему, он молился… Но трудно ему было. И поэтому я старалась ему всячески помочь, облегчить путь к Богу. У него же и иконы в комнате были — от бабушки к нему перешли: иконка Николая Чудотворца, например, — её моя прапрабабушка надела своему мужу, когда его посылали служить на Кавказ; и икона Серафима Саровского, освящённая на мощах в тот самый день, когда преподобного канонизировали… Отец очень дорожил ими, и не только потому, что это наши семейные реликвии. Но он никогда не лукавил и хотел ко всему всегда относиться честно, и если видел, что какие-то батюшки что-то делают нехорошо, то его это до глубины души возмущало. Я говорила: «Папа, но это же люди, чего ты от них требуешь? Они же не ангелы!» А он: «Нет! Как они могут? Они же Богу должны служить!» Такая категоричность тоже мешала ему прийти в храм…
— Мне, как зрителю, кажется, он очень хорошо чувствовал дух Православия. Я вспоминаю фильм «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева: он сегодня кажется довольно поверхностным, плохо раскрывающим замысел Достоевского… Но ведь Пырьев скончался, не завершив фильма, третью серию снимали артисты — Кирилл Лавров и Михаил Ульянов; и мне думается, что эта третья серия намного ближе к Достоевскому. Да и сама роль Кирилла Юрьевича (он играет Ивана Карамазова) говорит о его глубоком понимании романа.
— Тут я, извините, ничего не могу сказать. «Братья Карамазовы» снимались, когда я ещё маленькая была, а предаваться воспоминаниям о своих прежних работах отец не любил. Он не стремился к тому, чтобы оставить неизгладимый след в истории России — он об этом совсем не думал. Жил сегодняшним днём. Не было у него и желания написать какие-то мудрые мемуары — это настолько претило ему!
— Но вы не считаете, что он мог бы стать хорошим режиссёром?
— Он?! Нет, ни в коем случае. Он просто не видел себя в этом. И не хотел этим заниматься. Совершенно не хотел. Он и от обязанностей худрука театра уставал страшно… Случалось даже, что жаловался на свою судьбу Виктору Астафьеву…
— Писателю?
— Ну да, они же были дружны, переписывались постоянно. Отец любил его книги и самого писателя очень уважал. В последние годы жизни у них по-настоящему духовная связь была… И как-то папа пожаловался Астафьеву на усталость: мол, хочет всё бросить, отдохнуть. А Астафьев ему ответил — как сейчас помню: «Нет уж, оставайся худруком! Куда же ты денешь эту свою крестягу?»
— В какой степени он повлиял на вас в выборе профессии?
— Да ни в какой. И в то же время — на все сто процентов. Просто я выросла в актёрской семье, у меня и мыслей никаких не было о другой профессии. Все разговоры за семейным столом — о театре, как там в театре, что репетировать, что играть, кто как сыграл… Поэтому я настолько во всё это вросла, что ни о чём ином и подумать не могла.
— Но он как-то вас учил? Что-то подсказывал?
— Вы знаете, у него ведь не было актёрского образования, и он просто себя считал не вправе давать советы. Вот мама — да. Мама закончила школу-студию МХАТа, он её уважал и считал образованным человеком. И вообще папа был очень осторожен в советах: он знал, что это палка о двух концах и что иной самый добрый и умный совет может всё совершенно испортить. Иногда и для дела, и для души полезнее самому набить себе шишку, чем последовать чьим-то благим указаниям. И хвалил меня отец не часто: как-то это было у нас не принято. В крайнем случае мог передать чьё-то мнение: «Я видел такого-то, он сказал, что ты замечательно играла!»
— Какое из воспоминаний об отце вам наиболее дорого?
Мария Кирилловна задумалась, что-то блеснуло у неё в глазах, и губы уже шевельнулись — но вдруг упрямо тряхнула головой:
— Есть такое воспоминание, но я его вам не расскажу!
— Ну, тогда не самое дорогое!
— Не самое… Всё, конечно, дорого… Начнём с того, что папа всегда был очень занят, его никогда дома не было. Поэтому когда папа появлялся — это праздник, это счастье! Я, маленькая, его поджидала, и когда он приходил домой, дёргала его за штанину: «Папа, снимай брюки! Снимай брюки!» — если переоденется в домашнее, значит, уже никуда не уйдёт. И я всё думала: вот бы папа вышел на пенсию, жил бы на даче!.. И сам он всё время говорил: «Как я хочу пожить на даче, чтобы никаких дел, никаких проблем!» А на дачу приезжал — дня три-четыре находил, чем заняться, что-то починить, что-то смастерить, — и вскоре: «Мне надо в город! У меня совершенно неотложное дело! Ах, как жалко, как жалко, что надо уезжать!..» Он был очень деятельный человек; очень любил людей — общение с людьми. Вообще он был — весь для людей, а для себя — это не главное. Семью, конечно, он обожал — и меня, и брата, и маму, но основная страсть — люди, общественная деятельность. Ему обязательно нужно было кому-то помогать — это, мне кажется, у него просто физическая потребность была. Не то чтобы он делал какие-то благодеяния свысока, а жил этим, этим дышал.
Он и дома не мог на месте усидеть: ему нужно было куда-то ехать, кататься, гулять за городом… У нас, например, был обычай — осенью непременно побродить по Царскому Селу. На машине очень много мы ездили — в Прибалтику, ещё куда-то… Вообще он был заядлый автомобилист с огромным стажем. Когда они с мамой приехали из Киева (они познакомились в Киеве, в Театре им. Леси Украинки), он был молодой актёр, но уже имел собственный «Москвич», который они купили, экономя на всём, — ели одни макароны целый год. В последнее время у него был «Мерседес» — не новый, не модный, подержанный, — но он его очень любил.
Он никогда меня не отчитывал, никогда не занудничал. Никогда не говорил: это, мол, хорошо, а это плохо. Но мы всегда всё сами понимали, потому что видели, как он живёт, по каким законам…
Вот что я помню… Понимаете: может быть, прошло не так много времени со дня его кончины, и у меня ещё нет того, что называется воспоминаниями. Он ещё живой для меня — вот в чём дело! Я надеюсь, что это чувство будет продолжаться долго. И мама моя ещё жива для меня, хотя мне в первые годы очень её не хватало — просто до болезни. Но она жива. И моё собственное детство — оно живое, оно ещё длится где-то там, невдалеке… А воспоминания — это дань смерти. Их у меня нет. Папа сейчас не рядом со мной — да, это так. Но его и раньше часто не бывало, так что, может быть, ничего и не изменилось. Он где-то близко, в своё время мы с ним увидимся. Мы же все здесь гости. Когда-то я поеду к папе обратно. Обратно! Домой поеду, к маме с папой. А пока — я здесь, они там.
— Простите меня за этот вопрос… Как он умирал?
— У него была очень тяжёлая болезнь — лейкоз, острый лейкоз. Он был мужественным человеком. Не любил больниц, поэтому после того, как его выписали, ни за что не хотел обратно в больницу возвращаться. Вернулся всё же, когда совсем плохо стало, но в ту же ночь и умер. У него приступы какие-то были — никто не понимал, что за приступы, — два он перенёс, а из третьего так и не вышел. Но между обострениями, когда отступала эта боль, папа был удивительно спокоен, лёгок, светел. Весь он был очень спокойный, совсем готовый к новой жизни. Особенно в последние сутки. А когда его в Леушинское подворье привезли на отпевание, тут вообще… Трудно передать… Это были Пасхальные дни, и он там лежал, и такой был свет, такая торжественность, приподнятость… Даже радость — настоящая Пасхальная радость. Кто не верит, тот этого не поймёт, наверное… Что-то подобное было, когда отца Василия Ермакова, моего духовника, хоронили. Он для меня тоже жив. Приходишь к нему на могилку, посидишь там — и словно пообщался с батюшкой, что-то в голове и на сердце прояснилось. Однажды отец Василий подарил мне свою книгу и написал на ней только: «Молись и радуйся!» Вот такое завещание духовное. Молись и будь счастлива. С тем и живу.
* * *
Вот интервью, за которое меня не погладили по головке — и меня, и всю нашу редакцию («не тот герой, не наш человек»). А мне оно нравится, нравится намного больше чем десятки иных моих «правоверных» материалов…
8. «…НО ВЕЧНО ТВОРИТ БЛАГО»
Возможно, это дело субъективное, но мне Олег Басилашвили всегда представлялся самым демоническим из наших артистов. Кого бы он ни играл — почти всегда в глазах у его героев светится некий нехороший огонёк, этакая инфернальная искорка… Порою даже в положительных… Хочу сразу уточнить: говорю о героях, не об артисте. Сам Олег Валерианович нимало не показался мне демонической личностью. Мы сидели с ним в его гримёрке в БДТ, и на моих глазах этот — уже весьма не молодой и, судя по всему, не блещущий здоровьем человек — с каждой минутой наполнялся непонятной силой, одушевлялся всё больше и больше, преображался, молодел. Очень сожалею, что на словах не объяснить, не показать его превращений, и не увидит читатель, как, рассказывая о своей новой роли, о великом физике Нильсе Боре, артист всего лишь нагибает голову, бросает взгляд исподлобья — и передо мной встаёт Нильс Бор собственной персоной; как, переводя разговор от физиков к их теориям и говоря о Большом взрыве, Басилашвили показывает этот взрыв руками — всего лишь кончиками пальцев, — мимолётный жест в потоке разговора — и вот передо мной убедительная картина расширяющейся Вселенной. Артист — ничего не скажешь — играет лучше, убедительней, глубже, чем говорит… Однако и говорит вещи порой удивительные. Я пытаюсь расспросить Олега Валериановича о его злодеях, о Воланде, например, воплощении зла, и слышу в ответ:
— А почему вы думаете, что Воланд — это сатана?
— А кто же ещё?
— Ну да, конечно, все так думают!.. С диаконом Кураевым я долго говорил — он тоже: «Сатана, сатана…» — а ведь умный вроде бы человек!.. Да ведь если Воланд — чёрт, то тогда Иешуа Га-Ноцри — Христос! А? Как вы считаете? Вам булгаковский Иешуа кажется похожим на Христа?
— Нет, конечно…
— Конечно, нет! Какой он Христос? Безруков превосходно сыграл Га-Ноцри, а ведь Христа сыграть невозможно. Играют, конечно, но что в том толку? Разве вы пошли бы, бросив всё, за этими экранными героями? А ведь за Христом люди шли, бросив рыбацкие сети, и сундуки с деньгами, и книги с древней мудростью… Итак, Иешуа — не Христос, а значит, и Воланд к нечистой силе никакого отношения не имеет.
— А к кому же имеет?
— А ни к кому. Он — третья сторона. Нейтральный герой. Я не хочу сказать, что такая сила действительно существует. Конечно, не существует, — нет её, это всё Булгаков выдумал. Но я и играл то, что написано у Булгакова, а не то, что думает Андрей Кураев. Воланд — он то, о чём Гёте сказал: «Часть той силы, что вечно хочет зла, творит же вечно благо». А когда это нечисть творила благо? Посмотрите: первое появление Воланда в романе — встреча на Патриарших прудах, — чем оно закончилось? Берлиоз, бездушный атеист, — был сурово наказан, а талантливый, но сбитый с толку поэт Бездомный начал понемногу обращаться к Богу. Разве это сатанинское дело? Нет. И так далее, по всему тексту романа: стараниями Воланда зло наказывается, добро побеждает. Вот я и пытался сыграть некое существо без всяких там рогов и копыт: человека, — этакого, знаете, Набокова, вернувшегося в Россию, но обладающего некой силой, которой другие люди не обладают. Это же роман, то есть выдумка Булгакова, — от начала до конца. Диакон же Кураев считает, видимо, что всё это происходило на самом деле…
— Да, в вашем Воланде, на удивление, нет ничего демонического… А всё-таки согласитесь, Олег Валерианович: по крайней мере два раза в жизни вы играли настоящих чертей!..
Басилашвили удивлён, заинтригован:
— Это когда же? Что-то не помню.
— Первая роль: Джингль в спектакле «Пиквикский клуб»: омерзительный, перекошенный, трясущийся от желания устроить пакость — не человек, а воплощённая подлость…
— Ах, этот!.. Это никакой не чёрт!.. Ну что вы! Нет! (Басилашвили задумывается на секунду, вспоминает когда-то созданный образ и вдруг неуловимо преображается — и словно кто-то третий появляется в комнате…) Хе-хе-хе!.. Это просто-напросто аферист, который работал в театре актёром… Театр сгорел, денег нет ни хрена, надо как-то жить, вот он и обманывает честных людей.
Однако от этого мгновенного преображения мне делается как-то не по себе…
— А вот вторая роль: Хлестаков в товстоноговском «Ревизоре»…
Если вспоминать сейчас впечатления от этого давнего спектакля, то вот что приходит на память: в компанию приличных в общем-то людей, серьёзных чиновников вдруг втирается некое существо: безвозрастный, бесполый, почти бесплотный бес-Хлестаков, крутится между ними, морочит их, доводит их до безумия, до кондрашки, и под конец испаряется, проваливается в тартарары…
— Вы это так восприняли? — удивляется Басилашвили. — Не знаю, я со стороны не видел… Но я играл не беса, нет. Я играл марионетку, человека пустейшего, без царя в голове. Знаете, как великий русский актёр Михаил Чехов учил: играешь персонажа — ищи, где у него центр тяжести. У одного центр тяжести в голове, у другого — в груди, в сердце, у кого-то — в животе… А у Хлестакова, по моей мысли, центра тяжести вовсе нет. Или он есть — но, как у марионетки, где-то в стороне, вне его самого. Он вот так движется: голова пошла в одну сторону, нога в другую, рука в третью, потом нога вот так, голова вот этак — полный хаос движений. И такой же хаос стремлений: «У меня министры в приёмной ждут! — тут же: — Ах, интересная женщина! — моментально к ней; тут же: — Да, книги пишу, пишу!.. — тут же: — Дай-ка 25 рублей взаймы! — тут же: — О, зажигалочка, смотри-ка, огонь! Да ну её!.. — Ба, книги буду читать! — Да ну их, какая тоска!..» — и так далее. Вот это Хлестаков. Это именно то, что Гоголь имел в виду. Хлестаковым руководит нечто помимо его сознания. А вот что именно им руководит — это другое дело, с этим надо разобраться…
И снова с нами в комнате кто-то третий — на этот раз Хлестаков: он порхает по комнате, крутится, вертится, кривляется… Артист остаётся в стороне от сыгранного им героя, не перевоплощается, но показывает нам его со стороны, порождает его, если можно так выразиться… Да, видимо, Басилашвили играет именно то, что имел в виду Гоголь… Но тогда следует признать, что и Гоголь имел в виду не человека, а некое странное существо в человеческом образе…
— Перевоплощаться мне приходилось, — говорит Олег Валерианович, — пусть не часто, но приходилось. Однажды, играя в «Дяде Ване», поймал себя на странном ощущении: я смотрю на происходящее на сцене не своими глазами, а глазами героя. Словно кто-то из меня смотрит. Но это, повторяю, не часто бывает. Гораздо чаще я отстраняюсь от своего героя: вот он я, а вот мой персонаж — и между нами ничего общего нет. Так легче показать своё отношение к персонажу и зрителя заразить этим моим отношением. В этом долг артиста перед зрителем. Артист — не священник и не пифия какая-нибудь, чтобы изрекать божественные истины, но свою меру ответственности перед зрителем он понимать должен. Меру нравственной ответственности… Мы не должны своим искусством звать зрителя туда, куда не следует. Потому мне глубоко противен тот артист, который — помните? — играл в рекламе Лёню Голубкова, звал вкладывать деньги в МММ. Это преступление, когда артист зовёт народ на заведомую ложь. Как возможна такая дискредитация нашего цеха?
— Ну, он-то, наверное, не знал, что это ложь.
— А соображать надо! Хоть чуть-чуть. Надо книжки читать — Гайдара, Ленина, Сталина, кого угодно, но надо соображать, что происходит в мире. Человек — это существо высочайшей организации, который обязан думать о стране, о семье, о ближнем, пытаться делать добро или хотя бы не делать зла, а если уж делаешь зло, то по крайней мере чувствовать угрызения совести. Здесь же — всё можно! Всё можно в современной культуре! Ребята, действуйте!! Без штанов на сцену вышел — и народ это съест, как манну небесную. Мало того: есть ряд спектаклей, в которых звучит некая божественная музыка, — есть, но на них зритель не ходит! Зрители не хотят на них ходить, потому что привыкли получать совсем иное удовольствие: пусть лучше артистка выйдет голая, сядет в таз с икрой, а кто-нибудь рядом будет петь песенки да ещё пританцовывать при этом. Я скажу так: нельзя актёру, с одной стороны, всё время ползать по земле, а с другой стороны, ни в коей мере нельзя воображать себя священником, но всё-таки надо понимать, что ты не зря на сцену вышел. Ты должен сообразовывать свои действия с тем, что в нравственном отношении является плюсом, а что — минусом. Мне кажется, что актер, поэт, художник — пусть не в той мере, как, допустим, служитель Церкви, но всё-таки — созданы для того, чтобы служить проводниками нравственной идеи, переводчиками с языка небес на людской язык. Помните статью Маяковского «Как делать стихи»? «Я, — пишет он, — постоянно слышу какую-то музыку. Она меня преследует, мучает меня, и вот я начинаю подбирать под неё слова — так рождаются стихи». Он, понятно, не говорит о божественной природе этой музыки, но такая мысль читается между строк.
Вот и зашёл разговор о Маяковском. В советское время я искренне считал, что лучше, чем Басилашвили, Маяковского не читает никто, и сейчас очень хотел поговорить с ним об этом поэте, — да как-то не решался. Ведь столько лет прошло, столько прежних убеждений рухнуло у всех нас, — удобно ли сейчас напоминать о давно прошедшем?.. Но если он сам заговорил…
— Олег Валерианович, а рискнули бы вы сейчас выступить с чтением Маяковского?..
Не задумываясь, отвечает:
— Конечно, рискнул бы! А что тут такого? Даже «Разговор с товарищем Лениным» — и тот очень современно звучит сегодня, потому что это не с Лениным разговор, а с самим собой. Человек чувствует страшное одиночество, чувствует, что в стране происходит что-то неладное, а поделиться своей тревогой ему не с кем — только с этой «фотографией на голой стене». Это не Ленин — это мечта о всеобщем счастье, о счастливой жизни для каждого… А вы знаете такие строчки Маяковского: «Уже второй. Должно быть, ты легла. А может быть, и у тебя такое… Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Ты посмотри, какая в мире тишь! Ночь обложила небо звёздной данью. В такие вот часы встаёшь и говоришь — векам, истории, мирозданью». Это великий поэт написал. А такую агитационную вещь взять — «Бруклинский мост». Чистая агитка, обличение капитализма, но послушайте: «Нью-Йорк до вечера тяжек и душен — забыл, как тяжко ему и высоко, и только одни домовьи души встают в прозрачном свечении окон». Какой образ! Он даже в домах душу увидел: как они стоят, светятся, — в этом есть что-то нечеловеческое — словно какой-то свет неземной, пробивающийся сквозь обыденность. Нет, божественное никогда не давало ему покоя, его постоянно тянуло говорить о Боге. Он отмахивался, отшучивался, огрызался, но — всё напрасно. Вот, из того же «Бруклинского моста»: «Как в церковь идёт помешавшийся верующий, как в скит удаляется, строг и прост, так я в вечерней сини млеющей, вхожу, блаженный, на Бруклинский мост». Тут он и хочет назвать верующего помешавшимся, но тут же сбивается на торжественный, величественный ритм: «как в скит удаляется, строг и прост!..» Вот оно — не отмахнёшься!
— А я слышал, что, перечисляя книги, которые сейчас что-то говорят вашей душе, вы назвали и Библию…
— Да, читаю Библию… Ветхий Завет сейчас перечитываю… Интересно, читаю — вот и всё. Я ведь не церковный человек, и никогда себя таковым не считал.
— Но в Бога-то вы верите?
— Конечно. Конечно. Я только надеюсь, что Бог — Он добрый, что Он простит мне все те прегрешения, которые я делал и продолжаю делать ежедневно, как и все мы. Я понимаю, что такое исповедь, но до причастия я сам себя не допускаю…
— Как же так?
— Ну так!.. Я же знаю, что всё равно не брошу грешить! Вот курю — и буду продолжать! У меня такая мысль была, что вот Он вызовет нас в своё время и скажет: «Ну, кто из вас грешен?» Я первый выйду и скажу: «Я!» И Он скажет: «Ну — молодец, что сознался!» Это, может, вам глупым покажется — детский сад какой-то… Но я верю в Его доброту. И всё-таки я — человек не церковный. И я на Пасхальном крестном ходе был всего-то раз в жизни — в ранней юности.
— Как же это произошло?
— Так ведь у меня прадед по материнской линии — православный священник. Служил настоятелем Климентовского собора в Москве. Знаете, в Замоскворечье есть такая большая красная церковь… Я как-то — ещё в брежневские времена — ходил туда, всё пытался найти его могилу: он же настоятель, значит, должен быть возле храма похоронен… Ничего не нашёл — только общественный туалет возле церкви стоял в ту пору… Да, а сын его — мой дед — тоже должен был стать священником, да раздумал. Ему ведь нужно было жениться, перед тем как получить приход, а он взглянул на невесту, которую для него выбрали, — и решил: лучше уж я светским человеком буду. И стал церковным архитектором. Много храмов им в Москве построено, он даже принимал участие в строительстве храма Христа Спасителя… А когда взорвали этот храм — тут он сразу занемог, слёг и уже не вставал… Знакомых священников у него было немало, они к нам частенько приходили — и после его смерти. А я в ту пору не знал, чем дед занимался, я был правоверным пионером… И вот, представьте: приходят к нам люди, снимают шапки — из-под шапок длинные поповские волосы, снимают шубы — из-под шуб подогнутые поповские рясы вываливаются… Я в ужасе убегал из дому, увидев таких гостей. А у нас в Петропавловском переулке стояла церковь Петра и Павла, неподалёку от Покровки. Там служил наш родственник — старостой… И однажды — я очень благодарен за это маме — она заставила меня пойти на Пасху. А крестный ход был запрещён: ходили только внутри церкви. Переулок запружен народом, и у всех свечки в руках, и всё мерцает в этой темноте пасхальной ночи. И вот отворяется дверь церкви, выходит священник: «Христос Воскресе!» И весь переулок выдохнул: «Воистину Воскресе!» И ещё, и ещё раз… И колокол не забил, а что-то внутри церкви звякнуло… Это единственный раз, когда я встречал Пасху вместе с верующими… Меня тянет в храм иногда, но не со всем я согласен…
…Уже в конце разговора, когда диктофон мой был выключен и я был готов уйти, Олег Валерианович вдруг остановил меня:
— Подождите… Я ещё вот что хочу обязательно сказать… Я смерти не боюсь. Мне эта мысль не страшна — что вот, меня не будет, а жизнь потечёт своим чередом… И суда Божия я не страшусь: я верю, что Бог добрый, что Он меня простит… Я последних минут жизни боюсь. Больница, равнодушие, обшарпанные стены… Одиночество и беспомощность — а впереди тяжёлый переход!.. Вот что страшно! А потом — крематорий… Ужас. Вот как от этого ужаса-то освободиться? Не знаю.
* * *
Кстати, о «Мастере и Маргарите» мне приходилось говорить и с диаконом Андреем Кураевым, — с которым заочно спорил Олег Валерианович. Диакон Андрей (вдруг кто-нибудь не знает) — известный современный богослов и церковный публицист (хотя многие к слову «известный» прибавили бы «скандально»)… О «Мастере и Маргарите», в частности он написал целую книгу, — о ней и шла у нас речь.
9. РОМАН БЕЗ ГЕРОЯ
— Отец Андрей, неужели вам удалось сказать о «Мастере и Маргарите» что-то новое? Представьте, пожалуйста, свою новую работу. Как она называется?
— Называется она «Мастер и Маргарита» — за Христа или против?» Думаю без ложной скромности, что подобной работы в православном булгаковедении еще не встречалось — хотя бы по объему привлекаемых источников. Сначала поясню, зачем я эту книгу писал. Роман Булгакова любим многими поколениями людей. Я сам ее очень любил в доцерковной своей жизни. Когда-то она заставляла людей задумываться о Боге, о христианской вере, о грехе, была для советского человека, если можно так выразиться, вступлением к Евангелию… Сегодня Евангелие стало доступно всем, и если человек ищет пути к Богу, он может просто открыть Библию, а не искать намеки на евангельские сюжеты в художественной литературе. Как это отразилось на читательской судьбе «Мастера и Маргариты»? Самым роковым образом: с каждым новым поколением булгаковский роман все меньше людей приводит к Богу, и все больше — к Воланду. Между тем именно сейчас эта книга широко тиражируется, и ее даже включили в школьную программу. И, однажды поняв это, я решил, что со стороны православного миссионера было бы преступно оставлять детей один на один с оккультной, сатанинской трактовкой романа.
— То есть вы присоединяетесь к тем, кто считает, что «Мастера и Маргариту» нужно категорически запретить?
— Вовсе нет. Я считаю, что эту книгу не только запрещать, но и из школьной программы убирать не стоит. Ее можно читать, экранизировать, изучать в классе, — но при одном условии: нужно твердо помнить, что в булгаковском романе нет положительного героя.
— Да, с точки зрения православного человека…
— Нет, не только православного. Так ли это важно, в конце концов, что думает о книге тот или иной ее читатель — вы, я, Вася Пупкин… Важно понять, как относился к своим героям сам автор. Так вот я доказываю, что сам Михаил Афанасьевич ни одного из своих героев положительным не считал. Доказать это легко, достаточно внимательнее вчитаться в описания тех или иных персонажей. О Маргарите, например, Булгаков пишет так: «Маргарита улыбнулась, оскалив зубы». Вы можете себе представить, чтобы у Пушкина Татьяна Ларина улыбалась, оскалив зубы? Или об Иешуа: «Иешуа заискивающе улыбнулся, шмыгнув носом». Понятно, что этот персонаж не был идеалом для Булгакова, раз он о нем так пишет. Итак, положительных героев в романе нет. Между тем, я считаю, что Булгаков писал религиозный роман…
— Может ли религиозный роман быть без положительного героя?
— Смотря какую цель ставит перед собой автор. В то время, когда Булгаков начал работу над романом, в советской идеологии широкое признание имела теория о том, что действительно был такой исторический персонаж Иисус Христос — добродушный бродячий проповедник, которого мифотворцы последующих веков превратили в божество. Булгаков в своем романе стремится довести эту идею до абсурда и более того: показать, что, оказывается, таким видит Христа сатана. Ведь недаром главы об Иешуа называют «Евангелием от Воланда». Таким образом, оказывается, что советского атеизма попросту не существует: советский атеизм есть не более, как тонкая, рафинированная форма сатанизма. К сожалению, пока роман шел к читателю, сменились поколения, и комсомольцы 70-х годов уже не понимали ни булгаковских намеков, ни евангельских параллелей этой книги, это и обусловило странную судьбу романа в наш время…
— Вы сказали, что «Мастер и Маргарита» сегодня уводит от Христа. Можно ли сказать, что сейчас существует художественная литература, приводящая ко Христу, — православная литература?
— Не могу назвать себя очень осведомленным в этой области… Но среди знакомой мне литературы могу назвать православной только одну книгу: недавно прочитанную мной повесть Валентина Распутина «Мать Ивана, дочь Ивана». Это то самое произведение, которого мне так не хватало!.. Я долго ждал, когда же наконец советские писатели-классики (то есть те, кого в свое время назвали деревенщиками) облекут в художественную, а не в публицистическую форму трагедию России 90-х годов, и сделают это на том же высочайшем художественном уровне, на котором они держались в советское время. Повесть Валентина Распутина — первое такое произведение.
— А вы не считаете, что книга Распутина все же чересчур публицистична, что это просто расширенная листовка в духе народовольческих прокламаций «К топору зовите Русь»?
— Что ж тут ответить… Я и сам слишком публицист, а поэтому считаю, что если это листовка, то высочайшего художественного качества и правильного, своевременного содержания.
— Если говорить о своевременном содержании… Скажите, отец Андрей, вы действительно считаете, что русский рок несет в себе современное содержание, что он не устарел, не остался в 80-х годах? Зачем Церкви внедряться в рок-среду, — ведь, на мой взгляд, это все равно, что подбирать чьи-то обноски… Молодежь можно привлечь к себе только чем-то принципиально новым…
— Для начала давайте будем поаккуратнее со словом «Церковь». Мне самому еще не вполне понятно, в какой степени проповедь среди рокеров — это наш личный проект, и в какой степени — это вхождение Церкви (в нашем лице) в молодежную среду… Но в минувшем октябре, выступив с проповедью на очередном концерте (кстати, у вас, в Петербурге), я встретился с митрополитом Климентом и повинился: «Владыка, опять я согрешил: проповедовал рокерам!» Реакция владыки меня поразила: «А что в этом плохого? Мы же сами записали в решениях Архиерейского собора, что надлежит активнее использовать формы молодежной культуры во внебогослужебной проповеди». Здесь я удивился скорости перемен, и даже немного насторожился, ведь, как известно, «есть у революции начало, нет у революции конца!» Далее. Когда мне говорят, что рок это нехорошо, я спрашиваю: «А попса чем же лучше?» К сожалению, современный мир учит разбираться даже в оттенках грязи: приходится выбирать между большим и меньшим злом. И чем больше я наблюдаю за роком, с одной стороны, и попсой — с другой, тем больше понимаю, что выбор был сделан правильно. Простите, когда на пышных попсовых концертах звучат песенки в стиле: «У меня мурашки от моей Наташки», — то просто волосы дыбом! Как тут ругать рок?
— Не надо его ругать, нужно просто признать, что он — отжившее явление, и масса за ним уже не идет.
— Вспомните, что рок по стихии своей — это музыка протеста, и русский рок всегда был протестом против господствующего атеизма и цинизма, против той мафии, которая зарождалась при советской власти, но во всей красе расцвела уже в 90-е годы в лице Чубайса и Гайдара. Недавно я участвовал в теледискуссии по поводу новогоднего телеэфира: НТВ поставило эксперимент и новогоднюю программу составило целиком из выступлений рок-музыкантов. Их за это клевали: мол, такая музыка — не новогодний формат, но продюсер НТВ сказал продюсеру первого канала достаточно жесткую вещь: «Мы же прекрасно понимаем, какая и кем перед вами ставится задача. Она заключается в том, чтобы народы а) паслись; б) молча». Так вот, рок сегодня возвращается в свою естественную нишу: снова у людей появляется ощущение несвободы и снова появляется потребность в протесте. Рок снова будет востребован. Это современное искусство.
* * *
Брать интервью у рокеров мне пока не приходилось. И не жалею. Музыканты, которых называют «православными рокерами» мне глубоко не симпатичны, а прочие, что называется, «не подходят под формат» нашей газеты. Поэтому — вот беседа с музыкантом, к рок-музыке никакого отношения не имеющим…
10. НАШЕ ВРЕМЯ НЕ ДРУЖИТ С МЕЛОДИЕЙ
Погудин выглядел усталым, измотанным до предела: вчера был серьёзный, долгий концерт в Свято-Духовском корпусе Лавры, сегодня вместо отдыха — приём у врача, потом беседа с журналистом… Однако сквозь усталость светится в глазах и характер, чувствуется привычка, а может быть, даже любовь к дисциплине: надо — значит надо, обещал дать интервью, значит, будет интервью — и не пустая отговорка, не набор дежурных фраз, а глубокая, продуманная беседа. Если приходится что-то делать, надо делать это в полную меру сил.
— Скажите, Олег Евгеньевич, почему концерт, составленный из песен времён Великой Отечественной, вы давали в Александро-Невской Лавре? Какая тут связь?
— Для меня связь несомненна. Лирическая песня — жанр исповедальный, а где же исповедоваться, как не в монастыре? Вообще лирическая песня заставляет звучать такие тайные, такие нам самим неведомые сердечные струны (причём не только у исполнителя, но и у слушателя), что, пока она звучит, человек остаётся один на один со своей душой: он заглядывает в себя, он изучает себя… А военная песня? — к ней это относится вдвойне: в ней певец, лирический герой идёт по узкой границе между жизнью и смертью, и его раздумья, его самооценка, его исповедь становятся несравненно глубже, чем в обычное время. Да, эти песни написаны как будто атеистами — но сами обстоятельства заставляли их подниматься над собственным неверием; и потом, эти люди ещё не забыли простую, повседневную жизнь христиан, их родителей — а потому и песни проникнуты чисто христианскими образами, понятиями, идеями.
— Например?
— Да сколько угодно примеров. Вот «Тёмная ночь»: «Верю в тебя, дорогую подругу мою, — эта вера от пули меня тёмной ночью хранила». Конечно, здесь говорится о вере в женскую любовь, но вот что важно: лирический герой в кратком промежутке между смертельными боями осознаёт, что вера способна сохранить человека от пули! Это уже очень немало. «Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь, и поэтому, знаю, со мной ничего не случится». Представьте себе: женщина не спит у детской кроватки, она тоскует, она сердцем говорит с любимым — она же, сама того не понимая, молится о нём! — и потому-то с ним ничего не случится… Простите, Вы вынуждаете меня анализировать тексты — но это дело не артиста, а искусствоведа. Для меня песня льётся естественно, и смысл её — даже самый глубокий — проявляется сам собой; мне не нужно прилагать особых усилий, чтобы в этих песнях слышалась христианская вера: она сама там зазвучит. Надо доверять песне.
— Я недавно говорил с одним петербургским композитором, который много пишет для Церкви… Разговор зашёл о романсе — и он сказал, что романс нужно исполнять бесстрастно. Я слушал и не мог представить себе это: как это — бесстрастный романс? Что это такое? Кому будет интересно это слушать?
— Давайте договоримся о терминах. Что означает «бесстрастно» в данном случае? По-настоящему приблизиться к бесстрастию человек может только в монашестве — но в монастырях романсы не поют. Для мирянина бесстрастие тоже должно быть идеалом: понимать природу страстей и стараться их избегать должен, конечно, всякий христианин. Так как же быть с романсом? В нём, как правило, говорится о любви — а в этом чувстве человек бесстрастным быть не может. Наверное, нужно исполнять романсы не бесстрастно, а возвышенно? Певец должен возвышать земную любовь так, чтобы в ней вспыхнул отсвет любви небесной. А любовь небесная — она в первую очередь целомудренна… Вот какое удачное слово нашлось — «целомудренность»! Романс надо исполнять целомудренно! Но, к сожалению, любой романс можно исполнить так, что он будет обслуживать не просто страсти, а похоти даже. В начале ХХ века была написана масса песенок, которые называли «цыганским романсом», с откровенно фривольным, а иногда даже похотливым текстом — я просто не исполняю их. Иногда, правда, возникает такой соблазн: это если музыка уж очень хороша — мол, написать на ту же музыку другие слова, и… Но нет, я такими вещами не занимаюсь: романс должен быть цельным. А лучшие русские романсы — они требуют возвышенного настроения, они требуют целомудренного отношения к своей любви. Они требуют, наконец, изящного исполнения, а «изящное» и «пошлое» — две вещи несовместные. Похоть всегда проявляется очень пошло, и в камерном жанре она смотрится нестерпимо отвратительно. Можно похоть представить красочно, зрелищно, завлекательно — но только в большом шоу, как это сплошь и рядом сейчас происходит. Эти шоу — колоссальные пиршества похоти. Но в них исполнитель может спрятаться за какими-то блёстками, красками, суетой, мишурой, а в камерном жанре это невозможно.
— У вас никогда не возникало желания самому написать музыку к какому-нибудь полюбившемуся стихотворению?
— Да, возникало, но я в этом смысле не слишком одарённый человек. Всё то, что я в молодости писал — и мелодии, и тексты, — всё это очень сильно уступает лучшим образцам, тому, что я сейчас исполняю. Я это понял и давно прекратил своё сочинительство.
— А всё-таки — существует ли какой-нибудь поэт, который, по вашему мнению, давно просится на музыку?
— Мне кажется, что все по-настоящему достойные русские поэты уже встретили своих композиторов — думаю, что исключений тут нет. Вот разве что Есенин… При его жизни пели только «Письмо к матери», если не ошибаюсь… И теперь, кроме знаменитых «Не жалею, не зову, не плачу» и «Отговорила роща золотая», таких песен, которые бы соответствовали народной любви к Есенину, нет.
— Кстати, мне и эти две песни не кажутся соответствующими. Они как-то упрощают гениальные есенинские слова, сглаживают их, гасят их собственную внутреннюю музыку.
— Они соответствуют тому времени, когда они написаны — 70-м годам, а наше время, конечно, иное, мы иначе понимаем многие вещи… Но тут вот в чём беда: наше время не дружит с мелодией. Это настоящая беда, поймите. За последние 20 лет стараниями многих людей вещи, для христианина основополагающие, — всё, что касается сокровенной жизни души, — всё это старательно выхолощено или изуродовано. Вот и мелодия… Человеческая душа с радостью откликается на красивую мелодию, питается ею, расцветает в её лучах. Изгоните из нашей жизни красивые напевы, — а они сейчас уже почти изгнаны, — и души человеческие зачахнут, ссохнутся — таким душам трудно будет подниматься к небесному…
— У вас бывали моменты, когда вы раздражались, даже злились на своих слушателей?
— Слава Богу — нет. На отдельных субъектов — да: на тех, которых называют «фанатами». А на аудиторию в целом — нет. Аудитория моя — это моё олицетворённое счастье: несколько сотен, а иногда несколько тысяч людей, понимающих мир так же, как я. И когда в зале рождается это — очень лёгкое и в то же время очень мощное — душевное общение, единение, — то это счастье.
— Вот вы — и ваша аудитория. Вы же владеете их душами, пока звучит песня, — владеете безраздельно! А чувствуете ли вы упоение этой могучей властью над людьми?
— Нет. Я, как только раздаются первые шаги этого чувства, тут же затворяю перед ним дверь. Оно-то как раз и является страстью — в самом дурном значении, какое только вкладывали святые отцы в это слово. Я позволяю себе почувствовать только счастье особого «душевного резонанса» — не сердитесь на меня за этот физический термин… Музыканты знают — это совершенно объективное явление, оно непременно бывает на удачных концертах: сам воздух вдруг начинает вибрировать в каком-то чудном звоне, всё пространство зала звучит, и души людские — именно души — начинают петь с тобой в унисон. Это такая могучая, общая радость… Но такое состояние ничего общего не имеет с чувством власти над аудиторией, с упоением этой властью. А страсти — они всегда рядом с нами, от них не скрыться; для артиста это в первую очередь тщеславие. Как сказал кто-то из святых отцов, тщеславие как репейник — какой стороной его ни положи, всё равно колючки будут вверх торчать.
— Вы по образованию — драматический актёр. Если бы вам сейчас предложили сыграть в спектакле или сняться в фильме — вы бы согласились?
— У меня в дипломе стоит: актёр музыкально-драматического театра и кино. Но по мере воцерковления я как-то охладел к актёрскому ремеслу, и только в последнее вновь почувствовал интерес к театру. Объясню, почему. В современной России актёры принадлежат к числу самых честных людей. Судите сами: бизнес — это сплошная игра, и игра нечестная, политика — тоже игра без правил… И так далее: все играют, но одни лишь актёры честно в этом признаются. Это — не шутка, это для меня — предмет серьёзных раздумий. Подозреваю, что сегодня только актёр (если, конечно, он человек душевно одарённый, духовно богатый) может без особых помех служить разумному, доброму, вечному. Мы живём в рыночном обществе, а рынок не терпит морали, или, вернее — мораль становится частью рынка. И мы тоже — его часть, мы вписаны в него, нам очень трудно жить по иным, не рыночным, законам. И если ещё сохраняется в обществе какая-то свобода, то именно на актёрском поприще. Хороший, совестливый, устремлённый к высокому актёр может помочь многим людям отвратиться от зла и повернуться к добру. Если творчество актёра подчинено духовному началу, то так и выйдет.
* * *
В той же беседе Погудин рассказывал мне о том, как он ездит по России с гастролями, как старается познакомиться с каждым городом, в котором ему случается выступать, — и о том, как с каждым годом эти знакомства становятся всё безрадостнее. «Россия темнеет…» — так он сказал… А диакон Андрей Кураев среди самых заметных явлений в современной русской литературе назвал книгу Валентина Распутина «Мать Ивана, дочь Ивана» — книгу горькую, книгу тяжёлую, книгу безнадежную… Вот несколько мыслей, пришедших ко мне в голову, после прочтения этой повести.
11. БЕЗНАДЕГА
Александр Солженицын перед смертью признался, что верил в Россию всегда: когда отступал вместе с Красной Армией, когда сидел в лагерях, верил в изгнании, верил даже в ельцинские годы… А теперь вот — разуверился.
Не тот человек Солженицын, чтобы запросто отмахнуться от его мнения. Тем более что он, видимо, не одинок в своем отчаянии: на мысли, подобные солженицынским, наводит и новая повесть Валентина Распутина «Мать Ивана, дочь Ивана». Не объедешь на кривой кобыле эту книгу и не замолчишь, потому хотя бы, что каждое новое слово Валентина Распутина Россия ждет долго, терпеливо, с надеждой.
Для тех, кто до сих пор не прочитал повесть, перескажем вкратце ее содержание. Где-то в большом сибирском городе случилось несчастье: рыночный торговец-кавказец изнасиловал 16-летнюю девушку. На кавказца было заведено уголовное дело, но мать пострадавшей — Тамара Ивановна, главная героиня повести — скоро убедилась, что суд будет неправый, что за свое преступление кавказец не понесет никакой кары, и решила наказать его сама. Что и сделала: выбрав момент, выстрелом из обреза убила насильника наповал. Обычно, пересказывая книгу «Мать Ивана, дочь Ивана», на этом и останавливаются. Между тем вышеизложенное составляет только завязку повести. Вся же повесть о том, что произошло после выстрела.
Дело ведь не в том, что мать отомстила за свою дочку: Распутин пишет не о мести, а о попытке найти выход — для себя, для народа, для страны. Дело не в том, что какой-то кавказец изнасиловал какую-то русскую девушку — увы, подобное случалось и прежде… Писатель не скрывает, а читатель без труда видит, что эта частная, семейная беда — только малая толика большой всенародной беды, что несчастная, сброшенная в грязь девочка Светка — это, простите, Россия… Да, как ни покажется это кому-то кощунственным, — но и в такой ипостаси является нам Родина: не только величественная, исполненная силы Родина-Мать, но и слабая, неразумная, доверчивая Родина-Дочка, которую, если мы не защитим, то никто не защитит… Итак, без малейших натяжек, без пафоса, без придыхания рассказ о том, как мать вступилась за дочку, становится рассказом о том, как русская женщина вступилась за Россию.
И все было бы хорошо, и нам на этом можно было бы остановиться, — если бы сам писатель остановился на этом.
Повторяем, выстрел Тамары Ивановны звучит в самом начале книги… Что же происходит потом? Вот то-то и оно, что ничего.
Справедливость восторжествовала? Нет. Вражеский отряд не заметил потери бойца, а дочери утраченная невинность не вернулась. Может быть, мать успокоилась, совершив свой тяжкий долг? Нет. Беда, постигшая ее семью, не такого свойства, что «есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы». Обидчика нет, а обида жива. Может быть, народ (хотя бы в повести), разбуженный звуком выстрела, встал, поднял голову, огляделся во гневе?.. Этого тоже нет. Что же есть?
Тамару Ивановну арестовали, дали ей сравнительно небольшой срок. Она — женщина сильная, стойкая перенесла заключение, как переносила все в этой жизни, но, конечно, тюремные годы бодрости ей не прибавили. Муж ее, Анатолий, человек не столь крепкий, терзаемый горем и стыдом (стыдом за то, что невольно взвалил на жену свою мужскую обязанность — защиту дочерней чести), впал в тяжкое, смертное уныние, и счастье еще, что не запил, не наложил на себя руки… Дочь Светлана так и не оправилась после удара: вся жизнь у нее пошла безтолково, наперекосяк… И вот возвращается Тамара Ивановна из тюрьмы, идет по родному городу и видит, что ничего вокруг за эти годы не изменилось, разве что в худую сторону, жизнь все та же — чужая, враждебная, грязная… Заходит она домой — а муж, обессилевший от отчаяния, и глаз на нее поднять не может…
На том книге и конец.
Я в своем пересказе, конечно, пропускаю многие сюжетные линии, но, поверьте, все они точно так же безысходны — даже история сына Тамары Ивановны, Ивана. Поначалу кажется, что именно с ним связаны надежды писателя, что именно этот крепкий, умный парень, единственный из героев, не сваленный с ног семейным горем, сможет найти выход из всеобщей безнадеги, — но нет… Что-то Иван определенно ищет, но ни для себя, ни для семьи, ни для читателя его поиски успехом не завершаются. Путь этого героя автором многозначительно не завершен, выведен за пределы повести: дескать, вот, ужо… когда-нибудь такие парни все расставят по своим местам, укажут всем свое место, раздадут всем сестрам по серьгам… Но, честно говоря, реальность повести не оставляет места для подобных надежд; скорее можно предположить, что, помыкавшись в бесплодных поисках, Иван замкнется в отчаянии, подобно отцу, или начнет палить в кавказцев, подобно матери, — что (и это убедительно доказано самим В.Г. Распутиным) ни в коем случае выходом не является.
Что тут скажешь? Нравится это нам или нет, а оптимизм вообще не относится к писательским добродетелям Валентина Григорьевича. Он и сам признается: «…жизнь-то сегодня тяжелая. И в моих книгах она тяжелая, и я добавляю этой тяжести читателю. И, конечно, не всякий выдерживает такую нагрузку». Чего же мы хотели дождаться от новой его книги? Чтобы писатель в ней изрек, как некий гуру: «Делайте то-то и то-то, и все будет в порядке»? Что и говорить, надежда услышать это была слабая. А все-таки была.
Чернышевского обвиняют в том, что он будто бы выдумал «вечный русский вопрос»: «Что делать?» А это вовсе не так. Чернышевский в своей книге не спрашивал, но отвечал: «Что делать? — а вот что: во-первых… во-вторых… и в-третьих… Поняли? Исполняйте!» И слабенький, смешной, литературно беспомощный его роман зачитывали до дыр, выхватывали друг у друга из рук, бредили им наяву… Как не хватает сейчас чего-то подобного!..
Увы, но поэт в России по-прежнему больше, чем поэт, и Валентин Распутин больше, чем любимый народом прозаик. Когда в безмятежные советские времена он говорил нам, что все не так уж и хорошо, это отрезвляло, это заставляло задуматься, это будило души. А сейчас?
Да мы и сами не слепые! Нам и без подсказок понятно, что ничего не понятно. Простите за резкость, но мы и сами не можем найти выход, и нам не нужен еще один потерявшийся, пусть даже зовут его В.Г. Распутиным. И не впечатляют такие слова Валентина Григорьевича: «Пока я вижу одно и полностью уверен в этом, что дело (в России. — А.Б.) дошло до края. Знаю и другое: если дело дошло до края, то по всем законам начинается обратное движение».
Это похоже на то, как человек летит в пропасть и рассуждает: «Эх, глубоко я залетел! Не может так долго продолжаться! Видимо, когда достигну дна, начнется обратное движение».
Мы, что скрывать, ждали от живого классика поддержки, опоры, мудрого совета… Получили ли мы его?
Вы знаете, если задуматься, то поймешь: да, получили. Хотя, конечно, это совет «от противного». Книга Распутина во весь голос кричит: путь, на который толкает отчаяние, — неверный путь. Возможно, кому-то это покажется диким, но единственный вывод из книги таков: не нужно было Тамаре Ивановне стрелять. Лучше бы она попыталась воскресить дочь, чем убивать кавказца. Кровь насильника не смыла грязи со Светкиного лица.
Поверьте, мне самому глубоко противен цыплячий пацифизм, я тоже считаю, что «вор должен сидеть в тюрьме», и насильник с ним рядом. Но я смотрю на тех, кто восхищается книгой Распутина именно как призывом «к топору», и смутно чувствую — что-то здесь не так… Призывы к топору мы слышим много лет… Пришла пора задуматься над тем, почему они не воплощаются в жизнь.
…Давно миновали те годы, когда интеллигенция (потенциальные вожди), затаив дыхание, ждала, когда народ скажет свое слово, а народ угрюмо дожидался, когда придут «правильные» вожди и выведут его за ручку из демократического кошмара. Сейчас это время ушло. «Вожди», не дождавшись «волны народного гнева», махнули рукой и заявили, что народа больше нет — спился, растлился, растворился в пришлых азербайджанцах; а народ — то есть та именно его часть, которая дожидалась «добрых вождей», — попросту вымерла, ничего не дождавшись. Остались те, кто не хочет вымирать, те, кто хочет выжить, несмотря ни на что. И если для этого нужно связаться с бандитами — они свяжутся, если для этого нужно продавать краденое — они будут продавать… Они бы и рады не делать этого — люди-то эти в существе своем крепкие душой, брезгливые ко всяким пакостям и пакостникам… Они, и «уйдя в бандиты», будут сочинять для себя всевозможные «понятия»… Им надо выживать — ради детей, а уж дети отцовский грех замолят… Они не пишут романы, не читают умных статей, — он просто видят: сейчас нужно выжить. Сил для Куликовской битвы еще нет, но если выживем, если протянем — десять, пятьдесят, сто лет, — будут силы. Будет и битва.
Русская же интеллигенция в тысячный раз стоит перед народом, как баран перед новыми воротами, и — ничего не понимает! Как же так? Мы все так хорошо сочинили: Православие… Самодержавие… Народность… Почему этого никто не хочет кушать?
Да потому, что вы, уважаемые, — никто! Вы — мыслители, радетели, плакальщики — вы первые остались за бортом нынешней жизни! Ваши жалкие барахтанья, ваши потрясания кулачками ничего не стоят. Учить народ может только власть имеющий. Только он — и никто больше. Сто пятьдесят лет назад студент приходил к мужику и совал ему в руку топор: «Восстань! Восстань! В борьбе обретешь ты право свое!» — а мужик преспокойно сдавал этого студента полиции, потому что знал: полиция — это власть, а студент — это пустое место. Мужик верил во власть и готов был терпеть от нее обиды — порою даже немалые. Он хоть и не читал апостола Павла, а все-таки носил в душе Павловы слова: «ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13. 4).
В 1917 году (точнее, к 1917 году) власть перестала проявлять себя властью. Власть сама призвала мужика-конокрада, сама посадила его во дворце, сама начала внимать его премудрым вещаниям. Мудрено ли, что остальные несколько миллионов мужиков — не конокрадов — справедливо решили, что они более достойны дворца, чем Гришка-проходимец. И в первой русской демократической смуте те же крестьяне выбрали (пусть не сразу, пусть через обиды и драки) — не болтунов, а тех, кто действовал как власть имеющий. И впоследствии из всех большевиков народную поддержку получил именно тот, кто меньше всего болтал, прожектерствовал, блистал на трибунах и в газетных статьях, — а тот, кто поступал как власть имеющий.
Итак, стяжайте себе такую власть, а потом начинайте учить народ. И народ вас услышит — с радостью, поймет — полностью, откликнется — всею душою.
Вы не можете стяжать власти, силенок не хватает? Тогда встаньте рядом с власть имущими — так, как это сделала советская интеллигенция, сознательно, открыто и честно. Дайте власти культуру! Будьте ее человеческим лицом. Превратите ее чахлые экономические и политические идейки, никакого отношения к России не имеющие, в высокое патриотическое служение, — как Шолохов и Маяковский превратили пошлую большевистскую шариковщину в манифест русского великодержавия.
И еще. Власть и народ могут ссориться сколько угодно; милые бранятся — только тешатся. Беда тому, кто эти ссоры примет за высшую правду. Беда тому, кто встанет между молотом и наковальней. И проклят будет всяк, ссорящий народ с властью. С любой властью любой народ.
А сейчас каждый выживает как может. И чем меньше будем растрачиваться на пальбу по отдельно взятым кавказцам и на тому подобные истеричные действия, тем вернее выживем. Нужно научиться жить рядом с нынешним порядком — не ломаться под ним и не истериковать. Нам нужна стабильность. Стабильность всегда работает на нас. Дестабилизация, истерика, смута — только на наших врагов. Десять лет стабильности помогут России больше, чем десять успешных операций в Чечне. Поэтому отложим обрез в сторону, а посмотрим лучше на своих дочерей, на сыновей. Россия сейчас не Мать, а Дочь наша.
Кажется, именно этому учит нас новая книга Валентина Распутина. Уж не знаю, имел ли Валентин Григорьевич такие мысли в голове, когда писал свою повесть, но ведь он — настоящий писатель, а настоящий писатель тем и отличается от прочих тружеников пера, что его книги зачастую выше, зорче, мудрее своего автора…
* * *
А что бы написал о нашем дне Шукшин? Он-то ещё в начале 70-х всё видел, он ещё тогда понимал…
12. ШУКШИН
Что ни говори, а глаза у него были волчьи. Он смотрел только исподлобья — даже когда весело смеялся, даже когда грустил… Настороженно смотрел, словно вечно прикидывал, откуда ждать удара, да как бы побольнее ответить — чтобы не сунулись больше… Взгляд волка, попавшего в засаду, взгляд солдата в тылу врага. Он сам сказал: «Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо — не позволил сшибить себя; плохо — начинаю дергаться, сплю с зажатыми кулаками…»
Из всех русских классиков ХХ века (а к ним, несомненно, принадлежат только «деревенщики» да их «духовные отцы» из старшего поколения — Есенин, Твардовский и другие) — из всех русских классиков — он самый колючий, самый «невыстроенный», неуютный, «негармоничный». Это не Солоухин с его атласной да парчовой прозой, это вам не распутинские поэмы и не астафьевские саги… Он пишет о милых простаках, о смешных чудиках своих, а каждая строчка его мучительно щерится от обиды и боли. Он сам сказал: «Во всех рецензиях только: «Шукшин любит своих героев… Шукшин с любовью описывает своих героев…» Да что я, идиот, что ли, всех подряд любить?! Или блаженный? Не хотят вдуматься…»
Из всех русских классиков ХХ века он — самый недосказанный. Солоухин, Распутин, Астафьев, Белов — состоявшиеся явления, в них ни убавить, ни прибавить. Они были, они есть; Шукшин только будет. Читаешь его рассказы — словно крошечные отрывки из огромной, тебе незнакомой книги, и по отрывкам понимаешь — книга велика, книга не имеет себе подобных, но у кого ж ее попросить почитать? Никто еще не прочитал Шукшина, никто еще не видел его фильмов. Эта спираль еще натуго скручена, а по нынешним временам раскрутится ли — Бог весть. Он сам сказал: «Не теперь, нет. Важно прорваться в будущую Россию».
Из всех русских классиков ХХ века он единственный в полной мере заслуживает звания «деревенщика». Только в его рассказах деревня и город точат ножи друг на друга. Только у него вопрос ставится: «или-или», двоим вместе не жить, не разойтись на узкой дорожке. Смертное противостояние скрыто шутками да прибаутками; головной, ударный полк деревни составлен из улыбчивых чудиков, но в засаде скрыты мужики покрепче, вроде Егора Прокудина… Шукшинские «сельские жители» чудят себе, чудят, но только для того, чтобы не закричать по-есенински:
Черт бы взял тебя, скверный гость! Наша вера с тобой не сживется! Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодце!И вот тут многие читатели спотыкались. Далеко не всем это противостояние представлялось столь роковым. Почему это русская деревня должна нападать на русский город? Разве и без того мало врагов?
Кто-то говорил: зачем искусственно сужать Шукшина, силком вталкивая его в деревенские рамки? Разве он не шире, не глубже, не всеохватнее? Разве он писатель не для всей России? Неужели только для деревенской?
И может быть, только сейчас, когда война окончена, когда русская деревня не просто побеждена, а срыта с лица земли, некоторые из выживших начинают понимать и злость, и правду Шукшина. Только сейчас люди начинают понимать, что для России 1950-1980-х годов противостояние города и деревни было самой всеохватной, самой глубокой, самой кровной темой. Это только сегодня стали понимать. И то не все и не до конца.
Позволю себе спросить всех, кто, подобно Шукшину, когда-то, «на заре туманной юности», приехал из деревни (из маленького города) — в город: скажите, что угнетало, что отвращало, что тяготило вас в новой жизни? Неужели городские пейзажи, обилие транспорта, толпы народа? Может быть, поначалу и это — месяц или два. Но потом — и не один год? Потом это были люди. Легко было привыкнуть и к давке в метро, и к загазованному воздуху, но трудно, почти невозможно привыкнуть к тому, что тебя окружает чужой народ: словно ты, собираясь пойти в гости к соседям, вдруг оказывался на другом континенте. Окружающие не были похожи на вас ни чертами лица, ни речью, ни образом мыслей. От того, что они считали красивым, вас тошнило, от того, что они считали правильным и разумным, вас трясло. С того момента, когда вы это поняли, перед вами открывалось два пути: стать как они, играть по их правилам (но выиграть по чужим правилам невозможно), или заставить окружающих играть твою игру (но для этого нужны нечеловеческие силы, а на помощь не придет никто). Конечно, Шукшин выбрал второй путь. Он говорил: «Я долго стыдился, что я из деревни… Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительную как на грех во флоте, где в то время витал душок некоторого пижонства: ребятки в основном из городов, из больших городов, я и помалкивал со своей деревней. Но потом — дальше в жизни — заметил: чем открытее человек, чем меньше он чего-нибудь стыдится или боится, тем меньше желания вызывает у людей дотронуться в нем до того места, которое он бы хотел, чтобы не трогали. Смотрит какой-нибудь ясными-ясными глазами и просто говорит: «вяцкий». И с него взятки гладки. Я удивился — до чего это хорошо, не стал больше прятаться со своей деревней».
И более того: «Я, например, так увлекся этой борьбой, так меня раззадорили эти «узкобрючники», что, утратив еще и чувство юмора, всерьез стал носить… сапоги. Я рассуждал так: они копируют Запад, а я «вернусь» назад, в Русь».
Так между Русью и деревней сам собой возник знак равенства. И знак неравенства между Россией и городом. Во времена Шукшина Россия под натиском превосходящих сил противника отступила в деревни, в глухую оборону. Город стал чужой территорией.
Шукшин жил в городе, ибо лучший способ обороны — нападение. Он сумел закрепиться, встать во весь рост в литературе, — а литература тогда еще дышала, еще билась в ней русская кровь. Он сумел встать на ноги и в кино, а это было уже труднее: национального кино в России не существовало никогда, имелось «советское» — со всем, что из этого определения следует. Вольно или не вольно, но после выхода на экраны «Калины Красной» Шукшин оказался в первых рядах атакующих. Как-то вдруг он из «одного из современных литераторов», «известного артиста кино», «своеобразного, ищущего режиссера» сразу стал человеком-легендой, человеком-знаменем. Народное признание, которого он долго (и не очень успешно) добивался, нахлынуло разом — народной любовью. Хорошо помню, как на вялый, безформенный фильм Бондарчука «Они сражались за Родину» люди ходили толпами — смотреть на Шукшина — и, возвращаясь, только Шукшина и обсуждали. А его уже не было в живых.
«Калина Красная» — была успехом, но она не была победой. Растерянный, неумело огрызающийся герой фильма «Печки-лавочки» превратился здесь в серьезного, закаленного бойца — пусть однажды потерпевшего поражение, но сумевшего подняться, сгруппироваться и приготовиться к новому удару. К удару, но не к атаке. Настоящий бой должен был дать следующий герой Шукшина — Степан Разин, который мыслился как народный вождь, поднявший русскую деревню, вдохновивший ее на битву, но — в последний момент — не поверивший ей и предавший ее своим недоверием. Впрочем, это даже не важно: важно то, что на ту пору Шукшин сам стал в глазах народа героем не хуже Стеньки Разина. Соединение двух этих, как сейчас говорят, «культовых» имен в едином лице могло, пожалуй, привести к непредсказуемому результату. Шукшин и без того слишком возвысился; фильм «Я пришел дать вам волю» мог поднять его на такую высоту, что всем прочим «корифеям» советской культуры пришлось бы отправиться на заслуженный отдых. Но было основание бояться и большего… У солдата, оказавшегося на острие атаки, мало шансов остаться в живых.
Он писал: «Всю жизнь свою рассматриваю, как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл». И еще: «Ничего, болезнь не так уж и страшит: какое-то время можно будет идти на карачках». Этого времени ему никто не дал. Бой в три раунда не состоялся.
Мы не знаем, что сталось бы с Россией, проживи Пушкин еще тридцать лет, но мы уверены, что русская история пошел бы несколько иным путем. Не могла не пойти, — или уж национальный гений никакой роли в истории страны не играет?
Мы не знаем, куда пошла бы Россия, проживи Шукшин еще лет двадцать… Сейчас многие уже поняли, что с врагами нужно бороться, но, кажется, никто так и не понял, что этого мало: надо еще и своих беречь, и это, может быть, даже важнее. Смерть Шукшина, со времени которой прошло уже тридцать лет, до сих пор остается незаживающей раной, может быть потому, что это — последняя великая потеря России: нельзя же терять безконечно, — рано или поздно окажешься возле пустого корыта. Давайте пошарим по разбитому дну этого корыта — вдруг да найдем еще что-нибудь?
* * *
Часто жалею — всерьёз жалею! — что не смогу взять интервью у Шукшина. А мне это необходимо!.. Я уверен, что он многое смог бы мне объяснить. Почему мне никогда не поговорить с Маяковским? Да, книги, да, письма, — но мне мало этого. У меня есть свои вопросы. И мне нужны ответы именно этого человека, а не другого, пусть и не менее умного. Хочу взять интервью у Достоевского. Хочу побеседовать с Лермонтовым. Умер бы от счастья, доведись мне поговорить с Пушкиным.
Вот и приходится теперь фантазировать: сочинять воображаемое интервью с Державиным. А чем помимо прочего плохо воображаемое интервью? Бывает идёшь к кому-нибудь с диктофоном и думаешь: «Вот спрошу у него о том-то, а он мне ответит так-то… Я ему: что вы об этом думаете? — а он мне: то-то и то-то!..» Приходишь, начинаешь разговор и тотчас оказывается, что все предварительные фантазии рассыпаются в прах: беседа идёт совершенно иными путями. Словом, читайте воображаемое интервью и знайте: в действительности разговор вышел бы совершенно иной.
13. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГАВРИЛА РОМАНОВИЧ!
Есть такая расхожая фраза: всё, мол, в доме-музее так хорошо сохранилось, что кажется, будто сам хозяин квартиры вот-вот выйдет навстречу экскурсантам. И не хочется мне, посетителю дома-музея Гаврилы Романовича Державина, повторять эти набившие оскомину слова — а что поделать, если так оно и есть? Внутренние покои державинского дворца восстанавливаются с нуля, подлинных вещей поэта здесь не осталось вовсе, а вот, тем не менее, видится мне: начало лета, хозяин будто бы собрался в своё новгородское имение, любимую Званку, а тем временем во дворце устроен небольшой ремонт с переменой обстановки, слышен стук молотков, по залам ходят рабочие. Но и сам хозяин, сам Гаврила Романович, тоже где-то здесь — бегает по комнатам, собирается в дорогу, отдаёт распоряжения… Сейчас свернёшь вот туда, вот в тот кабинет, а он — навстречу…
— Здравствуйте, Гаврила Романович! Можно с вами поговорить немножко?
— Как, сударь? Поговорить? До того ли мне? Я на минутку только забежал: посмотреть, проведать. Шутка сказать — без малого двести лет тут не бывал, уж и подзабыть успел, где что находится в моих владениях… А тут ещё ремонт, перестановки… Ничего не узнаю, ничего не найду!
— Гаврила Романович, мудрено узнать! Столько хозяев здесь без вас сменилось, в последние годы разбили ваши покои на несколько десятков коммуналок — где же тут сохранить старую обстановку?
— Ну и Бог с ней! Никогда я за вещи не держался, никогда в домашние дела не лез… Жёны дом вели: сперва Катерина Яковлевна, а как преставилась она, так Дарья Алексеевна взялась. Уж она-то взялась так взялась! Деловая была женщина — всё, бывало, за конторкой, всё пальцы в чернилах… С ней дела мои так пошли — мигом в миллионщики вышел, а ведь я перед свадьбой последние, можно сказать, рубли считал… Умна была и серьёзна, а вот что касаемо Амура… Ох-хо-хо… Бывало, подойдёшь к ней: «Милена моя (так я её звал — Миленой), Милена, послушай, какой я тебе стишок сочинил: «Как за сребряной плотицей линь златой по дну бежит; за прекрасною девицей, за тобой, Амур летит». Оторвётся со вздохом от своих бумаг, выслушает весьма учтиво, похвалит этак с благосклонностью, и опять за письма свои — в деревни, к управляющим, и забыла про мои стишки. Вот Катерина Яковлевна, первая моя, незабвенная, Пленира моя!.. С ней не так было… Но после неё чуть не разорился.
— Гаврила Романович, а вы Пушкина помните? Расскажите, как вы с ним встречались в Лицее.
— Помнить-то помню… Только я на него в обиде. Как меня в Лицее встречали — каков почёт! Лицеисты на меня как на некое божество взирали! Живой Аполлон приехал, повелитель муз! Этот, помню, барон Дельвиг — так рот и раскрыл, как меня увидал, а я ему: «Где тут у вас, в Лицее, уборная?..» Его и в краску бросило, беднягу. И Пушкин этот, чернявенький… Ну, ничего не скажу: уж сочинитель так сочинитель! Уж как начал читать, так я и думаю себе: «Да, брат Гаврила! Пора тебе на свалку: если он ещё хоть два-три таких стишка напишет, кто тогда нас, грешных, читать будет?» Потом говорю лицейским: «Помяните моё слово, милостивые государи, этот ваш Пушкин — не Пушкин вовсе, а новый российский Гомер!» Они мне, кажется, не поверили: он у них на плохом счету был. Вот… И чем же он мне отплатил? «Этот ваш Державин, — пишет, — этот Державин и по-русски-то писать не умел!» Да, да, так и написал. Это было, когда он разбирал, кто из русских пиитов осьмнадцатого столетия мог быть предполагаемым автором «Слова о полку Игореве». Всех нас, стихотворцев, рассмотрел, всех взвесил, оценил, а как до меня дело дошло, так он и заявляет: «Державин и по-русски-то писать не умел, где уж ему на древнеславянском поэмы сочинять?» А сам, между прочим, стихотворение своё «Памятник» — с меня списал! Точно вам говорю: всё слово в слово списано с меня! Хотя, если признаться, я сам его у Горация позаимствовал…
— Гаврила Романович, вы царей русских знали — расскажите о них. Что это были за люди, если на них лицом к лицу смотреть?
— Я троих знал: знал Александра Павловича, отца его Павла Петровича, а пуще того — Великую Екатерину. Вот — Государыня! Вот — Русская Царица! Как вспомню, так слёзы льются. Что про неё болтают — не знаю и знать не хочу! И вам не советую эти пакости слушать. Все мы люди грешные, все на суд Божий не налегке идём… А Великая Екатерина!.. Как некое божество! Как она Россию двинула вперёд! Какой блеск был! Какая слава! Суворов! Ушаков! Крым берём, турок бьём, Европа трепещет! А каким теплом от неё веяло: как улыбнётся тебе, так душа и тает. А остального — знать не хочу. Вот смотрите-ка: тут под стеклом портфельчик мой лежит, сафьяновый. Это она мне подарила! Мой портфель! Берёг его, как святыню. Это когда я у неё кабинет-секретарём служил: набьёшь, бывало этот портфельчик бумагами, идёшь к ней на приём, а душа так и поёт!.. Александра Павловича я тоже любил: она его любила и мне, значит, тоже заповедала. Но ведь — мальчик, юноша нежный… Я к нему по-стариковски — с советами да с упрёками, а ему неприятно: какой-то татарин, поэтишка, его, Государя, учить вздумал! «Иди, — говорит, — Гаврила Романович, в отставку». — «За что, Государь?!» — «А слишком ревностен по службе! Нам такие усердные не нужны!» Что же до Павла Петровича, многие его не любили, и я, признаться, позволял себе порой недостойное… Подшучивал за спиной у него, фрондировал дома среди друзей… А как преставился он, тут я и задумался… Он то же дело делал, что и матушка его, да с другого конца подошёл, и как знать, не был ли тот конец для великой России началом?..
— Вы видели, Гаврила Романович, — здесь, в музее, целая выставка посвящена одному вашему стихотворению…
— Какому же?
— Оде «Бог».
— Вот оно что… Да, писал такое. Я человек грешный, мне до святости далеко, и молиться я не умею… Хотя Церковь люблю, и Варлаамо-Хутынскому монастырю всегда помогал, чем мог. Настоятель их всегда у нас гостил — в тех самых комнатах, где эта выставка теперь располагается… Вот как-то раз в придворном храме на всенощной стою… «Ныне отпущаеши…» поют. «Вот поэзия! — куда уж нам» — так я себе думаю. И обидно стало: неужели ничего не смогу подобного создать? И тотчас в голове стихи складываться начинают: «О Ты, пространством Безконечный, живый в движеньи вещества, теченьем времени Превечный, без лиц в Трёх Лицах Божества!» И так далее. Сложились две строфы, а дальше — ни в какую. Несколько месяцев я мучился, думал, размышлял, писал, рвал написанное… Благодать, однако, ничем не приманишь: Дух дышит идеже хощет… Оставил службу — думал, теперь суета душу не замутит, смогу закончить оду. Не тут-то было! Дела домашние, дела семейные — не до стихов о Боге. Тогда я что придумал? Говорю жене, Пленире моей: «Поеду, мол, в польские наши имения, займусь делами. Один поеду, ты дома оставайся!» Поехал. Только не в польские имения, а в городок Нарву — знаете такой? Снял там домик у немки-старушки, заперся в нём — сижу, заканчиваю оду. Несколько дней сидел безвылазно, сочинил: «Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь — я раб — я червь — я бог! Но будучи я столь чудесен, отколе происшел? — безвестен; а сам собой я быть не мог». И так далее. Но закончить, однако, и тут не могу свою оду. Вот, ложусь спать после дня напрасных трудов, заснул уже — вдруг — сквозь закрытые глаза — свет! Вскочил — вся комната озарена, огни несказанные бегают по стенам. Как я тут возрыдал! Как слёзы хлынули! И тут же сел и дописал последнюю строфу.
— Гаврила Романович, ещё хочу у вас спросить…
— Да полно уже, милостивый государь. Время моё выходит, пора мне. Вот лучше я у вас спрошу… Что, помнят ли меня в ваши времена? Читают ли? Знают ли, кто таков Гаврила Державин? Хоть строчку из меня смогут наизусть прочесть?
— Как вам сказать, Гаврила Романович… Помнят, конечно, но…
— Всё понятно — молчи, не говори! Я и сам на бессмертие не замахиваюсь. С меня довольно бессмертия души. Я об этом много думал… Побольше меня люди в Лете тонули… Вот, видите картину? Это мне государь подарил, Александр Павлович: здесь изображены все народы земли в виде рек: вытекают эти реки из одного истока, от Ноева ковчега, а конец у всех один — океан Леты. Все там будем.
И он читает, твёрдо, по-старорусски произнося звук Р (не «река времён», но — «рэка врэмён):
— «Река времён в своём стремленье Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. А если что и остаётся Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрётся И общей не уйдёт судьбы».Вот так-то! Засим имею честь откланяться. Остаюсь вашей милости всегда покорный слуга Гаврила Державин!
* * *
Нет, воображаемое интервью — порочная практика. Лучше попросту, без затей рассказать всё, что думаешь о том или ином писателе. Вот, например, Пётр Ершов…
14. СМИРЕННЫЙ ГОМЕР
В русской словесности две дороги. По одной следуют золочёная карета Державина, изящное ландо Тургенева, лакированный роллс-ройс Набокова; по другой катят сплошь телеги: Кольцов, за Кольцовым — Некрасов, за Некрасовым — Лесков, Мельников-Печерский, Суриков, Никитин и иже с ними, замыкает тележный поезд Есенин, а следом трясутся на полуторках Твардовский, Рубцов, Шукшин, Белов… И вот на этой-то второй дороге, то мелкой трусцой, то стремительным галопом, а то и в небеса взлетая, поспешает на своём Коньке-Горбунке Пётр Павлович Ершов.
Не подумайте только, будто я хочу первую дорогу, барскую, гладкую, прямым ходом идущую из просвещённой Европы, объявить нерусской. Нет! Ни в коем случае! Дело в другом! Дело в Ершове.
Принято жалеть Петра Павловича: он-де, в ранней юности написав своего «Горбунка», больше уже ни строчки путной родить не смог, хотя прожил долгую жизнь и стихи сочинял в немалом количестве. Однако никто почему-то не жалеет Гомера за то, что он написал только «Илиаду» да «Одиссею»; или автора «Песни о Нибелунгах» за то, что он не сочинил ещё какой-нибудь песни.
А вас удивляет, что я ставлю нашего скромного Ершова, «детского писателя», «сказочника», в один ряд с Гомером? А вы не удивляйтесь.
…У немцев — Зигфрид. У англосаксов — Король Артур. У французов — граф Роланд. У испанцев — Сид Кампеадор… И так далее, и тому подобное. Кто из героев представит Россию? Илья Муромец? Без сомнения, Илья, а с ним рядом — Вольга, Добрыня, Микула Селянинович, но Илья — впереди всех. Однако исчерпывается ли Русь одними богатырями? Одной ратной силой?
А Иван-Царевич? — воплощённая изысканность русской культуры, её благородство и изящество; из того же ряда — Алёша Попович (не тот туповатый увалень, что в новом мультфильме, а настоящий, из былин, — ловкий, ладный, остроумный, насмешливый). Иван-Царевич (пусть переодевшийся во фрак или в офицерский мундир) стал главным героем русской дворянской литературы, главным героем книг Тургенева, Лермонтова, Льва Толстого…
Вот два героя: Илья Муромец — сила и мудрость, Иван-Царевич — благородство и красота… Должен быть и третий — куда же без него?.. И всякому ясно, что третий герой, третье воплощение русского духа — Иванушка-дурачок.
Сказки о дураках есть в любом народе. У немцев — Глупый Михель, у французов — Жанно Простак; и все они — только объекты насмешек, если дурак и побеждает, — это скорее каприз судьбы, повод посмеяться над нелепостью мира. Русский Иванушка-дурачок — это совсем другое: это сплав смирения и бодрости, смекалки и простоты, доброты и озорства; дурака в нём видят только «шибко умные», «умеющие жить», «серьёзные люди». Дурачок побеждает их с таким же блеском, как Илья побеждает Соловья-Разбойника и Иван-Царевич — Кащея Бессмертного.
Есть былинный цикл об Илье Муромце, есть чудесные сказки об Иване-Царевиче, но образ Иванушки, раздробленный, рассыпанный по десяткам коротеньких сказок-анекдотов, сумел по-настоящему воссоздать только Пётр Ершов: в полной мере, ярко, глубоко, от сердца.
Великий соблазн для всякого графомана — подражать Ершову! Как всё просто: гони строчку за строчкой, словно на балалайке тренькай, рифмуй «птица — девица, царь — государь»… Нет, не получается. С души воротит от нарочитости, фальши, нерусскости таких подражаний, — всех этих «Сказок о Федоте-стрельце» и др. Язык Ершова нельзя скопировать, с ним можно только родиться. Жаль, газетная полоса мала: цитировал бы и цитировал «Конька», словно яхонты перебирал! Да и не в языке только дело… Эта сказка — вся в стройном движении, вся озарена каким-то небывалым светом; в ней быт описан правдиво и точно, но в то же время — сказочно и нарядно; в ней чудеса ярки и радостны, но в то же время — просты и узнаваемы… В «Коньке» есть глубокая философия, стройное мировоззрение, прочная система нравственных, житейских и даже политических ценностей. Это, может быть, кому-то покажется перебором, но пока поверьте мне на слово, а попозже перечитайте внимательно, с карандашом в руке этот русский эпос и сами убедитесь: вот она, настоящая-то энциклопедия русской жизни. Здесь удальство и храбрость, смекалка и предприимчивость, красота и благородство освещены золотым светом смирения: смиренный, ни перед кем не заносящийся герой побеждает всех, одолевает все препятствия, и даже на вершину свою, на царство восходит после смиренного плача…
А что же сам автор, сам Ершов? Самое интересное, что он вовсе и не думал связывать свою жизнь с литературой: великий сказочный эпос родился у него как бы сам собой, естественно, без особых усилий — душа родила, почти без ведома своего хозяина. Ну, а затем — назвался груздем, полезай в кузов; один раз сотворив нечто, получив похвалу от самого Пушкина, решил продолжать в том же духе… Но в том-то и беда, что в том же духе не вышло. Он было и начал писать по-своему, по-народному, но публика, критика, наконец, цензура этого не поняла. Он написал народную балаганную комедию из жизни полководца Суворова, и петербургские артисты, как счастье, мечтали получить в ней роль, но тут цензор восстал: «Суворов — великий человек, его в комедию вставлять непозволительно!» Ершов попробовал писать «по-дворянски» — баллады, поэмы, оперные либретто… Не получилось. И Ершов, которого Пушкин назвал равным себе сказочником, Ершов, задушевный друг Владимира Даля и многих других замечательных русских словесников, заперся в своём Тобольске, утонул в служебных и семейных хлопотах — исчез, растворился… Не вышло у него на потребу века сменить балалайку на лиру, пересесть из телеги в карету, из Иванушки-дурачка стать Иваном-Царевичем. Герою «Конька» это удалось, автор «Конька» потерпел поражение. Меня это, честно говоря, не особенно расстраивает: царевичей в русской литературе и без Ершова предостаточно, а Иванушек (настоящих, а не ряженых) по пальцам можно пересчитать. Что сейчас рассказывать о тобольских невзгодах Ершова? Какое нам до них дело? Чем занимался Гомер, завершив «Одиссею»? Клянчил подаяние? Бродил из города в город? Это не важно. И не так важны житейские и литературные горести Ершова, если вспомнить, что этому человеку удалось ни много ни мало — открыть миру один из ликов России. Это дорогого стоит, и это не должно быть забыто, не оценено, пренебрежительно отодвинуто во «второй ряд». Пусть этот гений — смиренный гений, наша задача наградить его смирение достойным венцом.
* * *
Те, кто говорит, будто история не имеет сослагательно наклонения, не понимают самой сути истории. История без сослагательного наклонения теряет смысл, теряет дух, превращается механическую смену событий, во что-то автоматическое, безжизненное… Один деятель выскакивает за другим как фигурки на старинных башенных часах… Нет ничего более чуждого акту свободного Божьего творчества, «исторического художества Бога», чем такое представление. История жива именно тем, что всегда балансирует на узкой грани: «могло быть так, а могло быть совсем иначе»; событие живёт в историческом потоке, выбирая путь среди тысячи возможных, — причём, невыбранные пути остаются в памяти поколений и тоже входят в копилку народного опыта…
Что было бы, если бы Русь отбила Батыя? Что было бы, если бы Пётр Великий удержался на Чёрном море?
…А что было бы, если Маяковский остался жив?.. «Мне при жизни с вами сговориться б надо…»
15. РАБ БОЖИЙ ВЛАДИМИР
«Первый дом, вспоминаемый отчётливо. Два этажа. Верхний — наш… Всё это — территория стариннейшей грузинской крепости под Багдади… На валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось — это Россия. Тянуло туда невероятнейше».
В.В. Маяковский. «Я сам»
Вот посмотрите: всё вышенаписанное Маяковский обозначил как самые драгоценные, самые любимые воспоминания детства — старая грузинская крепость, за крепостью лес, за лесом Россия, — и тянет туда «невероятнейше»! Заметьте же теперь, что и вся жизнь у Маяковского прошла именно так: в крепости чужих, надуманных идей, в лесу заблуждений, а за лесом — Россия, и тянет туда, тянет…
Обвинять Маяковского — дело лёгкое и безопасное. «Он был коммунистом!» Точно, был. «Он был безбожником!» Был и безбожником. «Он требовал сбросить Пушкина с корабля современности!» И тут нечего возразить. «Он — самоубийца!» Ну что ж, пока противоположное мнение не признано официально, приходится признать, что и это правда.
Есть, конечно, такие слова, сказанные другим классиком по другому поводу: «Полюбите нас чёрненькими — беленькими-то то нас всяк полюбит!» Простой и очень православный совет, но у кого хватит сил его исполнить? Да и зачем? Больно он нужен, этот Маяковский!
«— Маяковский вот… Поищем ярче лица — недостаточно поэт красив… — Крикну я вот с этой, с нынешней страницы: — Не листай страницы! Воскреси! Сердце мне вложи! Кровищу — до последних жил. В череп мысль вдолби! Я своё земное не дожил, на земле не долюбил… Что хотите буду делать даром — чистить, мыть, стеречь, мотаться, месть. Я могу служить у вас хотя б швейцаром. Швейцары у вас есть?.. Я любил… Не стоит в старом рыться. Больно? Пусть… Живёшь и болью дорожась. Я зверьё люблю — у вас зверинцы есть? Пустите к зверю в сторожа… Воскреси хотя б за то, что я поэтом ждал тебя, отринув будничную чушь! Воскреси меня хотя б за это! Воскреси — своё дожить хочу!»
Это он к нам обращается.
Вот вы говорите: «Безбожник»… Я не хочу с этим спорить — может быть, только уточнить формулировочку… Может быть, не безбожник, а человек, Бога искавший, но — по разным причинам — не нашедший? Знаменитейшее его богохульство из «Облака в штанах», четыре молодецких выкрика — и все четыре перекрываются одним словом: «Эй вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду! — Глухо… Вселенная спит…» Глухо… Не докричаться до Неба молодцу, не растревожить небесный покой… Надо как-то иначе подходить к Богу… А как? Этого он так и не понял. Мы — умные, мы поняли и потому имеем право пинать всех прочих. А он не нашёл пути, заблудился, сбился с дороги, погиб — вот смеху-то!
Воспоминание о Боге, о небесах, о чём-то, когда-то увиденном, когда-то захлестнувшем душу, но давнем, безнадёжно забытом, кочует у Маяковского из стиха в стих, мучительно и неотвязно. Он хочет избавиться от этого воспоминания, хочет заглушить его — но оно настойчиво возвращается. Всякий, знающий стихи Маяковского, без труда найдёт соответствующие строки.
Вы вот напоминаете мне: «Чтобы в мире без Россий, без Латвий, жить единым человечьим общежитьем» (глобалист!) или даже: «Я не твой, снеговая уродина…» (не патриотично!). А я вам скажу: мир «без Россий, без Латвий» — это Россия, ставшая целым миром. По существу, все разговоры о «мировой революции» в русских устах всегда означали: «весь мир перестроим на русский лад» — и ничего иного. И у Маяковского так же. «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет» — вот именно эту всемирную Россию. Это — лучший патриотизм, патриотизм, признающий, что у родной страны есть не только великое прошлое, но и великое будущее. Патриот, обернувшийся назад, споткнётся на первом шаге, упадёт и больше не встанет. Что мы и наблюдаем сейчас.
А что мы можем противопоставить патриотизму в понимании Маяковского? Помните? «Потомки, словарей проверьте поплавки: из Леты выплывут остатки слов таких, как «проституция», «туберкулёз», «блокада». Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката».
Это тоже к нам обращение. Ну и как, уважаемые господа потомки? У вас не горят щёки, когда вы читаете это? А между тем вы только что получили изрядную пощёчину.
«…Сидят в грязи рабочие, сидят, лучину жгут. Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: Через четыре года здесь будет город-сад!» Что же, Маяковский ли виноват, что сад получился жидковат, что уважаемые потомки его повырубили и загадили? Мне, между прочим, эти стихи остро напоминают пронзительное некрасовское: «Братья, вы наши плоды пожинаете. Нам же в земле истлевать суждено. Всех ли нас, бедных, добром поминаете? Или забыли давно?»
Много вас, всех не упомнишь…
Как легко не простить Маяковского! Как легко тыкать Есенина носом в «Балладу о двадцати шести», в «Инонию», в «Русь Советскую»! Но я хочу сказать всем непримиримым: если, конечно, вы русские люди, задумайтесь о том, что и Маяковский, и Есенин были на ту пору голосом большей (а может быть, и лучшей) части русского народа. Они писали то, что народ чувствовал. Кто ошибался, а кто был прав — предоставим суд Богу. Но не простить Маяковского — значит не простить русских. Не простить своих дедов — если, конечно, вы родились не из пробирки.
Если уж говорить об ошибках Маяковского, то самым чудовищным образом он ошибся, когда возомнил себя юмористом. Вращаясь в той национальной среде, где смехачество есть и высшая мудрость, и добродетель, и способ борьбы за существование, он невольно подстроился под общий лад и стал писать «смешно». О роковой промах! Человек, которому был дан невероятный талант трагика, начал кривляться со скоморохами! Бетховен принялся писать комические куплеты для эстрадников! Страшно подумать о том, чего мы лишились и взамен чего нам даны все эти «Прозаседавшиеся», «О дряни», «Сплетник», «Ханжа», «Трус» и так далее, и тому подобное…
Давайте же не будем забывать, что Маяковский, в первую очередь, — великий русский поэт. Это само по себе дорогого стоит. Он показал, что на русском языке можно создавать мощные стихотворные симфонии, — ничего подобного никто до него не делал. Можно было бы, дабы не огорчать наших очень правильных идеологов, выбросить Маяковского с корабля современности (он ведь и сам сбрасывал с него Пушкина, — хотя, правда, потом сам же и втащил его обратно: мол, «давайте подсажу на пьедестал!»)… Можно сбросить. Переживём. Чего мы только не лишались за последние сколько-то лет. Но… Сегодня одного сбросим, завтра — другого. Глядишь, и до Есенина доберёмся… А после — какие тормоза? Вали всех за борт!.. Всё равно пропадаем!
…Есть целая книга о том, что самоубийство Маяковского было вовсе не самоубийством (Валентин Скорятин. «Тайна гибели Владимира Маяковского». М.: Звонница-МГ, 1998). Книга весьма убедительная, и убедительнее всего в ней то, что автор, не дописав её, как-то слишком скоропостижно скончался. Впрочем, я никого не призываю молиться об убиенном рабе Божием Владимире. Не надо бежать впереди паровоза. Нагонит, раздавит. Я прошу только: женщины, поплачьте о нём немного. Всю жизнь он искал Бога, искал любовь, искал верную дорогу; не нашёл ни того, ни другого, погиб неприкаянным. Поплачьте о нём. Мужчины, скажите просто: «Жаль человека…»
* * *
И о Есенине — тот же вопрос: если бы остался жив, — то?..
16. ПОЭЗИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
…Вот если бы царь не помиловал петрашевцев и Достоевского всё-таки расстреляли? Если бы Лев Толстой погиб при обороне Севастополя? Если бы юный Тютчев был вызван на дуэль и убит? Если бы поручика Фета застрелили в какой-нибудь вооружённой стычке? Если бы Некрасов после разгромной критики своей первой книги стихов взял бы и утопился с горя? Что тогда?
Представьте себе это, хорошо представьте: русская культура без «Братьев Карамазовых», без «Войны и мира», без стихов Тютчева, Фета, Некрасова… Может быть, тогда вы поймёте, чего лишилась Россия с гибелью Есенина. Да, он успел сказать многое, но имейте в виду: и Некрасов, и Тютчев, и Фет лучшие свои стихи написали именно во второй половине жизни…
Россия обретала себя с каждым своим поэтом, с каждым новым стихом она словно бы «вспоминала» себя, вспоминала о своих силах, о своём предназначении, о своём месте в мире. Русская литература имеет стратегическое значение: не будь её, мы бы и не поняли никогда, насколько мы велики, и как высока задача, стоящая перед нами. В сущности говоря, гибель тридцатилетнего Есенина для России то же, что потеря Крыма, только хуже: Крым ещё можно вернуть… Есть такое предание античных времён: враги осадили Спарту, и жители города послали в Афины гонца с просьбой о помощи. Гонец вернулся, ведя за собой немощного старика с лирой в руке: «Это и есть афинская помощь». Спартанские вожди приуныли было, но старик оказался поэтом, гениальным Алквиадом. Он начал петь боевые песни — одну за другой, и воины почувствовали, как души их загораются отвагой. Под песни Алквиада армия бросилась в бой и Спарта победила.
Кто-то сочтёт это сказкой, а я так верю в неё безусловно. В своё время я был поражён, узнав, что, оказывается, убийца Пушкина Дантес и убийца Лермонтова Мартынов были приятелями! Вот так совпадение!.. Или не бывает таких совпадений? Или кто-то прекрасно сознавал, чем для России являются Пушкин и Лермонтов, и — принял меры?
Что касается Есенина, то сейчас, кажется, никто не сомневается, что меры были приняты. Враждующие группировки в большевистском руководстве ожесточённо воевали за поэта: кого он поддержит? С кем он будет? С Троцким? С Бухариным? В конце концов решили: «Так не достанься же ты никому!» Сомнительная польза от Есенина как политического союзника намного перекрывалась несомненным вредом от него, как от русского поэта. Поэта уже при жизни признанного, любимого Россией. Поэта, в котором Россия снова обрела свой голос. Поэта, о котором даже его непримиримый творческий противник, Маяковский, сказал: «У народа, у языкотворца умер звонкий забулдыга-подмастерье». Быть в подмастерьях у Народа — это очень высоко, этого только единицы достойны, и Маяковский знал, что говорит.
И тот же Маяковский верно подметил, что Есенина пытаются убить вторично, после смерти: «Ваше имя в платочки рассоплено, ваше слово слюнявит Собинов…» Да, в советские времена очень старались утопить Есенина в патоке; сейчас взят другой курс — залить его могилу сивухой. От белокурого пупсика до синюшного ханыги — вот диапазон посмертных превращений великого русского поэта.
А была ли вообще хоть одна серьёзная, честная, не продиктованная ничьими партийными интересами, попытка разобраться — кем же на самом деле был Есенин? Каковы были на самом деле его отношения с советской властью? С Церковью? — точнее, с Богом? Что, в конце концов, означает фраза: «Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь»? Кто расскажет о симпатиях Есенина к анархистам? А они были, эти симпатии, — было даже настоящее преклонение перед Нестором Махно; одно время Есенин считал его истинным выразителем русской души, истинным спасителем России в огне гражданской войны; и по крайней мере дважды поэт обращался к его образу: в «Стране негодяев» — атаман Номах (Но-мах — Мах-но), — и в «Емельяне Пугачёве»…
В Есенине крестьянская Россия, Россия большинства, молчавшая много веков, — наконец обрела свой голос. И голос этот прозвучал совсем неожиданно — и для народолюбцев, и для аристократов (как белых, так и красных). Не того ждали. Одни ждали чего-то корявого, грязного, безформенного, другие — сусального, приторного, елейного… Надо сказать, что Есенин по доброте душевной старался угодить и тем и другим, — но его подлинный, не заказанный, не предугаданный голос звучал так сильно, что люди пугались, — как всегда пугаются гения.
Легко назвать Есенина безбожником или богоотступником. Почитайте «Инонию» — если хватит сил дочитать. Да может быть, и не надо дочитывать: «Инония» — не художественное произведение, а некий документ, свидетельство о тяжёлом душевном кризисе. Кто из нас прожил жизнь без кризисов, пусть первый бросит камень в поэта. После такого страшного обострения для человека остаются два варианта: или помереть (в данном случае — духовно), — или выздороветь и больше не болеть. Есенин после «Инонии» не умер, не потерял голос, не потемнел сердцем: стало быть, кризис миновал благополучно. Душа пошла на поправку. Не вина поэта, что процесс выздоровления был прерван столь решительно.
Для меня несомненно, что на момент гибели Есенин переживал творческий взлёт, — его поэзия выходила на новый, более высокий уровень. Именно в такие минуты душа художника наиболее уязвима, и, чувствуя это, заинтересованные лица начинают охоту. На взлёте был убит Пушкин и Лермонтов, на взлёте был убит Маяковский, у которого только перед смертью поэзия стала насыщаться мудростью и спокойной силой… Так и с Есениным… Не наша задача расследовать: кто убил, за что именно, по чьему приказанию… Просто подумайте, просто представьте, чего лишилась Россия… Быть может, именно этого духовного заряда, который Есенин унёс с собой, нам не хватило в 90-е. Скорее всего — именно так и было. Теперь, разумеется, приходится принимать вещи такими, как они есть, — прошлое не переделать. Но может быть, стоит внимательнее присмотреться к настоящему?
* * *
Недавно скончалась поэтесса Надежда Полякова… Как хорошо, что мне сейчас не нужно придумывать интервью с ней! — с Надеждой Михайловной я успел поговорить при жизни…
17. ПОДПЕВАЯ АНГЕЛЬСКОМУ ХОРУ
— Принято считать, что поэзия — это дело молодое, что лучшие стихи пишут в юности… — говорю я знаменитой петербургской поэтессе Надежде Поляковой. А Надежде Михайловне — уже за восемьдесят, а у неё за плечами война и трудные молодые годы… А строки её — острые, живые, глубоко вонзающиеся в сердце, — в них нет ни душевной усталости, ни дряблости, ни равнодушия. Душа поэта растёт всю жизнь, как сосна в поле, и, как сосна, — никогда не облетает. Но я говорю Надежде Михайловне — С годами живость восприятия, наверное, теряется, на место вдохновения приходит равнодушный автоматизм, — не то что в юности…
— Ах-ах-ах! — юность!.. «Играй, Адель, не знай печали!..» Играй, играй… В молодости мы играем в поэзию, играем в любовь, играем в жизнь… Потом становится не до игрушек. А потом наступает старость — и мы осмысляем пережитое, и стихи опять рождаются… И многие, очень многие поэты, чем ближе к старости, тем писали лучше — Тютчев, Фет… Даже и Пушкин, хоть Пушкин и не Бог весть в каком зрелом возрасте погиб, — но и на него прожитые годы влияли благотворно. А то, что я сейчас пишу, мне нравится — мне всегда нравятся только последние мои стихи; и я совершенно счастлива. Да, я совершенно счастлива…
— А всё-таки, в ваших стихах звучит порой какая-то обида на Господа Бога… Или мне показалось?
— Это показалось… Человек, конечно, страдает, но за это, говорят, его Господь и любит… Чем больше страданий, тем больше любви. А обиды нет у меня. Потому что на Бога нельзя обижаться. Это бессмысленно. Если где-то в стихах что-то и проглядывает, то это потому, вероятно, что моя жизнь была трудна… Столько всего пережито! На десятерых женщин хватит. Иногда думаю: «Господи, за что?!» Я выросла при живых родителях, но завидовала детям, которые росли в детском доме: ходила голодная, босая, раздетая, спать негде… Почему я не стала ни воровкой, ни проституткой? — сама удивляюсь. Как-то, видно, не тянуло к этому. Давнее дело, чего теперь вспоминать…
— А как же ваше стихотворение «Ангельское пение»? Там совсем другой настрой:
Я бродила в полях, пропадала в сосновых лесах, Где сверкающий луч чередуется с влажною тенью. И однажды услышала тихий хор в небесах, Тихий ангельский хор — непонятное, странное пенье. И в душе моей детской забрезжил таинственный свет, Свет любви и надежды. Пока это пение длилось, Показалось, что в мире ничего, кроме радости, нет, Моё детское тело в тот миг обрело легкокрылость. Я не знаю — что было? Был слух тишиной обострён, Или детской фантазии звуков земных не хватало? Только ангельский хор показался началом времён, И как будто душа на таинственный зов улетала.— А такой случай со мной действительно был: в чистом поле я услышала какое-то чудесное пение… У нас не было радио, до ближайшей деревни — очень далеко… Я стояла в изумлении и слушала… Несколько минут длилось…
— Это сколько же вам было лет?
— Лет пять-шесть. Я стояла, раскрыв рот, и не понимала, что происходит.
— В таком возрасте, наверное, можно на самом деле услышать ангелов…
— Да. Потому что — одна, и тишина, и лес, и поле, и какая-то внутренняя сосредоточенность, душевная легкокрылость… Были светлые моменты. Мы жили тогда на маленьком, в три домика, хуторке в Новгородской области… Часовенка стояла рядом, была и церковь, был батюшка — отец Николай, и я думала, что он любит меня больше всех прихожан… «Почему?» — удивлялась мама. «А потому, что он, когда причастие даёт, то всем понемножку, а мне — с горкой!» Мама смеялась… «Мама любила церковное пенье, но не было больше церквей. Молясь, опускалась она на колени. Я рядом вставала с ней…» — и так далее… «От бедной мамы осталось наследство — «Богородице» и «Отче наш» … Потом часовню загадили, расписали похабщиной и всё кончилось… А потом и война пришла.
— Ведь многие ветераны вспоминают войну без горечи, даже с некоторым сожалением — всё же это была их молодость, лучшие годы… А вы пишете, что для вас и День победы был печальным днем, полным одиночества и покинутости…
— Победу я встречала в Двинском райкоме комсомола. Все сидели у радиоприёмника, ждали сообщения… Вот, сообщили… Ребята выскочили на улицу, начали палить в воздух, кричать от радости. Я тоже выбежала со всеми вместе, а потом испугалась: как бы шальная пуля при таком салюте не задела. Вернулась в помещение, села и заплакала. А как иначе? Мне было некуда возвращаться с войны. У меня не было дома. Меня никто не ждал. У меня не было довоенного платьица, довоенных туфелек. Мне был 21 год — не старая как будто — а чувствовала я себя тысячелетней — столько всего было пережито. А вы знаете, почему я ушла на фронт? Потому что там кормили и одевали. Там давали гимнастёрку, сапоги и пшённую кашу с чёрным хлебом. До войны у меня этого не было. У меня в стихах есть: «Мама, я теперь сыта!..» Хотя армейская гимнастёрка тоже недолго служила. Когда смотришь фильмы о войне — «А зори здесь тихие» и так далее, — там ухоженные девушки в шерстяных юбочках выше колен, в шёлковых чулочках… Не было этого. Не было. Поверьте мне. Мы ходили затрёпанные — те, кто по-настоящему служил. Только дочки генералов, приставленные к штабам, одевались как в кино, а у нормальных девчонок ничего этого не было. Я глубоко убеждена, что женщинам не место на войне. Глубоко убеждена. И когда говорят, что в женском коллективе рождаются сплетни, то я уверяю вас, что в мужском коллективе сплетен не меньше. Их там больше, и если в коллективе пять мужчин и одна женщина, то Бог знает, что о ней говорят. Говорят и повторяют, и один другому верит… Так заклеймят, что высунуться некуда. Вспоминать войну? Вот я была на вечере ветеранов. Женщины прыгали, плясали — немолодые, неуклюжие… Какое-то жалкое впечатление: ведь они отпевают свою молодость. Кроме молодости там ничего хорошего не было.
— Вы сами какой период творчества своего считаете наиболее удачным?
— Никакой. Все одинаковы. Всегда поздние стихи больше нравятся, чем ранние. Другое дело, что с 1946 по 1953 год после доклада Жданова, я не писала совсем. Я просто себе запретила писать и рифмовать. В голове что-то кружилось, но я не записывала.
— Вы так испугались?
— Не испугалась. Просто поняла: всё, что я писала в молодые годы напечатано быть не может и никому это не нужно. Смирилась. Потом, зимой 1954 года, я написала поэму «Катерина», и она сразу прошла в «Неве». И в конце 1955 года вышла первая книжка моих стихов. И вот теперь у меня стопочка — 27 книг. Я пишу. Я всё время пишу. Есть у меня и книжка прозы — там семь рассказов на сюжеты из Ветхого Завета… Я считаю, что эта проза хорошая, изящная, не дамская. Дамской прозы я не пишу и даже читать её не могу. Что там? — Маша забеременела от Яши, а Яша ушёл к другой, но пришёл Ваня… Это всё чушь, и я этим не занимаюсь. Я не отношу себя ни к женской поэзии, ни к женской прозе, хотя кто-то сказал: «Когда курица начинает петь петухом, она уже яиц не кладёт. Тогда хозяйка отрубает ей голову — и в суп». Я не хочу писать, как мужчины, и в то же время у меня нет женской слащавости.
— Кто из современных поэтов вам нравится? Вы же многих знали — в том числе и тех, которые сейчас считаются гениями… Бродского, например…
— Я, честно говоря, никого не люблю. А Бродский… Бродский ведь не с первого представления получил Нобелевскую: чуть ли не восемь представлений было, пока наконец удалось. Он человек несомненно одарённый, его стихи я могу сравнить с симфонической музыкой. У меня рядом с кроватью полка, на которой стоят стихи, которые мне нужны, которые нравятся. И Бродского томик там стоит. Но нельзя сказать, что я упиваюсь Бродским. Я не однажды слышала его выступления, раз даже сама вместе с ним выступала. Неприятное впечатление. Он на сцене — как еврей на молитве: раскачивался с закрытыми глазами, бубнил, прикрывал лицо ладонью. Но публику это завораживало. А вообще-то, я люблю слушать чтение поэтов. Артист, когда читает, — он преподносит зрителям самого себя, а поэт — он гундосит косноязычно, но стих в таком чтении слышен лучше. Сейчас очень модно читать стихи в сопровождении всевозможных эстрадных номеров: чтобы там и музыка играла, и песни звучали, и танцы живота исполнялись. Так поэзии не услышишь. Но, разумеется, для того чтобы по-настоящему слышать поэзию, надо иметь голову и душу. Надо вникнуть в строчки. Да нужно, чтобы было и то, во что вникать. А если в строчках пустота? Как ведь пишут сейчас? (импоровизирует) — «Я любила, ты любил. Я ждала, а ты забыл. Я дала тебе платок, чтобы ты сморкаться мог. Ты его в карман засунул и рванулся за порог». И такие стихи поются каждый день с утра до вечера этими хриплыми бардами. Слово придумали — «барды»! Боже мой, чего только они не лепечут, чего они не хрипят, чего они не воют! Вот и Высоцкий… Что Высоцкий? У меня были строчки, что он, мол, «понравиться сумел тюрьмам и аптекам и охотно песни пел дорогим генсекам». Он хрипел изо всех окон, изо всех дверей — и после этого говорят: «Ах, его травили!.. Ах, его зажимали!» Если бы его травили, Брежнев и Хрущёв не приглашали бы его к себе на пирушки. Опять же и папа его… Папа его был не простой человек… Но этой темы не буду касаться. Высоцкий сейчас — неприкосновенный, его трогать нельзя. Ну, пусть… Читала я — и что? Большой поэзии нет. И когда после его смерти выступал Окуджава, он тоже сказал, что Высоцкий — не поэт. Тогда на Окуджаву тоже накинулись… Почему его ценят? Потому что сейчас время такое — графоманское. Расплодились графоманы, очень много графоманов! Сотни. Тысячи. Пишут все: от 15-летнего школьника до 90-летнего старика. Все, кто хоть раз срифмовал поздравление на день рождения тёще, всерьёз считают себя поэтами. Раньше графоман был штучным изделием, он приходил в редакцию, и все с ним раскланивались: «Это наш графоман идёт!» А теперь все пишут. И все печатаются. Но это не значит, что в России много поэзии.
— А прежде была?..
— За 80 лет Советской власти, как бы к ней ни относились, в стране рождались очень большие поэты, которые полностью забыты. Их даже не хотят упоминать. Недавно, например, отмечали 90 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина. В своё время он был лицом Ленинграда: большой человек и большой поэт. Говорят, по телевидению его вспоминали, но как-то вяленько, вяленько… А в Ленинграде и вовсе — как будто не было такого поэта. Это — несправедливость. И не знаю: когда-нибудь эта несправедливость исчезнет ли?
— А у вас нету ощущения, что это навсегда?
— Трудно сказать… У меня есть такие строчки: «Для Родины поэты не нужны, а для страны их назначают свыше». Кто-то свыше скажет: «Этого поэта следует считать гением!» И все, как попугаи, начинают кричать: «Гений! Гений! Гений!» И попробуй, возрази этому хору… «Но это же гений! Это всем известно, что он гений!» А сами ни строчки из этого гения не читали. Я бы очень хотела, чтобы хоть один из этих попугаев на память прочёл стихи Мандельштама или Бродского. Нет, не получается. «Гений» у всех на слуху — остальные забыты. Навсегда? Если надо будет, — воскресят. Вот маленький пример: одно время только ленивый не топтал Евтушенко — и за прозу, и за стихи, смеялись над ним… А тут вдруг опять начали цитировать: Евтушенко сказал, Евтушенко написал… Снова вылезает Евтушенко — не сам, а с посторонней помощью. Так что очень трудно сказать, кого мы завтра вспомним, кого забудем.
— Мне всё-таки непонятно: в советское время интерес к поэзии поощрялся, было много литературных объединений… Куда же ушёл читатель стиха?
— Ох, да никуда он не ушёл. Дело в том, что сама поэзия стала неинтересной. Неинтересной! И потом: для того чтобы прочесть хорошее стихотворение, нужно сосредоточиться, надо с головой уйти в строку. А зачем задумываться, если можно не задумываться? Вот ещё, больно надо!
— Но неужели вся нынешняя поэзия неинтересна? Хоть кто-нибудь из молодых стихотворцев вам нравится?
— Есть такой поэт Николай Зиновьев. Я прочитала недавно подборку его стихов и они мне очень понравились. Вот, например:
В степи, покрытой пылью бренной, Сидел и плакал человек. А мимо шел Творец Вселенной, Остановившись, он изрёк: «Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных, Я есть твой Бог. Я всё могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой нуждою ты тесним?» И человек сказал: «Я — русский», И Бог заплакал вместе с ним.Вот это меня пронзило! Слава Богу, есть ещё кто-то, кто понимает, кто чувствует, кто пишет. Не всё ещё потеряно, может быть, ещё и возродимся.
* * *
Вот совсем иное интервью, без оттенка горечи, обиды, — светлое и живое, — и это не смотря на то, что и тут главная героиня — замечательная поэтесса (на этот раз — Ирэна Андреевна Сергеева), и разговор идёт, в общем-то о том же самом…
18. «МНЕ БЫ ПРЕМИЮ ИОАННА МИРОНОВА!..»
— Стихи в редакцию носят и носят!.. Мы уж и объявление давали, что стихов не принимаем, а всё равно не отделаться от «поэтов». Люди уверены, что если содержание правильное, православное, то форма может быть какая угодно… Ни склада, ни лада — всё пустяки, лишь бы о Боге! Может быть, вы объясните народу, почему плохая форма губит хорошее содержание?
— Да потому что во всём должна быть гармония. Господь-то всё замечательным образом устроил: и польза, и красота — всё вместе слито в Его творении. Плохая форма разрушает гармонию, а нет гармонии — значит, ничего хорошего не получится. Но бывает, частенько бывает, когда человека объявляют православным поэтом не за стихи, а за то, что у него вера крепкая. Вот пример: матушка Таисия Леушинская — замечательная матушка, великая монахиня, но зачем из неё ещё и поэтессу делать, не понимаю… А пытаются… Но какая же она поэтесса? Не надо преувеличивать. Она великая молитвенница, и стихи её — это молитвы, только чуть-чуть подрифмованные. Но сила-то их не в рифмовке, и стихами их назвать никак нельзя.
— Да нужна ли какая-то особая «православная поэзия»? Разве не достаточно стихам быть просто искренними, добрыми, умными, красивыми?
— Ну, а если талантливый поэт хочет писать о своей вере, — что же вы ему запретите, что ли? Отец Андрей Трохин, например, — я его с удовольствием печатаю в «Дне русской поэзии». Или о. Сергий Григорьянц. У него необыкновенные стихи — церковные, написанные человеком, знающим храм Божий изнутри… Стихи священника, одним словом:
«В радости вселенской вышел из Чесменской, еле жив от счастья после со-причастья. Знаешь, Отче мой, труден путь домой, солона истома… Смешан снег с песком, а ключи от дома — под половиком».Но ведь мы печатаем в «Дне русской поэзии» не только верующих. Есть такой поэт — Сергей Николаев. Он странный такой, неприкаянный, пишет про бомжей… Необычные стихи, но очень талантливые. Конечно, бес его водит и никак не оставит, но ведь и совесть в нём есть! Он преподаёт русский язык, он любит русский язык… Надо его принимать в Союз писателей.
Надо признаться: поэты — несчастные люди. Себя мне не жалко, а вообще поэтов — всех — мне очень жалко. Они же невольники: у Бога или… или не у Бога. Вот один мой знакомый поэт — так сильно пьёт… Я ему говорю: «Остановись, ведь у тебя пропасть под ногами…» — «Нет, — отвечает, — мне ещё рано останавливаться, на меня ещё женщины на улице заглядываются!» — «Так это же не женщины! Это смерть твоя на тебя смотрит!»
— Не кажется ли вам, что нынешняя поэзия слишком приземлена, что в ней мало «поэтического» — а потому она и не «греет, не волнует и не заражает»?
— Ну, не знаю!.. Я помню столько прекрасных стихов, я знаю столько прекрасных поэтов. Даже если у человека одно-единственное прекрасное стихотворение — это такое счастье!.. Такие пронзительные есть стихи! Временем упадка поэзии считаю так называемый Серебряный век. Об этом даже сам термин говорит: Серебряный век, а не Золотой; серебро в ту пору ценилось мало. В каждой приличной семье ели на серебре: у моих бабушек и дедушек была серебряная посуда, да разворовали всю после революции. Вот вам и Серебряный век!.. Поэты начали уходить от Бога и за это получили по заслугам… А сейчас не поэзия в упадке, это общество в упадке, читатели. Любви в людях мало, пропала способность отзываться на поэзию. А если общество пришло в упадок, то и поэты ходят неприкаянными… Но талантов от этого меньше не стало, нет.
— Например?..
— Пожалуйста: Сергей Поликарпов — прекрасный пример. Он ещё не член Союза пока, но я его стихи очень люблю. Всем рекомендую его книжку «Верую, надеюсь и люблю». А предыдущая называлась «В нашем храме». Он закончил курсы катехизаторов, певчий он… С этим человеком интересно говорить и о поэзии, и о религии. Все им зачитываются, все его любят, даже те, кто мало понимает поэзию. Люблю я Бориса Орлова — большинство его стихов, но только те, где он не увязает в бытовщине, в негативе. Я редактировала две его книжки и старалась не включать такие стихи: на негативе не проживёшь… Очень люблю Ларису Кудряшову: у неё бывают взлёты. Да не могу я всех перечислить! У каждого найдётся отличный стих, и я плачу над такими стихами. Ну как это, чтобы поэт да хотя бы раз в году не написал блестящее стихотворение?! Не бывает так!
Русские могли бы дружно жить, если б не владели бы талантом. Как талант с талантом подружить? Каждый малый мнит себя гигантом. Только зелье может примирить на момент, покамест разливают на троих… Да что там говорить! Сколько лет «пьют кровь» и проливают.— Вы с такой любовью говорите о чужих стихах… Наверное, из этой любви и родились альманахи «День русской поэзии».
— Из любви, да… Вы же знаете, что в нашем городе с начала 60-х годов выходил альманах «День поэзии». Потом он прекратился, и я поняла, что требуется некое продолжение, но несколько иное… Тот «День поэзии» был, в частности, обременён переводами… Я подумала и назвала: «День русской поэзии» — именно русской. Дело начиналось в 1993 году, и я, конечно, сразу же получила ярлык: вот, мол, красно-коричневая! Между прочим, и обложка альманаха первоначально была решена в красно-коричневом цвете — хороший цвет, благородный. Вы говорите — любовь… А как не любить стихи, например Ярослава Любимова, которого мы публикуем в «Дне русской поэзии»? Он сам казак, и тема у него казацкая, много исторических баллад. Я, конечно, приветствую в первую очередь православных поэтов, но ведь есть люди, которые ещё не нашли дорогу к Богу, — люди потерянные, но хорошие. Мы и их печатаем, лишь бы эта потерянность не превращалась в негатив. Негатива, сладострастного описания всевозможной грязи я не признаю.
Смотреть на лица молодые русоволосых земляков и думать: сколько у России в запасе песен и стихов! И говорок рязанский, псковский, речей естественная стать, и даже облик их неброский — чтоб душу легче понимать… Смотреть на них и думать: снова, где травы юные встают, придут Кольцовы и Рубцовы и песни новые споют.Да, вот и о Рубцове речь зашла… Мы с Колей были вместе в одном лит. объединении… Светлая сторона русской поэзии так отчётлива видна в его творчестве — особенно тогда она была заметна для меня, на тёмном фоне начала 60-х годов… Трудно такой свет нести, возможно, поэтому-то самых ярких русских поэтов так часто ждёт безвременная кончина.
Вот ещё один тому пример: замечательная поэтесса — Галина Смирнова. Она так и не успела увидеть свои стихи напечатанными в альманахе… В последних стихотворениях у неё появилась тема Бога. Мы с ней делали первые шаги к вере. Отпевали её в чудесной часовне на Южном кладбище. Мне пришлось нести гроб — это было такое сильное впечатление… В гробу у неё было светлое лицо. И батюшка потом сказал: «Мне было легко её отпевать». Так же точно и маму мою хоронили: светло, без печали…
— Как вы находите таких талантливых поэтов, если они не члены Союза?
— Само складывается… Бог меня с этими людьми сводит. Помню случайное знакомство с моряком, капитаном Виктором Демидовым. Он шёл тогда к Богу, переосмыслял свою жизнь, а в результате получилась книга стихов «Молитва капитана»… Я долго общалась с ветеранами войны, у нас был целый поэтический кружок… Потом вышел общий сборник членов этого кружка под названием «Было так»… Я их очень люблю, ветеранов. Они для меня — святые люди. Они меня защитили, они спасли меня.
Помню Сталина голос. Он был не стальной, а родной. Он пронёсся над целой страной и с победой поздравил, и теперь говорить может только больной, что Господь не управил.Я сугубый консерватор, недаром мне дали премию «Традиция»… У меня все премии смешные, а по деньгам — ноль. Но я бы не хотела иметь премию имени Анны Ахматовой. Не хочу! Мне не интересно это имя. Вот если бы была литературная премия имени о. Иоанна Миронова!.. Я бы была рада такую получить!
А вообще-то поэту в быту очень нелегко. Очень нелегко поэту среди непоэтов — это такая тягость, такой ужас. Это крест, особенно если речь идёт о женщине. Чужой поэтический талант окружающие с трудом переносят. Было у меня такое стихотворение в молодости написано:
Лисы были ласковы, бобры были добры, лапками и глазками звали из норы. Волки были вежливы, медведи каждый раз услугами медвежьими баловали нас. Гладили нам руки мягкие ежи, были все гадюки безвредней, чем ужи. Кроткие овечки — что уж говорить!.. Только человечки не давали жить.Кстати, за эти стихи в начале 60-х годов газета «Смена» объявила меня и декадентом, и чуть ли не диссидентом…
— Поэтический талант как-то отличается от прочих талантов?
— А что такое вообще талант? Я считаю, что большинство людей талантливы. Все созидательные люди талантливы. Но не обязательно в стихах. Стихи — это особое, стихи — это некое новое бытие слова. А слово — это само по себе понятие священное. Поэты работают со священным материалом, а значит, должны ему соответствовать — хоть как-нибудь, хоть в меру сил… И надо иметь Божие благословение на подобный труд, а благословение это люди, наверное, получают от рождения. Сильное желание писать стихи — это ещё не талант — это просто склонность к графомании. Спаси их Господи, тех людей, которые хотят петь, не имея голоса. Что им посоветовать? Остановитесь, присмотритесь к себе, поймите, что у вас получается лучше — вот тем и занимайтесь.
— Почему среди женщин есть много прекрасных — даже гениальных — поэтесс, а прозаиков нет?
— Склад ума должен быть другим у прозаика — не женским, системным. Для женщины и поэтический-то дар невероятно тяжёл. Если женщина живёт для поэзии, её уже не хватает ни на что иное. У меня нет детей — и слава Богу за всё. А вот у Ахматовой был сын, но разве можно считать её настоящей матерью? Нет, как это ни печально… У Цветаевой были дети, но разве она воспитывала их по-настоящему, разве она знала истинную материнскую любовь? Что-нибудь одно — или стихи, или семья. Тут надо отрешиться от всего.
Когда я стану умирать, кто будет в головах рыдать? — Я не жена, не мать… Пусть надо мной прочтут стихи, отмолят все мои грехи, легко мне будет спать. А ты, мой милый ученик, к таким заветам не привык, да надо привыкать…— Что же это за дар такой, который отрешает человека от всего житейского?
— Особым Божиим промыслом он даётся, так я считаю. Господь даёт тебе его, а уж как ты распорядишься…
— Так не сродни ли это монашеству?
— Ну, это вы уж чересчур… Нет, ни в коем случае. Куда мне с монахами равняться… Но, разумеется, хотелось бы. Хотя, в этом случае от стихов пришлось бы отказаться… Но если на православной выставке, где мне как-то пришлось продавать свою книжку, ко мне подходили люди и говорили, что находят в моих стихах ответ на какие-то тайные вопросы души… Разве это моя заслуга? Но к этому сразу не придёшь… Надо дожить до моих лет, чтобы понять кое-что в жизни, и надо потерять любимую маму. Для меня смерть мамы — особое событие…
— Не тот порядок слов! — мне говорила мама, в родимом языке моём педант. Я слушала её… На что была упряма, но верила в родной её талант. — Логически неверно ударенье, — мне мама говорила иногда. Ах мама, математик от рожденья! И мне знакома логика труда. Теперь, когда слова стоят в порядке, порою просто не хватает слов… И не хватает дней… И ночи кратки… Иной порядок снов.— Простите, я не совсем понял… Ваша мама, по этому стихотворению судя, учила вас писать стихи? Это так?
— Тут генетическое что-то. Я первый свой стих сочинила в три года… Мама моя писала стихи, а папа — прозу. Мама — это был мой творческий руководитель, — чистый человек, её все любили. Она была корректором «Дней русской поэзии» и редактором всех моих книг. Даже на смертном одре лёжа, в свои 96 лет, она отбирала мои стихи для московского «Дня поэзии». Говорила мне: «Ты называй первую строку стихотворения, а я скажу, надо его публиковать или нет». Она все мои стихи помнила! Родилась мама в большой, дружной и очень верующей семье в 1904 году, но сама была нецерковна. Это понятно: когда революция нагрянула, она ещё заканчивала гимназию… Но свет Христов в ней горел, и греха она боялась… Она, например, не могла соврать. Мне звонит кто-то; я говорю: «Мама, скажи, что меня дома нет». — «Я не могу». — «Почему?» — «Но ты же дома». Когда я стала воцерковляться, приглашала батюшек домой, мама не возражала — присматривалась, молчала… Как могла, я пыталась привести её к Богу, и она не отталкивала меня в этих попытках. Помню, перед самой смертью лежит она на кровати, вытянувшись, с закрытыми глазами. И вдруг у неё начинает меняться выражение лица: сначала на нём отражается страх, потом радость, блаженство и, наконец, смирение, мир… «Мама, ты не ангела ли увидела?» — «Наверное…» — отвечает… На сороковой день снится мне сон: стою я в каком-то безвоздушном пространстве, поодаль от меня мама в том костюме, в котором я её похоронила, за столиком, в точности повторяющим форму кануна. Вокруг сидят старцы рядами, один над другим, одеты не в белое, но белобородые. И я говорю им: «Я всё делала как надо! Я была всё время с ней, я старалась!» Вот и весь сон.
— С тех пор, как вы обратились к вере, не возникало ли у вас желания отказаться, отречься от своих старых стихов?
— Конечно. Обязательно! У меня есть, например, такое: «Был бы Бог, Он бы увидел, как любила я тебя». Но я же некрещёная тогда была! И всё же, если я и приблизилась к Богу, — то роль поэзии тут очень велика. Она заставляет глубже чувствовать, зорче видеть. Я в молодости работала заведующей читальным залом в библиотеке слепых…
Я видела многих слепых. Слепые меня не видали. Но души упрямые их частицу моей разгадали. И я выбирала свой путь, бродила, искала пределы. Лишь стоило к горю прильнуть — прозрела, прозрела, прозрела…
— Ирэна Андреевна, а есть у вас стихотворение, которое вы любите больше остальных? Есть? Прочтите его пожалуйста.
— С удовольствием.
Горит икона золотая, не увядает райский сад. Ах, мама, ты совсем седая и у тебя печальный взгляд! Ах мама! Горести растают, как майский снег, как невский град… Ведь есть икона золотая и для страдальцев райский сад.* * *
Не могу не привести недавнее интервью с ещё одним современным поэтом — Борисом Александровичем Орловым. И снова — вопросы повторяются, ответы — различны…
19. ЖИТЬ, СЛОВНО ПЕСНЮ ПЕТЬ
— …Я ведь из деревни, — из старинной русской деревни на берегах Рыбинского водохранилища. Отец — бригадир, мать — зоотехник… В старину у нас гремели страшные битвы с татарами, — и представьте себе, отголоски этих битв донеслись до современности: за нашей деревней был большой татарский могильник, — русских воинов хоронили на ближайших сельских кладбищах, а убитых татар закапывали подальше от людского жилья. Ребята частенько наведывались на это захоронение и приносили домой то обрывки монгольской кольчуги, то рукоять меча… В детстве я насмотрелся на такие находки, и теперь для меня татаро-монгольское нашествие — не параграф из учебника истории, а что-то живое, прочувствованное, факт из собственной биографии.
Так рассказывает поэт Борис Александрович Орлов, бывший офицер-подводник, а ныне — председатель Санкт-Петербургского отделения Союза Писателей России.
— Русская деревня — удивительное явление. В её почве все русские корни переплетаются, вся русская история видна в ней, как в капле росы. Все войны, вся слава, все беды России… В наши края, например, частенько наведывался Лермонтов: сейчас, когда читаю его, всегда помню, что он ходил по нашей земле, видел то же, что видел и я… Помню свою прабабушку — столетнюю, крепкую старуху, — а она помнила, как отменили крепостное право: вот ещё одна живая ниточка тянется ко мне из глубины минувшего. Мои двоюродные деды служили на флоте — в Первую мировую и гражданскую, — участвовали в Кронштадтском мятеже на стороне восставших, после разгрома ушли в Финляндию, а после амнистии вернулись на Родину. Вот, кстати: сейчас много говорят о расстрелах кронштадтцев, но никто не вспоминает о том, что была и амнистия… Советскую власть рисуют в таких чёрных тонах, а я читаю эти «исторические» писания и только удивляюсь: до чего же написанное не похоже на то, что я видел своими глазами!.. Я жил среди работящих, порядочных, дружных людей, которые трудились на совесть, а в торжественные дни собирали на улице общий стол, и деревня как одна семья встречала свой престольный праздник, Воздвижение Креста Господня или советский Праздник урожая.
— Вы, наверное, и к вере начали приходить именно тогда — в годы своего деревенского детства?
— Двоюродная сестра моей бабушки была монахиней, но жила в деревне, и дом её, весь наполненный иконами, был у наших православных вместо церкви. Частенько родители, уходя на работу, оставляли нас с сестрой у этой бабушки, мы засыпали на печке под дружное чтение акафистов и канонов. Отец нисколько не тревожился, что мы-де отравимся там религиозным дурманом: он был твёрдым атеистом, но при этом к верующим людям относился с уважением и за веру никого не осуждал. Он прошёл всю войну, не раз глядел смерти в лицо, трижды на него приходили похоронки, а он всё-таки вернулся живой, — и в глубине души он понимал, что его не простая случайность хранила. Так я получал первые понятия о вере. Наверное, воспоминаниями о тех днях навеяно такое, написанное ещё в советские годы, стихотворение:
«Белая церковка в березняке, белая птица на белой руке. Льётся, смиренной молитвой согрет, с белого купола ангельский свет. Словно лампаду, Господь, не гаси белую жизнь в Православной Руси. В белые, майские, тёплые дни белую птицу мою не вспугни».Второй раз глас Божий я слышал (не впрямую, конечно) много позже, когда был уже офицером и служил на атомной подводной лодке. В походах, постоянно ощущая близость страшного, разрушительного, смертоносного оружия, я не раз задумывался о том, на каком тонком волоске держится человечество: чей-то безумный приказ, чья-то ошибка, неточность приборов, — и всему конец! Кто же удерживает нас? Кто нас спасает? Не может быть, чтобы всё держалось само собой!.. «С мечом играли и с огнём, смешали быль и небыль. Наш век — наш дом. Мы сами в нём переставляли мебель. Но стал бездомен человек, мир внутренний разрушен. Мы обустраиваем век, не обустроив души» …
— Наверное, многие удивятся: как это служба на военной подлодке сочеталась у вас с поэзией…
— А что же тут удивительного? Разве мало было поэтов среди русских офицеров? И Лермонтов, и Фет, и Гумилёв… Не подумайте, что я ставлю себя в ряд с великими, — просто хочу сказать, что военная служба отнюдь не убивает в человеке любовь к поэзии. Что до меня, то мне она только помогала. Я заочно учился в Литературном институте, и командир нашей подлодки, — человек суровый, деловой и очень справедливый, — всегда беспрекословно отпускал меня на сессию. А вы представьте, что это значит: отпустить с подводной лодки офицера, командира отсека, отвечающего за работу атомных энергетических установок!.. Я очень благодарен флоту; он — жизнь моя. Недавно написал стихотворение:
«Умирал великий флот Союза — флаги со звездой срывал приказ. Скатывались якоря из клюзов, словно слёзы из ослепших глаз. Уходили с палуб офицеры на причалы, как на эшафот. И надежды рушились, и нервы рвались. Погибал без боя флот. Выбросили — и на барахолку, и в металлолом, и под волну… Умирал великий флот, поскольку был не в силах пережить страну».— Так значит, вы и сейчас находите время для сочинения стихов? Руководящая работа, как будто, не располагает к занятиям поэзией…
— Пишу и сейчас, — и не меньше, чем раньше. И потом, что такое — «занятия поэзией»? Поэзия — это не занятие, это состояние души, а душа — она найдёт возможность взять своё. Я живу в Кронштадте, у меня на дорогу в Петербург и обратно каждый день уходит по четыре часа, — вот в дороге и приходят стихи. «В чашке чёрный кофе. Ломтик хлеба. Благодать. Душа летит в зенит. Синее фарфоровое небо ласточкою в воздухе звенит. Выпью кофе. И глаза закрою. Лучик солнца задрожит на лбу. Птичий май весёлою листвою, как водою окатил избу. Не хочу ни шума, ни участья. В шуме — этим душу не согреть. Милое доверчивое счастье — жить открыто, словно песню петь». Другое дело: не хватает времени аккуратно переписать собственные стихи, рассортировать, набрать на компьютере… А руководящая работа? Тут мне флотский опыт помогает.
— Как глава Санкт-Петербургской писательской организации, посоветуйте читателям, что из написанного в последнее время стоит почитать?
— Посоветовать-то я могу многое: люди пишут, пишут интересно, глубоко, красиво… Да как читателю найти эти книги? Тиражи-то мизерные! По 500, по 100 экземпляров… Вот, разве что в Книжной лавке писателя… Недавно Людмила Разумовская написала прекрасный роман «Русский остаток». Иван Михайлович Леонтьев издал книгу «Грядущее — по делам твоим» — сборник повестей и рассказов… Вячеслав Овсянников, Владимир Алексеев — замечательно пишут! Очень много талантливых писателей, — всех не перечислишь. Нельзя не вспомнить и такого члена Союза писателей, как Александр Григорьевич Раков и семь его прекрасных книг. Великая русская литература живёт, — но беда в том, что денежные мешки поставили между писателем и читателем железный занавес, через который пробиться очень тяжело. В советское время наши книги читали бы в метро, о них бы спорили, они имели бы какой-то отклик в людских душах, — а сейчас о них просто никто не знает. Наши писатели лишены возможности влиять на молодёжь, — теперь на молодёжь влияют телевизор и интернет, а нас аккуратно отодвинули в сторону. Слава Богу, что сохранился сам Союз Писателей! Ведь в начале преобразований многие говорили: нам не нужно никакое объединение, это-де пережиток тоталитаризма!.. Сейчас все понимают: в современных условиях писателю без союза не выжить. Раньше говорили, что бизнес станет помогать культуре… Кто сейчас питает подобные надежды? — все поняли, что бизнес зациклен только сам на себя. Раньше говорили, что писатели могут группироваться вокруг издательств. Но издательства — это тоже коммерческие организации, и, по большому счёту, до творчества им дела нет. «Ты-то откуда? А ты-то откуда? Неразбериха — гнилая вода. Горе не горе. Беда не беда. Из ниоткуда бежим в никуда. Будет ли лучше? Не стало бы хуже! Смутное время — мутная лужа». Сегодня всем ясно: только объединившись в союз, творческие люди могут отстаивать культуру, защищать наследие классиков, воспитывать себе достойную смену.
— Борис Александрович, а что, если человек «с улицы» захочет зайти на Звенигородскую, 22, — вы его выгоните?
— У нас двери ни для кого не закрыты, — мы же не элитный клуб. Вот, скажем, заседает секция поэзии, поэты читают коллегам свои новые стихи: пожалуйста, звоните нам, приходите, слушайте. Если вы, допустим, не любите поэзии — у нас есть и другие секции: секция прозы, драматургии, документальной прозы, детской литературы… Отчего же не прийти на их заседания: узнать новости литературной жизни, поучиться у профессионалов?.. Вот только не думайте, что здесь можно издать свои произведения: издательством мы не занимаемся. А в остальном… Мы проводим передвижные книжные выставки в детских домах, реабилитационных центрах и школах-интернатах. Мы устраивали серию вечеров, посвящённых Гоголю, Пушкину, современным поэтам, живым и недавно ушедшим… Одним словом, именно для того, чтобы люди знали, что литература ещё существует, должны быть творческие союзы. Сейчас, когда враги культуры объединены и действуют в строгой организации, по хорошо продуманному плану, одиночки не смогут им противостоять: их сомнут, раздавят разрушительные силы нового мирового порядка. Только вместе мы сможем дать отпор разрушителям и сохранить то великое, что выработала русская культура за многие столетия.
* * *
Столетия русской культуры… Я — не историк, я — журналист, но журналист православный — вот, в чём дело. Для православного человека нет ничего безвозвратно ушедшего: ни людей, ни их деяний. Вот почему мне время от времени хочется обращаться к персонажам историческим: они могут рассказать сегодняшнему читателю немало полезного. И всё-таки, я не историк, я не пишу монографий, не составляю летописи; мой жанр — быстрая журналистская зарисовка, портретный набросок…
20. АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Был он человеком статным, на лицо приятным, был хозяином радушным и в беседе не скучным; был, по-нашему говоря, хорошим спортсменом, а с другой стороны — и старательным постником (нам такого поста и недели не выдержать), знатоком церковных служб, примерным семьянином. Сверх того, обладал он той особой скромной мудростью, которая позволяла ему не заноситься ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, но всегда следовать путём праведников и мудрецов, срединным, царским путём.
А каким ещё путём ему следовать, если он и был царём — Государем всея Руси Алексеем Михайловичем Романовым?
Любят сравнивать Алексея Михайловича с его младшим сыном Петром Алексеевичем. Одни говорят: при царе Алексее Русь точно в раю жила, а Пётр её в ад спихнул. Другие, напротив, утверждают, что Алексеевская застойная Россия сидела по уши в болоте, а Пётр придал ей какое-то движение, заставил русских побегать.
Что тут сказать? Страна — как человек: иногда ей нужно потрудиться, иногда — отдохнуть, иной раз — повоевать, а порою — воспользоваться плодами мира; правителю же важно не ошибиться, не перепутать времена. В чём нуждалась Россия в годы царствования Алексея Михайловича? Наверное, всё же в отдыхе, в мирной передышке. Из шторма Великой Смуты вышла она изрядно побитой, разорённой, обезлюдевшей, но — Победительницей. Надо было набираться сил перед новыми бурями. У отца Алексея Михайловича, у первого из Романовых, Михаила Феодоровича, сил хватило только на то, чтобы хоть как-то одолеть самую страшную разруху, вывести страну из глубокого беспамятства; второму Романову следовало больную страну вылечить, поставить на ноги и вывести её в ряд с прочими державами. А у Петра задача была иной: вырвать Россию из мировой провинции и сделать Сверхдержавой, Империей. Всё делалось постепенно, у каждого государя был свой фронт работ, и теперь мерить их одной меркой, как говорят, «не вполне корректно».
Алексей Михайлович был идеальным государем для переходного периода — от разрухи к величию. Он не любил резких движений — он сам старался жить в мире и благоденствии и людям не мешал обустраиваться. При нём Россия могла спокойно залечивать раны, набираться сил, отдыхать… Могла, но сумела ли?
Нет, всё не так просто. Если бы Россия была одна на планете, если бы не было под боком той же Польши, которую следовало окончательно сломить, если бы тайные враги не строили козни, если бы, если бы…
На долю Алексея Михайловича выпало по крайней мере три серьёзных испытания: война с Польшей, церковный раскол и Разинский бунт. Все три он одолел блистательно. Может быть, только раскол… Но об этом позже.
Кстати, если приглядеться, то не трудно заметить, что все три беды выросли из одного корня. Одна сила двигала и польскими панами, и расколоучителями, и бунтовщиками-разинцами: страну хотели взять не мытьём, так катаньем.
Войну с Польшей Алексей Михайлович вёл ни шатко ни валко — и это правильно. Вступать в большую битву было рано, а так, методично, щелчок за щелчком… Глядишь, и Украина отложилась от Польши и попросилась под руку Московского государя… Великое дело! Почему никто не говорит об Алексее Михайловиче как о Воссоединителе России? Он заслужил эту славу!
Раскол — страшное дело, до сих пор не зажившая рана… Был он следствием тонкой закулисной игры, цепи сложных интриг: кто-то хотел устроить в России резню, подобную драке католиков с гугенотами, кто-то хотел сделать из Никона «православного папу». «Священство выше царства» — этот никоновский лозунг звучал совсем по-римски!.. Силы были задействованы значительные, выявить все корни международного заговора не представлялось возможным.
Алексей Михайлович сделал всё, что было в его силах: не поддержал ни ту, ни другую сторону; наказал экстремистов и справа, и слева; староверов сослал в Сибирь, Никона — в Новгородский Ферапонтов монастырь. Все поняли, что царская власть выше раздоров, что она одна — залог единства страны и веры.
Восстание Разина… Очень странное восстание… Зачем это главарь каспийских бандитов из своего благодатного для разбоя края, где он мог жить припеваючи, двинул на Москву? Что он там забыл? Зачем звал опального Никона на свою сторону? Почему вырезал на своём пути всех священников и монахов? Алексей Михайлович расправился с Разиным быстро и решительно, — а для того чтобы всё произошло как можно быстрее и решительнее, двинул против бунтовщиков войско, обученное иноземному строю. Умел воевать, когда нужно было.
Алексей Михайлович сделал всё, чтобы его наследнику досталась Россия здоровая, сильная, спокойная, готовая к великим свершениям. Не его вина, что умер он слишком рано (всего-то в 47 лет!) Не его вина, что трон после него достался больному, чуть живому царевичу Феодору. Не его вина, что после смерти Феодора власть явочным порядком захватила Софья, чьё властолюбие было куда больше способности к государственному мышлению. Не его вина, что Софья едва не утопила страну в стрелецких и раскольничьих мятежах. Не его вина, что Петру пришлось брать законную власть едва ли не ценой гражданской войны…
Когда Алексей Михайлович умер, царевичу Петру было всего три года. Пётр не помнил отца. Отец не успел как следует понянчится с младшим сыном; он и не знал, что маленький Петруша когда-то станет царём. Отсюда и разительное внешнее отличие между двумя этими великими царствованиями. Вышло так, что Петру пришлось начинать чуть ли не на пустом месте. Он вышел не из отцовской России — спокойной и уверенной в себе, — а из России Софьиной, бунтующей, готовой к новой кровавой смуте. Эту Россию он ненавидел и всей душой стремился к новой, великой. Петровская империя мало походила на державу царя Алексея, но какая-то главная, глубинная, единственно важная связь разрушена не была: Россия по-прежнему шла по своему пути к высотам земным и духовным.
…Алексей Михайлович так и останется в русской истории «самым счастливым из русских царей», тем сказочным царём-батюшкой, который сидел в Москве в расписном терему, выезжал на соколиную охоту в шитом золотом кафтане, который самолично изволил бранить дьячков в церкви, когда те путали службу; который купал в проруби провинившихся слуг, а потом награждал их с непомерной щедростью; который в праздники ел лебедей и печатные пряники, а в пост — одни солёные огурцы; который выбирал невесту из сотни «спящих красавиц» (со всей России свозили к нему, жениху, боярских дочек, во дворцовых палатах укладывали на кровати, укрывали одеяльцами, и, пока те спали, царь ходил от одной к другой — выбирал самую красивую)… Царь, который исцелил Россию от одной смуты и не допустил другую.
* * *
Бывает так: смотришь мысленным взором на длинный ряд исторических портретов и вдруг почувствуешь на себе чей-то живой взгляд, почувствуешь тепло дыхания… Вместо страницы из учебника перед тобою — человек из плоти и крови, — и уже не можешь относиться к нему как к «историческому персонажу», уже видишь в нём своего знакомого, едва ли не друга. Так было у меня с Александром Даниловичем Меншиковым.
21. ГЕНЕРАЛИССИМУС ДАНИЛЫЧ
Об Александре Даниловиче Меншикове мы судим главным образом по кино. «Пётр I», «Юность Петра», «В начале славных дел»… Жаров и Ерёменко — артисты замечательные, образы, созданные ими, — яркие, сочные, правдоподобные, узнаваемые… Никому и в голову не придёт, что на самом деле Меншиков мог быть иным, не таким, каким мы видим его на экране. А каким мы его видим? — ловким плутом, хитрым царедворцем, подхалимом, пакостником, вором…
А так ли это было на самом деле?
…Принято считать, что свою головокружительную карьеру Светлейший начинал, торгуя пирогами с зайчатиной, кои пёк его отец. Не то чтобы мы это хотим оспорить, но заметьте себе: пироги с зайчатиной — это всего лишь одна из версий, а всех их насчитывают не меньше десятка, столько же правдоподобных, сколь и бездоказательных. Меншиков шагнул из кромешного мрака безвестности и почти сразу просиял, как одна из ярчайших звёзд русской истории.
Он был замечательным полководцем. Не Суворовым, допустим, но военная удача его любила, и воевать он умел как раз по-суворовски «не числом, а умением». Когда при штурме Нотебурга Петр уже решил, что дело проиграно и приказал трубить отбой, поручик Меншиков со своим отрядом врезался в шведские ряды и сломил сопротивление врага; Нотебург был взят. Александру Даниловичу принадлежит вся слава Калишской победы — разгрома прославленного шведского генерала Мардефельда, и победы у Переволочины, где он пленил восемь тысяч вражеских солдат, офицеров, генералов и самого фельдмаршала Левенгаупта. Доля его в Полтавской победе — если не решающая, то значительная. Перечислять его виктории можно долго, но вот что ещё важно: никогда Данилыч не руководил войсками из укрытия — всегда сам бросался в бой, в самую его гущу, за что не раз по-дружески журил его Пётр.
Он был блестящим организатором. Именно он внушил русским солдатам первые понятия о дисциплине; он писал для войска уставы и артикулы; он быстро и чётко выстроил Олонецкую верфь, которая тут же начала спускать на воду первоклассные корабли. Он — столичный губернатор, наравне с Петром должен носить имя первостроителя Петербурга. Забот у тогдашнего губернатора было не меньше, чем у нынешнего: продукты, например, доставлялись в новую столицу лишь по воде — а это способ не из самых надёжных. Требовалось немало изобретательности и энергии, чтобы в короткий срок навигации успеть заготовить впрок как продовольствие, так и строительные материалы. Светлейший, отнюдь не обладая могучим здоровьем, с пяти утра принимался за дела и трудился до позднего вечера, прерывая работу только для вынужденного участия в увеселениях петровского двора. Буйные придворные попойки того времени он посещал исправно — положение обязывало! — но, кажется, тяготился ими, ибо натуру имел скорее положительную, не разгульную.
Да, он был примерным любящим супругом и заботливым отцом. Блуд терпеть не мог; в армейском артикуле писал: «Никакой явной блудницы у войска ниже в гарнизоне, ниже в походе, ни в обозе не держать, но доносить и того часу чрез профоса (палача) выгнать… Прелюбодеяние насильством конечно приносит с собою смертную казнь». Трогательна его переписка с женой Дарьей Михайловной, полная самых нежных и почтительных оборотов («Друг мой о Господе! От сердца любезнейшая!»); всякий раз перед битвой он заверял жену, что в баталию-де сам не полезет, чтобы не волновалась за него зря (и всякий раз летел в самое пекло баталии, чудом оставаясь невредимым). Его адъютанты, помощники, слуги, наконец, солдаты, служившие под его началом, всегда знали, что их челобитные Светлейшему никогда не останутся без ответа: князь рассмотрит, примет меры, не забудет, не обидит. Столь же трогательно (и искренне!) заботился Меншиков и о царских детях: из Петра отец был плохой, а Данилыч мог и с царевичем поиграть, и с царевнами поболтать… Любил строить церкви — многие из них и до сих пор стоят.
Итак — храбрый воин, умный, властный руководитель, почтенный отец патриархального семейства, крепко верующий христианин… Ещё надо сказать: плохой дипломат, человек не способный к интриге, привыкший действовать скорее силой и умом, чем хитростью и ловкостью… Как это не похоже на экранный образ лакея в генеральском мундире, проходимца у власти!..
И всё же, и всё же!.. Записывать в святые Светлейшего князя не стоит. Была в этой бочке мёда ложка дёгтя — и не одна… Государственной казной Александр Данилович пользовался — увы! — достаточно свободно, и подношения от благодарных сограждан принимал в огромных количествах. Но тут прошу вас обратить внимание на такие моменты: во-первых, назвать его самым крупным вором того времени нельзя — были в те времена руки и позагребущее, чем у Меншикова; для таких воров дело, как правило, кончалось плахой, Данилыча же Петр терпел и берёг, — стало быть, заслуги князя перевешивали грехи. Во-вторых, Пётр сам требовал, чтобы Светлейший жил соответственно своему блистательному титулу и не смущал иноземцев ложной скромностью. Известен случай, когда, погостив у Меншикова, царь долго распекал его: зачем дом маленький, зачем обстановка дешёвая — надо держать фасон! А фасон требовал денег… И в-третьих: за все свои грехи Меншиков расплатился сполна ещё при этой жизни.
Умер Пётр, вскорости последовала за ним и Екатерина — и тогда самым главным человеком в России оказался Меншиков. Он командовал всей страной — в том числе и малолетним государем Петром II. Без пяти минут царский тесть, богатейший человек, полновластный хозяин Империи… Кто мог встать у него на пути?
Встали. Андрей Иванович Остерман — вестфальский немец, протестант, выдвинувшийся ещё при жизни Петра, — вёл свою игру. Он старательно шёл к власти, он тщательно путал следы на этом своём пути… Он тоже боролся за влияние на мальчика-императора… Как-то раз Меншиков с высоты своего величия решил попенять Остерману: зачем, дескать, он, царский воспитатель, отвращает Петра II от Православия и учит его то ли лютеровой ереси, то ли попросту безбожию? Это было серьёзное обвинение. Андрей Иванович понял, что пора действовать решительно. Его сторону приняли могущественные Долгорукие…
Что было бы с Россией, если бы Меншиков остался у власти? Неизвестно. Известно, что с ней стало, когда к власти пришёл Остерман: долгие страшные годы немецкого засилья, бироновщина, казни, ссылки, разорение…
Меншиков пал. Со многими политиками случалась такая беда, но немногие вели себя в опале так же красиво, как Александр Данилович. Отправляясь в ссылку и проезжая по улицам Петербурга, он кланялся направо и налево из своей кареты, и, видя своих знакомых, прощался с ними так весело, что никто не замечал в нём ни малейшего смущения. Теряя своё невероятное богатство, он ни разу не вздохнул о нём. Во время следствия враги измывались над ним как хотели — Меншиков сохранял кротость и благодушие. Потеряв по дороге в ссылку любимую свою жену, он не сломался, не возроптал. Очутившись в Берёзове, не стал предаваться унынию, а тут же взял в руки плотницкий топор и принялся в одиночку строить деревянную церковь. Как только церковь была закончена, Данилыч преставился. Его и похоронили рядом с этим храмом, освящённым во имя Рождества Богородицы.
Есть рассказ о том, что, когда в XIX веке могилу Меншикова вскрыли, то обнаружили его останки нетленными. Потом факты начали проверять, перепроверять, завелась обширная переписка с Петербургом, канцелярская волокита и в конце концов было решено, что с могилой ошибка вышла и останки, соответственно, Светлейшему не принадлежат… Так ли это? Бог весть.
* * *
Когда изучаешь жизнь таких людей, как Суворов или Ушаков, невольно начинаешь верить в то, что герои древних мифов — все эти гераклы, тезеи, язоны, — существовали в действительности. Вот же Суворов — непобедимый полководец: если бы жизнь его не была зафиксирована в тысячах документов, кто бы поверил в то, что этот чудо-человек — не досужий вымысел, не персонаж исторической сказки? То же можно сказать и о другом олицетворённом чуде — адмирале Ушакове…
22. КОРАБЛЬ МОЙ «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
Попробуйте ответить на такой вопрос: адмирала Ушакова почитают в лике святых — за его благочестивую личную жизнь или за военные подвиги? Всякий, кто хоть сколько-нибудь чувствует Православие, скажет: «Святость не делится на части, — вот здесь личное, а здесь общественное. Благодать даётся всему человеку, а не одному из направлений его деятельности. Святой праведный Феодор и на войне, и дома стремился наиболее полно осуществить волю Божию. Не на мундире его адмиральском почила благодать Божия и не на домашнем халате, и даже не на монастырском облачении смиренного насельника Санаксарской обители: само сердце праведного Феодора было исполнено благодатью».
Кажется, никто не сомневается, что Ушаков был воин милостью Божией: он творил бой, словно музыку сочинял, — вдохновенно и непредсказуемо. Он отнюдь не был «честным воякой», «служакой», для которого дисциплина и устав превыше победы в бою. Все биографы в один голос утверждают, что ушаковская тактика находилась в вопиющем противоречии с тогдашними уставами морского боя, (что, в конце концов, и довело великого адмирала до царской опалы: от военного не победы требуются, а точное соответствие артикулу). В первый свой выигранный бой (у Федониси) Ушаков практически захватил командование эскадрой: официальный её командир, адмирал Войнович, струсил, не решился начинать сражение, — турок было, ни много ни мало, вшестеро раз больше, чем русских… Ушаков на свой страх и риск ринулся на врага, невероятными, неслыханными манёврами обратил в бегство турецкую армаду, долго преследовал и наконец совсем прогнал её сильно потрёпанную и поредевшую, потеряв при этом убитыми пять человек. Победа при Федониси — это образ всех ушаковских побед: всюду он нападал на превосходящего числом неприятеля (всегда нападал, никогда не оборонялся), и, нанося врагу сокрушительный ущерб, сам терпел весьма незначительные потери. Берёг матросов, — но не тем, что прятал их от огня, а тем, что вёл бой наиболее решительным образом: при такой тактике потери бывают главным образом у противника, — на это и Суворов указывал.
Вот ещё одна блестящая ушаковская победа: у мыса Калиакрия. Турецкая эскадра и в этот раз намного превосходила русскую, да кроме того, действовала под защитой береговых батарей. Положение было таково, что русским было просто не подступиться к неприятелю: оставалось ждать, когда турки сами начнут сражение, и далее — только отвечать на турецкие действия, обороняться, отбиваться, огрызаться. Ушакову это не понравилось. Он опять начал сражение сам, и для этого повёл свой флагманский корабль «Рождество Христово», — а следом и всю эскадру — прямо под огонь береговых турецких пушек. Это было столь неожиданно, что вражеские артиллеристы растерялись и не смогли как следует обстрелять русских. Кроме того, ушаковский манёвр отрезал турецкую эскадру от берега, — а большая часть матросов находилась в тот день на берегу: шёл какой-то мусульманский праздник. И праздник этот обернулся для турок сокрушительными поражением: «Рождество Христово» взяло вверх. Как писал сам Ушаков: «Многие суда неприятельские загнаты на берег, затоплены, а некоторые сожжены, бегущего неприятеля люди во множестве побиты и потоплены…» В этом сражении великий адмирал сочинил новый тактический приём — атаку со стороны берега, — приём, который до которого Нельсон додумался только семь лет спустя. Победа Ушакова при Калиакрии решительно повлияла на ход всей войны: Турция поспешила заключить мир на выгодных для России условиях…
И вот что любопытно: эта вдохновенная война, эта творческая война, эта война, явно отмеченная благодатью Божией, — имела своей целью захват чужих территорий. Ибо любой специалист по международному праву как дважды два докажет вам, что все законные права на черноморское побережье принадлежали Турции, контролировавшей эти земли уже не один век. На стороне Турции была и военная сила, и сила закона. Но Бог, как известно, не в силе, а в правде.
Так что же это за правда такая, что позволяет захватывать чужую территорию?
В наше время, когда христианство упорно считают разновидностью пацифизма, даже святой Александр Невский вызывает кое у кого недоумение: он же вёл войны, ему же случалось убивать своими руками, он жестоко преследовал изменников в русском стане, — как такого называть святым? Несколько смягчаются эти люди, вспоминая, что князь Александр всё-таки оборонялся от наступающих врагов: оборону ещё как-то можно оправдать в их глазах… Но наступление, захват?
…История суворовских и ушаковских побед чрезвычайно поучительна, — сейчас её можно рассматривать как некую притчу. Смысл этой притчи таков: земля не принадлежит никому, кроме Бога, и Бог отнимает её и наделяет ею по Своему Промыслу. Воля Его была в том, чтобы Чёрное море стало русским; Суворов и Ушаков самоотверженно исполняли Его волю, и потому стяжали благодать, почти равную дару чудотворения. Ни тот ни другой не преследовали в войне никаких личных целей, в высоких чинах видели только возможность полнее использовать Богом данные таланты, и верили, что дело России — это Божье дело.
Может быть, именно этой веры нам сейчас и не хватает. Мы с детства усвоили, что всякий народ имеет свои права и на то, и на сё, и на свободу вероисповедания, и на землю, и на многое другое… С этой точки зрения Россия ничем не отличается от Танзании: все равны перед Гаагским международным трибуналом. Но как всегда, за разговором о правах забываются обязанности. Права у разных народов, может быть, и равны, — но об обязанностях этого не скажешь. Обязанности России велики, очень велики, — и определены они не международным правом, а высшей правдой. Забывая о них, Россия теряет себя.
А святой праведный Феодор о русских обязанностях не забывал, потому и достиг святости. Его современник и духовный собрат святой Серафим Саровский молился, — он в это время воевал, — а вместе они выполняли волю Божию, ибо «Дух дышит, где хочет»…
* * *
Нисколько не сомневаюсь в том, что художники (беря это слово в самом широком смысле) влияют на историю народа не меньше, чем цари и полководцы. Причём, художник может даже не создать своей собственной школы, не завести тысячи последователей, не написать теоретических трудов, — ему достаточно просто сказать своё слово, и душа народная уже станет богаче, сильнее, возвышеннее. Одним из таких творцов народного духа следует без сомнения назвать Алексея Гавриловича Венецианова.
23. СВОИМ ПУТЁМ
Художник Алексей Гаврилович Венецианов (1780–1847) по характеру своему был бунтарём. В юные годы он взбунтовался против отца своего, скромного купца, торгующего ягодами для варенья, ягодными кустами и тюльпанными луковицами: бизнес не громкий, но кусок хлеба с маслом обеспечивающий. Алексей предпочёл этому скромному жизненному пути неверную и финансово рискованную дорогу живописца.
Хорошо, пусть живописец. Но вместо того чтобы поступить в Академию художеств (а средства на это у отца имелись), Алексей учится мастерству у некоего Пахомыча. Что за Пахомыч? Откуда? Где сам учился? Неведомо. Кажется, Венецианов опять взбунтовался: не хочу, мол, как все, через Академию, хочу по-своему. Во всяком случае, сей Пахомыч своё дело сделал исправно: воспитал великого русского художника.
Став живописцем и переехав в Петербург, Алексей Гаврилович немедленно связался с будущими декабристами (а как же иначе!) — с Кюхельбекером, главным образом, и начал издавать «Журнал карикатур в лицах» — то есть журнал, в котором ничего, кроме карикатур, не было, и презлых карикатур, и на весьма высокопоставленных особ. Журнал дошёл до самого царя, и Александр Благословенный лично (!) выбранил юношу, сказав что-то вроде: «Служишь в своём почтовом департаменте, вот и служи, а в большую политику не лезь!» Это можно было расценивать как первый крупный успех.
Всё же нужен был какой-то диплом, какое-то официальное признание. Пришлось скрепя сердце ползти в Академию художеств и писать портрет тамошнего инспектора в окружении учеников. За это отступление от принципов ему присвоили звание академика, и на этом всякое сотрудничество с Академией прекратилось.
Примерно в те же годы Венецианов принял участие в известной акции петербургских интеллигентов: освобождении от крепостного рабства юного Тараса Шевченко. В этой операции Венецианову было поручено задобрить хозяина будущего Кобзаря, помещика Энгельгардта. Как задобрить? Конечно, написать его портрет, и, конечно, бесплатно. Крепостнику портрет понравился, и он согласился выпустить раба на волю, но — ещё две тысячи сверху. Как известно, Шевченко был успешно освобождён. Известно и то, чем он отплатил великороссам за это доброе дело: в своих самодельных стишках он всю жизнь поливал грязью Россию, русский народ, русского царя и русскую веру.
Но Венецианов пока не знал, какую дорожку выберет Тарас Григорьевич, и очень радовался своему благодеянию. На волне этой радости ему пришло в голову не ограничиваться одним Тарасом, а поездить по России, по глубинке, по деревням, поискать, нет ли где ещё таких же самородков, талант которых гибнет без должного развития. Вот бы собрать таких хотя бы десяток и открыть собственную школу! Нет, зачем школу? Академию!
Правильно: свою собственную, исконно русскую Академию! Пусть они там, в Петербурге, изучают древних греков и средневековых итальянцев, пусть перерисовывают мёртвые статуи и копируют чужие полотна. Нет, мы пойдём другим путём: мы найдём своих, русских Аполлонов, Диан и Венер, мы будем учиться не на музейных экспонатах, а на живой, русской натуре. Мы создадим свою мифологию и свой собственный канон!
Обуянный такими великими замыслами, Венецианов покупает себе деревеньку в Тульской губернии и начинает потихоньку собирать туда юные крестьянские дарования со всей России. Одновременно он много работает, пишет, рисует: назвался груздем — полезай в кузов, покажи, как может художник обходиться без древнегреческой подсказки, найди русский канон красоты и русскую манеру живописи! В своей работе художник не щадит ни себя, ни своё кровное имущество: известна история, как для того чтобы лучше изобразить гумно, Алексей Гаврилович приказал отпилить на своём собственном гумне целую стену — чтобы обзор был шире, чтобы свет правильно падал и т. д.
Много говорилось о загадках картины «Весна. На пашне». Зоркие художественные критики быстро (через 150 лет) заметили на ней ряд несообразностей: крестьянка, ведущая коней, непропорционально высока, упряжку она ведёт так легко, словно кони бумажные, одета она не как работница в поле, а как невеста на свадьбе, и тому подобное… Многие догадались: это не ошибки, — это художник нарочно так задумал… А почему? А что он имел в виду?
А это Венецианов согласно своему замыслу создавал новую русскую мифологию: здесь не просто крестьянка изображена, здесь сама Весна идёт русским полем, благословляет мужицкий труд и насыщает землю живительной силой…
Вот картина «Жнецы»: мать с сыном на минуту отвлеклись от работы и с тихой радостью рассматривают двух бабочек, доверчиво присевших на ладонь крестьянке. Усталые, обгорелые на солнце и не очень-то красивые лица героев, лёгкие летние сумерки, несжатая рожь на заднем плане, два серпа точно в скобки заключают всю композицию, придают ей, как это говорится, «знаковость», законченность иероглифа, символа. Разгадывайте сами этот символ, — он многозначен и не прямолинеен…
Нельзя сказать, что Венецианов был непризнанным художником. Нет, его любили, его ценили. Пастель «Очищение свёклы», например, была за кругленькую сумму куплена царём и помещена в Бриллиантовой комнате Зимнего дворца (представите себе: очистка свёклы в бриллиантовой комнате, — но, видимо, Александр I не нашёл тут ничего смешного: шедевр есть шедевр).
И всё-таки создателем новой русской живописи никто Алексея Гавриловича не признал… Увы… Когда, несколько лет спустя, передвижники тоже взбунтовались против Академии, они пошли совсем иной дорогой, напирая не на национальное, а на социальное, не духом народа интересуясь, но его материальным положением… И лишь к началу ХХ века в холстах Архипова, Малявина, гениального Петрова-Водкина стало проглядывать что-то венециановское…
А сам Венецианов, решивший ни много ни мало в одиночку создать целую культуру, не сумел снести этот неподъёмный труд, надорвался, заболел, стал терять интерес к работе…
И взялся за иконопись. Начал писать образа для соседних церквей. «…Как тот счастлив, — говорил он теперь, устав от своих наполеоновских замыслов, — кого не ослепляет едкий свет необузданной суетности, всегда управляемый безумной самостью…»
Писал иконы, с иконами в руках и погиб. Вёз в церковь свои новые образа, да лошадь понесла… Кучер вывалился из саней, Алексей Гаврилович пытался удержать вожжи, запутался в них, тоже упал, не смог отцепиться, — и к храму лошадь подвезла бездыханное тело.
…А жнецы, мать с сыном, смотрят на бабочек — бесконечно усталые, бесконечно счастливые: трудовой день окончен, и бабочки — нежные и светлые, точно души христианские, — подставляют крылья лучам закатного солнца.
* * *
Вот ещё один художник, имевший силы, достаточные для того, чтобы перевернуть мир — не Россию только, целый мир…
24. НАЦИЯ ПРЕД ЛИКОМ БОЖИИМ
За несколько минут до Богоявления
Подлинному богословию, в сущности, не нужны слова. Рублёвская «Троица» помогает познать Бога лучше, чем десятки учёных трактатов. Древнерусская иконопись славна не только исключительной художественной выразительностью, но и поразительным умением наглядно представлять тончайшие духовные истины, для которых и слов-то в человеческом языке не находится. Времена древних иконописцев миновали, но Бог-то никогда из русского искусства не уходил: именно Его светом горят творения наших великих мастеров, в том числе и живописцев. И первой среди таких работ нужно назвать картину Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу».
Странно сказать, но это великое произведение русской православной культуры до сих пор не имеет достойного православного истолкования. И в XIX, и в ХХ веках замечательное полотно рассматривали лишь как раскрашенную иллюстрацию к библейскому тексту, никому не нужную сценку из древней истории.
А подумать только: если бы кто-то взял на себя труд расшифровать поистине загадочный ивановский шедевр, написать к нему «путеводитель», — может быть, история России пошла бы иным путём! (Вот так, ни больше, ни меньше…)
Но на нет и суда нет. И мы в свою очередь не станем в несколько газетных строк ужимать толкование этой неисчерпаемой темы. Ограничимся лишь немногими словами, чтобы хоть слегка приблизить читателя к этой вершине в высочайшей горной цепи русского духа.
Во-первых, фигура Христа. От синего неба, от синих гор в синем хитоне идёт Спаситель к Иордану. Всего несколько минут отделяет нас от того момента, когда прозвучит глас с Небес, глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17), когда Дух Святой в виде голубином сойдёт на Этого Неизвестного… Вот объясните мне, как, каким образом Иванов сумел изобразить предчувствие, предвосхищение, это ожидание Богоявления? Крошечная фигурка, не сразу даже заметная за иорданской толпой, почти не прорисованная, без нимба, без сонма служащих ангелов… Да что там — почти без лица! Это тот, кто «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Мф. 12:20). Но какое дивное величие, какая тайна, какое указание на нечто высшее, на нечто непостижимое!..
Далее: фигура Предтечи, вся — аскетизм, вся — величие… Мудрое, одухотворённое лицо, благородный жест, любовь к людям, благоговение перед Идущим… А всё-таки перед едва различимым Христом величие Иоанна как-то бледнеет, стирается, отступает в тень. Это понятно. С одной стороны, «из рождённых женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя» (Лк. 7:28), — а с другой:«Я недостоин развязать ремень у обуви Его». (Ин. 1:27) — Александр Иванов очень тонко показал эту грань между Предтечей и Предвозвещённым…
Иоанн только что произнёс слова: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Вдумайтесь. Отныне всё названо своими именами. Креститель — не кликуша, не безродный проходимец. Все собравшиеся знают его как сына знаменитого священника Захарии, все знают его святую жизнь, все признают его пророческий дар (а иначе бы не приходили к нему креститься такими толпами). Многие слышали о чудесном рождении Иоанна, многие слышали о Звезде волхвов и о том, что Спаситель уже явился в мир. Итак, великий, почитаемый во всей стране пророк объявляет: «Вот Агнец Божий!» В от Он! Свершилось! Мессия явлен Израилю!
Что же собравшиеся?
…Между прочим, Иванов назвал свою картину «Явление Христа евреям». Есть особый резон в таком варианте названия. Ивановское полотно — коллективный портрет целой нации, причём нации, пришедшей к главному моменту в своей истории. Богоизбранный народ принимает Избравшего. И как же принимает?
Вглядитесь в лица старых фарисеев. Мудрецы и праведники века сего уже хмурятся. Они не верят Предтече? Так ли это? Им мало было посланных знамений? Но белобородый старик состроил скорбную мину: он уже оплакивает печальную участь обманщика, вздумавшего назвать себя Мессией. Разумеется, обманщика, — а как же иначе? Кажется, эти люди заранее осудили Пришедшего, они осудили его в принципе. Он им не нужен, и знамения только усугубляют Его вину перед ними. О, эти скептически вздёрнутые брови, эти смиренно прикрытые глаза молодого фарисея в голубом хитоне! Вы никогда не видели подобной мины? Ею, как бронёй, защищаются люди от неопровержимого…
Многие из собравшихся улыбаются радостно, но нет света в их улыбке, нет духа. Особенно показательны в этом отношении двое — отец с сыном, жалкие, обнажённые, мокрые, дрожащие… Они как будто и рады слышать слова Крестителя, но и радость-то их жалкая, трясущаяся, рабская. Рабы дождались прихода господина, но именно господина, а не Господа. И рабство их — не Богу, но человеку. Они человека ждали, мужа сильного, который бы устроил их маленькие земные дела. Думают, что дождались, радуются. Но вместе и трясутся от страха: сильный человек непредсказуем…
А сколько равнодушных лиц? Иванов по большей части скрыл их густой тенью, — тень эта лежит и на их душах.
Только три персонажа, трое будущих апостолов: Иоанн, Пётр, Андрей, — только они озарены Духом. Юный Иоанн — весь любовь; Андрей — мудрость и какая-то детская открытость; Пётр, жадно и доверчиво внимающий словам Крестителя. Вот трое — только трое из большой толпы — готовы уже сейчас взять крест свой и пойти вслед за Господом. Только трое, не считая самого Предтечи…
Сейчас свершится то, что позже назовут Богоявлением: Сам Отец Небесный засвидетельствует Божество Иисуса, глаза человеческие смогут увидеть то, что воочию увидеть невозможно: Духа Святого… Сейчас освятится водное естество, омывшись о Нескверного, и воды Всемирного Потопа станут Водою Спасения. Но, кажется, главное уже свершилось: мир раскололся надвое, на тех, кто поверил Предтече, и тех, кто предпочёл усомниться; на тех, кто принял, и тех, кто не принял; на тех, кто увидел в Идущем Христа, и тех, кто попросту не обратил внимания на скромную, с трудом различимую фигурку вдали.
Самое же страшное в том, что разделение это идёт до сих пор. Мы думаем, что подходим к одному из экспонатов Третьяковки, к холсту таких-то размеров, такой-то стоимости, такого-то автора, — а на самом деле мы встаём в иорданскую толпу, смешиваемся с этими людьми, с этими жителями древней Иудеи, и вместе с ними слушаем слова Пророка, и вместе с ними должны понять, верим мы в то, что «сей Иисус есть Христос», — или нам спокойнее будет не поверить.
В начале ХХ века великий Василий Розанов (шепнувший однажды на ушко Зинаиде Гиппиус: «Я умнее себя человека не знаю!») сказал о картине Иванова: «Картина вовсе не изображает того, что под нею подписано. Настоящее название картины — «Пустынник Иоанн среди народа»… Иисус здесь — никто!! никто!!! Христос почти не нарисован! Его нет, почти нет!.. Рвётся комическое сравнение: «дверь растворена! все ждут — но он почему-то задержался»… «Нарисовал, но не покажу». Хуже этого вышло: нарисовал, но так, что ничего нельзя рассмотреть».
Ничего не увидел самый умный в России человек.
А как мы — не самые умные?
* * *
На этом наброске об Александре Иванове я и хотел бы завершить свою книгу. Но работа в газете дала мне один странный навык: никогда не заботиться о полной завершённости. Газета всегда открыта в будущее, под каждым материалом угадывается надпись: «Продолжение следует». Газета не может — не должна! — вещать окончательные истины. Может быть, для книги такой подход к делу и не очень подходит, но мне показалось, что будет вернее дать ей открытый финал, закончить её тревожной, оборванной нотой…
25. НЕСТЬ ВЛАСТИ, АЩЕ НЕ ОТ ЛУКАВОГО?
Один мой знакомый, посмотрев фильм Павла Лунгина «Царь», сказал о его предыдущей картине — об «Острове»: «Это был сатана, обратившийся духом света. Тогда мы этого не поняли, а теперь, после «Царя», всё стало ясно». Комментировать эти слова не берусь, — пусть выскажется тот, у кого духовный опыт побольше моего… Не стану говорить и о трактовке исторических событий в лунгинском фильме: в конце концов, профессиональными историками говорено-переговорено, что Лунгин попросту врёт, передёргивает факты, меняет даты… Интересно, что этого не отрицают и сторонники режиссёра, но объясняют это тем, что Лунгин-де снимал притчу, а не кино-монографию, — для притчи, мол, историческая правда — вещь второстепенная.
С этим можно было бы согласиться: фильм «Царь» — это и вправду притча с претензией на философскую, историософскую глубину… Беда, однако, в том, что для притчи фигура Иоанна Грозного не очень-то подходяща. Парадокс наших дней в том, что Грозный Царь сегодня «живее всех живых»: это не какой-нибудь, утонувший в пучинах лет, царь Камбиз, или Пипин Короткий, или президент Французской Республики Луи Блан. Наверное, об этих персонажах тоже не стоит сочинять небылицы, — но не они сегодня определяют русский взгляд на историю… Сегодня хочется, чтобы всякий, пытающийся указать место Грозного в судьбе России, каждое своё положение подкреплял документально, — пусть даже в ущерб занимательности повествования.
Не хочется в тысячный раз повторять всем известный факт, что за одну Варфоломееву ночь Екатерина Медичи убила больше народу, чем Иоанн Грозный за всё своё царствование. Но вот ведь что странно: факт этот (и масса иных, подобных ему) всем известны, а Лунгин всё равно изображает русского царя захлебнувшимся в крови тираном. Почему бы это? Почему для иллюстрации своих историософских измышлений он выбрал именно Иоанна IV, а не ту же Екатерину Медичи, или Елизавету Английскую, отнюдь не церемонившуюся со своими противниками? Надо ли называть такую позицию Лунгина русофобской? Но ведь в фильме действуют (и в большом количестве) и «хорошие русские» — тот же митрополит Филипп, монахи, укрывшие тело опального митрополита, воеводы, затравленные медведем… Может быть, дело тут не в русофобии, — в чём-то другом…
Да, фильм «Царь» — это притча о взаимоотношениях светской и духовной власти… Вопрос, мягко скажем, не простой. Не однозначный. Тысячелетней истории России оказалось мало, чтобы ответить на него. Кажется, Россия прошла тут все пути: от полного подчинения царя Церкви (времена святителя Алексия Московского или начало патриаршества Никона), до полного подчинения Церкви царю (Петр I, — и далее, чуть ли не весь XVIII век). Видимо, сейчас мы стоим на пороге новой эпохи в церковно-государственных взаимоотношениях. Будет сделана новая попытка, — а к чему она приведёт, то Господь ведает.
А у Лунгина всё просто: церковная власть всегда праведна, светская власть — всегда греховна; компромисса между ними быть не может, о симфонии же и мечтать не приходится. Любая власть есть образ антихриста — явление глубоко порочное, преступное и страшное. Вы скажете: Лунгин говорит не о любой власти, а только об Иоанне Грозном. А я отвечу: но это же — притча, а притча предполагает обобщение. В фильме нет противопоставления плохой светской власти и хорошей светской власти. В фильме светская власть однозначно плоха, — да что там, плоха! Чудовищна! Когда фильме огромный медведь рвёт живых людей (овладели-таки российские киношники спецэффектами на нашу голову!), — медведь рвёт, а царь сладострастно таращится на это действо, когда обезглавленные куриные тушки сменяются обезглавленными человеческими телами, когда весь экран заполняют судорожно дёргающиеся ноги удавленника, — ну, знаете, трудно поверить, чтобы Лунгин оставлял светской власти хоть какой-нибудь шанс на исправление. Власть есть грех! — вот ведь как сформулировано. Даже праведник, даже всей душой стремящийся к Богу митрополит Филипп, волею царя оказавшийся в роли судьи, не может вынести иного решения, как только — казнить невиновных! Праведник, причастившись власти, совершает беззаконие! А всё потому, что власть — это грех как таковой!
Такого максимализма, такого ультраанархизма, по-моему, свет ещё не видел. Бакунин, Кропоткин и батька Махно, гневно отрицавшие любое государство, — тихо отдыхают, забившись в уголок. И как-то само собой просится на язык страшное слово «ересь», хотя не моё это дело… Но с другой-то стороны, весь Новый Завет дышит словами «несть власти, аще не от Бога» (Рим. 13, 1), и наказ «воздадите убо кесарева кесареви» звучит в Евангелии так же твёрдо, как «и Божия Богови» (Мф. 22, 21).
Царь в фильме Лунгина время от времени произносит очень глубокие и мудрые слова: «Царёв грех — сданные неприятелю города»; «Как человек — я грешен, а как царь — праведен!» и т. д. Но у зрителя нет ни времени, ни желания поразмыслить над этим: режиссёр не даёт. Режиссёр тащит зрителя от одной лужи крови к другой, ещё большей; зритель задыхается, отплёвывается, зажмуривает глаза, затыкает уши, — он не в состоянии вдумываться в происходящее. Зритель не понимает, в чём разница между православным царём, вдвое увеличившим русские земли, создавшим крепкое, жизнеспособное государство, — и тем, что все мы слышали о грядущем антихристе. А для Лунгина и нет разницы: для него антихрист царит вечно, ибо никакая власть без крови не живёт.
Тут бы и подумать об отношениях земной власти к Богу, — можно было бы о многом догадаться. Можно было бы предположить, что Ветхий Завет с его «око за око», — обращён к народу в целом, к государству, к власти, и цель Ветхого Завета — воспитать нацию; а Новый Завет — обращён к личности, к каждой единичной душе, его цель — спасти человека; оба Завета действенны, и Новый не отменяет Ветхого («Не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17)), — просто существуют они в разных измерениях… Поле для размышлений обширное, — но к чему оно? Легче махать саблей, — то бишь, мясницким топором, выдавать томатный кетчуп за кровь, и кровь за кетчуп, трудноразрешимые загадки объявлять вовсе неразрешимыми, и в качестве выхода из тупика предлагать такую бездонную яму, из которой уже никто не выберется…


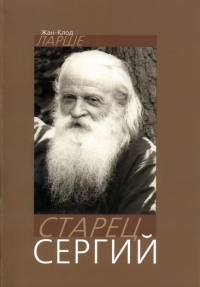


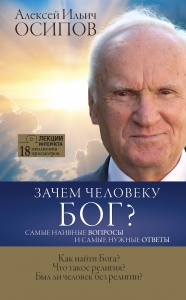


Комментарии к книге «Книга встреч», Алексей Анатольевич Бакулин
Всего 0 комментариев