МАНЕФА
Мать Манефа крохотными, то шаркающими, то хлюпающими шажочками пробиралась вдоль бесконечного реечного забора. Грязь была непролазная, какая только бывает в северном сибирском селе самой глубокой осенью. Тяжёлые грузовики-вездеходы вдрызг размесили раскисшую за два месяца рыжую глину с крупным привозным песком и серыми опилками, глубокие колеи напоминали залитые водой брошенные окопы и воронки неизвестной войны, и для пешеходов остались только тонюсенькие прерывистые тропки по самым краям оголившихся мокрых палисадников. И темнота, темнота — хоть глаз выколи. До монастыря такого тыркающегося слепого ходу было ещё не менее получасу, и она опаздывала, опаздывала на службу впервые в жизни. А всё сестра. Разболелась, свалилась пластом и распустила хозяйство. Пришлось благословляться у игуменьи, и целый день провозиться в избе — сменить у больной постель, помыть полы и настоявшуюся посуду, протопить печь и наварить картошки. И потом ещё она почистила в стайке, покормила оголодавших кур и гусей, перебрала в подполе заплесневевшую морковь… А вот капусту украли. Срубили с корня явно свои, соседушки. Только пеньки в огороде и остались. Воспользовались, злодеи, затянувшейся болячкой, в общем-то, всегда подозрительной и бдительно вредной, готовой постоять за своё «бабки Семёнихи».
Воспользовались… Воровали вообще в последнее время в посёлке как-то совершенно безбожно. Совсем не так как раньше, когда в основном таскала с грядок молодёжь, так, более из озорства, нежели от голода. Теперь от всеобщей круговой безработицы крали зло, нагло, часто последнее. Старики уже не держали коров, — их резали на выпасах заезжие, с того берега Оби, но явно-то по наводке своих. Коровы пропадали у самых незащищённых. Да что уж там коровы, если собак половину уже съели. Собак! Пьяницы.
Манефа опаздывала на службу. Самый конец этого ноября выдался удивительно тёплым, первый обильно и рыхло выпавший снег стаял, нового всё не было, да и вообще днём постоянно стоял плюс. Грязь за ночь толком не промерзала, в калошах дальше двора не походишь. Монахиня очень осторожно переставляла ноги в огромных резиновых сапогах, взятых напрокат у вратарщика Сергия-болящего, высоко в кулаках зажимая широкий подол подрясника. И чуть не плакала. Тридцать лет ходит в церковь, последние десять только и живёт этим, и вот — такая неурядица! А всё темнота. Осенняя липкая мгла обняла со всех сторон неожиданно, — ведь выходила-то она от сестры, когда совсем ещё только-только смеркалось, а вот теперича… стыдоба… Когда на невидимой колокольне бухнули в первый раз, сердце отозвалось горьким укором. Манефа отпустила юбку, охолодевшими, негнущимися пальцами левой руки перехватила узелочки самовязанных чёток, а правой быстро и колюче перекрестилась: «Мать моя Богородица, Царица небесная, не остави меня, грешную, не остави меня!». Глаза закрылись под внезапно обретшими свинцовую тяжесть веками. Защипало солью. Колокол бухнул во второй раз, в третий. «Мати Пречистая, умоли сына своего и Бога нашего, да простит мне прегрешения мои, да оставит долги мои. Как же так? Как же можно опоздать? И зачем я так задержалась! Зачем? — Покормила бы сестрицу, и ладно! А то вот же — поддалась на уговоры: „скотинка, огород“! Царице моя преблагая, надеждо моя Богородица! Прости, прости меня…».
И вдруг как чьё-то дыхание коснулось лица, теплом прошло ото лба к подбородку. Кто там? Манефа открыла глаза и… словно некий невидимый фонарь освещал перед ней край уличной обочины на пару метров вперёд. А в голове вдруг стало так ясно и звонко тихо, что только одна мысль лишь и билась пульсом около виска: «Слава Богу, слава Богу, слава Богу»… Манефа сделала маленький робкий шажок в это освещённое пространство, потом, уже смелее, другой, третий… Свет двигался вместе с ней. Неяркий, не дававший вокруг себя никаких теней, он просто-напросто плыл впереди, мягко определяя лужи и колдобины, разбросанный строительный мусор и коровьи с лета лепёхи. А колокол звал, звал…
Надеждину свадьбу гуляла вся деревня. Странно, но её никто и никогда по другому и не звал: как родилась четвёртая дочка в семье Семёновых, так сразу и заговорили — Надежда. Отчего-то всем вокруг было с самого начала ясно, что это будет человек серьёзный, немелочный, и уважение к нему необходимо выказывать изначально соответствующее. А ещё она выросла красивой. Не яркой красавицей, но и не милашкой, не симпатягой какой-нибудь. Красивой. Её правильные черты лица, гордая осанка и плывучая походка, словно неведомым магнитом тянули к себе взгляды и мужиков и баб. Даже свои, привычные, семейные непрестанно чувствовали, как с возрастом её светло-серые глаза, тяжёлую косу, тугую стройность тела заполняла некая, не позволяющая шаловливости, величаво гордая сила. А уж тем более это понимали и принимали все окружающие. И не ломали черёмуху в палисаднике, не толклись у калитки, поплёвывая семечками, и не дрались на пятачке за клубом ровесники, когда пришла её пора выходить замуж. Все понимали: её женихом мог быть только самый, самый. Такой и был в селе он один — высокий, сильный, голубоглазый… Всё произошло как по писанному: просто она повелительно твёрдо посмотрела в его голубые глаза на танцах, и он, вдруг понурившись, пригласил её на кадриль, потом на падеграс. А потом почти молча, терпеливо не отмахиваясь от одуревших от цветения черёмухи комаров, проводил до дома. После он провожал снова и снова. В какой-то раз она опять сильно и долго посмотрела на него из-за прикрытой уже калитки, и он, также понуро хмурясь и притаптывая только что пробившуюся крапивку, предложил выйти за него замуж.
Наверно оттого, что Михаил был таким правильным, как только может представляться деревенским жителям работящий, серьёзный и вдумчивый муж, мать Надежды даже для приличия за дочь не поревела, а прохлопотала все дни с поджатыми губами, совершенно затюкав, наоборот, как-то вдруг осевшего отца. Вроде бы и свадьба для их семьи была уже третья, — кроме брата Ваньши, уехавшего куда-то строить неведомые города, старшие сёстры были вовремя и в очередь пристроены, — но папаша тосковал, явно тосковал по любимой дочке… Свадьба шла как по колее. И в первый день, после того, как жених с дружками где силой, где подкупом, всё же сел рядом с невестой, то, за неимением попа, отец и мать сами отчитали уже незнакомые молодым молитвы и благословили их иконами. Только вот не нашлось иконы Спасителя, её заменили на Николая-Угодника. Кто бы на это обратил внимания… Свадьбу гуляла вся деревня. Гуляли широко, пели протяжные хохлядские песни за сколоченными вдоль стен горницы столами, покрытыми невыбеленными холстами, а плясать под ядрёные русские частушки выходили во двор. Было удивительно мирно, кажется, даже мошкара в эту плотную от пожеланий и намёков ночь никого не трогала. Ни единой драки.
И только была та свадьба 21 июня 1941 года. На второй день, когда уже жених под прибаутки и хохотушки пальцами выковырял из чурбака глубоко вбитую ребром мелочь, а новобрачная ублажила гостей пышным пирогом с фантами и загадками, вдруг прискакал с парома на толстой, чёрной от пота кобылёнке почтальон и гаркнул прямо в народ: «Война!»…
Мишу, её Мишу взяли в район ровно через месяц. Их, двадцать призывников, всех в белых рубашках, везли на одном длинном баркасе, а провожающие односельчане на десятках лодок плыли через вздутую мутную от своего изобилия Обь поодаль. В какой-то лодке гармонь пьяно нащупывала плясовую, но никто не подхватывал. Все всю дорогу молчали. Молчали и потом, у райсовета, когда молоденький и весь какой-то дёрганый офицерик, в новеньких скрипучих ремнях, рвано и бестолково кричал деланным баском о советской Родине и долге. Запомнилось его кукольное лицо и этот ненастоящий, словно из живота голосок. И, лишь когда длинный — в километр, не менее — неровный, изломанный неумением равняться строй из семисот, испуганных новым званием воинов, парней и мужиков потянулся вниз, под гору к пристани, где уже ждал, дымя огромной полосатой трубой и похлопывая от нетерпения колёсами, томский пароход, все разом закричали. Кричали страшно, натужно. Бабы вопили и выли так, словно уже знали: из этих семисот вернутся лишь пятнадцать.
Надежда не получила от своего мужа ни одного письма. В октябре на той же чёрной лошади почтальон привёз похоронку. Сунул и поскакал обратно. Ей самой было странно, но она перед этим ничего не почувствовала. И в этот момент тоже. Как будто неправда какая-то. Обида.
Домой к родителям Надежда не вернулась. Перезимовала в своей вдовьей хатёнке первый раз. Перезимовала во второй. Под вторую весну стал к ней под разными предлогами заглядывать конюх Петруха. Страшно худой, из-за грыжи не взятый на войну, он, наверно, был в общем-то жутко смешон, когда не находя слов, просто по полчаса сидел на лавке около окна, и только молчал, приглаживая красной негнущейся пятернёй постоянно прилипающую ко лбу редкую белесую чёлку. Ей было неуютно от его присутствия, от этого вечно жалкого, только просящего взгляда. Но и выгнать вот так просто, из-за того, что Петруха был нетрезв, было невозможно. Ведь, действительно, до свадьбы не было у её Михаила преданнее дружка, чем этот Петруха. Он был самым верным Мишиным заплечником, ходил хвостом, был тенью везде и во всём, кроме как сватовства. Да, до свадьбы. А на свадьбе даже на второй день догуливать не пришёл. И с ней, уже как уже Мишиной женой, здоровался только издали, не подходя. Но улыбчиво.
Петруха был литовец. Их много тогда выселили в Сибирь — поляков, эстонцев, хохлов. Жили они по народностям кучно, и у каждых был свой срок ходить отмечаться в комендатуре, свои ответственные. А в сорок первом подвезли и поволжских немцев. Все нищенствовали одинаково, но меж собой притирались сложно. Молодёжь ещё как-то находила общий язык, а старики жили подчёркнуто раздельно. Для коренных сибиряков это было непонятно: как так, — у соседа нужда, а ты как бы и не видишь? Но что ж, таков уж у них был характер. Не поняли ещё, где оказались.
Теперь Петруха заходил всё чаще и чаще. И помогал по мужицки: то дров подвезёт, то смёрзшийся навоз от стайки по огороду раскидает. Печь лопнула, — замазал и трубу переложил… Она уже стала привыкать понемногу. А вдруг он пропал. И понеслась по проулкам свежая сплетня: «Вешался, мол, из-за неё. Присушила. Работал на неё как раб. Высох в щепку. Ослабел. Вот тебе и вдовушка. Ведьминский-то взгляд. Любого сдавит. Сначала Михаила извела, а ноне вот этого. Теперь в больнице откачивают. Горло перервал: более говорить не сможет». — А он-то и раньше не особо болтал! Ой, вы милые соседушки! Чем, собственно, эта его выходка вела к её осуждению? Разве она в чём-то повинна? Молодая вдова — всем зацепка. Молодая вдова… Почему и отчего вдруг впервые ощутила Надежда эту давно созревшую вокруг себя злобу, враз всей кожей почувствовала как-то раньше не понимаемую окружающую зависть. Вдруг те, кто раньше улыбался и ласкал словами, стали в лицо и заспину колоть и жалить — на работе в конторе лесозавода, в хлебной очереди, у колодца. Задирали злобно и понапрасну больно. И стар, и млад. Надежда решила дождаться навигации и уехать куда-нибудь подальше в Васюганье на лесоповал. Уже и со своим начальником НКВД договорилась, чтобы оформиться вольнонаёмницей. Но тут вдруг опять Петруха вошёл и молча сел на лавку под окно. Сидел, постепенно трезвея, до темноты. И остался её новым мужем, — так она разом все рты замазала.
Бить он её начал через две недели. Ибо хорошо понимал, до обидного постоянно чувствовал: это не он её взял своим обречённым ухаживанием, а она его. И даже не из жалости. А из этой своей надменной гордости, назло соседям, назло всему миру. Бил сначала только по особой пьяне, просто вдруг походя тыкал кулаком куда придётся. А на следующий день страшно мучался, до вечера в избу не входил, бестолково ковыряясь по хозяйству во дворе. Боялся, что выгонит. Но потом, когда она забеременела, осмелел, стал колотить постоянно, долго и жёстко. Никак не хватало его пропитого умишки, чтобы осознать то, что уж если она так решила — пойти за него всему свету наперекор, — то, уж теперь, тем более никто её назад не повернёт. Нет на свете такой силы.
Родила она своего первенца дома. Мать помогла. Сын. Счастливый до нельзя Петр вынес свёрток на улицу на следующий же день. Чтобы все видели: он теперь отец. Не сомневались. Стоял, ждал, — кто пройдёт, зазвать на угощение. Ждал и дождался.
К их дому подбежала ватага мальцов, за которой посредине улицы следовал в окружении взведённых любопытством до крайности односельчан — Михаил. На груди, повыше других орденов и медалей, яро горела на солнце золотая звезда Героя. Толпа из баб и дедов приблизилась вплотную и выжидающе остановилась полукругом около калитки, жадно затаилась. Пётр, до того только оцепенело всё сильнее прижимавший свой свёрток к груди, вдруг часто затопал ногами и, задыхаясь, закричал, пронзительно закричал срывающимся на визг тоненьким голоском: «Всё! Всё! Уходи! Уходи, откуда пришёл! Она — моя, она теперь моя! Всё! И ребёнок мой! Вот, — взгляни: мой!»… Михаил, до черна загорелый, с новыми, незнакомыми морщинками вокруг рта, на глазах обмякал, ронял плечи. Зачем-то снял фуражку, смял в комок, аж козырёк сломался. Потом растерянно стал озираться по сторонам, словно ища опоры, пока вдруг не увидел её. Надежда и Михаил с минуту смотрели друг на друга через мутное стекло низенького оконца. Тишина вокруг них стала просто густая. Михаил развёл руками, неловко повернулся и, качаясь, пошёл назад. Больше она никогда его не видела.
В этот вечер, впервые за много лет после детства, встала Надежда вечером на молитву. И слова сами вспоминались.
После ей рассказали, что, оказывается, попал Михаил в первый же свой день войны в окружение, бежал из плена, затем долго партизанил. И, как хороший диверсант-подрывник, был заслан в Болгарию, в глубокий тыл врага. Где и получил Героя.
С мужем они вырастили двух сыновей и дочь. К сожалению запойность отца передалась по наследству. Старшой так и не женился, болтался по разным шабашкам, что-то и где-то строил. Пока не загремел в тюрьму, где заболел туберкулёзом и умер на тридцать втором году. Дочь уехала за мужем в Донбасс, родила им две внучки. Жила она с мужем по-разному, но жила. Первое время ещё присылала оттуда то письмо, то открытку к Новому году, но уже лет пять замолчала наглухо. И редкие отчаянные письма овдовевшей в шестьдесят матери возвращались с казённой пометкой: «Адресат выбыл». Младший… Младший был тут, недалеко, в Томске. Он-то как раз не забывал мать, не забывал заглядывать в деревню за продуктами, выращенными на её огороде, и за деньгами — из по крохам накопленных пенсий. Сношенька попалась подстать: пили они с ней напару беспробудно. Гнали самогон и пили до белой горячки. Отсюда и внук Димитрий, которого они ей подкинули от крайней своей развратной нищеты, страдал падучей.
Был Димитрий музыкант от Бога. Совсем малышом, с семи лет он каждый день из однокомнатного панельного ада родительской квартиры на самой окраине Томска самостоятельно уезжал на трамвае в музыкальную школу при Доме учёных, и посещал там подряд все кружки и классы, где только звучал какая-нибудь мелодия. Педагоги кормили его, приносили одежду от своих выросших детей. Но от интерната он отказывался наотрез. И был у Димитрия идеальный слух: лет уже с десяти любой инструмент, попадавший в его руки, начинал звучать совершенно грамотно, особенно хорошо шли фортепьяно и флейта. И пел он, тонируя удивительно точно.
Надежда брала внука на службы, когда приезжала в Томск. А когда уже Димитрий окончательно поселился у неё, пристроила его на клирос петь в церковном хоре. Ему достаточно было пару раз постоять около регента, как он уже самостоятельно разбирал гласы, правильно пропевал взятые на слух незнакомые славянские слова. Причём это вот клиросное пение приносило ему и физическое облегчение. Стояния на службе снимали с него напряжение, и припадки, если не отступали совсем, то проходили менее болезненно. Но кроме пения Димитрия ничего в церкви не привлекало. Священства он сторонился, причастия, подросши, категорично не принимал. А когда по её просьбе кто-либо из батюшек пытался «провести с ним беседу», то получалось только хуже: внук потом начинал бесновато ёрничать, доходя до открытого богохульства. Взгляд у него в такой момент становился страшным, неподвижно тяжёлым — как перед припадком, мутно чужим. Словно кто-то выглядывал сквозь его глазницы как через окна. Она пугалась этого чужого взгляда и больше не приставала со своими проповедями. Ладно, лишь бы на службу ходил. А там как Бог даст.
А ей самой Бог вдруг дал радость монашества. Мысли о монастыре караулили её давно и постоянно, особенно после похорон мужа и старшего сына. Но как? Где? Вот так взять и окунуться, оборвать всё… Уехать и бросить этих вот своих, таких беспомощных и бестолковых?.. И монастырь нашёл её сам. Присланный к ним на новозарегистрированный приход иеромонах оказался человеком отчаянным. Свято веря, что на этом, внешне таком неприглядном и задвинутом от больших дорог месте встанет обитель, он совершил невозможное. Какими правдами и неправдами сумел он склонить своё и гражданское начальство, но через два года патриаршее благословение было получено. А с другой стороны как же? — воля Божия: лесозавод времён культа личности — это сколько же крови эту землю напитало, сколько муки…
Батюшка подавал пример своей жертвенностью, а они тянулись за ним, тянули свои жилы. Страшно и вспомнить первые три-четыре года: грузили и разгружали «КАМАЗы» с кирпичом и цементом, таскали носилки с бетоном, песком и мусором. В очередь несли недельные двадцатичасовые вахты у кухонной плиты — когда в трёх шагах от раскалённой печи в щели и дыры затянутого полиэтиленом окна резал ледяной сквозняк и сыпалась снежная крупа сорокаградусного мороза. А ещё нужно было ухаживать за обессилевшими стариками, стирать бельё на полсотни рабочих, шить облачение для голого храма, петь на клиросе. И исполнять непривычное ещё монашеское молитвенное правило. А ещё её посылал батюшка улаживать отношения с местными властями. Они его в первое время, пока не поняли, с кем имеют дело, вовсю притесняли: свой лесозавод, а кривой досточки не то, чтобы подать, — продать не желали. Ни крана, ни экскаватора для церкви не давали. Даже щебень для бетона из города возили! И в какой-нибудь такой, уж совсем тяжёлый для стройки момент, она входила к местному начальничку в кабинет, грузно садилась напротив и сильно смотрела ему в лицо. Ох, и боялись они этого взгляда. Надежда смотрела и знала: никто не выдержит, не откажет. Выматерит, но не откажет. И опять она опять гордая и счастливая важно шла в храм с очередным разрешением на просьбу.
И, при всех тяготах, была у всех одна радость — служба. Каждодневная литургия. Слава тебе Боже, всё вынесли, всё вытерпели. Даже как-то скоро пролетели эти годики, только что здоровье унесли: кто ослеп, кто обезножил…
Вот и постригли их первых — пятерых. Постриг совершал сам владыко, — великая радость, сладкая честь. И как бы только можно это объяснить: были они пять, почти уже бабок, вроде, как и неплохо знакомы до того, вроде как бы и трудились на стройке бок о бок не первый год, вместе молились и постились. Но в тот вечер, в ту ночь стали они воистину сёстрами. Арсения, Иоанна, Ангелина, Анфия и Манефа. И с каким наслаждением они ещё долго по любому поводу окликали друг друга своими новыми ангельскими именами. Пять душ, пять судеб, характеров, даже внешне как пять пальцев руки совсем непохожих. Но, как эти самые пальцы, они теперь были налиты одной кровью, одной силой и волей. Действительно, сёстры во Христе. У других, «молодых», постриженных позже, такой благодатной любви уже не наблюдалось. И ещё — после её пострига внука оставила падучая.
А потом, через год случилось это чудо. Даже и говорить страшно. Но, а как иначе — это же урок смирения для всех очевидцев. Наглядный урок.
Одним разом отравились поддельной водкой сын со снохой. И Димитрий вдруг запсиховал, захотел уехать из деревни назад в Томск, в освободившуюся родительскую квартиру. Глаза его опять совершенно бессмысленно помутились, с бабкой, тогда ещё жившей с ним вне стен монастыря, стал невыносимо груб, и от его святотатственной ругани не спасали ни молчание, ни молитва. Категорически отказался помогать убирать огород. И они вдвоём, со старшей сестрой, две недели выкапывали из расхлябанной до сметаны — под месяц непрекращающимся мелким ледяным дождём — земли подгнивающую на корню картошку. Обмывали каждый клубень, сушили насколько возможно в амбаре, сами таскали шестиведёрные мешки в погреб. А этим временем Димитрий, надев наушники, беззвучно играл в горнице на своём электрическом пианино. Только тихо пощёлкивали клавиши под его тонкими длинными пальцами с аккуратно подрезанными квадратными ногтями.
Вот после той уборки и почувствовала она себя совсем нехорошо. Прихватывало её и раньше, но тут больше не отпускало. Она терпела, как могла. Пользовалась народными средствами, заказывала молебны. В каждодневной очерёдности читала акафисты Матери Божией, Николаю Угоднику и Пантелеймону Целителю. Но потом стало совсем уже невмоготу, и игуменья благословила в больницу. Там врачи, сделав рентген, ахнули и отправили прямо в Томск. Городские подтвердили диагноз: рак прямой кишки. С метастазами. Даже оперировать с их точки зрения не было никакого смысла. Мать Манефа наотрез отказалась от всех лекарств и уколов, подписала все отступные бумажки и вернулась домой — в монастырь.
Что ей нужно было объяснять? Это был венец, совершенно достойный всей её такой жизни. Как судьба до того не ломала, — она терпела. Гордостью, — не сознанием, не идеей, а ощущением своей внутренней самодостаточной силы, она держалась до последнего, перенося одно испытание за другим. Но это было уже сверх всего, сверх всякой меры. Мучительная, непрекращающаяся боль, не дающая вспомнить ни о чём и ни о ком. Ни хорошо, ни плохо, — просто ни о ком и ни о чём. Такой боли оставалось ей ещё на месяц или на два. И что ж, разве она не монахиня? Зачем же тогда обеты, зароки и обещания Богу? После молебна со всеобщей монастырской коленопреклоненной молитвой о её выздоровлении, она скупо простилась с Димитрием, оставив его и всех родных с их собственными судьбами, взяла только старую складную кровать и побольше чистых тряпок, и стала жить прямо в храме. На службах, начинавшихся с шести утра общим утренним правилом и акафистами перед литургией, и до ухода из церкви последних людей в двенадцать ночи, она как могла стояла на выносе Евангелия, при принесении Даров и причастии, тихо-тихо подпевая клиросу на требах. Когда же становилось совершенно нестерпимо, то ложилась в свой уголок за занавеску под «Иверской» и тайно плакала. Ночью, если не было паломников, в храме они оставались вдвоём с иеродиаконом Матфеем, который на такой же раскладушке уже два года — со дня начала службы в недостроенном ещё храме — спал в промерзающей до инея ризнице. Манефа зажигала лампадку и остававшиеся со всенощной огарочки свечей перед панихидным Распятием, ставила рядом на переносной аналойчик тяжёлую книгу, и читала, читала кафизмы. Древние певучие слова псалтыри постепенно охватывали дух, прохладно отделяя его своей стойкой, журчащей мелодией от изболевшегося тела, от рвущего на части внутреннего огня. Голос набирал уверенность, дыхание более не сбивалось, сердце сильными толчками отбивало ритм. И словно разверзались вокруг серые, грубо оштукатуренные стены и перед ней открывался мир никогда не виданных ею южных стран. Словно сам святой псалмопевец вводил её в густые изумрудные сады и золотые пустыни, в пронизанные солнечными лучами леса на склонах круглых гор, где тонкий легконогий олень пил хрустальную воду из-под водопада, а рядом павлины распускали свои сверкающие хвосты. И плакала Манефа уже не своей болью, а тоской царя Давида, гонимого по пещерам людской несправедливостью, одиночеством и предательством. И радовалась вместе с ним: ибо так близка к нему была Божия длань, так чутко к его пению Божие ухо, что все полки врагов и завистников казались перед этой близостью пылью. Строки псалмов, изгнавшие и сокрушившие врагов, словно по ступеням возводили затем её саму на вершину некоей горы. Наверное, это была гора Синай, — ибо с её вершины открывались реки, города и страны всего мира. И все народы с возведёнными руками, все эти горы, реки, цветы и травы, птицы и звери единым дыханием славили Бога.
Она сама не заметила того момента, когда она легче стала переносить дни. Легче ли? Нет, слёз не убавлялось. Причащаясь каждый день, с каждым разом на исповедях она теперь под епитрахилью священника всё горше плакала об одном: о своей врождённой гордости. Гордости, которая мешает ей вот так же безоглядно просто и радостно славить Господа в общем хоре. Славить за всё. Славить со всеми едино, равно, по детски… Славить как все. С каждым днём эта упругая, жёсткая и колющая как железная стружка, мысль о проклятом внутреннем одиночестве своей неотступной мучительностью всё больше подменяла физическое страдание, вытесняя собой рези и жжение. И когда через месяц за ней специально приехала из города машина «скорой помощи», она равнодушно терпела все снимки и анализы. И был ужас, да, да — не удивление, не испуг, а именно ужас в областной больнице, когда выяснилось, что за тридцать дней от рака крайней стадии не осталось и следа. Повторно брали анализы, повторно светили рентгеном. Потом опомнились и постановили: была допущена ошибка в диагнозе. Ошибка? Это уж кто как верит. Но только вот стали по одной к ней в палату прибегать врачихи и сёстры, принося кто сок, кто яблочко и, крадучись, делиться своими горестями. Беседовали ночи напролёт о Боге, о чудесах. Советовались о себе, о родных и близких. А что им можно было сказать нового? Молитесь да трудитесь. И терпите.
Прошло ещё два года. Мать Манефа в основном живёт теперь на выселках. Кроме субботне-воскресных служб, очень редко, только по великой нужде, в будни бывая в деревне. Выселки эти лежат в пятнадцати километрах совершеннейшего бездорожья. Только сибиряки понимают, какой длины порой бывают эти, намеренные неведомыми топографами километры. Монастырю выделили там под подсобное хозяйство двести пятьдесят гектар сельхозугодий вымершей когда-то «бесперспективной» деревни. В большинстве своём эти угодья составляли запущенные тальниковые и шиповниковые бывшие пахоты и разбежавшиеся по гривам меж заливаемых по весне болот покосы. Перевезли туда пару изб, поставили баньку, стайки для скотины, сарай для какой-никакой техники. И назначили Манефу ответственной. А как тут иначе? В монастырь последнее время обильно прибывали всё новые и новые люди, ехали по одному и целыми семьями со всей Сибири. Но что-то народ подбирался в основном городской, — всё инженеры и учителя. На земле они были совсем слепыми и безрукими, не смотря на свои бывшие диссертации и искреннее желание трудиться. В лучшем случае дачники. Вот и получилось так, что без её умения определить место под капусту или лук, без навыков принять у коровы роды и вовремя определить сроки высадки в перегоревшие навозные гряды огуречной рассады, долго ещё, пожалуй, никакого путного хозяйства у монастыря бы не было. За этим-то, наверное, и оставил её Господь пожить ещё на этой земле. Для такой вот общей пользы.
…Перебираясь вдоль заваливающегося в разные стороны штакетника за указующим пятном света, Манефа не опоздала на вечернюю. И никакого чуда в том не было. Это просто болящий Серёнька-вратарник, по совместительству в будние дни звонивший в колокол, безответственно заспал в своей келье. Проснувшись в наступившей полной темноте, он со страху перепутал время, и, чтобы не получить игуменского нагоняя, без благословения побежал на колокольню на полчаса раньше сроку. Но нагоняя не избежал.
ГАПОНЯ
Это было уже не задолго перед революцией. Да, пожалуй, в году 15-том. Лето тогда на средней Волге стояло просто удивительное. С мая прошли обильные дожди, и через месяц поля с рожью поднялись в пояс, а трава к покосам подошла просто дурная. Тетерева не могли взлететь — их так и ловили руками. Косари, слушая густой звон кузнечиков, уже сладко томились, когда с еланей несло медовым духом: Троицу давно отгуляли, доедали Петров пост, а там и — с Богом!
Именно за день перед Иваном Купалой и вошёл в сельцо Рубское Лысковского уезда Нижегородской губернии бродячий музыкант. Вошёл не с большака, справа из-под горы тяжкой рыже-пыльной петлёй восходящего к полусотне дворов, двумя улицами оседлавших холм, а левой полевой дорожкой, через плотину, подпиравшую длинной кривой пруд с впадающей в него малюсенькой густо-синей Ороской. С этой стороны, над крутым косогором, посреди темно-зеленой берёзовой рощицы бело вознеслась высокой колокольней Предтеченская церковь. Храм для такого крохотного сельца был знатным, на зависть всем соседям. Построенный в 1814 году старой графиней Уваровой, как обетование за сохранённую в наполеоновскую кампанию жизнь любимого внука Ивана, дважды раненного и лично награждённого австрийским императором в госпитале после Ватерлоо, он был чистым отражением модного тогда классицизма: колонны, портики, строгие бело-штукатуренные стены с узкими высокими окнами. Графиня и опекала храм до самой своей смерти, собрав в нём прославившийся свой красотой и итальянской выучкой крепостной хор. Расписывали храм арзамасские живописцы, а иконы в липовый резной и вызолоченный иконостас заказали в мастерских Владимирского владыки. Но, после её кончины, церковь в далёком Петербурге её неведомыми в сих местах потомками была забыта и надолго оказалась в запустении. Потом пришла свобода, и предоставленные себе крестьяне пяти ближних приходских деревушек сами едва-едва уже просто могли прокормить попа с дьяконом, а не то, чтобы поддерживать или, тем паче, продолжать украшательства. Так, к восьмидесятым годам девятнадцатого столетия, Рубский храм Рождества Иоанна Предтечи пришёл в полный упадок. Крыша нещадно текла, размывая и осыпая росписи, рамы без покраски гнили, то и дело роняя стёкла. И ветра внутри дули так, что даже выгороженная для зимних служб передняя часть церкви не могла сколько-нибудь приемлемо прогреться от огромной и прожорливой на скудные запасы дров печи. К концу литургий прихожане околевали до полного бесчувствия. Какое там от них покаяние, — мученики, да и только!
Сколько же, наверное, тогда было пролито горьких и тайных слёз на сугубых священнических молитвах, сколько ночных зареканий и великопостных обетов услыхали быстро почерневшие в сырости иконы, но только в самом начале этих вот восьмидесятых и приехали на свою родину из Москвы два купца брата Сытиных. Эти бывшие уваровские крепостные, получив волю, уезжали из Рубского искать себе торгового счастья в древней столице. Начав с извоза, они скоро сумели организовать в первопрестольную поставки продуктов из родных мест, и процвели на глазах, — чем попали в сферу интересов секты скопцов. Москва была вся в то время пропитана сектантским духом, и даже каждое сословие имело свой собственный соблазн. Дворяне спиритствовали и пашковствовали, мещане молоканили, фабричные хлыстовствовали. А купцы, коли не поповские староверы, улавливались скопцами. Хотя всё иной раз и перемешивалось, — кто ж не помнит про «духовный союз» княгини Татариновой? Старший Сытин к тому времени уже собирался жениться, но невеста странно вовремя умерла. Так или иначе, но через год они «оседлали первого коня», а ещё через два и полностью оскопились. После введения в секту, им были открыты самые широкие кредиты, и их торговые дела пошли с огромными оборотами. И были эти братья в своём сектантском увечье теперь уже совершенно неразлучны, как часто отчего-то и бывает это в тайном изуверстве. Просто расстаться не могли.
И вдруг младший Сытин сильно заболел. Его постоянно мучила изжога, рвало от любой пищи, тянуло судорогами. Он желтел и слабел просто на глазах, а врачи — свои и иностранцы — были бессильны. Счёт остаточной его жизни пошёл на дни. Старший безотлучно сидел у его постели и платил направо и налево за любую надежду безоглядно. Вот в это время и рассказал им кто-то из бывших односельчан, служивших у братьев в извозе, что около Рубского храма из-под горы забил сильный родник. И что на этом источнике уже было два видения Богородицы и служили по этому поводу молебны. Местные болящие бабы стали окупаться в положенной там колоде и окунать в ледяную воду ребятишек. Очень, говорят, многим помогало.
Услыхав про такое, Сытины уже через два дня были на родине. После службы с заказанным на источнике молебном, младший трижды окунулся в колоде и почувствовал сильное облегчение. На другой день это повторилось, а через неделю болезнь и вовсе оставила. Так и обрела церковь новых покровителей. Первым делом перекрыли демидовским железом крышу, заменили сосновые рамы на дубовые. Батюшку и диакона обрядили в новенькие дорогущие ризы, цветами на все двунадесятые праздники, в алтаре засияли серебром и позолотой священные сосуды из мастерских Фаберже. На выносах вдоль стен встали резные с позолотой киоты с иконами в тяжёлых серебряных окладах. А старая Казанская, с которой теперь каждое воскресенье ходили молебном на источник, оделась в парчовые ризы работы киевских золотошвеек, с обильными самоцветами и крупным речным жемчугом. Вновь под куполом мощно зазвучал полноценный наёмный хор.
Вот в этом хору и пел Гапонька. Худенький белобрысый подросток был «порченым». Его совсем маленьким страшно перепугал бык, на его глазах вначале одним взмахом рога выпустивший в дорожную пыль кишки отцовой лошади, а затем затоптав в кровь и самого отца, бросившегося на защиту Рысухи. Мальчонку, столбиком стоявшего у забора, спас их сельский кузнец, неожиданно кинувшийся на взбесившегося быка и проломивший тому лоб быстрым ударом кувалды. Гапонька после случившегося долго вообще не говорил, только мычал. А потом стал понемногу объясняться, но заикался страшно. Понимали его только свои. Из жалости к нищенствующей после трагической смерти семьи (общество выделяло по мешку пшеницы на рот: на семь ртов — семь мешков), батюшка взял троих старших ребятишек в хор, где за пение их кормили и выдавали долю «приноса». И, вот удивительно, — не могущий чисто выговорить ни одного слова, Гапонька на клиросе запел. Чудо, как запел. На святках заглянул в обновлённый храм благочинный архимандрит из Лыскова, услыхал в его исполнении соло и ахнул: «Голосок-то просто ангельский!». И, конечно же, забрал сироту к себе.
За несколько лет обучения мальчик не только научился читать и писать, но и овладел музыкальной грамотой. Но всё молча. Старый, старый архидиакон отец Феофилит, помнивший ещё старуху Уварову, обучая его нотам, свои репетиции проводил в сопровождении маленькой переносной фисгармонии. Гапонька просто влюбился в инструмент, так подражавший голосу и даже дыханию человека: словно кто-то подпевает рядом на незнакомом тебе языке! И лучшей наградой считал для себя возможность почистить, протереть красивые инкрустированные узоры и плетёные немецкие буквицы, а потом и немного поиграть на нём. Он очень скоро научился подбирать на фисгармонии знакомые церковные мелодии. Пробовал и светские песни, но был наказан.
Когда ему исполнилось четырнадцать лет, его чистый, действительно ангельский голосок просел, загрубился, а затем и вовсе пропал. В запевалы хора вывели другого мальчика, а его перевели на подсобные работы большого благочинного хозяйства. Старый монах-учитель жалел Гапоньку, и поэтому игра на фисгармонии тайно продолжалась. Продолжалась до самой его смерти. После отпевания Феофилита, новоназначенный регент хора иеродиакон Никита про Гапоньку и знать не захотел, и инструмент спрятал куда подальше. Из-за сильного заикания к службе в храме его не привлекали. Так что парню остались дрова, мётлы, помои с кухни под строгим присмотром всех, кому было скучно, да лишь радость кратких вольных ночей на покосах. Осень и зима же были бесконечны.
В одну из светлых уже весенних ночей Гапонька пропал. Пропала и фисгармония. Искали ли его? Вряд ли. Иеродиакону влетело за халатность в отношении благочинного имущества, а старшему дворнику — за неумение читать мысли послушников. На том всё и успокоилось.
А через два года появился в поволжских деревнях бродячий музыкант. И видели, и знали, и полюбили его селяне вокруг Богородска, Кулебак, знали в Шумерли и в Сергачах, хотя в горда он никогда не заходил, видно был песпаспортный. Бывал он даже в Арзамасских и Саровских местах. Он входил в село всегда босой, неся за плечами большую пропылённую котомку. Местные ребятишки тут же окружали его. И так и сопровождали повсюду шумливой ватагой. А старшие оказывали музыканту приём от всего мира: в избу, в которой он останавливался только по своему выбору, несли со всех сторон молоко, выпечку, яйца и рыбу. Договорившись меж собой, так же всем миром высвобождали чей-нибудь амбар из больших, бабы чисто выметали его, снимали паутину, а мужики сколачивали лавки. Потом все разбегались для неотложных хозяйских забот: встречали стадо, доили, кормили и убирали. А вечером чисто и празднично одетые, семьями чинно сходились на концерт.
Бродячий музыкант заранее разбирал и, протерев, собирал свой инструмент. Долго и аккуратно устанавливал его. Садился на табурет боком к сбивающимся и рассаживающимся в амбаре крестьянам. Не глядя ни на кого, разминал пальцы, что-то мычал и начинал с «Верую»…
Зимами он куда-то исчезал. Может быть, уходил вниз по Волге к тёплой Астрахани, а может быть, переживал холода кого-нибудь из своих соучеников по детскому хору, широко раскиданных регентами по приходам и многочисленным монастырькам этой удивительно духовно активной местности. К его неожиданным появлениям и пропажам привыкли, ждали — не ждали, но встречали всегда душевно. Он всегда только сам выбирал место постоя, ел мало и без мяса, и, лишь когда что-нибудь из его одежды окончательно ветшало, принимал в дар портки или рубаху, но обязательно неновые. Проведя в одном месте два-три вечера музыки, опять уходил в неизвестно куда и на сколько, беря с собой только каравай хлеба.
Его любили и немного побаивались, как всех юродствующих. Старались подмечать: к чему его постой у того или иного хозяина — к добру или худу? И у кого он берёт одёжу, — прибавляется ли богатства и удачи? Хотелось верить. Эти домыслы вносили некоторый неуют в отношениях соседей: а не приманивают ли те чем-нибудь к себе «счастье». Но точно ничего сказать никто не мог. Постоялец ел, спал, молился. И всё как все. Укоряло приютивших его хозяев лишь длиннющее молитвенное правило музыканта — монашеская «пятисотица» и ночные кафизмы.
Борода у Гапони, — а то был, конечно, он, — почти не росла, так, пушок под острым подбородком. А вот прямые белесые, с чуть зеленоватым отливом волосы, отродясь, похоже, не стриженные, пышно опускались прямо по спине ниже пояса. Это была его особая тайна, особая верига, и все понимали это и не смеялись его необычному для мирянина виду. Он очень любил, когда перед «концертом» девки садили его в свой круг и расчёсывали. Они протяжно пели, Гапоня что-то подмыкивал на своём невнятном языке, а по его щекам от удовольствия катились мелкие быстрые слёзы…
Путник на входе в Рубское сразу был замечен местной ребятнёй и собаками. С лаем и криками они сбегались с ближних и дальних дворов и окружали гостя всеобщим восторгом. Музыкант улыбался, заикасто мычал, гладил малышню по выгоревшим головёнкам, но ходу не сбавлял. Легко поднявшись на крутой косогор, он поравнялся с белёной кирпичной церковной калиткой. Сняв со спины котомку с фисгармонией, он нежно поставил её на траву и истово, широко, с поясными поклонами, трижды перекрестился образу Спасителя над высокими окованными медными полосами дверьми в притвор храма. Двери были заперты на огромный амбарный висячий замок, но из пристроенной к колокольне сбоку деревянной сторожки уже поспешал, смешно, словно ёжик, переваливаясь на своих коротких ножках, карлик сторож, шестидесятилетний Вася-маленький. Когда Гапоня останавливался в Рубском, он всегда ночевал только у Васи-маленького, совмещавшего караул церкви с пономарством. Рассказывали: давным-давно, когда Васе уже исполнилось семь лет, он продолжал причащаться без исповеди. И вот однажды мальчик сразу же после принятия причастия вышел на улицу. И его вырвало. А неведомо откуда подскочившая чёрная собака сожрала святые дары. С тех пор Вася не рос, а крючился: бес связал. Голова и руки у него стали как у взрослого, а согнутое тельце и ноги остались совсем крохотные.
Сторож, даже не здороваясь, сразу стал отмыкать храм. Дёрнул тяжеленную половинку, и из-за двери сильно дохнуло приятной в летний день затенённой прохладой. Гапоня, прижав к груди свою бесценную котомку, осторожно вошёл внутрь притвора, а детвора, задирая обидными словами гаркнувшего на них Васю-маленького, понесла весть в село.
Приложившись, после земных метаний, к выставленной на аналой праздничной иконе, Гапоня долго крестился и кланялся иконостасу, киотам, большому Распятию и панихидному столу. Сторож терпеливо стоял в дверях. Да и куда торопиться? — скоро уж должны были прийти бабы-уборщицы и диакон, чтобы готовить храм к предпраздничной всенощной. Дело Васи было только прибраться в пономарке, достать и протереть подсвечники, разжечь угли для кадила. Дьякон сам ревниво готовил алтарь и ризницу, буквально следуя правилу не впускать в святилище увечных от рожденья. Что ж с таким спорить? Он вообще был предельный буквоед, за что и был прислан сюда из Макарьева упрямо и не вовремя обличаемым за малейшее отступление от правил начальством. Так и засиделся в дьяконах, несмотря на начитанность и рвение.
Вечером, после церковной службы и дойки, состоялось выступление. Обширный, красного кирпича амбар Силуана Варова был набит битком. Многие селяне, отстояв всенощную, даже в дома не заходили, а сразу собрались «на музыку» в своих, согласно достатку, праздничных нарядах. Красно-малиновые рубахи, чёрные и рыжие поддёвки, тёмно-синие с росшивью сарафаны пёстро пересыпали белые одежды стариков и детей. И на скамьях рассаживались опять же из уважения к зажиточности, опуская передний ряд — для прихода огромного батюшкиного семейства и бездетного — «сам-двоих» — старосты. Бабы лузгали семечки и ворковали вполголоса. Дети крутились на полу, то вбегая, то выбегая на «воздух». В самом амбаре не курили, но зато у отворённых настежь ворот дым висел сизым облаком. Тут проходило стихийное мужицкое собрание, обсуждались вести и слухи с войны, найденный намедни в лесу неизвестный висельник и предстоящие покосы. В сторонке девки чесали волосы Гапоне, а парни задирали их беззлобно, подговариваясь в ночь пойти на кладбище, смотреть где зацветёт папоротник. Но вот подошёл батюшка, цигарки разом затоптали, разобрались с местами и попритихли. Гапоня посидел перед инструментом, резко откинул волосы и нажал на педаль… Вставали миром и слушали, подпевая, на ногах дважды: на «Верую» и «Боже Царя храни»…
…Распроводив девок, хулиганить парни начали не с самого края: самой крайней стояла закосившаяся избушка бабки Федулки, местной колдуньи. Они только издали затаясь посмотрели, как из её трубы валил густой дым, а за щелястой ставней бродил огонёк. Говорить, а уж тем более поминать имя колдуньи в эту пору было нельзя — она об этом сразу бы узнала. Поэтому также не досталось и её ближним соседям. Пройдя шумным воющим и свистящим, срывающим с петель калитки вихрем по нижней улице, они, уже тихо, заломив прихваченным по дороге чьим-то ломом замок варовского амбара, по одному крадучись пронырнули в его темноту. Хотелось учудить чего-нибудь особенное, такое, какого ещё не было. О чём бы долго потом говорили во всей округе, что вышло бы своим озорством за пределы их села. Перевернули лавки, прошарили углы, — но фисгармонию Гапонька унёс с собой в сторожку. Откатив подальше в поле пару телег и, наглухо заложив старостовы ворота поленницей, парни оставили остальные обычные иванокупальские шалости на откуп малышне, а сами двинулись к далеко белеющей под почти полной луной церкви. Около ограды постояли, подождали, пока посланные «молодые» не вернутся с четвертной бутылью самогона. Потом, давя смех, стали негромко стучать в калитку.
Маленький Вася был пьяницей, и смешно суетился по своей переполненной нежданными гостями каморке. Он топотал вокруг стола, выкладывая хлеб, лук и притворно громко охая из-за того, что завтра придётся отказаться от просфоры. А дьякон, злыдень, обязательно учует перегар и наябедничает настоятелю. Парни дружно и фальшиво утешали: ночь, мол, такая, что и поседеть от страха недолго. Тем более здесь, недалеко от кладбища. Столько жути вокруг. Вася скоренько соглашался, и сам вспоминал подобающие истории. А вот Гапоня упирался, только мыча и заикаясь, отодвигал стакан, с извиняющейся улыбкой заглядывал в лица, вдруг окружившие его с таким вниманием. Он вообще завтра собирался причаститься и уже прочитал правило последования. Парни не отступали, он тоже. И тут в общий хор уговоров властно вошёл подхмелевший уже хозяин. Он вдруг присвистнул на галдевших вразнобой гостей и в наступившей тишине предложил выпить за великий, равноангельский гапонин талант к музыке, за его призвание нести радость крестьянствующим, тяжело трудящимся людям и за то, как его мир в ответ любит, знает и ждёт на всех четырёх сторонах, — выпить вместе и стоя. Все разом поднялись, разом же немного хмурясь, подняли разномастную посуду, и так, молча, ожидающе смотрели на то, как Гапоня, побледнев от такой чести, неловко вышел из угла, принял от Васи кружку и поклонился.
Сильно запьянел он уже со второй, но показать, как складывается и раскладывается фисгармония, отказывался отчаянно. Ещё после двух кружек заснул: вдруг резко привстал из-за стола, сильно качнулся и со всего роста завалился в угол, закрыв собой крепко охваченный руками инструмент. Ни одна из настойчивых и злых попыток вытащить из-под него фисгармонию не удалась. Он, не размыкая глаз, только стонал, слюняво кривя рот, а длинные сухие пальцы мёртво держали котомку. Когда самогон кончился, удовлетворённо захрапел на своих коротеньких полатях и хозяин сторожки. Гости сами были хорошо навеселе, но никого своих не оставили, а, бросив на раззадор дьякону калитку настежь раскрытой, дружно качающейся ватагой двинулись в село.
Было уже совсем почти светло, небо на востоке от смутно-голубого мягко готовилось стать розовым, и встречающее их село слепо затаилось черными на фоне неба избами и сараями. От озерка в поле выплывали густые волны бледного тумана, в сыром воздухе молчали даже цикады, только в тальниках чуть потрескивал вспугнутый чем-то чирок. Тишина была просто осязаемой. Тёплая, не остывающая за короткие ночи земля податливо заглушала шаги. Во всех домах крепко спали. Двое самых трезвых и недовольных отделились от компании, и торопливо, почти бегом вернулись в сторожку. У самого входа над косяком висели на гвозде большие чёрные овечьи ножницы. Склонившись над Гапоней, в несколько сильных жимков, неровными хватками парни срезали под самые корни его волосы и положили около Васи-маленького. Ножницы тоже всунули ему в руку. И тут, сначала издали, а потом и поблизости повсюду закричали петухи.
Больше Гапониных концертов не слышал никто и никогда. Говорят, — он в тот день взахлёб рыдал, сжимая в руках обрезанные волосы, крестясь и указывая пальцем в небо, что-то пытался прокричать подходившим и подъезжавшим семьями на подводах к престольному празднику прихожанам окружающих деревень, но его никто не мог понять. И он пропал навсегда… Куда он подевался? Ну не в разбойники же ушёл! Много монастырей и скитов на Волге… А фисгармония нашлась у крыльца дома архимандрита. И никто не мог внятно объяснить: откуда она незаметно взялась за высоким забором с крепкими воротами, в глубине двора, днём охраняемого бдительным и строгим отцом Никоном, а ночью свободно рыскающими волкодавами.
ДНЕВНИК ОФИЦЕРА
В приграничной Бурятии, посреди завораживающих своей сказочной красотой, — до долго потом фиолетово-синих и лилово-серебряных сновидений, — изломов хребтов Восточных Саян, широко и мощно пролегает знаменитая Тункинская долина. А на её верхнем краю, посередине этой протянувшейся на полторы сотни километров плодороднейшей естественной теплицы, около самой стенки Восточного хребта затерялся крохотный курорт местного республиканского значения. Аршан — это несколько гектар слегка окультуренной садами и огородами земли посреди буйства чистейшей горной тайги, пяток корпусов сталинской застройки и восемь гипсовых крашенных статуй Ленина, противоречиво указывающих длиннющей правой рукой в разных направлениях со всех перекрёстков санаторских дорожек. Главное здесь — целебные источники. Голубые, зелёные и розовые соли пластами выходят на поверхность из-под нависшей скалы, пропуская сквозь себя горячие и прохладные родники. Ампирная беседка, керамические кружки с носиками-трубочками. Совминовские бурятские дамы, после процедур парочками фланирующие в вечерних платьях среди коровьих лепёшек и томно дожидающиеся вечерних танцев с редкими гастритными кавалерами.
Нас заманили в это совершенно очаровывающее неиспорченно дикой красоты место каскад из пятнадцати водопадов и желание жены показать мне легенды своего детства. Остановились мы в небольшом деревянном пустующем бараке, горделиво обозванном «Домом отдыха творческих работников театров Республики». Едва освоившись в сырой, но чистенькой комнате и заказав хозяйке гостиницы ужин, мы безо всякой подготовки отправились знакомиться с горами.
Две голые острые вершины ужасающими размерами нависли над санаторием и сдавили вздутую и яро ревущую от прошедших перед этим обильных двухнедельных дождей реку. Все мосты были смыты недавним наводнением, и перейти на противоположный берег, по которому пролегала тропка к перевалу, можно было только по двум сваленным навстречу друг другу стволам сосен. Первый раз это было впечатляюще. Далее узкая, со свежими осыпями, тропинка вела вдоль крутого склона всё сужающегося ущелья. Из-за шума зеленоватой как бутылочное стекло под белой пеной водоворотов Кынгарги невозможно было охать и ахать, мы только поминутно переглядывались и с щенячьим восторгом тыкали пальцами то в совершенно отвесную слоистую гранитную стену, в сотню метров нависшую над потоком с того берега, то в крохотные розовые ландыши, цветущие под серовато-лиловыми шляпами неведомых грибов. После двухчасового подъёма, вновь перейдя на левый берег по переброшённому на пятиметровой высоте уже одинокому бревну, мы оказались в широкой округлой лощинке, сплошь выложенной одинаковыми плоскими камнями из расслоившегося шифера. Здесь река разделилась на несколько рукавов и немного поуспокоилась, громко щебеча и пофыркивая на солнышке. По ближнему рукаву быстро плыл сапог. Неожиданно для самого себя я шагнул прямо в напористую ледяную воду и поймал его. Это был достаточно новый резиновый сапог сорок второго размера. Через несколько мгновений из-за поворота показался человек. Невысокий, очень смуглый шестидесятилетний мужчина с давно неподстригаемой седой бородой. Одетый в старую солдатскую форму и белую панаму, он был обут только левой ногой, и, увидев мою находку, издалека широко заулыбался нам, глубоко морщась лицом.
Странное это было лицо, не имеющее никаких особых примет, за исключением очень глубоких морщин. Просто светло-редкие серые волосы, глубокие серые глаза, чуть мелковатые черты лица. Говорил он ровно, явно не по прибайкальски, — без этакого местного чередования ритмов. Запоминалась только как бы чуток заглядывающая снизу, и от этого немного собачья, улыбка. А вот руки были примечательные: распухшие, ярко красные, со множеством мелких ссадин и царапин. Он всё прятал их за спиной и постоянно разминал, массировал. Через полчаса мы были совершенными друзьями, и, в знак благодарности за спасение утопавшего сапога, нам были указаны редкие на этой стороне хребта пятачковые поросли дурманно пахнущей саган-дали. Сидя на корточках, мы щипали мелкие веточки стелящегося по горячим валунам кустарника и пьянели от его солнечно смолистого ни с чем не сравнимого аромата. Беседа вертелась в основном вокруг Москвы, где когда-то наш новый знакомый и моя жена учились, а я просто хипповал по Арбату. У нас не нашлось общих знакомых среди людей, но были знакомые районы, улицы и даже дома. А когда он узнал, что мы с ним почти в одно время ещё по паре лет прожили в Кишинёве, и, тем более, я работал на реставрации Сынжерского храма, — то его немного заискивающая улыбка больше просто не исчезала. И, прощаясь, мы сговорились назавтра встретиться здесь, чтобы вместе посмотреть и отснять на слайды знаменитый водопадный каскад, ради которого мы и забрались в приграничную глушь.
В гостинице на запах свежей саган-дали сразу же появилась хозяйка. За десяток веточек она принесла нам молока, ещё за десяток — свежайших лепёшек. Плечистая, мужиковатая, она двигалась чуть замедленно, но удивительно экономно, ничего потом не переделывая и не поправляя. Встав грузной кариатидой в проёме двери, она одними глазами, не шевелясь, с нескрываемым интересом следила за тем, как мы разбираем и раскладываем свои вещи. Особенно её интриговал мой этюдник. Убедившись, что уходить она совершенно не собирается, мы, ради какой-либо себе пользы от этого её стояния, стали задавать разные вопросы, на которые она отвечала без эмоций, но обстоятельно, забавно вдумчиво переспрашивая каждый вопрос, словно запоминая.
— Кто этот Григорий? А чудак. Такой же, как и я. Чудак-одиночка. Я ведь здесь одна сама за себя. А здесь таким нельзя. Почему нельзя? А потому, что здесь либо бурятом нужно быть, либо семейским. Это старообрядцы наши так называются. Особенно, если ты здесь, на курорте, какую-либо должность занимаешь. Как я. Причём должность? А это место у бурят святым считается. Видали, сколько тряпочек около источника по кустам навешано? Жертвы их духам. Тут всё должно только с позволения шаманов делаться. Они, шаманы, всё тут определяют. Кроме, конечно, того, что семейские для себя робят. Семейские ведь строго по своим законам живут, от мира закрыто. Друг за дружку стеной стоят, до смерти, вот их буряты и боятся. Но, а я сама по себе, как дуб в чистом поле. Никому не кланяюсь. И директором числюсь. Что за это бывает? В начале пугают, потом денег на откупную сулят. Меня так и поджигали. Затем сына до больницы избили. А я взяла лопату и переломала этим киллерам плоскорылым руки и ноги. Сама. Да, кто ж за меня заступится? Я у них потом четыре суда выиграла, — и ведь это при всём том, что и прокурор, и судья — буряты! Вот как-то… Григорий? Вот и этот ваш Григорий тоже непокорный оказался. Только я люблю на людях быть, на обществе, чтоб артисты вот приезжали, писатели. Музыкантов люблю. А он бирюк. Откуда он? Точно не скажу. Пришёл сюда три года назад, впервой в землянке зимовал у родника. Сейчас заимку срубил. Как к нему относятся? Обычно. И пасеку ему разорили, и собак потравили. Но терпит, всё терпит. Да уж, кто как судит, а я слыхала, будто он тут после войны в конвойке служил. Тут, выше в горах золото искали, шахты рыли. Заключённые, конечно. Вот он их и охранял. И, якобы, когда был у них из лагеря массовый побег, он самолично некоторых убил. Застрелил, а теперь, когда на пенсию вышел, так вот и приехал опять сюда. Захотел на том самом месте, где он своих зеков порешил, часовню поставить. Грехи замолить, значит. Почему один? Так он никонианин, и наши староверы его не принимают. А бурятам эта его затея и вообще как кол в горле. Чудак, одним словом. Как и я.
Ночью долго не удавалось заснуть. Непривычно тревожно за окном шумела река, издалека гулко раскатывались частые в этих местах обвалы. Перед, всё равно — открытыми или закрытыми, глазами плыли и плыли увиденные днём в ущелье картины. Было сыро и душно.
На следующее утро мы встретились в оговоренном месте лощинки с рукавами и по одному только Георгию известной козьей тропке за час перешли седловину между двух относительно невысоких вершин, значительно сократив путь к искомым водопадам. Спустившись, вернее, скатившись на пятой точке по осыпи мелкого щебня к сделавшей без нас большую петлю Кынгарге, мы скорым маршем поднялись по её пологому здесь берегу ещё с километр и остолбенели от непередаваемой красоты. За полчаса я расщёлкал все четыре плёнки, а красота всё только нарастала. Я проклинал своё бессилие — никакими красками потом невозможно будет передать увиденное, нет, — впечатлённое, впечатанное в душу. О, эти звенящие живые радуги…
Разложив прихваченную с собой еду на огромном, сверху плоском валуне, мы, развалясь как древние греки, неторопливо беседовали под шум горного потока, кристально ледяной водой которого и запивали чёрный, немного липкий хлеб, тонко нарезанное жёлтое сало и мелкие огурчики. Между близких со всех сторон вершин ветер иногда заносил пронзительно белое на синем облако. Но солнце палило, и влажная от мелкой водяной пыли одежда на спинах становилась горячей. Попеременно пахло пижмой и лавандой. Разговор в основном шёл вокруг нас, наших профессий. Судьбу Георгия мы, естественно, обходили как могли. Но круги беседы как-то сами сужались, невольно сползали на местное. Он слегка посопротивлялся, пытаясь укрыться в абстрактных, отвлечённых, бесплотных литературных изысках. Но, как всякий давно одинокий человек, встретивший не связанных с его прошлым и будущим случайных собеседников, сам же невольно начал исповедываться:
— Вот, что есть само определение «прекрасного»? Откуда оно? Почему так всем одинаково понятно? Ведь это даже не монополия только человека, его интеллекта. Нет, вы посмотрите: почему какая-то птаха для своей подружки поёт так красиво? Почему для обозначения занятой территории и привлечения самки нужна именно красивая мелодия? А не просто громкая или пронзительная? А почему цветы для привлечения насекомых пахнут так сладко? Ведь тоже могли бы просто вонять как-нибудь характерно. И всё. Главное — был бы сигнал. Уж не говорю о лепестках и пёрышках: в чём функциональность гармонии их цветового подбора? Ведь, вроде бы опять, главное здесь — просто продемонстрировать различие видов. И вот, раз есть подающая эту красоту сторона, значит обязательно есть её воспринимающая. Скажете: условность философского виденья? Надуманность эстетствующего разума? Ан, нет! Это не ментальное это понятие, а астральное, душевное. Понятие красоты присуще, прежде всего, самой Земле — нашей живой матери Земле, а она уже раздаёт это своё понимание красоты всем своим детям. Цветам, пчёлам, птицам и человеку. Откуда дано? Несомненно, свыше. Я здесь в одиночестве многое заново для себя познаю. Многое пересматриваю. Скоро, наверное, до того дойду, что и азбуку буду переучивать. А потом и врождённую рефлексию перепроверю. Глядишь, и доберусь до смысла своей жизни. Своей бестолковой и никчёмной судьбы.
Тут не выдержала жена, и вопрос встал о вере. И более конкретно — о православии. Я, было, сжался, решив, что мы сейчас потеряем интересного собеседника, но ошибся. Георгию словно пробку выбило. Видно у человека сильно наболело, вызрело в одиночестве многое, и он рванулся навстречу безобидно случайным слушателям:
— Что уж тут кружить? Вам, наверное, уже всё про меня рассказали? Ну, так вот, — я на самом деле строю часовню. Там, за этой горкой. И именно православную. Один. И Бог с ними, со старообрядцами, справлюсь. Я ведь со всем сердцем к ним вначале потянулся. По старикам их, по «крёстным» ходил, всё хотел истину найти, понять — в чём суть раскола, суть их на нас обиды. Узнать нечто такое, что, может быть мы, официальная церковь, в этой жизни потеряли, не сумели сохранить и от этого так страдаем. Выведывал, пытал, ждал откровения. Ведь на чём-то же они стоят уже столько лет, не прогибаются перед «духом времени»! Ведь это не восковые фигуры, а живые люди. В чём секрет такой силы, на чём основан этот их строгий спрос со всего мира, моральное, так сказать, право осуждения окружающих?.. Но ничего такого у них не нашёл. Фундамента правоты — любви, понимаете? Самого главного — христианской всепрощающей любви. Одна гордыня. Средневековая обида. И современная ложь. Как они сами говорят «во спасение». Да, вся их уже вековая стойкость на неприязни и глубочайшем призрении к миру базируется. И не правда, что они не меняются, — ещё как! — столько отсебятины за последнее время понапридумывали. Такие апокрифы, — ещё то творчество! Я вот спрашивал начётчика Симеона, он здесь самый авторитет, всё священное писание наизусть знает, — как же вы без священства, без таинств церковных-то спасение души себе мыслите? Ведь Христос не что-нибудь, а именно церковь на Земле учредил. А он в ответ таких басен наговорил, таких историй понарассказывал! Тут тебе Вечный жид и Алексей Михайлович, папа «рымский» и Никон, и Пётр Первый, и Троцкий, и даже Гагарин с Горбачевым в один ком сплетены. Ну и все мы остальные, кто их толка не придерживается, тоже в ад обречены безо всякой надежды. Вот так он меня просветил, а потом ещё и обругал, как мог, за мои вопросы. Вы разве не знаете? Семейские — жуткие матерщинники, просто жуткие… Поэтому, Бог даст, закончу к этой зиме задуманное и поеду в Слюдянку. Там у меня батюшка знакомый служит. Я у него на часовню благословлялся, он её и освятить обещал. И отслужить литию на крови невинно убиенных. А там, что Господь положит: сожгут, так сожгут. А, может, и устоит. Может, и после меня хоть какая-то хорошая память останется.
Георгий уже не возлежал. Он сидел на коленях, всё время слегка привставая и попеременно близоруко заглядывая нам в лица. От трудно скрываемого волнения его несходящая улыбка своими глубокими морщинами стала похожа на жалобную древнегреческую маску:
— А с бурятами у русских в этих местах просто ножевые. Смешанных браков даже представить себе нельзя, что там, — даже после геологов метисов не осталось. Буряты здесь практически не знают лам, они здесь не столько буддисты, сколько шаманисты. Слыхали про религию бон? Тоже на свой лад староверы. Не зря же барон Унгерн именно здесь от красных уходил. Они его за своего великого шамана признавали. И сейчас молодёжь всё ещё Чингисханом бредит. Из благ цивилизации ценят только водку, мотоциклы и ружья. Живопись там, литература или балет просто вне их сознания, как проблемы какой-нибудь Альфа-центавры. И поэтому, когда вдруг появился посреди них одинокий русский, который с другими русскими не в общине, они даже немного ошалели. Ждали подвоха. Потом присмотрелись, стали понемногу пугать, пробовать на прочность: то стрельнут из тайги в окно, то лаек потравят. Не известно, чем бы дело кончилось, но тут я ненароком с их главным шаманом в санаторской столовой за одним столом оказался. На выборах случай был, тогда всех силой, не силой, но понуждали собраться возле урны. Забежал туда, сюда, пенсию получил и решил перекусить по-человечески, цивилизованно, с вилкой. Вижу — все столы забиты, а тут человек один сидит. Я и повернул к нему со своим подносом. Кто ж знал, что это сам Бадмаев. Сажусь напротив, здороваюсь, а он на меня даже не смотрит, глаза щёлочки, лицо огромное, каменное. Пробормотал он свои заклинания, покормил, как у них полагается, своих духов брызгами с пальцев, и начал есть. А что меня дёрнуло? Только я тоже вдруг перекрестился сам и перекрестил стол. И Бадмаев подавился. Стал задыхаться, покраснел и упал под стол. Хорошо в зале врачи были, откачали. Но все буряты вокруг поняли: мои «покровители» посильнее его. И с тех пор не трогают. Боятся, что заколдую, пока, по крайней мере… Вообще, это ещё одна великая ложь, что буддизм — мирная религия. Никакой этой пресловутой веротерпимости к другим у них нет, христиан они люто ненавидят, люто…
Обратно двигались медленно, нам с непривычки тяжело давался сыпучий подъём. Поэтому на верху седловины опять отдыхали, восторженно озираясь по сторонам на широко открывающиеся отсюда серо-голубые дали гигантских каменных волн. А Георгий не замолкал, доставая из своих тайников новые и новые откровения:
— Вот вы, оказывается, тоже в Молдавии были, и тоже в Кишинёве. А у меня там как раз самый главный перелом в жизни произошёл. То есть, я ещё долго внешне продолжал свою обычную жизнь, но именно там во мне родился кто-то новый, который постепенно рос и вытеснял прежнего. Пока однажды я вслух себе не сказал: я и есть этот я! Странно звучит? Но понятно… Я ведь офицер запаса. И не просто офицер, а контрразведчик, особист. Особо доверенный боец невидимого фронта с империализмом. С любой чуждой социализму идеологией. А в Кишинёве, и именно через Сынжеру, к вере пришёл. Это было в 1976 году. Да, я тогда закончил академию и угодил в Бессарабскую ссылку. Но моя невольная «экскурсия по Пушкинским местам» всё же гораздо была приятней, чем светившая «по Ленинским» в Сибири. Дело получилось так: моего шефа из Саратова, где после училища несколько лет служил и я, забрали преподавать в Москву, и он через год вытянул меня к себе на учёбу, с вариантом там и остаться. Да, Москва, Москва. Как много в этом звуке… Так как я человек абсолютно без совминовских родственных связей, то мой шанс сделать карьеру был один — диплом с отличием. Вот я и старался, грузил себя по полной. Режим расписал по минутам, тянул как олимпиец, без единой поблажки. Но ни одной четвёрки за всё время себе не позволил. Только отлично. Личная жизнь отсутствовала полностью. Что делала в это время моя супруга, меня совершенно не интересовало. То есть, мне казалась, что она, как жена офицера, просто обязана обеспечить мой тыл в такое напряжённое время. Хозяйство и ребёнок, опять же, как мне казалось, должны были быть на её плечах, пока я не сделаю этот свой прорыв. Мы же вместе мечтали о Москве…
Короче, когда я впервые обнаружил у нас в общежитской комнате странную самопальную книжку про какую-то чайку, то не обратил на неё ровно никакого внимания. Потом самиздат стал появляться всё чаще: «Письмена» Рериха, Кришнамуди, Папюс. Появилась и некая весьма ведьмообразная подружка, вся в каких-то огромных бутафорских перстнях, которая упорно со мной не разговаривала. А затем я увидел на столике жены фотографию смуглявого волосатика. Попробовал походя обсмеять её позднее увлечение рок-ин-ролом, но вдруг получил такой горячий и злобный отпор, что невольно заинтересовался. Выяснил, что это фотография ни какого не певца, а «учителя», и что она уже с полгода ходит на занятия по релаксационной гимнастике, саморегулированию и йоге… Виноват, конечно, но я запаниковал и сорвался. Мне бы нужно было спокойно попытаться оценить сложившуюся обстановку, найти новые формы для доверительного разговора, — ведь не враг же был передо мной, а всё ещё любимая женщина! Но я был тогда на пределе, а эти её дурацкие игры с диссиденствующими экстрасенсами могли стоить мне всей карьеры. Ведь кто мог подумать в те времена: жена особиста — и йога! Это было равносильно предательству Родины. Посему я и сорвался, решил разом всё отсечь. А отсёк только себя. Она на какое-то время затаилась, попрятала всё от меня, тем более это, с моей занятостью, было нетрудно, а когда я пошёл на защиту, то вдруг заявила о разводе. Дочь ею предварительно была уже отправлена к тёще. Меня как лавой обожгло. До угля, до пепла. В общем, всё разом рухнуло, всё стало каким-то бессмысленным. Даже не карьера, а сама жизнь… Лучшее, что мог сделать для меня шеф, это был Кишинёв. А то я вообще мог бы поплёвывать с какого-нибудь берега в море Лаптевых. Представляете, как я, убеждённый и научно подкованный материалист, тогда относился ко всем религиям без разбора…
В офицерском общежитии военного городка я оказался соседом такого же недавно разведённого подполковника. Я тогда майором был. Первое время, пока принимал дела от предшественника, знакомился с оперативной обстановкой, было не до знакомств. Однако рано или поздно появились и свободные часы. Ну, понятно, дело холостяцкое. Но ведь и не молодое, — с пацанами по девчонкам, с лейтенантами, мне уже не удобно бегать было. Вот я и стал к соседу удочку подбрасывать: в ресторан, там, на пляж вместе прошвырнуться. Причём в почти приказном порядке: «Ты, мол, город знаешь, вот и веди». В его душевные проблемы я тогда погружаться и не собирался. Опять вспомнить время нужно, — особисту просто так в лоб в дружбе не отказывали, за это можно было перед пенсией и в Забайкальский округ загреметь. Поэтому наш интерес ценили, заигрывали по любому поводу. Но он от меня вдруг и так, и сяк стал откручиваться, всё какие-то уважительные причины находил. А меня, как только понял, что он мутит, скрывает что-то, словно заело: ах, ты, ну, погоди, думаю, всё равно разожму. И начал разжимать. Но никак не получалось. Уже и в лоб ему смеялся: «Может у тебя с этим делом что не в порядке? Вот и жена сбежала». Смотрел, как он кривится от злости, но терпит. Дальше тогда больше, уже и при свидетелях стал подкалывать, хамил как мог. Понятно, это я свою боль от развода на нём вовсю отыгрывал. Да так его безответностью увлёкся, что даже забывать стал, с чего цепляться начал. Ну и достал его всё-таки в конце концов. Он мне и говорит: «Одевайся в цивильное, и пойдём в один погребок на Ленина». — «Дегустационный? Повыше главпочтамта?» — «Угу». — «Замётано!». Выехали в город, прогулялись по центру. Спустились, сели. Он сразу по полной коньяку наливает. Славный, помню, был «Кодру», дорогущий, но густой и тёмный как шоколад, стоил своего. Мы его залпом, как на дуэли. И сразу же по второй. По третей. И пошли помаленьку откровения. Сидим в подвальчике, пьём молча, а когда, как бы покурить, наверх выходим, то вначале чуть не шёпотом, а затем уже и матом друг руга во весь голос. Матом, конечно, я, а он просто орал. Начали с порядков армии, потом и «повыше» заглянули. Пошумим и опять вниз к молчанию. Но я чувствовал, что политика в нашей беседе — семечки. Вот и давил, давил на все возможные болевые точки, учили всё-таки, пока он не раскололся, чуть не со слезой: «Что ж ты меня, мол, мытаришь? Другого объекта нет? Привязаться не к кому?» — «А чем, спрашиваю, твоя жизнь так особенна, что ты меня в неё впустить не хочешь? Ведь оба мы не одни погоны продырявили, оба с Академиями, оба на возрасте бабами брошены и только фотокарточки детей с собой носим! Что тебе от меня скрывать?» — «От тебя всем всегда есть что скрыть». — «Ах, говорю, как ты про КГБ! Вот тебе слово офицера: всё здесь как в могиле!.. Понятно, я, особист, для вас всех как поводок для собаки… Ну, а если бы ты на меня, как просто как на собрата по несчастью посмотрел? Мы же с тобой, поди, одни сны смотрим?» — Тут он как-то странно, я это потом всё время вспоминал, вдруг трезво посмотрел и говорит тихо-тихо: «Сны мы разные видим. Очень разные». Опять в зальчик спустились. Только теперь уже вино пили. «Негру де пуркар». Потом — снова курить. Тут он и бахнул: «Не могу я вот так просто по блядям ходить. Я в Бога верую». Я и просел. Как, — советский офицер, подполковник с Академией, — и в Бога?! «Да как ты можешь? Ты же не бабка с хутора?» — Он вдруг захохотал: «Ой, говорит, а тебе и не понять! У тебя же профессия такая: никому и ничему не верить!» Хохочет не переставая, видимо от страха передо мной истерика началась. А я как петух спросонья: «Профессия у нас одна — служить Родине!» — Он даже каблуками прихлопнул: «Всё теперь? Выяснил мои антисоветские настроения? Можно идти?» — Уже отошёл, но задержался и бросил почти через плечо, небрежно так: «Я тебя за слово офицера не держу. Плевать, — надо, так стучи. Надоело вас всех бояться, всё равно узнали бы».
Спустился я один и пью дальше. Дело к закрытию, все посетители уже вышли, а я пью. Официант, потом бармен поупрашивали и вызвали милицейский наряд. Подходят ко мне два молоденьких молдаванина. А форма на них, ну прямо сияет. Каждая пуговка, каждая лычка начищена. Да стоит ли про молдавских милиционеров объяснять? Счастливые, сейчас, думают, мы этому русскому оккупанту салазки загнём. Для верности ко мне даже не по-молдавски, а по-румынски обращаются. Чтоб уж наверняка ничего не понял. Тогда дубинок ещё не полагалось, так они наручниками для устрашения перед глазами побрякивают. Я всё пью. Только когда один меня за плечо схватил, я его на пол бросил, а второму в нос корочки сунул. Бедняга как прочитал, так на стену запрыгнул. И действительно русский язык забыл, только своё «мэй, мэй, мэй» лепечет. Такая вот власть у нас была… Я ведь к ней привык, другого отношения к себе и не ожидал. И до этого как-то даже не пытался анализировать: что ты сам чувствуешь от общения с человеком, который полностью от тебя зависит? Полностью, — не карьерой только, не деньгами, а собственно всей своей жизнью. У меня же в службе целая сеть сексотов состояла. Фиг его знает, но нужно действительно убеждённо видеть себя только винтиком в государственной машине, абсолютно безличным функционером, чётко осознавать давление вышележащих задач. А иначе тебя такая абсолютная власть разнесёт, как глубоководную рыбу на поверхности. Но, если вдуматься в природу этого давления: это же страх, элементарный, примитивный страх! И источник этого страха — компромат, то есть тайная грязь. Грех, по церковному…
Проснулся утром в ужасе: ничего не забыл. Всё, всё как есть помню. Катастрофа. Ведь дело в том, что особист никогда на отдыхе не бывает. На рыбалке, на свадьбе ли, в бане ли, — он всегда на службе. Есть такая обязательная для госбезопасности вещь — «дневник офицера» называется. Ты должен заполнять его за каждый день. И отдавать периодически на проверку, как школьник. А в нём обязательно фиксировать все встречи, все события и разговоры. Вплоть до интима. Ибо всегда нужно ждать встречной проверки или провокации от другого сотрудника… Вот проснулся я в то утро и застрял со своей тошнотой и головной болью как витязь на распутье: а вдруг и это проверка? Наверняка ведь, после того, что с моей женой произошло, решили подбросить мне близкую ситуацию, даже не особенно утруждаясь достоверностью: вот он и сосед по общаге, и разведённый… Ну, а с другой стороны, о чём они там думали, когда такую залепуху клеили: как может взрослый, высокообразованный человек, коммунист, и вдруг — верить? Во что? В бабкины сказки? Нет, слишком всё вчерашнее казалось фантастичным. И вдруг я совершенно для себя неожиданно соврал. Написал: «Пили. Разговор был о женщинах». Слишком всё фантастично было для проверки: подполковник и вера. И откровенность на первом же разговоре.
День проходит, второй, третий. Подполковник со мной только сухо здоровается. Вот я ему как-то опять дорогу перегородил и говорю: «Пойдём в тот подвальчик ещё раз?» А он зло: «Что, задание получил? Вербовать меня будешь?» — «Пойдём, повторяю, в штатском. Я тебе за эти слова там морду набью». Он аж позеленел: «С удовольствием»… Ну, опять тот же сценарий: пьём молча, курим громко. Только вот действительно, у наших разговоров всё, даже эта самая политика, каким-то вдруг неожиданным боком показывалась: я про коррупцию, а он про смертную память, я про гарвардский проект, а он про смысл личности. И всё это непривычно для меня вдруг раскрываться стало, не так, как по учебникам. Я и взмолился: «Достал ты меня, говорю, совершенно достал. Не укладывается всё это у меня в голове. Двадцатый век — и религия. Покажи, как такое может быть? Я же достаточно книжек и про христианство, и про мусульманство, и про буддизм прочитал. Был повод… Как, как в это можно верить?! Покажи мне „это“ — эту твою веру, какая она? С чем её едят?» — «Это тебе нашу „цепочку“ выявить надо? Захотел за раскрытие антисоветского заговора орден получить и в Москву вернуться?» — Тут я ему и врезал. А он встал, только головой помотал, и без злобы, только с какой-то обречённой тоской: «Ты сам-то понимаешь, чего ты от меня просишь? Это ведь я уже не собой, а другими, близкими мне людьми рискую»… И тут-то меня пробило. Словно чем-то всё вокруг осветило, словно я со стороны увидел, какими-то чужими глазами: каким же я дерьмом для людей представляюсь, если от меня ничего, кроме обиды и горя уже не ждут. Боятся. Ненавидят и боятся. Да я и сам в этом же страхе по самые уши. А может даже и поглубже всех, вот и травлюсь своей желчью. Вспомнил, что и жена при прощании точно как на зверя смотрела. Да что же это за жизнь, в конце-то концов? А, может быть, я и в самом деле уже зверь? Вот стоим мы напротив друг друга, дышим лицо в лицо, и боимся до пота, до истерики. Но подполковник при этом не злится. Почему? А я? Что же я? «Прости, говорю ему, прости меня. Ударь. И дай мне шанс. Вдруг и я человеком смогу быть». А он вдруг перекрестился, — я аж отпрянул, в первый раз так вот близко от меня истовое крестное знаменье совершалось, — и говорит: «Хорошо. В воскресенье пораньше будь готов».
После этого я опять записал в дневник: «Пили. Говорили о женщинах».
В воскресенье он часов в шесть стучит ко мне, а я с четырёх на ногах. Оделся как на рыбалку. Он посмотрел на торчащую из пакета катушку складного спиннинга, хмыкнул, но ничего не сказал. Садимся в автобус. Потом в другой. Он только косится, как я профессионально оглядываюсь, но не комментирует. Доехали до конечной. Потопали по серпантину в горку. Вокруг глухие заборы и ни души. А мне всё слежка мерещится. Уже десять раз себя проклял, что напросился. Идём, идём, и вдруг — она, церковь! Бело-розовая, как игрушка… Вошли в калитку, подполковник спрашивает: «Крещёный?» — «Да откуда я знаю? Скорее всего — нет». — «Но всё равно перекрестись». — «Зачем?» — «А как будто, смеётся, ты на разведке в тылу врага. Для маскировки». Конечно, я чуть было не повернул, но потом всё же понял, что это он свой страх передо мной бравадой перекрывает. Ладно, думаю, поскребись. И возложил на себя впервые крест — слева направо… Входим в храм, а там росписи, росписи какие! Господи, такая красота, что у меня голова кругом пошла. Это же Пискарёв расписывал. Ну, да, кому я всё говорю? Вы же это всё реставрировали. Но я-то тогда ничего про этого художника не знал. Вроде бы на Васнецова похоже, но только всё лёгкое, лиричное. А из-под куполка Христос встречным вопрошающим взглядом просто насквозь пронзает… Я кое-как рот закрыл, опустил взор — стоит передо мной невысокенький священник в подряснике, от своей свечи лампадки зажигает. На меня смотрит неласково, а подполковник ему что-то на ухо нашёптывает. Священник выслушал, кивнул и ушёл в алтарь. Подполковник меня за рукав ввёл на солею, и мы встали на левый пустой клирос. Так, чтобы нас из храма за большим киотом не видно было.
Как шла служба, я не помню. Она же в основном на молдавском языке была. Только помню, что ужасно затекли ноги, и отламывалась поясница. Стоял и ругался про себя: стоило ли ради такого вообще тащиться сюда в законный выходной и при этом так рисковать судьбой? Хоть бы что-нибудь понимать. Или бы хор как-нибудь красиво звучал, а то разваливается по любому поводу. Но вот покошусь на подполковника, — а он стоит с закрытыми глазами, весь в струнку вытянулся, и аж светится. Какая-то улыбка блаженная. Нет, думаю, это я, наверное, действительно такой урод, родился без какого-то органа, вот и нечем «это» почувствовать. Люди вон вокруг ведь чему-то радуются, и искренне. А я как глухой на концерте или слепой на футболе. Совсем от таких мыслей засмурел, даже забылся где стою, как всё вдруг кончилось. Мой поводырь за рукав опять тянет: «Пройдём, пока они отпевать будут. Нас не заметят». Пройдём, так пройдём. Вышли во двор. «А когда, спрашиваю, опять приедем?» — «Что, понравилось? Слава Богу, а то обычно в первый раз всё как-то не так кажется. Это отец Константин для нас „Отче наш“ на русском читал». Я молчу. Думаю: понравилось или не понравилось, об этом и речи нет. Главное, что я вообще не понял: что же тут в принципе должно нравиться или не нравиться? И именно этого своего непонимания теперь и не могу теперь оставить, — я должен «это» понять. Иначе окончательно самоуважение потеряю. «Так — когда?» — «В следующее воскресенье готовь свои удочки. И червей накопай потолще». Ну-ну, думаю, а ты оказывается действительно с юмором.
Поехали мы и в то воскресенье, и в следующее. Два года ездили, пока нас судьба не разбросала. Но я так и не понял, — от чего он на службе блаженствует? У меня в лучшем случае от привычки только ноги болеть перестали. И ещё — отец Константин в первые полгода, когда мне особенно тяжко всё было, так со мной ни разу ни о чём и не беседовал. Сухо поздоровается, благословит и уйдёт. Не доверял, долго не доверял. Даже когда крестил, и потом впервые исповедовал перед причастием, то только выслушивал. И всё. Но главное было не в этом. После первого же посещения храма, мне стало сниться. Это…
Мы почти спустились к реке. Георгий оборвал речь, оглянулся назад. Потом чуток помолчал склонив голову набок, словно к чему-то прислушивался через плещущий гул перетираемого валунами потока. И продолжал уже без улыбки:
— Им же тогда до гребня только метров пятьдесят оставалось. Их трое, а я один. Я был на противоположном склоне, немного ниже их уровня. Пока бы спустился, пока поднялся, — и следа бы не осталось. Но это я потом осмыслял. А тут, скорее всего, какой-то азарт сработал. Они, мол, надеются уйти, а я по инструкции прав, и мне очень удобно целиться. Помню, всё помню: как планку на прицеле на 100 метров поставил. Как ногу выставил, плечо поднял. Всё как учили. Первого и второго практически сразу насмерть — в позвоночник. А третий, — он уже почти на самом верху уже был, на самом верху… И зачем-то оглянулся… Я вдруг как в каком-то кинообъективе увидел приближение. У него было бледное в конопушках лицо, и оскаленные зубы. Это лицо мне показалось совсем рядом, совсем. Молодой, наверное, мой ровесник. А выстрел сам произошёл… Мне же тогда восемнадцать лет было, я первый год служил.
Ну, так вот, и стало мне это лицо через двадцать с лишним лет сниться. Оно только скалилось, стучало зубами и становилось всё больше и больше, пока не заполняло собою всё. А потом вдруг распадалось на сотни, тысячи оскаленных лиц, нет, уже не лиц, а голов! И все они вцеплялись в меня зубами… По несколько раз в ночь этот кошмар повторялся. Просыпаюсь, — вскакиваю весь мокрый, даже наверно с криком. Только успокоюсь, засну, — опять! Потом уже просто стал бояться ложиться. Дремал сидя, с включённым светом. Смешно? Мне было не до смеха. Днями как варёный, служба побоку, есть не могу, а к вечеру — ужас от неминуемо предстоящих картинок. Хоть психиатрам сдавайся. Но — нет, думаю, это всегда успею. Для начала стал сам за собой следить. Причём уже не исключал из внимания ничего, даже внешне абсурдного. И тут я заметил: когда я в храм в Сынжеру съезжу, то после этого две-три ночи более-менее сплю. Для эксперимента попробовал пропустить одно воскресенье. Результат оказался более чем плачевный, и на следующую литургию я просто пулей летел. До того дошёл, что уже даже перестал конспирацию соблюдать. И в дневник ничего вообще про свои воскресные отлучки даже не писал. Когда спохватился, ахнул: как же меня ни в чём никто не заподозрил? Ну, думаю, значит, я уже в таком доверии, что меня и не проверяют. А того сообразить не хватало, что отец Константин, хоть со мной и не разговаривал, а каждый день за меня молился. И эта его молитва и покрывала меня в моих конспиративных оплошностях. Но это я с ним потом, уже перед самым моим отъездом всё прояснил. Тогда уже у нас доверительные беседы пошли.
Мы стояли в той же лощинке, на том же месте, откуда начали своё утреннее путешествие. Нужно было прощаться, и не хотелось. Обменялись адресами. Похвалили погоду, поделились зимними планами. Последний вопрос: а как насчёт блаженства? Радости от церковных служб?
— А, это! Этого, пожалуй, так и не было. Выйдя на пенсию, я достаточно поездил. И по святым местам. Семьи у меня больше не получилось. Много храмов видел, много священников. Были и росписи, и хоры замечательные. Но нет, я не хотел бы смешивать эстетическое наслаждение с тем… С чем «тем»? Да с тем, что мне так, видимо, и не будет дано почувствовать. То есть, два раза, когда я оказывался на богослужениях, проводимых в Псково-Печёрском монастыре отцом Иоанном Крестьянкиным, я вроде бы и ловил в себе некую необъяснимую сердечную радость. Но можно ли это состояние назвать благодатным? Гадательно. Это могла быть и просто теплота от всеобщего настроения праздника.
А с другой стороны, разве это не благодать: когда ты хоть на немного от страха освобождаешься? Хоть на немного?
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
— У вас, мирских, зачастую бытует очень упрощённое видение монашества. Вы на нас смотрите, вроде как на уже ангелов или же неких мертвецов. И поведения от нас ждёте соответствующего. — Отец Мемнон ходил по келье слегка сутулясь, низкий, выбеленный прямо по бетону потолок не позволял ему развернуться во весь его немалый рост. На самодельном дощатом столике около ещё шипящего электрического чайника появилась тарелка с сухариками, баночка с кусковым сахаром и две эмалированные кружки. Я рассматривал стены сплошь закрытые книгами, тесно стоящими на таких же самодельных толстенных полках. Это была сыроватая, без окон, проходная комната, приспособленная для приёмов посетителей. За спиной хозяина темнела плотно закрытая дверь, за которою никто и никогда из чужих не входил.
— Ну, чем Бог благословил! — отец Мемнон нараспев прочитал молитовку, широко и тщательно перекрестил стол. Мы сели напротив друг друга.
— А, между прочим, мы, монахи, всё равно ещё люди. Земные, в чём-то грешные, в чём-то нераскаянные. И сердце прихватывает, и поясницу ломит. Хотя и несём свои обеты, постимся, стараемся молиться побольше вас, мирян, но чтобы вот так, — разом после пострига стать бесстрастными и умудрёнными, — этого не получается. Постриг — дело великое. И, как событие, совершенно не земное. Когда он совершается, вокруг аж воздух от присутствия духов густым становится. Кто хоть раз при этом был, тот понимает. Но для спасения души это не итог, не вход в рай с гарантией, а только переход на новый, как сейчас говорится, уровень. Первый год монашества бывает радостен: и старые грехи отброшены, и благодать особо щедро изливается. Всё легко даётся — и молитва, и пост, и труд. А затем начинается то, что собственно и называется подвигом. Но, опять же, это не тот подвиг, когда с одной гранатой на два танка бросаешься. Всё трудом, старанием и терпением по крохам собирается. Копится ото дня на день. Тут вообще нельзя говорить о каком-либо определённом сроке или конкретной черте, заступив которую, вдруг становишься совершенным. Надо просто и постоянно помнить, вернее даже понуждать себя помнить: на всё воля Божия. На всё. Вот только при этом и пойдут правильные вопросы, на которые вполне возможны и правильные ответы. Например, почему ты родился в это время, в этом месте и от этих родителей? Почему серый или белый? И почему ты познакомился с Петром Петровичем, но так и не узнал Марию Тимофеевну? И так далее. А из всех этих должен вырасти самый главный вопрос: в чём о тебе заключается промысел Божий? Именно о тебе. То есть, — для чего ты вообще родился? И тут для ответа необходимо полное доверие к своему Творцу. Полное. Тогда и будет в жизни поменьше путаницы, излишнего самомнения, пусть даже в виде ложной смиренности. Знаешь ведь, в чём истинное понимание смирения в христианстве? — В осознании самого себя на своём месте. На своём, от рождения тебе только предназначенном. Кем бы ты ни был: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной… Или вот монах.
Монахами, в отличии от солдат, не становятся, а рождаются. Кто-то с юных лет сразу клобук себе ищет, а кто-то может перед тем и жениться, и детей завести. Но это всё равно до поры, до времени. Просто рано или поздно к человеку приходит осознание — кто ты, и всё. Всё. И не по принуждению мира, — вот мол, как меня все обидели, а я в ответ уйду в монастырь! Это глупости. Такие, как к нам приходят, так и уходят, надолго не задерживаются. Наоборот, сюда на постриг идут в жажде любви. Но только не земной, не временной, не ограниченной чьей-либо личностью или идеей, а самой большой, идеальной. Не человечьей, а Божией. Ибо иной любовью такой человек не насытится, не упьётся. Но, конечно же, не просто в себе своё предназначение открыть. Тем более после всех коммунистических экспериментов, когда такой разлад не только в обществе, а и в самом человеке произведён. Сердце зовёт, тянет, а голова не понимает, что-то своё фантазирует. Вернее — не своё, а «как у всех». Это естественно, так как тоже ведь рождаешься как все: с двумя ногами, с двумя ушами, без особых внешних признаков. Только с особой внутренней тоской, неуютностью сердечной. Словно родился и сразу что-то потерял, что-то тебе обязательно нужно бы найти. И рано или поздно понимаешь, что искомого тобой на Земле нет. Всё вокруг временно и как чужая одежда. Тогда и воздымаешь взор горнему. А там начертано: «Бог есть любовь». Вот как! Вот где твой упоительный источник. Отсюда и молитва, и радостное утоление сердца в обретаемом богообщении, и постриг. И только отсюда отрицание всего, что этому богообщению мешает: семья, имущество, то же творчество. А мир видит только аскезу, и не понимает её смысла, придумывает всякие сказочки. Про ангелов и мертвецов.
Расскажу я тебе одну историю. Про то, что и монахи тоже людьми бывали. За давностью лет, авось и можно уже, Бог простит. Ты-то помоложе меня, но, однако, помнишь славные советские времена и весёлые комсомольские годы. Жил я тогда в Новосибирске, рос с матерью без отца. Ситуация вполне социалистическая. Наша однокомнатная квартирка выходила окнами прямо на площадь Станиславского. Это на левом, непрестижном берегу. Район был заводским, заселённым в основном рабочими и итээровцами, трудившимися на множестве когда-то эвакуированных от фашистов европейских предприятиях, за двадцать пять лет разросшихся на военных заказах до гигантских размеров. Тут вперемежку стояли серые громады сталинского ампира и страшные чёрные двухэтажные деревянные бараки, частный сектор плавно переходил в деревни, а горизонт украшали дымы исполинских труб. На них по ночам ещё огоньки горели, чтобы самолёты не зацеплялись. От копоти кроме тополей у нас никакие деревья не выживали. И от этого было странно жить именно на площади Станиславского или ходить по улице Немировича-Данченко. При том, что все театры, театральное и хореографическое училища, консерватория и филармония компактно располагались в центре, на противоположном, правом берегу Оби. Я долго недоумевал по этому поводу, пока, будучи уже взрослым, не познакомился с одним архитектором. А отец его тоже был архитектором, и даже главным. Так вот, во время войны и после, отец моего знакомого, по личному заданию Сталина, возглавлял разработку генерального плана застройки Новосибирска. У Сталина была идея переноса столицы, и объяснялась она многими причинами. Во-первых, конечно, военными: Москва оказалась в зоне досягаемости современным ему оружием — самолётами и ракетами. Во-вторых, стратегическими: за Китаем к Советскому Союзу должны были присоединиться Иран, Афганистан и Индия. Ну, и мистическими: коммунисты не переносили «соседства» с Кремлёвскими святынями. План был утверждён, кое-что — оперный театр, вокзал, НИИЖТ, партшкола, совнархоз и ещё несколько «римских» гигантов построены или же начаты. Но потом вождь неожиданно умер, а главного архитектора на многие годы отправили в концлагерь. Всё было забыто: и величественная библиотека с колоннадой как храм Афине, и публичные бани с открытыми бассейнами и садами Семирамиды, и речной порт с маяком как в древней Александрии. Не получилось большевикам собрать в одном месте все семь чудес света.
Вот посреди этих, задуманных или уже осуществлённых чудес, была и наша площадь. Её название довольно прозрачно намекало на некую функциональную заданность. И действительно, она предназначалась для массовых театрализованных действий под открытым небом. Но не просто театрализованных, вернее, — театрализованных, но не просто. Ведь ритуальность многих коммунистических празднеств уже не нуждается в новых доказательствах. Я имею в виду и планируемые на ней ночные факельные шествия, наподобие фашистских. Да! Вообще, все те физкультурные парады зари построения светлого будущего, тщательно разработанные режиссёром Меерхольдом, просто переполнены масонской символикой и мистическими знаками. Он же был членом капитула «русских розенкрейцеров».
Но ещё в детстве слыхал я от мамы, что наша площадь представляет собой самый настоящий театр под открытым небом, — со сценой посредине, где охватывающие её дома являются ярусными ложами, с которых выглянувшие в окна зрители должны были встречать идущие с востока на запад от площади Маркса колонны участников действа, образно раскрывающего смысл того или иного праздника. Представить только: жить в театре! Особенно точно это воспринималось зимой, когда снег усыпал этот огромный, щедро освещённый завьюженными фонарями круг, и вся площадь легко представлялась белой сценой. Когда сверху я смотрел на метания вокруг ламп снежинок, внутри меня всегда невольно звучала музыка. За это мы и любили свою квартирку, в которую заселились прямо из роддома. Да, из роддома — так что я не успел вкусить радостей общежития в бараке.
У мамы вообще от слова «театр» сердце замирало, она, итээровка с Сибсельмаша, была страстной балетоманшей. Каждое воскресенье, просто в обязательном порядке мама бывала на спектаклях нашего знаменитого оперного театра, часто даже дважды: утром со мной на детском, вечером на взрослом представлении. Впрочем, опять таки зачастую со мной. Она постоянно вспоминала о том, как ещё студентками они с подружкой выходили на сцену в мимансе «Ивана Сусанина». В нашем платяном шкафе, на верхней полке, рядом с её получкой бережно хранились все премьерные программки и билетики за пятнадцать или двадцать лет. Особо лежали в неведомо откуда взявшейся у нас коробке из-под гаванских сигар те же программки, но с автографами Зиминой, Крупениной, Рыхлова. А на стене, над старым с откидывающимися валиками диваном, на котором я спал, висели любовно вырезанные из газет фотографии Крупениной и Гревцова в «Спящей красавице» и «Лебедином озере».
Вообще «Лебединое озеро» в нашей семье было чем-то культовым. Я с самого раннего возраста знал все основные мелодии, рассказывал наизусть либретто и даже, когда оставался в долгие мамины вторые смены один, то играл только в бой Зигфрида и Ротбарта. Я попеременно надевал или белую рубашку, подпоясанную шарфом, воображая себя принцем с деревянными плечиками вместо арбалета, или накидывал старую огромную шаль с кистями, и, зажав в кулачках широкие концы, размахивал ими как коршун крыльями. В начале сам себе подпевал музыкальные темы, а потом, когда стал постарше и пошёл в школу, то включал складной чемоданчик-проигрыватель, ставил заезженную до икоты пластинку и изображал бескомпромиссную борьбу светлых и тёмных сил. Естественно, Зигфрид в нашей комнате всегда побеждал, как и на сцене.
Нужно сказать, что я рос очень красивым мальчиком. Но я это не для самохвальства говорю, нет, просто для того, чтобы ты мог правильно понять ход моих мыслей того периода, да и атмосферу, что меня окружала. Ибо за эту красоту меня все вокруг любили. Мама, конечно, в первую очередь, но любили и соседи, и воспитатели в детском саду, учителя и одноклассники в школе. При этом любовь окружающих не превращалась в какое-то баловство, потакание в капризах, нет, просто я всегда чувствовал, что меня уважают и всегда ждут чего-то особого, обязательно правильного и разумного в моих поступках. Это было весьма требовательное восхищение. То есть, постоянно окружённый таким вниманием, я не мог себе позволить ту же мелочность, суетливость, страстность, — хотя такого слова в отрицательном смысле в те времена не употребляли. Я не участвовал в хулиганских ватагах, не пил в подъездах, не курил в школьном туалете, но это не раздражало моих сверстников, не вызывало против меня агрессии или насмешек. С учителями отношения тоже были как-то изначально взрослые. В общем, я к своей красоте относился как к некоему предопределению, очень серьёзно, как музыкант или художник к своему таланту. Можно сказать, ответственно. Как избранничеству. Своей ли романтической натурой, чрезмерным ли родительским честолюбием матери-одиночки, или просто в ответ на бесконечность собственного нищенского существования, но мама умела это избранничество во мне культивировать, и я рос словно принц крови в изгнании, в ожидании совершенно особого, необычайного, но неминуемо великого будущего. В какой-то степени этому ожиданию способствовало и отсутствие отца, которого я никогда не видел даже на фотографии, и поэтому мог фантазировать ничем не стесняясь. Понятно, что при этом и понятия о семье были у меня тоже фантастическими. Как всякий принц я, естественно, ждал встречи со своей принцессой. Ибо должен был наступить тот день, когда я найду её, заколдованную злым магом, совершу подвиг и освобожу от чар.
После школы я поступил в НИГАИК. Но не от особой тяги к электричеству, просто в школе хорошо шли математика и физика, а из технических вузов этот был самый близкий к дому. Учиться я сразу стал хорошо, на жизнь взирал активно, и вскоре был выбран комсоргом группы, а потом и курса. Вот тогда я и познакомился с Еленой. В первый раз её образ запечатлелся в моей памяти ещё на вступительных, вспышкой мелькнув посреди толпы абитуриентов. Потом пару раз мы встречались в коридорах, но всё мельком, издалека украдкой оглядывая друг друга, а познакомились, когда она сдавала мне взносы своей группы. Я случайно коснулся её руки, и обжёгся. Её тоже ударило электричеством, мы разряжено рассмеялись… И вдруг в тот же вечер опять сталкиваемся в фойе оперного театра! Я выходил из музея, где всегда любил послушать очередное воспоминание музейного хозяина, старичка-немца, и действительно буквально столкнулся с ней, разглядывавшей галерею артистических фотографий. Она — я — и здесь. Да ещё именно на «Лебедином озере»! Это была судьба, и мы сразу приняли это. Даже разговор у нас вдруг пошёл как продолжение непрерываемого, когда-то давно начатого, как будто мы уже были знакомы миллион лет. Помню, мы торопились, перебивали друг друга, прыгали с темы на тему, но абсолютно во всём соглашались. Нам всё вокруг было совершенно одинаково известно. Новое узнавали только друг о друге, но и тут самое приятное: она, оказывается, закончила детскую музыкальную школу, тоже любила Чайковского и обожала его «Шестую», «Франческу» и, конечно же, «Озеро». В тот вечер её место было в последнем ряду второго яруса, в середине, прямо напротив сцены. А я, пользуясь правом завсегдатая, которого с трёх лет знали все дежурившие в зале старушки, стоял прямо позади её. Как же тогда звучал для нас оркестр! И танцевала молодая Гершунова.
Мы встречались по любой возможности: пораньше приходили в институт, на перерывах между лекциями удивительно разом находили друг друга в укромных от чужих глаз уголках. Осенними, а затем и зимними вечерами до самой ночи гуляли по освещённому новыми яркими фонарями городу. А если мороз не позволял, то сидели у кого-нибудь в общаге, и говорили, говорили, говорили. Познакомились с её родителями, это были очень простые советские люди, тоже заводчане. Отец токарь, мама технолог. Младший брат учился в третьем классе. Они были рады нашей дружбе, во всём доверяя нам. Обычно её мама приглашала меня на воскресный пирог. Потом мы с её папой играли в шахматы. И самыми чудесными были минуты, когда Елена садилась за инструмент. Как она играла? Бог весть, но мне нравилось. А вечером — спектакль. Конечно же, театр был для нас святилищем, — ведь он свёл нас вместе, раскрыл наше душевное созвучие. Когда я провожал её, то, не смотря ни на дождь, ни на мороз, две слишком короткие остановки от Башни до Телецентра мы всегда шли пешком. И в понедельник утром — новая встреча в институте.
А вокруг опять было только всеобщее обожание. Нами любовались преподаватели, нами гордились однокурсники, и все оберегали наши чувства и отношения, как нечто хрупко хрустальное от любой, даже случайной внешней грязи. Действительно, мы были чудесной парой. Помню, что даже когда мы просто шли по улице, встречные прохожие всё время оглядывались нам вслед. Отношения же у нас с Леной были самые чистые, самые целомудренные: мы сразу и просто знали, что придёт время, и мы станем мужем и женой. А пока мы были принц и принцесса. Ведь нам едва-едва было по восемнадцать.
К лету меня подключили к составлению списков для стройотрядов. Стройотряды, как помнишь, были для студенчества тогда чем-то эпохально значимым и совершенно романтичным. Сколько с первых тёплых деньков уже было вокруг разговоров и баек старшекурсников, восторгов и анекдотов, да и целенаправленная комсомольская пропаганда работала великолепно. Так что мы, первогодки, ждали трудового лета как чего-то совершенно сказочного: ну как же, мы сами, своими руками построим дома, мосты, пристани, которые потом будут стоять чуть ли не века и прославлять своих создателей. А за это ещё получим свои честно заработанные рубли. Вот мы с Еленой и решили, что я перенесу её фамилию в список моей группы, лето мы проведём вместе, а осенью, как получим расчёт, сыграем свадьбу. Пусть самую скромную, но на собственные, а не на родительские деньги.
Наш отряд отправлялся на самый ближний к городу объект, в райцентр Колывань, на строительство детского садика. Все выехали как положено, а вот именно меня вдруг задержали в райкоме комсомола по каким-то недоимкам в проводившемся тогда Ленинском зачёте. Проводив автобус с ребятами, я ещё четыре дня околачивался в городе, ненавидя всё и вся вместе с плавящемся от жары асфальтом, тополёвым пухом и отсутствием воды в кранах. Всё время в райкоме или кого-то не оказывалось, или про меня то забывали, а то вспоминали, но теряли папки. Но я упёрто и терпеливо проламывал все бюрократические баррикады. Наконец-то меня отпустили. Был конец дня, но я, даже не дожидаясь следующего утра, схватив с порога давно уложенные вещи, сразу махнул на автовокзал.
Приехал в райцентр совсем уже затемно, стал расспрашивать редких прохожих про стройку, про то, где ночуют приезжие студенты-стройотрядовцы. Какая-то старушонка очень убеждённо направила меня к пустующему в летние каникулы общежитию местного СПТУ. Почти всё помещение стояло тёмным, только посредине первого этажа горело несколько закрытых бумагой окон. Когда я вошёл в ярко освещённую комнату, то, даже зажмурившись, сразу понял, что здесь жили не наши. Одуряющая вонь от разбросанной везде сохнущей рабочей одежды, посредине, покрытый несколькими слоями грязных газет, большой стол, весь заполненный объедками, пустыми консервными банками, бутылками и окурками. Вдоль стен на железных кроватях развалилось с десяток полураздетых кавказцев. Я чуток испугался, хотя в то время и не слыхивалось о национальной розни. Мы, русские, да ещё и в Сибири, этого уж точно этого не понимали. Но меня, вдруг, в несколько голосов разом, приняли очень приветливо. Самый молодой вскочил, освободил край стола, подложил свежей еды и налил стакан водки. У них, оказывается, был траур, — кого-то придавило упавшей трубой, — они третий день не работали, не брились и только пили. Я залпом выпил за умершего, и меня сразу сильно развезло. В общем, я там и заночевал, если это можно так назвать. Ночью откуда-то пришли ещё несколько человек, принесли ещё водки. Все что-то шумели на своём языке, иногда немного переводя для меня. Забавно было, ничего не понимая, слушать, как здоровые, мясистые, заросшие до самых глаз чёрной щетиной мужики, неожиданно писклявыми тенорками что-то горячо доказывали друг другу, яростно жестикулируя сильными волосатыми руками. Я всё сильнее хмелел, улыбался всем и испытывал самые дружеские чувства к гостеприимному ингушскому народу. Угомонились только к утру. Перед этим совершенно точно уговорились о том, что я плюю на свой стройотряд, перехожу к ним на освободившееся место у бетономешалки, и на строительстве моста зарабатываю за два месяца столько, сколько бы заработал на детсадике за год. Тогда хватит на самую настоящую свадьбу, на которую я, естественно, и пригласил их всех.
Заработать денег, да ещё столько, сколько «зашибали» «чурки» на своих шабашках, — у нас о том и мечтать было трудно. А сколько они зарабатывали? Об этом мы только косвенно могли судить по их дорогой, но небрежной одежде, золотым зубам и новым машинам. Да ещё по оккупированным гостиничным ресторанам и кафе, где вечером русский человек выглядел белой вороной. Понятно, что мне, выросшему на мамину зарплату, до утра рисовались самые радужные картины. Проснувшись после обеда, я опять выпил с кем-то за дружбу и отправился искать своих, чтобы объявить об изменениях личных планов. Когда я наконец-то добрался до стоянки нашего стройотряда, то там никого из ребят не было. Все работали на объекте, но двери были нараспашку. Я бросил рюкзак в мужской комнате, а сам зашёл в девичью, вычислил по вещам Ленину кровать, и лёг поверх одеяла. Хотел сделать сюрприз. И сделал…
Она вошла неожиданно, тяжело прижимая к груди полную трёхлитровую банку молока. Не было видно её лица, только тёмный в проёме контур и белое молоко у груди. И я сразу, как это у нас было обычно, стал как бы продолжать наш непрерываемый разговор. Я говорил и говорил, полупьяный, воодушевлённый гостеприимством новых друзей и их неожиданным щедрым предложением. Я рассказывал о том, какие это хорошие мужики, с какими понятиями чести, умением уважать чужое достоинство. И о том, как я уже пригласил их всех на нашу свадьбу…
Вот, когда я произнёс эти слова, банка из её рук выскользнула и как-то негромко разбилась о пол. Зато громко, пронзительно громко закричала Лена, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. Я ничего сразу не понял, только почувствовал какую-то беду. Разбитая банка явно была не в счёт. Пока поднялся, вышел в коридор, там уже никого не было. Позвал, сначала тихо, потом громче. Вернулся и попытался собрать осколки, порезался, бросил и пошёл её искать. Елены не было нигде. Я обошёл несколько ближних улиц, дворов, даже протрезвел. Встретил наших ребят, возвращающихся со стройки, и с ними опять пришёл в общежитие. Лена не вернулась и к ужину. Почему я не продолжал её искать в ту ночь? Это было какое-то наваждение: я вдруг уснул. Глубоко и беспробудно выключился до самого утра. Утром, понятно, ни о каких кавказских заработках не было и речи, я пошёл на стройку со всеми. Но Лена не вышла на работу. Это было уже что-то. В обед мимо нас пронеслась кавалькада местной молодёжи на мотоциклах. На заднем сиденье одного из «Восходов», крепко обхватив руками рулящего парня, сидела она. Как я дожил до вечера, не объяснить. Весь вечер и всю ночь я бродил по кривым улочкам Колывани, чуть ли не заглядывая в каждое окошко отчего-то очень крохотных, но обязательно двухэтажных домишек. Заслышав где-нибудь мотоциклетный треск, я бежал в ту сторону, но никого уже не заставал… Утром мне девчонки рассказали, что видели её на танцах в клубе, но только минутку. Когда через пять дней Елена зашла забрать свои вещи, её было не узнать. Опухшее, разъеденное мошкарой лицо, потрескавшиеся губы, и глаза, страшные, дикие глаза затравленной рыси. Я пытался остановить, силой удержать её, умолял объясниться: может я в чём перед ней виноват? Но она как бы меня и не видела.
Она не уехала в город, а крутилась здесь же, каким-то образом став лидером местной шпаны. Они открыто круглыми сутками беспробудно пьянствовали, всё также ревели моторами по ночным улицам, а днями загорали на берегу заболоченной Колыванки. Я ни с кем не разговаривал, работал, хотя, конечно, всё валилось из рук. Ребята у меня ни о чём не спрашивали, как могли, дружно и тактично поддерживали, даже несколько раз тайно ходили к Елене на переговоры. Но никто у неё ничего не смог выяснить. Так тянулось недели две, пока в одну из таких безумных пьяных ночных гонок она не разбилась, на большой скорости, вместе со своим новым дружком, врезавшись на мотоцикле в придорожный столб. Когда её на «скорой» увозили в городскую больницу, она только просила наших девчонок передать мне, что я «опоздал».
Из-за травмы головы и нескольких переломов она взяла академический, отстала от нашего курса и на год пропала из вида. А я? Я, конечно, страдал, мучался. Караулил около подъезда. Стоял под её окнами… Её родители жалели меня, но тоже ничего не могли сказать утешительного… Сейчас трудно объяснить, тем более обвинять или оправдывать себя. Но возраст, наверно, был не тот. И ещё в это время меня стала сильно увлекать политика. Брежневский маразм крепчал, разрушая школьные идеалы, реальность совершенно расходилась с плакатными призывами, светлое будущее всё откладывалось. Но не для всех конечно. Были где-то и обкомовские дачи, были рядом и блатные детишки. Как такового «заговора» у нас в институте не было, но мы, несколько друзей, получали из Москвы самый разнообразный самиздат и распространяли в студенческой среде. Ладно, это разговор особый, но за свои фрондёрские взгляды и диссидентские высказывания я был снят с комсоргов, получил строгий выговор с занесением, и потом вообще одно время в воздухе висел вопрос об отчислении из института. Но как-то обошлось. Видимо, кто-то из преподавателей всё же заступился, но мне тогда казалось, что всё решается само собой, и я даже как-то не удосуживался задуматься на эту тему. Сейчас понимаю, что, скорее всего, это был наш проректор Юрий Иванович. Светлой памяти человек.
Так что, когда через год мы с Еленой очень изредка случайно и сталкивались где-нибудь в коридоре, то делали вид, что не замечаем друг друга. Ещё через два она вышла замуж за какого-то курсанта из военного училища.
А ещё через год, уже перед самым моим дипломом, мы с ней всё-таки оказались рядом на чьём-то дне рожденья. Общаговская команда пошумела, погремела, но для танцев места не хватало, и все вдруг разом, прихватив магнитофон и портвейн, куда-то пропали, оставив нас в комнате одних. И тогда она, как когда-то в дни нашей дружбы, начала говорить, словно продолжая только что прерванную тему. Совершенно бесстрастным голосом Елена рассказала, что случилось с нами в то лето. Когда я не приехал ни в первый вечер, ни во второй, она немного обиделась и пошла с девчонками в клуб на танцы. В знак протеста. И получилось так, что привыкшая к своей постоянной защищённости, вернее, — к защищённости нашей с ней любви со стороны всех окружающих, она совершенно безответственно позволила поухаживать за собой, — даже не понимая, как это можно принимать всерьёз, — молодому тонкоусому красавчику с золотой фиксой и короткими ногами. Она даже открыто потешалась над его писклявыми буратинными комплементами, и так же, не думая, — не подозревая! — ничего дурного, позволила ему пойти провожать её ночной окраиной. Ведь она была принцессой, моей принцессой для всех!.. Только когда он, зажав мозолистой ладонью рот, завалил её в кусты, до неё стало доходить, что происходит. Конечно, она царапалась, кусалась, плакала и умоляла пощадить, но разве что могло остановить это животное… А я ведь пил с этим, с расцарапанным лицом! Пил и смеялся…
А затем она просто спасала меня. Она жертвовала собой, честью, именем, чтобы только я не узнал, не догадался, что же с ней произошло. Ведь по мирскому как? — Кровь смывается только кровью. Но что бы смог сделать я, восемнадцатилетний, почти мальчик, с этими… не знаю, как и сказать, но «людьми» всё же не получается… Это они бы меня убили. Елена понимала и спасала меня…
Вот, рассказал тебе, и снова сердце защемило. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного. Помилуй, Господи, и отпусти всё, чем виновен пред Тобою. Да, сам теперь видишь, — никакие мы, монахи, не ангелы и не мертвецы. Люди мы, грешные люди. Раз до сих пор волнуюсь, а ведь сколько лет прошло. Лучше бы не вспоминал, Господи помилуй… И ещё, знаешь, я только совершенно недавно услыхал от одного побывавшего у меня музыковеда, — что Пётр Ильич написал своё «Лебединое озеро» именно как трагедию. У него в финале принц умирает, только ценой своей смерти выкупая Одетту от злых чар Ротбарта. Умирает, это действительно совершенно ясно звучит в музыке. Но с пятидесятых годов в СССР зародилась теория бесконфликтного искусства. И финал спектакля изменился в угоду этой теории: «Озеро» до сих пор повсюду идёт со счастливым оптимистичным концом в духе беспроблемного соцреализма.
А Чайковский знал, всё знал: без самопожертвования зла не побеждают.
ДЕТСКАЯ МОЛИТВА
Эту трогательную и поучительную историю из своего детства мне рассказала одна вологодская певица. Её высокий, звонко журчащий голосок знают многие из тех, кто любит и собирает творчество поэтов и певцов, посвятивших свой талант России и Православию. Маленького росточка, круглолицая и круглоглазая, она и к сорока оставалась совершеннейшей девочкой. Странно было слышать от этого вневозрастного ребёнка неожиданно глубокие, мудрые мысли о земле и небе, преданности и предательстве, любви и долге. Кассеты с её балладами широким самиздатом разошлись по всей стране, неповторимую прелесть чуть дрожащего, так и не повзрослевшего голоска можно услышать в самых разных уголках и посреди самых различных собраний. Своим творчеством она умудрялась быть близкой и крайне правым, и заблудше левым, никого не обижая, но и не убеждая. Удивительно доверчивые, на грани наивной простоты, нежные слова её авторских песен невозможно представить в ином, точнее будет сказать, — в чужом исполнении. В чужих устах эта наивность зазвучит фальшью, нарочитой стилизацией под девятнадцатый, назидательно славянофильствующий век. И только у неё самой тема и воплощение свиваются так вот совершенно неразрывно. Ферапонтовские и Киевские святые, Двунадесятые праздники, былинные герои и пахари, наши матери, воины, невесты и монахи… Вы догадались? А для остальных пусть она будет Оленькой.
Оленьке было тогда пять лет. Жили они — отец, мать, она и только что родившийся братик — на хуторе, отстоявшем от ближайшей деревни километра на два. Да и деревня та, с громким именем Барское, сама насчитывала всего десятка три скученных меж болотистых перелесков стариковских полузабытых всеми дворов, заметаемых в непроглядность и суровую скудость Русского Севера то белым снегом, то сизыми туманными дождями. Временами непроходимая и непроезжая, полевая дорожка подходила к высокому с мезонином и резными ставнями дому, прикрывающему собой стайку, сенник, баню и иные необходимые в самостоятельном хозяйстве постройки. Далее до самого тальникового болота вытянулся огород. Хуторная жизнь была не судьбой, не некой роковой случайностью, а личным выбором, гордой крепостью под флагом непреклонной отцовской воли. Как дед в своё время не поддался на коллективизацию, оттрубив за это в Соловках свои четыре года, так и отец, вернувшись со флота и встав на ноги, не захотел знать мира. Жил самобытно не от жадности, а из-за характера. Чтоб никому не кланяться. Работал он на железнодорожной станции в Сокольском, ходил на работу через лес почти пятнадцать вёрст и не жаловался. Работа была суточной, с трёхдневным перерывом. Мать следила за детьми, управляла немалое хозяйство и во всём всегда соглашалась с мужем. Он, когда-то самый лихой гармонист во всей округе, с годами растерял бойкую весёлость, зачурался любого общества, стал с чужими молчалив до немоты. Но по субботам обязательно расчехлял зелено-перламутровую, с цветными мехами гармонь и, сев около накрытого ужином стола, начинал с «подгорной». Застывала в сковороде чуть отклёванная с краю картошка, чёрнел в эмалированной кружке чаговый чай, а гармонь, вздыхая и эхая, переливалась от «златых гор» к «яблочку». С матерью на пару они пели до глубокой ночи то весёлые, то жалостливые песни, сами себе смеясь и плача. Оленька так и запомнила их: отец склоняет голову к постукивающим пуговкам-клавишам, чёрный чуб закрывает лицо, а за спиной у него стоит мать, положив руки на плечи, и поёт, отстранено глядя куда-то сквозь потолок.
Были они верующие? В церковь не ходили, — да и некуда было, — но икона в углу на полочке стояла всегда, украшенная вологодской вышивкой, не взирая ни на какую правящую идеологию. Да ещё мама всегда точно помнила, какой когда церковный праздник, и готовила то пирог, то кулич, а то и гуся. Но не постилась и молилась редко, по особому случаю. Как прижмёт. Приезжавшая осенью на месяц помогать с новорождённым, бабушка Нюра выучила с Оленькой «Отче наш» и «Богородице Дево», понарассказывала громким шёпотом перед сном про Боженьку и Николу-угодника, попугала страшным судом и мытарствами. Но потом отец разворчался, чтобы ребёнку «голову не морочили», а то в школе комсомольцы умучают, и на этом всё религиозное образование закончилось.
В тот памятный зимний день отец дежурил на станции. Мороз стоял уже с неделю, воздух потерял всякую влажность и в их крытом, по местному обычаю под одну с домом крышу, дворе неожиданно страшно лопались поленья в поленицах. Как бичом кто-то щёлкал. И колодец обмёрз так, что ведро не опускалось, приходилось растапливать для хозяйства уличный снег. Мама почти круглые сутки топила печь, но всё равно в избе было зябко, особенно зло поддувало по полу, так что ходили в валенках. Малыша закутали, положили повыше, привалили тулупом. Оля тоже почти весь день просидела на столе, до темноты играя в две свои облезлые куколки. Скучный был день. Ничем не запомнился. Дело было посленовогоденное, стемнело уже в пять, и они ужинали при лампе. Поев, дети легли на постели рядом, а мать, скрипя налипшим на дверь инеем, долго ещё то и дело выбегала в стайку покормить и подоить корову, перепроверить свиней, овечек и утеплить кур. Уже почти в полночь, в последний раз подкинув в печь пару здоровенных лесин, поплотнее прикрыла подтопок, чтоб они подольше горели, и осторожно прилегла к малышам скраю. Лунный свет на полу и стене перебивался быстрыми бликами от огненных щёлок вокруг печной дверки. Тикали часы…
Оленька уже спала, когда её словно кто подкинул. Она присела на кровати и, ничего не понимая, смотрела, как мама, захватив в шаль тихонько заплакавшего братишку, в одной рубахе мечется по дому, сбивая табуреты и странно постанывая. Лишь когда она, сильно ударившись о стену, замерла, Оля услыхала, как в сенях кто-то чужой сослепу громко шарит по стенам, гремя пустыми вёдрами и чугунками. Кто там? Вор? Разбойник? Мать опять сдавленно застонала. Вот этот «кто-то» нащупал их оббитую снаружи дерматином дверь и стал дёргать за ручку. Маленький, самодельный крючок запрыгал в петле, но держал, не поддавался. Убедившись в надёжности запора, «кто-то» опять начал яро шарить по совершенно тёмным, заставленным хозяйской и скотской посудой и утварью, сеням. И нашарил топор.
Дверь была толстая, а рубить её из-за низкого потолка было несподручно. Мама уже молча сидела на кровати, одной рукой прижимая младшего, второй гладила головку дочери и смотрела, как в верхнем углу двери появилась трещина, затем рядом косо пошла другая. И тут Оленька вывернулась из-под руки, соскользнула на пол и встала на коленочки перед иконой. Страха у неё никакого не было, просто она знала, что «так нужно». Девочка громко и аккуратно, как научила бабушка, стала читать попеременно «Отче наш» и «Богородицу», каждый раз крестясь и кланяясь лицом в пол. Она молилась, повторяя молитву за молитвой, а с той стороны двери удары слабели. И в какой-то момент они с мамой услыхали, как там раздался звук упавшего топора и этот неизвестный «кто-то» вдруг дико, не по-человечески закричал. Он зверино, с надрывом кричал и отчаянно метался по сеням, в кромешной тьме громя всё, что ни попадя, пока с визгом не вылетел на улицу.
Оленька встала с колен, продолжая молиться, подошла к окну, протаяла ладошкой ледок, и они с мамой увидели, что от их дома к далёкому лесу, прямо по глубоко, по пояс заснеженному белому полю бежит чёрный человек. Человек всё время падал, проваливался, оглядываясь и отмахиваясь от чего-то невидимого руками, но крика уже не было слышно. На щедро сияющем под высокой полной луной, переливисто мигающем всеми цветами ледяной радуги, ровном как покрывало поле, он был совершенно чёрным-чёрным. И лицо тоже. От него оставался неровный, глубоко развороченный след. Человек все взмахивал и взмахивал руками, словно его преследовал целый рой озлобленных пчёл, пока не слился с такой же, как сам, чернотой мелкого колючего ельника. Так и остался один след под сияющей в ледяном небе луной.
Теперь уже мама стояла на коленях и молилась. Молилась до утра, иногда поднимаясь, чтобы подойти и мокро-солёно поцеловать детей. А Оленька крепко спала, обнимая и согревая собой братика, подоткнутая со всех сторон толстым перовым одеялом. Она даже не особо испугалась, так и не восприняв произошедшего всерьёз. Да и что могло значить это «всерьёз» для пятилетней девочки? — Разбой? Убийство? — Этого в её возрасте ещё не понять. — Чувство отчаянья? Бессилия перед неотвратимым злом? — Тоже не для детей. — Чего, вообще, было так пугаться?
Просто кто-то чужой ломился в дверь.
Просто бабушка велела, если что такое, молиться.
И Боженька всегда защитит.
НИЩИЕ
Они вошли в пустой полуденный храм, неожиданно сильно хлопнув дверями. Небольшая сельская церковка вся переливалась по пёстро расписанным стенам отражаемыми чистым светлым полом солнечными зайчиками, пропускаемыми высокими окнами сквозь качающиеся кроны близких берёз. Один из зайчиков быстро проскочил по груди вошедшего седого, прямо стоящего священника и радостно сверкнул его серебреным крестом. Спутница, крупная полная женщина средних лет, вся в чёрном, под брови подвязанная красной косынкой, тяжело поставила огромные сумки, быстро трижды перекрестилась: «Ты, отец, погоди, пока я остальное принесу». — «А алтарь там?» — «Там!» — она вышла, уже старательно придерживая новую, ещё тугую пружину.
Священник сделал несколько неуверенных шажков в глубь храма. Постоял, словно прислушиваясь к трепетным метаниям световых бликов, и снова осторожно двинулся к аналою. Он был слеп.
…Свою веру Вера обретала тяжело. Ощупью. Она вообще, пока не закончила школу в своём рабочем посёлке на рудном севере Казахстана, про Бога ничего и не слыхала. Да от кого? — когда у них в округе самому старому жителю было не более пятидесяти. Ни одного пенсионера. Как во втором классе, согласно программе, учительница сказала, что Бога нет, так на том и поставили точку. Пионерия, комсомолия. Поступать в институт Веру отправили в Россию: в Казахстане русским родителям с их рабочей профессией никаких заработков не хватило бы на взятки и подарки даже для вступительных экзаменов.
Девушка училась, почти как все ребята с её родины, в электротехническом, без особых представлений о том, кем она станет после учёбы. Занималась аккуратно, старательно, и, получив диплом, очень удачно распределилась в НИИ работавшем над медицинскими заказами. Вера выросла ни красавицей, ни дурнушкой, а так, просто «непривлекательная». Хотя и неприметной её не назвал бы никто: она была очень крупной, не толстой, а именно крупной. Ещё дома её всегда обзывали «дылдой», и ребята в школе и в институте всегда с удовольствием брали её в свои друзья-товарищи, но влюблялись и женились на других. Поэтому, когда дело уже подходило к тридцати, она без восторгов, но и не раздумывая, сошлась с охранником из их же НИИ. Брак получился коротким, глупым. Муж был страстным каратистом. Все разговоры, все интересы их первичной ячейки общества должны были крутиться только вокруг его питания, режима, энергетических циклов и ещё того, кто кому как «сбил кукушку». Причём страсть эта была явно какой-то односторонней: результатов от его каждодневных занятий, спортивных или педагогических, не наблюдалось. В соревнованиях он не участвовал по возрасту, а места сенсеев в секциях и клубах давно были уже расхватаны разными «козлами». Когда родилась дочка, Вера со своими пелёнками и ваннами ушла от его циновок, палочек и кимоно, особо не расстроив этим всё также занятого своими проблемами «отца».
Когда дочке было полгода, она подхватила воспаление лёгких и скоропостижно умерла. Вера снова попыталась найти хоть чуток тепла у бывшего мужа, но тот заявил, что «она сама во всём виновата, и чтобы его больше не беспокоила».
Что ж, она больше и не беспокоила. Никого. Ни в чём. Одиночество нагло заглядывало в её окно, и она перестала раздёргивать шторы и выключать свет.
К Вере стала захаживать одна медсестра из той больницы, где не смогли спасти её крошку. Вначале она едва терпела эти визиты, но тётка была упорна в своих заботах о впавшей в постоянно знобящую, сонливую апатию Вере, что-то постоянно приносила и уносила, готовила, протирала пыль, штопала, гладила и говорила, говорила, говорила. Медсестра, как ей сразу показалась, была с «прибабахами»: всю зиму ходила в лёгком плащике, а в солнечные дни даже и босиком. И повсюду носила с собой книжицу с портретом бородатого и волосатого не то Мельника из «Русалки», не то просто лешего. Постепенно Вера стала привыкать к ней, стала вслушиваться, что-то спрашивать, отвечать. И через полгода уже сама была активным адептом ивановского движения, рекламируя всем знакомым и незнакомым «здоровый образ жизни».
Возле подъезда облупленно-серого пятиэтажного панельного дома, где она имела комнату в малосемейке, во дворе стоял бывший киоск «союзпечати», приспособленный кооператорами под пивную точку. Вере нравилось в какое-нибудь особо морозное, по-городскому удушливо-хмурое утро, выходить на заснеженный, в глубоких кривых тропках, двор с двумя вёдрами холодной воды. Группка с самого ранья трясущихся около ларька мужичков, перекошенных тяжелейшим похмельным недугом, разом замирала в самых различных позах, видя её в одном купальнике и босиком. Когда Вера, мысленно обратясь к Земле и Учителю, выливала на себя первое ведёрко, алкаши синхронно делали глубокий выдох, и, уже в новых позах, не мигая выпученными красными глазами, следили, как по телу здоровенной девахи скатываются в подтаявший грязновато-серый снег парящие капли. Они, затянув кадыки, дружно держали выдох до второго окатывания. А после учащённо хватали раскрытыми ртами воздух, но своими восторгами делились самым тихим шёпотом. На душе у них от увиденного и искренне сопережитого шока явно таяло, ломка отпускала.
Ивановство приоткрыло для Веры щёлочку в мир совершенно до того незнакомых мистических переживаний. Само учение для «деток» было, конечно же, достаточно примитивным, рассчитанным на неграмотных, необразованных людей. Но, ради желанного «здорового образа жизни», на заседания клуба приходило много очень разных, порой очень ярких, неординарных личностей, и приносилось много разной литературы. Вера знакомилась со спортсменами, медиками и экстрасенсами, много и взахлёб читала, посещала полуподпольные кружки релаксационных и энергетических гимнастик. Это не было собственно каким-то настоящим личным мистическим опытом, — хотя она и участвовала в групповых медитациях с обещанием «выхода в астрал», у неё не было ничего такого, что можно было бы назвать «чудом». Да и не этого она искала. Просто ей вдруг открылась целая россыпь неведомых до этого реалий и фактов, легко укладывающихся в любые логические цепочки, объясняющих связи между, внешне вроде бы никак не сопрягаемых, событиями и явлениями человеческой жизни. От интереса приёмами психической саморегуляции, она потянулась к увлечению социальным психоанализом. Из-за этого нового своего серьёзного увлечения, Вера вскоре перешла на работу в институт экспериментальной медицины, так принципиально сменив уважительное отношение коллег к себе как к специалисту по электронным системам, на настороженное восприятие новичка в системах социальных. Конечно же, её, как неудачницу, острее всего влекли проблемы семейного обустройства. Хотелось понять законы межчеловеческих отношений и научиться гарантированно прогнозировать первейшее человеческое счастье. Сгоряча она даже стала соискателем степени «кандидат психологии». Но все сотни перечитанных за два года томов схем и тестов, десятки адаптируемых для России систем не несли никакого ощутимой уверенности в правильности понимания «системы». Так как, в основном это были всё зарубежные авторы, диагностические методики и рекомендации которых оказывались совершенно не применимы в отечественных условиях. Ибо основой западной формулы семьи являлся гражданский договор, в котором само понятие любви полностью отсутствовало. А такое она уже проходила.
В какой-то момент наступила усталость и новая, более глубокая апатия ко всему происходящему вокруг. И, в первую очередь, к самим людям. Раздражала повторяемость их глупостей и ошибок. Где оно, счастье? Вера теперь слишком хорошо всё понимала в чужих конфликтах, слишком просто давала рецепты другим, чтобы самой им следовать. И верить.
Результатом постоянных переохлаждений явилось воспаление надпочечников. Чаще всего у ивановцев, после года-двух обливаний, начинала отказывать печень. И уже не помогали ни диеты, ни чистки, ни голодания: белки глаз у всех желтели, суставы, особенно когда-либо травмированные, гнулись со скрипом и болями, появлялась неугомонная озлобленность. Старшие товарищи страдали и умирали от преждевременных сердечных приступов. А у неё вот не выдержали почки. Скоро отдельные приступы слились в единую пытку. Боль была не переносимой, Вера стонала и каталась по дивану, ища и не находя хоть минутного забытья. И вдруг, словно что-то стукнуло в висок: она на четвереньках подползла к рабочему столу, с криком вырвала верхний ящик и, ничего не видя, нащупала среди рассыпавшихся бумаг карманный календарик. Приставив к спинке перед собой изображение Божией Матери Иверской, она так и простояла перед ним на коленях почти сутки. Облокотившись локтями и грудью на диван, она то в голос молилась наивными, но искренне идущими со слезами словами, то, ощутив какое-то облегчение, дремала. И боль её оставила.
Потом была долгая, тугая депрессия. Весь мир по кругу отгородился от Веры толстым и пыльным стеклом. Словно она оказалась под огромным мутным колпаком, куда с трудом проникали звуки, а краски становились серо-блеклыми, с каким-то едва уловимым фиолетовым оттенком. По ночам мучили удушливые, переливающиеся бесформенным перламутром кошмары, а потом и сами ночи не стали ничем отличаться от таких же пугающе мутных дней. Она даже ложилась теперь только на пол, а на диване её «покачивало». Самым уютным было сидение в углу за столом, без понимания происходящего и в отсутствии всяческих желаний. Кажется, даже вестибулярный аппарат отказывал, словно Вера утеряла под собой всякую опору и мучительно медленно тонула в густой клейстерно-слизистой массе, без всяких понятий право, лево, верх, низ… Психбольницы удалось избежать, и с работы она уволилась сама. В какой-то момент неудержимо сильно потянуло куда-то «домой». К родителям? Или просто в детство.
Тут пришла телеграмма, что умер отец, и Вера поехала на родину в уже отделившийся границей самостийный Казахстан. Ночной пейзаж за окном поезда буквально иллюстрировал её душевную хлорную сухость: чахлая бесконечная лесополоса за волнами провисших проводов, неожиданный ярко освещенный переезд, и снова лесополоса, лесополоса. Да огромный ковш Медведицы в чёрном безлунном небе… А днём старенький «ПАЗ» так же укачивающе тащился по совершенно пустой пропылённой узкой шоссейке с выщербленным асфальтом. Несколько тощих серых пирамидальных тополей обозначили прибытие в детство. Здесь не появилось ничего нового. Почти как было. Только прежнее теперь всё стало каким-то маленьким, убогим, сиротливо покинутым: посёлок третий год населяли безработные. Кто смог, тот уехал, кто не смог — промышлял подсобным хозяйством, извозом или разбоем. После большого города для Веры всё вокруг выглядело каким-то игрушечно не настоящим, не таким, как хранилось в памяти. Ведь даже школа ей помнилась выше, чище, солидней.
Мама, милая мама, какой же она стала старушкой! Хотя старалась, красила брови и губы, но от этого выглядела ещё более жалкой. Свежая могилка отца в череде таких же, абсолютно одинаковых могилок на лысом кладбище, младший брат, всеми правдами и неправдами старающийся прокормить своих троих птенцов, сноха-немка, говорящая только о том, как хорошо её родственникам в Германии. Встретили Веру дружно, ещё раз быстро-быстро убедились, что она неудачница, что пользы от неё никому не будет, и тут же дружно забыли. Она даже с радостью целыми днями сидела в пустой маминой двухкомнатной квартире, не желая встречаться ни с обабившимися семейными одноклассницами, ни с новой, собирающей чемоданы на «историческую родину» роднёй. Не хотела и всё. Слишком тяжела была их откровенная к ней назидательная жалость: вот, мол, возраст стуканул, а ни мужа, ни детей. Где-то там училась, трудилась, а теперь сюда приковыляла с одной сумкой через плечо. Зачем же она «там» жила? И теперь приехала, поди, делить с братом наследство… Эта тупая, убого провинциальная, рачительная жалость даже не обижала, а просто давила. Ну их! Вот ещё немного посидит, отметит сорок дней и вернётся туда, где до неё нет никому никакого дела.
В один такой безликий и безымянный день в дверь позвонила и ворвалась тётя Лиля, соседка по лестничной площадке. Привычно ещё по детству, она с порога заклокотала, затараторила, с ходу врезав: «Ты всё равно бездельничаешь. А ко мне брат приехал. Ну, ты его помнишь, должна помнить: он художник».
Как же было не помнить: Вера пошла в школу, когда он, высокий худой студент, приехал из своего Московского института на каникулы. Она впервые увидела тогда молодого человека с бородой, с чёрной массивной трубкой в зубах и со странной плоской деревянной коробкой с членистыми выдвижными ножками. Название этой коробки она так и не смогла запомнить. Тётя Лиля успела сделать вихревой круг по их комнатам и вернулась в прихожую, продолжая трещать:
— Так вот брат приехал. Ты только не пугайся, — он теперь священник. Но попал год назад в автокатастрофу, потерял жену и сына, а теперь ещё и слепнет. Ты же всё равно бездельничаешь, так и помоги ему! Пошли, чего ещё ждёшь?
Полная недоумения относительно своих возможностей в чём-либо помочь, Вера обречёно пошла за соседкой. Квартира у той представляла собой настоящую мастерскую, но совершенно непонятного рода ремесла. Всюду стояли и лежали узкие фанерные ящики, пустые и залитые до краёв гипсом. Да этот гипс был везде: в полиэтиленовых мешочках, чашках, тазиках, просто кучками на полу. И ещё повсюду валялись большие и маленькие клочки золотой и серебряной фольги, скручено пустые тюбики клея «Момент» и самые различные щепочки, досточки и брусочки. Посреди всего этого нарядно блестевшего и белевшего хаоса стоял Виктор. Встреть его Вера на улице, она ни за что не узнала бы в этом чуть располневшем, длиннобородом и очень усталом мужчине того, запомнившегося в детстве, кажется даже черноволосого, парня с важным, надменным выражением лица. Сейчас Виктор был совершенно седым, на глазах какие-то безобразные блестящие очки, из-под которых на лоб криво убегал белый шрам. Ах, да, — это же катастрофа! Одет он был в большую клетчатую незаправленную рубаху, джинсы и босиком. Разве священники так ходят?
— Кто там? — строго спросил Виктор, не поворачивая лица.
— А Вера это, соседка, что напротив. Она согласилась, а я побегу. Опаздываю, совсем опаздываю! — выпалила тётя Лиля и исчезла. Вера растерянно улыбнулась, теперь ей бы хотелось только узнать, — на что же всё-таки «она согласилась»?
…Виктор, после окончания Суриковского, как «нацкадр» вернулся в Казахстан по распределению, получив для семьи из жены и только что родившегося сына квартиру и мастерскую в Чимкенте. Работал в местном худфонде по керамике, копил зачётные выставки для вступления в союз художников. Всё шло благополучно: заказы были всегда на год вперёд, и, значит, в свою очередь выкуплены кооператив и машина. Без проблем доставались творческие дачи и командировки. Здоровья было много, друзей тоже хватало. Весёлой командой отдыхали в горах, ели шашлыки, пили водочку, покуривали анашу. Даже от предложения перебраться в Алма-Ату он отказался: зачем журавель в столице, если уже есть хорошая сытая синица в провинции?
И вдруг всё рухнуло. Выяснилось, что старший двенадцатилетний сын стал токсикоманом. Только что беззаботно светило солнце, жизнь становилась всё лучше и лучше. И вот, рухнуло… Они с женой стремительно покатились по сужающимся к неминуемому кругам ада: бесконечные детские комнаты милиции, несколько курсов принудительного лечения, поочерёдные дежурства возле дверей, чтобы сын не сбежал к «приятелям». Перебрали всё: от самых дипломированных психотерапевтов до лам-китайцев. Чтобы оторвать его от плохой компании, решили переехать куда подальше. Но и в Перми сын быстро нашёл «своих», стал воровать. Опять безрезультатное лечение, дурдом… Идиотизм развивался стремительно, замкнувшийся в безвременьи сын, при любых попытках выйти с ним на контакт, мгновенно становился агрессивным. Его уже ничего не интересовало, кроме того, чтобы хоть на минуту сбежать из-под родительского надзора. Виктор всё чаще ловил себя на том, что он с ужасом смотрит на рост младшей дочери, всё чаще ругая и наказывая её за то, что она не совершала. Пока ещё не совершала…
Там, в Перми, Виктор с женой стали посещать храм. Сначала просто заходили на вечерние богослужения немного постоять, молча и тайком от всех и друг друга помолиться. Да какой там помолиться! — поплакать и пожаловаться незнаемому ещё ими Богу на свою безутешную усталость. Старинный храм переливался огоньками множества свечей, запах горящих лампад и ладана щекотал горло, вызывая сдавленное рыдание. Они, не понимая даже слов звучащего хора, стояли каждый в своём углу тёмной широкой церкви и в то же время вместе чувствовали, как со слезами душу по каплям оставляет тяжесть безысходности их горя. Постепенно на освобождающееся место затекала необыкновенная сердечная теплота, — словно после долгих скитаний по злой и жестокой чужбине они возвращались домой. Домой — к ещё неведомым, но своим, извечно родным, — к России, к Православной Церкви.
На одном из таких вечерних богослужений, Виктор совершенно неожиданно для себя встроился в группу верующих, стоявших отдельно на общей исповеди. Вслушавшись в проповедь, он так же вместе со всеми стал громко каяться в перечисляемых грехах. Отпускать на помощь молодому священнику мелко шаркающей походкой вышел из алтаря совершенно до скелета иссушённый, какой-то серебристый старец. От него явственно, упруго лучилась вокруг некая ласковая, умильно утешающая, но при том и твёрдо защищающая отеческая сила. И Виктор последним, подражая тем, кто стоял в очереди до него, упал перед старцем на колени и склонил к нему голову. Тот покрыл затылок епитрахилью, прижал сухонькой, лёгкой, и — через толстую с подкладом ткань! — горячей рукой:
— Ну, — и?
— Батюшка, не могу больше. От жизни устал. Устал. Хоть руки на себя накладывай.
Ладонь вместе с епитрахилью сползла с его головы. И, нагнувшись, в упор, глаза в глаза восьмидесятилетний взглянул на сорокалетнего:
— А ты о Боге думай! Всё время, каждую минуточку. Слыхал же: «Без Бога не до порога». Вот так и живи.
И резко, неожиданно звонко:
— Имя?! Отпускаются грехи рабу Божьему…
Это было как молния. Что особого могло содержаться в этих самых простых, самых бесхитростных словах? Дело было не в них. Просто встретились, соединились два сосуда: один пустой, мёртвый, другой переполненный, истекающий благодатной живительный силой. Произошло замыкание. И всё вокруг озарилось: «Без Бога ни до порога».
Через два года Виктор был рукоположен в диаконы, ещё через год стал священником.
А вскоре потерял жену и сына.
В результате аварии он стал стремительно слепнуть. Уволенный по увечью за штат, он списался с сестрой, и, вместе с дочкой, решил приехать к ней в посёлок.
Слепота облепляла постепенно, но неотступно, не оставляя никаких надежд на выздоровление. Сначала пропала резкость, затем вместе с цветом стал меркнуть и сам свет. Но у него, как профессионального скульптора-керамиста были очень чуткие, умные и образованные руки. Ими можно было продолжать работать. Работать по памяти. Пусть православие не признаёт в своём богослужебном обиходе объёмную скульптуру, но барельеф! Это же как раз то, чем он и занимался в миру. Да, барельеф. И это ведь не только поздние барокканские околокатолические вкрапления восседающих над иконостасами «Бого-Отцов» и купидончатых «ангелочков», привнесённые вместе с присоединением крепко ополяченной иезуитами Киевской Украины, но и древнейшие, истинно русские, резанные по камню и дереву, а затем и литые из меди и латуни иконы и складни. А оклады, наши русские оклады!
Но на мелкую пластику уже нечего было и замахиваться. Виктору оставались киоты и одеяния престолов. Вообще, канонично и исторически, престолы поверх нижней полотняной катасарки (похоронной пелены Иисуса) одеваются в парчовые индитии, символизирующие славу Бога. Но ему довелось видеть, особенно в больших и богатых соборах, престолы, на которые поверх белых нижних рубашек-катасарок надевались и крепились плоские золочёные барельефные украшения с евангельскими сюжетами на все четыре стороны, закрытыми стеклянным коробом в витых столбиках-рамках. Естественно, они очень заинтересовали его тогда профессионально. Внимательно изучив принцип изготовления и систему крепления, Виктор поприставал к старшим священникам насчёт каноничности такого украшения алтаря. Но даже трудно было установить время, с которого стало практиковаться такое украшательство. Понятно, что после Никона. А православно ли? Да точно также можно было бы тогда сомневаться и по поводу запрестольного семисвечника, тоже когда-то привнесённого вместе с «богословием» Петра Могилы, но ныне уже неотделимого от других атрибутов православного богослужения.
Ребята из Подмосковья поделились с ним всем, чем могли, лично сделали и упаковали в дальнюю дорогу формы-матрицы и самих сюжетов, и рамочных и узловых орнаментов оформления и крепежа. Объяснили тонкости технологий и последования сборки. Для первых работ даже оторвали от сердца по рулону эластичной тончайшей фольги под «серебро» и «золото», под страшным секретом воруемой с закрытого военного производства. Использование золотозаменителя давало возможность украшать престолы даже в бедных храмах. Когда, прощаясь, они обнимались, Виктор ощутил на своей щеке чужие слёзы.
Одежду первого престола отлил, оклеил и собрал он практически сам. Но на втором дело застопорилось, — правый глаз совсем ослеп. Попробовал нанять помощником пьяницу художника-оформителя из местного клуба. Мужичок был мастеровой, работал быстро, в общем-то качественно. Но как долго можно было вытерпеть, когда рядом с утра до вечера из табачно-перегарного горла неперекрываемым потоком выливалась беснующаяся матерная грязь? Все шутливые и не очень монологи этого круто исписанного наколками Санчо Пансы велись на одну волнующую его тему: мол, бедные старушонки несут в церковь последние копеечки, а попы ездят на «волгах» и закапывают под яблоньки кубышки. Разве можно было даже попытаться объяснить этому человеку, что Виктор работает бесплатно? Он рассчитался с ним из своей и сестринской пенсий, но тот ещё долго ещё заходил за какими-то мифическими недоплатами, стучал и орал под дверью, требуя и угрожая то судом, то ножичком. Нет, лучше уж непрофессионал, но человек должен быть чистый. А, если бы верующий, то это уж совсем роскошно!
…Вера как могла аккуратно оклеивала фольгой узоры. И молчала. Отец Виктор (она наконец-то стала привыкать к тому, что он — отец) своими быстрыми пальцами успевал перепроверить её работу, строго замечая то, чего не замечала она, зрячая! Одновременно успевал он прощупывать и отмечать малейшие дефекты, раковины и наплывы из только что вынутой из матрицы отливки большого барельефа с Христом, на коленях молящимся перед висящей в облаке чашей. Ангел с большими крыльями, стоя за плечами Спасителя, грустно склонил голову. Отец Виктор быстро пробежался по кудрявому облаку, по тонкому согнутому дереву, большому камню, и задержался на сцепленных пальцами руках Иисуса. Что-то подчистил крохотной деревянной лопаточкой. Вера, глядя на его труд, не могла поверить, что он уже совсем слеп. Украдкой поглядывая на его плотно закрытые тёмными веками глаза, серо-седую прядь, выбившуюся из схваченной на затылке резинкой косички, играющие желваки, она не понимала: как можно на ощупь так точно помнить — что и где должно на панно располагаться. Точно до миллиметра. И, при этом, думать, рассуждать вслух о чём-то отвлёчённом. О чём?
Речь отца Виктора была ровная, плавная, без напряжения. Он говорил и говорил, не ожидая ответа, и, кажется, не требуя даже внимания. Так, словно в никуда:
— «Не убий, не укради». Эти ветхозаветные заповеди никто не отменял. Но в нашем с тобой случае это немного не то. Это для людей активных, для тех, кто всегда готов натворить что-либо, может быть губительное для себя, для своей души. А когда твоя душа даже не то, чтобы больна, а словно бы в коме, тогда нам с тобой к Нагорной проповеди надо прежде всего обратиться. К заповедям Нового завета.
Чуть глуховатый голос звучал отстранёно, без нажима, но Вера вслушивалась всё внимательней и чувствовала, как внутри её растёт чего-то ждущее напряжение. За этим успокаивающим журчанием было что-то знакомое. Да! — точно также, давным-давно, когда она, ещё студенткой, на институтских соревнованиях прыгая в длину, вывихнула ногу, то врач, такими же отвлечённо круговыми поглаживаниями около горящей болью лодыжки долго и терпеливо перебирал косточки и связки распухших суставов.
— Эта лестница, на которой не прыгнешь через ступеньку. Тут только шаг за шагом. И вот самая первая ступень духовного восхождения от чего-то всегда является преткновением для всех, абсолютно всех религий, пародирующих христианство. И для коммунистов в том числе. Все они, так или иначе, приемлют и чистое сердце, и миротворчество. А как обожают, особенно сектанты, «гонимость». Всё, кажется, проходят. Но на первом, на нищете духа, падают. Никак этого не могут принять. А ведь так, кажется, просто выбрать между Христом и Варравой, Царством небесным и… этой вот демократией.
Отец Виктор вдруг встал. Тщательно, палец за пальцем, вытер руки чистым вафельным полотенцем.
— Кто такие «нищие духом»? Ну, «нищий» — это, прежде всего, «не ищущий», не жаждущий в этом мире ничего. То есть, не только не имеющий, но и не желающий иметь мирских благ — «искать» их. И второе значение: «нищий» — это «ничей». Никому и ничему сам здесь не принадлежащий. Ты вот сама чья?
«Чья»? — Это было как тот неожиданный рывок, вставивший вывихнутый сустав на место. Боль ударила в голову, сжала сердце. Чья? Чья она? Тридцать пять лет корове. Ни кола, ни двора. Ни вчера, ни завтра. Муж, без любви пришедший и ушедший. Могилка дочери, которую поласкать даже толком не успела. И отец уже умер. Недоделанная диссертация. Мать, живущая братовыми внуками. Сам брат? Жалеет, но тоже тяготится её абсолютной бессмысленностью. Чья?
— Ничья. Ни-чья! Никому я не нужная! Ни на Земле, ни на Небе. Никому!
— Вот глупости. Глупости. И ложь. Если бы это было для тебя правдой, ты говорила бы это с гордостью. Со злобой, даже со счастливой ненавистью ко всему. А тут у тебя такая тоска звучит. Значит, не уверенна, сама свою ложь чувствуешь.
— Я?! Не уверенна?! Да кому я нужна? «Нищая». Да! точно «нищая». Ничья. И не ищущая. А кого мне искать? И… где? Где? Кого?
— Слава Богу, вот и вопрос! Давай, давай, просыпайся, прозревай. Слава Богу, слава Богу за всё. — Отец Виктор крестился сам и крестил её:
— Ты спрашивай, спрашивай. Обо всём, обо всём. Слава Богу, слава за всё. Спрашивай.
ПЕТРОВНА
В эту ночь Петровна глаз так и не сомкнула. С вечера после правила вычитала все каноны, последования ко причастию, и легла, уже казалось без задних ног, — ан нет. Вертелась, вертелась. Пыталась творить Иисусову молитву, но всё сбивалась, мысли метались, а сердце хватало так, что к утру волокардин кончился. Да ещё кот, зараза, устроил побоище с соседом прямо в палисаднике. Петровна с горячих и вдруг неудобных подушек только завистливо косила на тихо похрапывающую на крутом диванчике свою гостью, старую толстую монахиню Павлу. Вот ведь как раззадорила, завела все пружины, и сопит теперь себе в райском блаженстве. Конечно, ей-то что, она завтра не хозяйка, не староста прихода, в который заедет по дороге в Барнаул митрополит. Господи, помилуй, что-то ещё будет. Ох, Павла, Павла! Надо же, насоветовала, и спит. А ещё и подарок привезла. Петровна нежно посмотрела на свежеокрашенный жёлтой половой эмалью, самодельный одежный шкафчик, в котором с уже давно отложенной белой рубахой, двумя апостольниками и подштопанным, но вполне хорошим подрясником, теперь лежал и новенький, пахучий, плохо ещё гнущийся монашеский пояс. Ничего себе, подарочек.
Конечно, все знали, что монахиня Павла приезжала за полторы сотни километров от своего кафедрального собора не по доброй воле. Не то, чтобы ей не нравилось, как её здесь принимали, — беседы у них с Петровной, ровесниц и почти землячек, всегда шли самые задушевные. И с пустыми руками её в город не отпускали. Но, стала бы она свой волей так мучаться в дороге со своими жутко пухнущими, трудно переставляемыми ногами, которые с утра и обуть-то было проблемой. Понятно, это было послушание от владыки: приход их был первогодным, люди собрались разные, каждый с биографией, да и батюшку прислали непростого. Нужно было послеживать. Петровну саму, как старосту, религиозно уполномоченный так сразу и предупредил: «Нам такой поп не нужен. Если заметишь что антигосударственное, — сразу знаешь что делать. Чем скорее сообщишь, тем лучше. Понимаешь: тебе лучше!»… Ишь, ты, нашёл Иуду! Да за такого батюшку, как их, они всем своим старушачьим коллективом под нож пойдут. Он же каждый день литургию служит, каждый день! Господи помилуй, для тех, кто понимает.
А Павла-то сопит. Да, раззадорила. Бросайся, мол, завтра владыконьке в ноженьки, подавай прошение на монашество. Ты, мол, во всём достойная. Вот и думай теперь, «достойная»! Грехов-то по самую крышу. Один характер её взрывной, что от родной маменьки достался, чего стоит, только из-за него в аду сгоришь, а ещё и помыслы мытарят… А с другой стороны, — постриг, он, как и крещение, всё смывает… А смыть есть чего…
За свои семьдесят два Петровна пережила семь инфарктов, удаление пол-легкого, две операции на спайках в кишечнике, четыре перелома рук и троих мужей. И тюрьмы и сумы попробовала. А ещё её жизнь была просто переполнена разными чудесами, — кому не тому рассказать, так точно в дурдом спровадят.
Когда она начала себя помнить, прадедушке было уже более ста лет. Он жил на русской печи за красной ситцевой занавеской. Именно жил, так как жизнь его состояла из снов. Прадедушка спал по трое-четверо суток, два раза в неделю спускаясь, чтобы поесть тюри из молока и мякиша. В эти дни он уже с обеда начинал ворочаться за своей занавеской, тихонько постанывать и покряхтывать. А ближе к сумеркам медленно-медленно спускался. Этого момента уже ждали, собирались все ближние родственники, прихватив рукоделие, летом на крыльце, а зимой в большой светлой горнице. Сидели всегда поодаль, тихо, ибо прадедушке нельзя было мешать «вкушать» его тюрю, он этого не любил. Даже дети разговаривали полушёпотом. Откушав, прадедушка долго и аккуратно расчёсывал свою длинную в пояс, но реденькую бороду, пушистые, как у одуванчика, волосы. Потом, оглядев придвинувшихся потомков, словно пересчитав их, начинал рассказывать свои сны.
Странно, Петровна хорошо помнила самого прадедушку, его тонкие, иссохшие словно лучинки, руки, тёмное, но без морщин лицо и выцветшие до белизны глаза. Даже голос его тоненький, как бы с трещинкой помнила. А вот самих снов — нет. Был только один, но в позднем пересказе отца. Они все тогда пытались объяснить его, но не могли. Вот он:
«Выходит дедушка (для отца он-то — дедушка) на широкое поле. А в поле том стоит народу видимо-невидимо. И все замерли как столбушки, смотрят куда-то в одно место. Стал дедушка пробираться вперёд, — узнать, что их так привлекло, что стоят все не шелохаясь. Идёт, идёт, а народ всё гуще, гуще. Наконец протолкался и видит: посреди широкого поля, что со всех сторон народом заставлено, сидит за столом человек. Сидит и держит в каждой руке по перевёрнутому стаканчику. И катает этот человек из-под одного стаканчика под другой стаканчик шарик. Катает, катает, а народ внимательно смотрит. Долго человек катает, очень долго. Вот и раздались откуда-то первые голоса: „Хватит! Хватит!“ А тот, знай себе, перекатывает. Вот уже больше человек закричало: „Заканчивай!“ А тот катает себе и катает. Еще больше голосов раздаётся. Ещё покрикивают. Но и человек упорен. Голоса множатся, крепнут. Наверно уже половина всех, кто на поле собрался, кричат. А шарик — то под правый стаканчик, то под левый. Народ всё сильнее кричит, громче, а человек катает. Вот уже почти все орут: „Всё! Хватит! Хватит!“ А тот, знай, перекатывает себе шарик из-под стаканчика под стаканчик. И только когда всё поле, в един голос, гаркнуло: „Кончай! Надоело!“, тогда человек накрыл шарик одним стаканом и встал. И, уходя, хитро так дедушке подмигнул».
Уже лет через пять, как прадедушка умер, Петровна опять увидела его. Да, тогда она ещё не Петровной, а Нюркой кликалась. Они со старшей сестрой решили вместе с мальчишками сделать набег на огород вредных-превредных бездетных соседей Былиных. Она, бедовая деваха, первая из налётчиков забралась на забор с дальней от дома стороны, где не могла бы услыхать хозяйская собака. И уже сидя на качающемся ивового плетения заборе, вдруг увидела перед собой знакомую белую рубаху, тонюсенькие, расставленные в стороны руки, сухонькое, в белой опушке, лицо. Удержаться было невозможно, и она всё же прыгнула, но в сторону от страшного видения. Потом выяснилось, что в этом месте злые и жадные хозяева поставили вдоль забора литовки острыми лезвиями вверх. И если бы дети перепрыгнули здесь, то обрезали свои босые ноги, став на всю жизнь калеками.
Что уж прадедушка, когда у них вся родня была с дарами. Вот, бабка по матери, пользовала всю округу заговорами. Заболит ли зуб, потеряется ли телёнок, мужика ли вдруг закрутит куда «на сторону», — все бабы, и не только из их деревни, но и за десятки вёрст шли к ней с поклоном. Кто с молоком, кто с огурцами, кто с мукой. Деньги та никогда не брала, за грех почитала. Бабка кое-что и внучке передала, всегда явно выделяя её из всего потомства. Пришлось потом каяться, пришлось. Но, а как людям не поможешь? Тоже ведь жалко.
А и вот пример. С утра мама строго наказала детям: «Сёдня праздник. Благовещенье Пресвятой нашей Богородицы. Работать нельзя, грешно. Подите лучше, погуляйте до обеда. Сёдня девица косы не плетёт, птица гнезда не вьёт». И они скорее побежали в берёзовый лес подсекать кору и пить обильно капающий сладкий сок, пока взрослые насчёт работы не передумали. Обегая рощицу мелких осинок, зеленоватые стволики которых стояли почти по колена в талой воде, вдруг увидели они дрозда, несшего в клюве соломину. Что тут втемяшилось Нюрке в голову, но её словно ветром на месте развернуло. Ещё только вбегая в калитку своего двора, она уже, захлёбываясь от обидных слёз, кричала в открытое окно летней кухни о том, что «ты, мама, нас обманула! — а птица-то гнездо плетёт, плетёт»! Едва святой водой отлили, а то бы задохнулась. Но зато, когда на следующий день они опять обходили эту же осиновую рощицу, увидела Нюрка своего дрозда повесившимся. Птица попала головкой в узкую развилочку между веточек, не смогла сразу выбраться и задавилась. Только соломинка в клювике сломалась. И опять её отливали, успокаивали под «живые помощи». А она всё твердила: «Не послушался дроздик, не послушался, бедненький. Грех же в Благовещенье работать».
Учёба в школе ей давалась плохо. Память была с дыркой: ничего не задерживалось, всё забывала. Поэтому, едва-едва Нюрка научилась складывать буквы, мать, чтобы выпросить ей память, стала заставлять её каждый день читать акафист святителю Николаю. Нюрка, хорошо зная нелёгкую мамину руку, первое время старалась, но потом прыть ослабла, задание по возможности стало пропускаться. И вот однажды она, вернувшись из школы, спохватилась, что потеряла совсем новую, красиво расшитую варежку. Выпорют! Со страху схватила молитвослов и давай громко, со слезами читать. Хлопнула дверь, с морозным паром вошла мать, держа пропавшую варежку: «Чё это соседский Шарик её принёс и передо мной на крыльцо положил? Или он у тя отнял?»… А и память потом появилась. И не просто так: она от юности до последних своих дней, не открывая книг, знала на зубок не только две дюжины акафистов, но и практически всю псалтырь. И в церковной службе могла любое слово подсказать.
В четырнадцать её вместе с восьмидесятилетней отцовой бабкой застукали на сжатом колхозном поле за собиранием утерянных жнецами колосков. Исходя из их мало- и старолетства, дали им всего по два года. Бабка померла на этапе, а Нюрка честно с такими же малолетками гоняла огромные плоты по Чулыму. От багра пупы развязывались, а подобных комаров, что в тех местах тучами роились, — огромных, рыже-полосатых, — она никогда нигде больше не встречала. Тогда вот с надрыва и расти перестала, осталась горшок с крышечкой.
А за малый рост и худобу особо её обижала первая свекровь.
Лёша был удивительно молчалив. Как только предложение замуж смог из себя выдавить? Зато матушка его не замолкала. Мало того, что болтала без ума и умолку, так она ещё всегда кого-нибудь грызла. Что уж там, «кого-нибудь». Сношеньку: и мала, и тоща, и не работница, и родить не сможет… Но и Нюрка после лагерей знала какими словами за себя постоять. Так что, дней через десять после свадьбы молодые перебрались в другое село. Там была почта, и Лёшу взяли курьером. Но свекруха, как могла, их и там доставала.
Однажды, в послепокосный свободный вечер пришёл муж с рыбалки и вдруг разговорился. Он, всё время оглядываясь, в страхе скорым полушёпотом рассказал, что чуток придремал над удочками, как вдруг на противоположном берегу протоки, из густой осоковой заросли вышли две девочки в длинных белых рубашках. Они стали показывать на него пальцами и смеяться. И кричать: «Этот наш! Этот наш»! У Нюрки сердце сразу хватануло, поняла она, что это русалки были. Беда. Ох, беда! Пришлось срочно собираться и опять к свекрови назад переезжать, от реки подальше. Чтоб только солёная степь кругом, да лужи после дождя. Столько обид она тогда перенесла, и понапраслины. И хоть зубки-то у неё имелись, но она их про запас сложила, — больно мужа жалко было. Любила его, ох, любила…
Прошло время, стало уже и забываться, как вдруг на неё напала сонливость. Просто из рук всё валилось. Стоило только где присесть или просто прислониться, то вмиг всё вокруг мутнело и плыло, и никакие вопли или толчки свекрухины уже не трогали. Нюрка спала ночью, днём, за работой, за едой… И тут к ним заглянул с почты, с которой они воротились, работник. И попросил Лёшу по старой памяти за него три дня почту поразвозить, пока тот на братову свадьбу отлучится. Нюрка на дойке в поле была, так что Лёша даже не сказался и поехал. А на пароме молодая лошадь, укушенная слепнем, резко дёрнулась и сбила его за борт. И, видно, он крепко ударился при падении, так что сразу пошёл на дно. Всё как всегда, молча. А случилось это ровно через год — день в день с той рыбалкой…
Петровна, — вдова, хоть и молодая, а всё, раз вдова, то уже Петровна, — горевала без удержу. За ней даже следили, как бы руки на себя не наложила. Она каждый день прибегала и в лёжку лежала на мужней могилке. Тогда-то и простыла, стала потихоньку покашливать. Но, слава Богу, на сороковой день как отрезало. Видно душа Лёшина далеко отошла, не стала её удерживать. Тогда она собрала свои вещи в наволочку и поехала в город на стройку. В сельсовете не держали, понимали, что рядом с такой свекровью ей всё одно не выжить. Город бурно строился, много деревенских там работало. А через два года началась война. Для Петровны эта война как началась, так и кончилась: она, мобилизованная на военный эвакуированный завод, по две смены без выходных и проходных до самой победы простояла у сверлильного станка на ящичке. Из-за роста.
Летом сорок пятого привела к себе в барачную конурку контуженного и горелого танкиста с медалями. Была ли это любовь? Спросил бы кто тогда. Пришла победа, и всем вдруг захотелось жить. Просто жить. По-человечески, и чтобы дети были. А любовь русалки увели.
Барак их стоял с самого краю старого, вросшего в город кладбища, совсем недалеко от небольшого, обветшалого храма. Кладбищенскую церковь заново открыли в сорок первом, по сталинскому указу. Но, не смотря на такую вот близость, во время войны даже зайти времени не случалось. Даже на три Пасхи из четырёх ей смена выпадала. А четвёртую пролежала на операции: правое лёгкое, застуженное на мужней могилке, окончательно разрушилось в холодном цеху… Новый её сожитель, как почти все калеченные, крепко попивал. Получка и аванс, воскресные выходные, советские праздники, встречи с друзьями по Первому Белорусскому… Она уже была на пятом месяце, когда в первый и последний раз заикнулась о венчании. Всё равно, мол, беспартийные. Отмолчавшись, он к вечеру напился, сорвал со стены Казанскую икону, люто изрубил топором, а щепы выбросил в общественную барачную уборную. Ночью Петровна, вместе с верующей соседкой, достали что смогли, отмыли и схоронили. А танкист её с тех пор пошёл в полный разнос. Пить стал каждый день, приходя пьяный, матерно богохульствовал, стал рукоприкладствовать. Соседи его, контуженного, боялись, но всё же ей донесли, что связался он с одной самогонщицей и собирается уйти. Не имея больше ни надежд, ни терпения, Петровна нажаловалась участковому, и мужа забрали на пятнадцать суток. А ей вдруг так разом поплошало, что едва до больницы добралась. И там родила семимесячного сына. Но ребёночек оказался жизненным, молока у ней даже в одной груди хватало, так что через неделю она вернулась в барак, а ещё через неделю появился и отец.
Была уже ночь, когда он сшиб лёгонький крючок и, качаясь, встал в дверях. Петровна, прижав сына, упала на колени и стала в голос молиться. Муж орал, матерился до какого-то совсем звериного рыка, но входил. Вдруг махнул рукой, — ну сейчас я тебя! — и исчез. Она стала быстро-быстро собирать детские вещи и тряпки, но не успела. Из окна увидела, как он, сильно качаясь, шёл с кладбища и нёс на спине тяжёлый, вырванный из могилы старинный деревянный крест. Окно-то, почитай, вровень с землёй было, ниже пояса. У неё чуть ребёнок не выпал. Муж косо зыркнул сквозь стекло своим обожжено-безресничным взглядом. Да нет! Не своим, не человечьим, — слишком сверкнули белки из темноты, — и решёно весело пообещал: «Щас я тебя, богомолку, распинать буду»!
Она читала наизусть кафизму за кафизмой, а он ломился с крестом в двери. Она прижимала к груди младенца, а он никак не проходил в проём. И как-то слабел, сникал на глазах. Потом вдруг замер, мягко пополз вниз по косяку, и заснул. Она медленно-медленно приблизилась, перешагнула через спящее тело и убежала. А на следующий день уже давала показания. Оказывается, участковый с ранья зашёл к ним узнать, всё ли в порядке, но танкист бросился на него с топором и был застрелен.
…Её Коленька рос очень послушным сыном. Даже не помнится, чтобы когда капризничал. Разве что если температурил. Всегда, как мамка скажет, так и делал. Закончил одиннадцать, поступил в институт. Не пил, не курил, занимался спортом, и вообще не вызывал ни хлопот, ни беспокойства. Вечерами подрабатывал на разгрузке хлеба в пекарне. Взрослый, самостоятельный. И тогда она вернулась в село на родину, оставив ему свою комнату в коммуналке. Вернулась, конечно, не просто так. Перед этим был разговор с батюшкой.
Церковь к тому времени уже закрыли и сожгли. На её месте стояла стеклянная пивнушка, а кладбище сделали весёлым парком с качелями и танцами на костях. Петровна окормлялась в кафедральном соборе у старенького отца Никона. Вот он однажды вызвал её к себе на дом и сказал, что пора вернуться в деревню. «Да как же я без церкви-то буду?» — ахнула она. «А ты туда и поедешь приход зачинать. Это твоя судьба». Не перечить же такому благословению. Тем более, что духовник уже на ладан дышал, последние деньки отсчитывал.
Посёлок за время её отсутствия изменился прямо до неузнаваемости. Он вырос в десять раз, обзавёлся асфальтированным двухэтажным центром с большими клубом, универмагом и райкомом партии. Петровна прикупила на окраине хорошенький домик, весь заросший берёзками и рябинками, с голубыми, как мечталось, ставнями. Устроилась кладовщицей на кирзавод. Через два года написала сыну, что опять выходит замуж за серьёзного пожилого вдовца. Но сын даже не успел приехать с ним познакомиться. В тот вечер, как её новый супруг, уже пенсионер, пошёл на дежурство сторожить школу, она прибралась, и приготовилась прочитать «на сон грядущим». Пошла на кухню за спичками, вернулась, — а свеча-то горит! Сама зажглась. Господи помилуй! А утром прибежали и сообщили: у мужа сердце остановилось. Господи помилуй. После этого она окончательно смирилась с одинокой бабской долей. Хватит Бога гневить, да и людей смешить. Мало ли её ровней после войны вот так и живут? А может, тогда впервые и мелькнуло насчёт монашества?
Годочки улетают, а болячки лепятся. Сын женился, да выбрал неудачно. Попалась ему эта вот мымра, ленивая, аж вспоминать тошно. Позарился на красоту, вот и стирал сам, и готовил, и полы мыл. А она ему дочку родила кое-как и совсем после этого разлеглась. Петровна съездила пару раз, поругалась со снохой и затосковала: сынок такой худющий стал, слов нет. И всё только свою мымру оправдывает. Что тут делать? Как сына спасти? Сноху ли выгнать, его ли забрать? Петровна сама от своих мыслей в больницу слегла. А тут один знакомый верующий мужичок, Гена-аккумуляторщик, позвал в компанию на его машине поехать в Мариинск, к одному монашку, Иову-прозорливому. Слыхала она, что монашек тот с детства не ходячь был, ножки у него не выросли. Но его даром прозорливости вся Сибирь православная пользовалась. Никто не раскаивался. Вот и забралась Петровна в битком набитый старый «Москвичок», стиснулась, поехала. Пока добирались, чуть все не переругались: кому больше всех надо. Всяк чужие беды руками разводил, а свои до гор возводил. Но на месте все разом присмирели, — страшно-то вперёд заглядывать. Может… Может, зря и приехали.
Петровна проскочила в тёмную низкую, заваленную какими-то мешками и тряпками комнату сразу за Геннадием. Весь передний угол перед зажженной лампадой был увешан и уставлен большими и малыми иконами. Под иконами стоял деревянный топчан, покрытый множеством плетёных дорожек и круглых ковриков. Очень громко «чавкали» ходики. Монашек лежал на боку, в аккуратном подрясничке, опоясанный ремешком, в руках жёлтые бусинки костяных чёток. Лицо круглое, белое-белое, без бороды. Он только взглянул на Петровну и прошептал: «Сиди дома. Никуда не езди». И ручкой махнул. Прислуживающая тут бабка стала кулаком выталкивать Петровну в притвор. Та так оторопела, что сразу и не обиделась: двое суток трястись, бензин нюхать, чтобы тут вот так скоренько взашей вытолкали? Рванулась, было, той бабе объяснить, кто та такая, да уже другие паломники не впустили.
Конечно же, она съездила. Попыталась развести сына, выгнать эту наглую, ленивую тварь. И её же родной сын, её Коленька, которого она с семи месяцев в козьей шали выпарила, с ней пять лет потом не разговаривал!.. Правду монашек советовал. Вот и урок непослушания.
Послушание. Хорошо, — вот благословил её духовник приход открывать, а как? Люди вокруг были неподъёмные. Вроде и надо, вроде и так живём. Сколько она кругов по селу дала, сколько бесед провела, а всё ни шатко, ни валко. Махнула рукой. Погодите, поприжмёт, подпоёте мне хором. Но и самой ездить в городской собор каждый раз становилось всё труднее, годы своё напоминали. Первые разы, конечно, все дорожные мытарства воспринимались подвигом, верилось, что за это Господь лишние грехи с весов сбросит. Но потом стало уже просто невмоготу. Тут ещё и шестой инфаркт стукнул, да не обычный, а какой-то обширенный. Возле койки уже и смерть с косой постояла, полыбилась. Но ушла. Слава Богу, хоть сын мириться приехал. И сам повёз её в Ложок на ключ. Святой этот ключ бил на месте массового расстрела священников в гражданскую междоусобицу. Коммунисты его потом и бульдозером засыпали, и мусором заваливали, а он всё себе дорогу находил. Так и смирились. И на этот ключ съезжались болящие со всех окрестностей. Молились, купались. Было много исцелений. Бывали и видения. Вот и она тоже тогда сподобилась: стояла отдельно от всех над водой, молилась, и вдруг увидела, словно на дне лежащую, икону. А на той иконе святых видимо-невидимо. Собор.
Приход зарегистрировали через год. С Геной напару вдруг как-то легко собрали подписи. Власти, было, стали кочевряжиться, так она смело, аж сейчас дух захватывает, махнула прямо в Москву. Потом опять штурмовала исполком. И раем манила, и адом пугала, и льстила, и смешила. Они её даже милицией два раза выставляли. Стерпела всё. Потом принесла все свои больничные справки и пообещала умереть голодом в приёмной. Сдались! Поняли, с кем дело имеют. Первую литургию присланный из города иеромонах служил прямо у неё на квартире. Вот радость-то была, вот счастие. Человек тридцать вбилось, не продохнуть. Батюшка, красивый такой, в блестящих ризах, с кадилом вокруг печи едва проходит, Петровна с Геннадием хором поют. И слёзы, и улыбки. Ей миром в пояс кланялись, благодарили… И иеромонах хорош оказался. Спасибо владыке, прислал то, что надо. Он и к службе ревнив, и мастеровой на все руки. И с людьми общение наладить умеет. С ним теперь и храм вот поставили: перестроили брошенный шлаколитой дом, приделали алтарь, даже куполок получился. Заборчик обновили. Вот и архиерея с иподьяконами есть где завтра встречать. Есть и чем… Только, как бы батюшкино благословение на прошение получить? Не просто это будет. Не просто. И всё характер её поганый. Зачем она, как староста, ему на днях сгоряча велела чемоданы собирать? Опять же, и он тоже упёрся! Петровна ясно сказала: кто на кассе сидеть будет, а кто полы мыть. А он по-своему всех баб перераспределил. А она ведь хозяйка прихода! Так в исполкоме записано, и, если ему что не нравится, то пусть уезжает. Епархия ей другого пришлёт!.. Господи помилуй, зачем Петровна это ему сказала?.. Ох, как он на неё тогда посмотрел. Ровно булавками проткнул. И кабы она в первый раз ему такое сморозила…
Самым ранним, туманно-розовым утром, бледная от бессонной ночи Петровна боком-боком подбиралась к батюшке. Тот словно что чувствовал, так и уходил от беседы. То в алтарь занырнёт, то, выскочив через пономарскую дверь, по двору пулей пробежит, какой-то мусор спрячет. И ровно не слышит её зова. Но она его всё-таки прижала на солее:
— Батюшка, прости ради Бога, мне бы с тобой пошептаться.
— …?
— Посоветоваться. Ну, и покаяться.
— Кайся здесь. Что? Опять курицу набила?
— Да?! Знаешь уже? Набила, виновата. Так ведь ей уже четырнадцать лет, давно не несётся, а на огород каждый день нападает. Замучилась ей по-хорошему говорить, — и привязывала, и за решётку прятала. Нет, развяжется, вылезет, окаянная, и сразу же на грядки. Сил больше нету.
— Так заруби.
— Да как же? Жалко, привыкла к ней, ровно к родной. Столько лет вместе. Так что, прости грех, опять её побила. Грешная я, грешная.
— Ты мне зубы не заговаривай, — Петровна дугой согнулась, лицом в пол, — она до холода в спине боялась этих его маленьких буравчатых глазок. Верно говорят, что их батюшка тоже с прозорливством, тоже монах ведь. — А про то, что опять Маргаритиному младенцу грыжу загрызала, молчать будешь?
— Проболтались? Это я в последний раз! Ей, Богу, в последний.
— Опять «в последний». Ничего не боишься. Сколько уже говорено-переговорено. Доколдуешь. Ты чего ещё опять задумала? Или кто подбивает?
— Ой, батюшка, родной, — подбивает! Разве ж я сама бы решилась?
— Говори поскорей, некогда. Пора службу начинать, а я не готов с тобой.
— Отец родной, благослови, как владыко подъедет, прошение поднести. Я хочу у его просить…
— А ты с чего взяла, что он подъедет? — он не просто перебил, а попытался опять в алтарь скрыться. Но Петровна вцепилась в рукав, держала крепко:
— Так ты же сам сказал!
— Он и на той неделе обещал. А сам мимо промчался.
— Прости, так то я была виновата. У меня тесто не подошло. Вот я и стала ночью на молитву. Прочитала Богородице акафист и канон, ну и попросила, чтоб его мимо пронесло. Матерь Божья! Чем бы мы его угощали? Опозорились бы только.
— Ну вот! Тут, понимаешь, народ собрался. С работы поотпросились. Детей с цветами привели. Даже начальство под парами машины держало. Как-никак правящий архиерей! Событие для медведей наших. А он — мимо! Все на него обиделись, но, оказывается, это всё ты! — священник неожиданно вырвал рукав и заступил в алтарь, прихлопнув дверкой перед её носом.
— Отец родной! — в голос запричитала Петровна, уткнулась носом и губами в ноги архангела Гавриила, — прости меня окаянную! Но как бы мы его угощали? А теперь всё готово, всё! И карпа запекли, и два пирога отпариваются, и арбуз в холодильнике! Батюшка, так как же мне? Подавать прошение? Подавать, али нет?! А?! А?!
И вдруг из-за тонкой дверочки, тихо-тихо:
— Что ты от него хочешь?
— О монашестве просить, — так же шёпотом прислонилась с этой стороны Петровна.
— Ты постричься хочешь?
— Хочу. Хочу, родной.
— Так я тебя сам подстригу.
— Сам? Отец ты мой! Спаси тя, Господи! Точно обещаешь?
— Обещаю.
Петровна чуть на одной ножке не завертелась:
— Родной ты мой! Поклянись! А когда, когда?
Пауза затянулась до тоски в животе. Она терпела. Тут уже явно испытывали на смирение. Это уже почти по-монашески. Ничего, ничего. Не такое вытерпливали, было бы ради чего. Наконец батюшка вышел со свечой, стал зажигать лампадки у царских врат. Он уже успел облачиться, скоро и возглас подаст. А она? Как же она?
Тот, не глядя, буркнул:
— Что стоишь? Ступай на клирос. Сказал же — постригу. За полчаса до смерти.
ОБИДА
Навстречу, снизу вверх по Андреевскому спуску поднимались весело галдящие и смеющиеся группы туристов. Весенний Киев щедро принимал и чаровал своих гостей буйным майским цветением. Днём в солнечно радостном воздухе запахи отцветающей сирени свивались с ароматом раскрывающихся роз, а ночью повсюду царил густой дух акации. Это только вспомнить: Андреевский спуск, Киев и май. Любимая пора в любимом месте любимого города. Южная весна пышно сияла и плескалась избытком своей радости повсюду: на свежей нежной ещё зелени лип и орешника, в вымытых витринах, в распахнутых солнцу и небу окнах и на свежеокрашенных скамейках, с замершими в предчувствии скорого чудесного будущего молодыми и пожилыми парами. А как бы эта двадцать четвёртая весна окрыляла и вдохновляла этими самыми ожиданиями Павла! Если бы не бы… Но, как раз его будущее и было поставлено нынче под очень большое сомнение.
Разговор со следователем продолжался больше шести часов. Вначале, пока он нервничал, пытался оправдываться и призывал к здравому смыслу, не старый, но уже какой-то потёртый, маленький капитан легко подлавливал его на оговорках, неточностях, много писал, нагло домышляя и заставляя принимать эти домыслы за собственное Павла признание. А когда первый страх и растерянность прошли, допрос стал скатываться в примитивное надругательство. Всё больше теряя тон абсолютного ведущего, следователь стал просто нахраписто давить, щедро используя ненормативную лексику и блатной жаргон, пытаясь припугнуть, сбить в грязь слишком вежливого подозреваемого. Но этим он только окончательно утерял контроль над просто замкнувшимся Павлом. На минуту, меняя тактику, вернулся, было, к артистично вкрадчивым уговорам. Однако, поняв, что превосходства уже не вернуть, начал свирепеть всерьёз. Напрягшись до сизости и потея всеми широко открытыми порами алкоголика со стажем, он то орал, брызгаясь слюной, то шипел, в подробных картинках расписывая, что в камерах делают урки с молоденькими, хорошенькими арестантами, да тем более, обвиняемыми по сто семнадцатой. А потом так же подробно фантазировал на тему того, что переживут его мать и жена, когда в суде будут зачитываться все мелочи совершённого им преступления. Посадив голос, выпил залпом полный стакан. Утёрся несвежим платком, и стал долго и отвлечённо в окно говорить о проблемах воспитания советской молодёжи, о промахах комсомола, который не смог разглядеть в своих рядах патологического извращенца. Опустошенный и вполне довольный своим живописным монологом, следователь вдруг ушёл, оставив Павла на два часа прикованным наручниками к батарее. Вернулся, сильно пахнущий свежесъеденной котлетой и луком. Сыто, не спеша, закурил, и начал раскручивать спектакль снова, откровенно забавляясь, как у допрашиваемого унизительно невольно течёт голодная слюна.
У допрашиваемого? Нет, у убеждаемого. У тупо и примитивно заставляемого признаться в том, что он не только не совершал, но и представить себе никогда бы не смог. Да что там говорить! Бред. Полный бред. Павел с трудом верил в реальность происходящего, и происходящего именно с ним и сейчас. А ведь на дворе не тридцатые, а восьмидесятые годы. И Андропова схоронили. И Черненко. Но тут, в этой выкрашенной ужасной синей краской ментовской конуре, словно произошёл некий фантастический провал во времени. Обшарпанный стол со стопкой серых папок, древняя пишущая машинка, толстые крашенные-перекрашенные решётки за пыльными стёклами. Плакат чуть ли не тех «самых» времён с призывом «Бди»!.. Не здесь ли и деда допрашивали? Только следователь, наверное, был не в жёлтых вельветовых брюках, а в галифе с кожаной изнанкой. Но курил, поди, также без перерыва:
— Значит, гражданин Иванов, вы продолжаете запираться и отрицаете совершённую вами попытку изнасилования несовершеннолетней ученицы девятого класса Лилии Зайчук? Своей ученицы? Что ж, прискорбно. Не хочу более взывать к вашей совести, — у таких, как вы, извергов, её просто нет. Но я надеюсь, что ваша молодая жена, которая сейчас даёт показания в соседнем кабинете, сделает правильные выводы. У неё ещё вся жизнь впереди.
Павел, конечно же, дёрнулся. Но, поймав тончайшую самодовольную усмешку, оценившую это его дёрганье, понял что и это тоже чушь. Пугают. Просто пугают. Ведь, если бы всё было ими уже связано, то его сегодняшнее признание так бы не выколачивалось. Столько стараний, вон, аж весь графин выпил. И пепельницу два раза вываливал. Действительно, а почему им было не сунуть его просто в камеру? На обработку уголовникам? — Павел спросил сам себя, и опять содрогнулся от страха. Там-то действительно могут выдавить любое признание. Нет, не надо загадывать, не надо ничего загадывать. Всё. Тихо. Успокоиться. На всё воля Божья. Да, да, на всё воля Божья. Кто ему может помешать молча, незаметно молиться? Даже здесь. Не выслушивать же эти гнусности. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Помилуй мя. Помилуй, Господи»! Голос следователя словно отдалялся, становился не то, чтобы тише, а просто терял рычащую агрессивность, в нём даже стали проскальзывать просительные нотки. Что-то всё-таки во всей этой ситуации было не настоящее. Но что? От чего оттолкнуться, чтобы понять фальшь угроз? Ведь нет никакого опыта общения с милицией. Никогда и ни в чём с ней не сталкивался. Люди ли это, вообще, или нет? «Господи помилуй, помилуй мя, Господи»! Есть ли здесь что-то человеческое? Господи!
— Ладно, Иванов, надоело мне всё до чёртиков. Ведь ситуация настолько ясная, что будь ты в наших только руках, я бы давно тебя зачеркнул. Одним росчерком вот этого пера. Такую мелочь, как ты, просто никто бы в расчёт не брал. Будто нечем больше заняться.
Павел слегка очнулся. А вот эти слова могли бы подсказать направление поиска разгадки всему случившемуся. Значит, действительно, не всё было у следователя так просто, как бы хотелось. Что-то, значит, мешало машине «советского правосудия» заработать на полную мощность. И, даже зацепив, она что-то не могла вот так взять и запросто утянуть его в свою страшную зубчатую утробу, а только угрожающе яро клацала у самого лица, словно овчарка на цепи. Что же мешало?
— Нам, милиции, таких гадёнышей одно удовольствие давить. Но, мало того, что ты извращенец, так ты ещё и с блатом. Что? Не удивляешься? Да ты только поэтому и запирался, что сразу уверен был: тебя твой папаша через смежников покроет. Да. Если бы не ГБ, ты бы у меня уже рыдал, проклиная час своего рождения. Ух, как я вас, тварей, ненавижу.
Отец! Всё что теперь брызгал в лицо следователь теперь уже не имело никакого смысла. Все оскорбления, все его самые мерзкие домыслы словно враз потеряли свою громыхающую силу и осыпались, не успевая долететь до сознания. Главное: мать успела, смогла всё же дозвониться отцу в Москву! Да, значит, она всё-таки нашла, смогла заставить себя найти новый отцов телефон, и сообщила о нависшей над Павлом беде. А отец… Развод родителей в своё время был страшным для него потрясением, вызвал и продолжал вызывать горькое непонимание случившегося, но без желания искать виновного, принимая чью либо сторону. Просто матери одной было бы труднее, вот Павел и остался в Киеве. А не потому, что она была ни в чём не виновата. Была, но и что? Он просто продолжал любить её, как и любил отца. И имел на их отношения свой собственный взгляд. Неудобный для них обоих. И не обсуждаемый. Отца Павел не видел после десятого класса, после своей последней поездки в белокаменную. В то лето, перед поступлением в Университет, отец как всегда вызвал его «приодеться». Опять предлагал перебраться к нему, сдавать документы в МГИМО, «где он бы помог, тем более, что у сына золотая медаль». Но Павел ничего не слушал, он даже не хотел представить, как можно оставить мать. Хватит того, что один её уже предал. Без объяснения причин.
Дальше пошли протокольные прощания. Он подписал отказ подписать протокол допроса и подписку о невыезде. Вытерпел последние капли слюны в лицо и, растирая запястья, наконец-то вышел на свободу. Действительно, первые мгновенья это состояние избавления от тусклых давящих стен опьяняло, кружило голову, так, что пришлось придерживаться о скамейку. Но, потом, когда запах чужого дешёвого табака и собственного кислого страха стал выжигаться из пиджака солнечной пылью, радость свободы стала сменяться обидой. Обидой на всех и на некоторых конкретно. Он позвонил из автомата матери, но трубку никто не поднимал. И Павел пешком пошагал к себе, оттягивая жуткий по мерзости и безумию разговор с Ириной. Бедная, что она, наверное, сегодня перенесла. От всплывшего в памяти лица следователя затошнило. Вот мразь! Садист. Неужели, он, такой протёртый профессионал, и не видел, что вся эта история сшита белыми нитками? Одно это заявление «пострадавшей»?.. А, вот! Вот где главная боль! Главная обида…
Когда во всём преуспевающий Павел на четвёртом курсе особым решением ректората стал сразу студентом двух факультетов университета, он неожиданно близко сошелся с одногруппником Сергеем, учёба которого как раз всегда шла под большим вопросом. Насколько помнится, с первого курса Сергей хронически отсутствовал на лекциях, хвосты за ним висели километровые, а в общежитии его пребывание постоянно сопровождалось какими-то разбирательствами и объяснительными. Но! Он был чемпионом. Чемпионом сначала студенческой универсиады, потом Киева, потом Украины. Побыл Сергей членом сборной республики, а в юношеской сборной СССР даже стал «серебряным» Европы. Это только представить: чемпион по фехтованию! С восемнадцати лет — мастер спорта. Что там дивчины, парубки в нём души не чаяли. Метр девяносто рост, чуб в кольцах, усы. Казак! То есть, почти казак, — так как москаль. И тоже Иванов. Но, всё равно, ему до поры многое прощалось. До самой травмы. После которой вдруг все узнали, что он даже не комсомолец. Да и вообще, оказалось, что он слишком долго пользовался добротой педагогов и терпимостью товарищей, которые этим только его портили, а сейчас пришло время кончать с этой «батьковщиной и анархией». Разрыв мениска стал для Сергея прежде всего испытанием характера. Теперь нужно было браться за учёбу, и вести себя подобающе званию советского студента, представителя передового отряда строителей коммунизма. Вот в это время они и сошлись. Сергей с упорностью настоящего лидера навёрстывал упущенное. Зачёты, экзамены, зачеты. Курсовые, лабораторные. И ещё как-то находил время на чтение.
Чтение-то их и свело. Но свело, естественно, на турнирном подиуме. Павел коллекционировал тогда математические модели Вселенной, специально для этого английский зубрил, и только успевал объявлять себя приверженцем то одной, то другой теории. Память позволяла цитировать десятки страниц логических, и не очень, выкладок. Оставалось только напористо излагать, убеждая слушателей объёмами фонтанирующей информации. Сергей же не только никогда не поддавался, но всякий раз умудрялся разрушать Павлову же собственную убеждённость. Споры с ним происходили по правилам рапирной дуэли: зрители даже не успевали следить за сверканием логических защит и каверзных выпадов, как вдруг кто-то из спорщиков вдруг замирал, поражённый точным уколом. Причём, Сергей в таких случаях уходил зализывать раны и уносил вопрос с собой, никогда не оставляя его без ответа. Даже по большому истечению времени он возвращался к прерванной теме. А Павлу было легче умереть, а потом фениксом возродиться в новом качестве, с новой теоретической наполненностью: что, не сработало убеждение? Ну и не надо, вот — есть ещё одна модель зарождения мира. И ещё. И ещё. Всё равно, сколько их, какие они: логика — это только игра образованного ума. Просто игра, за которой нет серьёзных ставок. А Коперник? А Галилей?.. Первой на это ему указала Ирина. Они тогда только-только расписались, переехали в свою собственную, самую уютную в мире комнатку в коридорной коммуналке и были безмерно счастливы. Ира боготворила его, эхом повторяла все его умные фразы, и, следовательно, не могла просто придираться. Павел вспыхнул, задумался, и… сдался на милость победителю. В ответ Сергей подарил ему Евангелие. Евангелие было в мягкой, синей обложке, напечатано на тончайшей папиросной бумаге в Финляндии, на русском языке.
С первых страниц Павел и Ирина приняли повествуемое как непреложность. Как Истину. В каждой строке, в каждом слове потрясало всё, но больше всего — личность самого Иисуса. Жизнь Спасителя. Его поучения и поступки прочитывались как ответы на великое множество давно, почему-то тайно, смутно, но неотвратимо мучивших их вопросов. Они читали Евангелие по вечерам, и то и дело прерывались, радостно перебивая друг друга, так как в памяти вдруг всплывали самые разные ситуации, объяснение которых становилось возможным только теперь. Весь окружающий мир из разнородного, перемешанного хаоса стал прямо на глазах складываться в единую, сверкающую бесконечным разнообразием, но действительно единую мозаичную картину. Отдельные, фрагментальные стяжки причинно-следственных связей разрозненных фактов вдруг пронизывались сплошными линиями уходящих в исток мироздания нравственных закономерностей. От этого жизнь всей Вселенной, как и жизнь любого муравья, обретала себе незыблемое основание в понятии «справедливость». Как это относилось к математике и физике? — Справедливость обосновывала мир, давала векторность течению любых жизненных проявлений, включая второй закон термодинамики. Существование материи и разума объединялись теперь не через зыбкую, зависящую только от самой себя «целесообразность», а именно через «справедливость», изначально вечную «справедливость»! С каждой главой евангельская личность Иисуса переворачивала и сметала за ненужностью все авторитеты и философские школы. Просто все частные «логики» бледнели и умирали перед познаваемым «Логосом», как звёзды при восходе солнца. Ночная интуиция обретала плотность, цвет и фактуру завета. И отсюда уже не нужно было закрывать глаза на необъяснимые, «незаконные» явления. Любое описание чуда теперь было настолько внутри миропорядка, что просто становилось непонятным: как же вообще возможно жить без этих справедливых исцелений, чудес и… И ещё чтение сопровождалось реальным ощущением света и тепла.
Именно это Евангелие Павел дал почитать Лиле Зинчук… После университета Павел не остался, хотя его профессора чуть ли не хором уговаривали, в аспирантуре, а пошёл преподавать в школу. У него было непоколебимо твёрдое убеждение всякого начинающего христианина о вреде науки, искусства и медицины. И о необходимости немедленного просвещения всех детей светом истины. Конечно, прямо говорить о Боге в школе было безумием. Хотя в республике, в отличии от России, за ношение крестиков и поедание крашеных яиц и куличей на Пасху, гонений не было. Да что уж там! Во всех храмах по ночам то и дело совершались крещения и венчания, на которые подъезжали «волги» с правительственными номерами. Но, всё равно, в школе о Боге говорить было нельзя. На первые полгода Павел придумал себе игру, которая помогала ему легко усваивать самые тупые правила поведения среднего советского преподавателя средней советской школы. Павел стал Штирлицем. В учительской его сразу начали побаиваться: с чего это столь блестящий выпускник университета, одновременно защитивший два диплома, и вот — простой учитель? Что, пришёл на место директора? Или отсюда — и сразу «туда»? Эта птица была явного не их полёта. Такая, пожалуй, и до середины Днепра долетит. Коллеги с первых дней довольно дружно объединились: слишком уж «правильный», избавиться бы, от греха подальше. Но всё никак не могли найти повода придраться, терялись в его уступчивости и готовности услужить по любой просьбе. Поэтому их сложившаяся из-за внешней опасности временная консолидация дала скорую трещину, и по одному, по одному, они стали потихоньку перебегать на его сторону. В учительской стало возможно дышать. А вот ученики, похоже, его игру расшифровали сходу. Это была не просто любовью к разгаданному «своему», это сразу стало настоящим подпольем. Буквально через несколько дней Павел уже знал все, даже самые занозные клички всех преподавателей, их послужной список, интеллектуальный уровень, а также увлечения и тайные и явные пороки. Причём сведения доставлялись на строго добровольной основе. Агенты были даже в тех классах, где он ничего не преподавал. Имея такой банк данных, можно было переходить к следующему этапу. Первыми от его идеологических диверсий пострадали биологиня и естествоведша. Дарвин просто сгорел бы от стыда, услышь он такую критику своего учения. Потом на смех стали поднимать советского историка и обществоведа, то есть, самого директора. Директор запаниковал. Похоже, что ученики ни с того, ни с сего стали читать учебники. И не только учебники. Обрюзгший любитель сала, борща и пива даже аппетит потерял: откуда бы такое внимание к ленинскому учению? Нужно было срочно сообщить «куда следует». И после того, как в мальчишеском туалете было довольно талантливо нарисована постепенная эволюция человека из обезьяны с промежуточными этапами в виде Маркса, Энгельса и Ленина, в школе было проведено расширенное партийно-комсомольское собрание педагогического состава с присутствием «товарища» из райкома. Этот рисунок был явным перебором в средствах народного протеста, нужно было бы тормозить, срочно ложиться на дно. Но Павел уже не мог остановиться. Вернее, не мог остановить вовсю развернувшихся подростков, почувствовавших удовольствие от отколупывания глины из ног колосса. После скоропостижной смены трёх правителей, молодёжь нездорово развеселилась. Азарт безусой безнаказанности распространялся как эпидемия. Кто бы из них представлял, насколько глубоко может быть эшелонирована система партийного самосохранения.
Младших детей по одному допрашивали в классах и дома. Их ласкали, запугивали, опять ласкали. А подростков вдруг активно стали «застукивать» за курением или фарцовкой, выводить в спортзал и предлагать честный мен: прощение за информацию. Задействован был весь педсостав, поэтому рано или поздно, но всё равно бы открылось. И дело было бы не в предательстве. Павел познал ещё одну педагогическую тонкость: малышня чётко чувствовала свою принципиальную отделённость от мира «больших», поэтому совершенно свободно устанавливала собственные законы и авторитеты в полной независимости от учительской. Это был самодостаточный мир «в себе». Опасность исходила не отсюда. Ведь, если младшим было достаточно гордиться настоящей историей своей Родины, настоящими былинными предками и героями, то старшеклассники уже искали не внешних авторитетов, а сути, смысла происходящего. Подростки уже вплотную стояли перед взрослой жизнью, примеряясь к ней. Подстрекаемые процессами созревающего тела, они страстно и пугливо хотели как-то, пока сами не зная как, войти в неё. Но руки-ноги росли, а мысли и чувства запаздывали. И в мучивших их вопросах было больше не восторга далёкой истиной, а злорадства над ближней ложью. Зачастую только это злорадство и становилось основной темой бесед со «своим» педагогом. А он поддавался. И кто бы знал, что именно подростки не смогут удержать молчание? По неопытности они не умели пользоваться временем, не умели терпеть. По неопытности? Да самому-то Павлу было всего-навсего…
Своё Евангелие Павел дал почитать Лиле Зинчук. Она и её подруга Оксана сами напросились на ту беседу. Девчонки сходили в Лавру, — то есть в Лавру каждый киевлянин ходил и, конечно, не раз, — как только приезжали какие-нибудь иногородние гости. Но тут они впервые пошли туда одни и с новыми мыслями. А вернулись с ещё более новыми. Девочки, не вступая в экскурсии, спускавшиеся с дурацкими шуточками и опасливыми хохотушками в пещеры, побродили по территории монастыря, посидели немного в тёмном прохладном храме, вслушиваясь в молитву. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, они не увидели там одних только стариков и идиотов. Среди поющих, крестящихся и кланяющихся мужчин и женщин, конечно же, стояло много станичных и хуторных. Большинство были пенсионеры. Но, была и молодёжь, были и просто взрослые люди с умными светлыми лицами… Павел был единственный, с кем школьницы могли поделиться этим своим открытием. Разговор состоялся прямо в классе, после занятий. На следующий день подруги провожали учителя до дома, ещё через день провожающих был десяток. Шли медленно, непривычно молчаливо слушали, строго в очередь задавая вопросы. Но, пересказывая ребятам евангельские истории и притчи, Павел вдруг остро понял, физически ощутил, что никак не может передать им то удивительное состояние сердечной радости, какое испытывал сам при чтении. Все те же слова — при его-то математической памяти! — в его устах становились легковесными, необязательными, они не несли в себе силовой наполненности прямого прочтения. И от этого сюжеты приобретали ненужную эпичность, отстранённую сказочность. Пересказ Истины не животворил, а только насыщал любопытство.
Отец Лили был замполит Подольного РОВД. Относительно молодой подполковник, он ещё успевал до пенсии неплохо подняться по служебной лестнице. В Главке были сокурсники по Академии Дзержинского, были и просто обязанные по жизни. В общем, заточено. Не было пока только вакансии. Но и она тютельку намечалась. Его предупредили, что «кандидатуру уже рассматривали, и она предварительно утверждена». От него и «просили-то» всего-навсего немного потерпеть, не попасть ни в какую историю. Поэтому, когда он нашёл у дочери «подрывную литературу» зарубежного производства и явно доставленную в СССР контрабандой, у него, стодесятикилограммового бывшего борца, впервые стало плохо с сердцем. Конечно, лучшим вариантом было бы просто всё уничтожить и забыть. Но подполковник, со страху за карьеру, с киевско-милицейским простодушием ломанулся выдавливать из дочери чистосердечное признание. И не смог. Лиля, испугавшись его напора, истерически рыдала, но не признавалась, откуда у неё «та гадость». На вопли разъярённого мужа и визг дочери прибежала жена. Заведующая отделением в продмаге, — в общем, психолог, — она разом приказала всем молчать, и в наступившей тишине всё само объяснилось. Неужели трудно было обойтись без ора? Лиля, получив обещание не дать никого в обиду, со слезами рассказала маме про учителя и про Евангелие. Девочку отпоили валерианой, помыли и положили спать. Дальше супругами на кухне решалась несложная задача: либо их дочь раскручивается «смежниками» как участница антисоветской организации, — и тогда папина карьера партработника в органах МВД получает скорый и печальный финал, либо это дело становится чисто уголовным, — и муж пропускает его только по своим каналам без лишнего внимания в Главке. Может и пронесёт. То есть, никто не донесёт. Заявление от имени дочери мама написала тут же на кухне. Их почерки были похожи…
В коридоре стояли раздутая сумка и чемодан. Мать и Ира всё уже про него решили: Павел немедленно едет к отцу. В Москве его никто не тронет. Милые. Любимые его женщины, всё-всё понимающие. Нисколько в нём не сомневающиеся. Они обе согласны разом остаться одни, пожертвовать своим единственным, ещё не до конца поделенным мужчиной, лишь бы «у него всё было быстро». А там время покажет: может Павлик вернётся, а, может, Ира начнёт менять комнату. С работой? А пусть увольняют! С его дипломами он и с «33-ей» найдёт себе место. Не все же идиоты, кому-нибудь и специалисты нужны. Милые. Но у него было иное предложение: да, ему нужно ехать, и немедленно, но не так далеко.
Год назад Сергей познакомил Павла со своим троюродным или четвероюродным дядей по матери, отцом Николаем, бывшим настоятелем Троицкого храма в ****, ближнем пригороде южного Киева. Старый священник и фамилию имел соответствующую — Поп. Николай Филиппович Поп. Отец Николай смеялся: «В семинарии всех по фамилиям, а меня вот только по имени-отчеству всегда к доске вызывали». Родом он был западэнец, чуть ли не односельчанин Степана Бандеры. И больше всего на свете не любил своих землячков. Очень уж рано остался он сиротой и вдосталь хлебнул батрачества у своих рачительных соседей. Он — десятилетний хлопец, да мать — были единственными кормильцами ещё троих малышей. Работали от зари до зари за хлеб и тряпьё. Но и эта работа была только летом да осенью. Лютыми зимними ночами они с матерью лежали по краям рубленной ещё батькой дощатой кровати, собой согревая зарывающихся в солому спящих малявок и ждали, ждали весны. На первую травку выходили чёрными, как головёшки, и качаемые ветром. Один раз, чтобы утешить плачущую сестрёнку, он тайком изловил и подоил чужую козу. Доил, а сам плакал от голода и страха: а что, «як Бог побачит». Но побачил хозяин. Избивали не только его, но и малышку. Потом, после присоединения Западных областей к СССР, они перебрались под Киев, и словно попали в иной мир, населённый людьми, не только постоянно к месту и не к месту поминавших Христа, но и помнящих его призыв к милостыни. Вроде те же хохлы, те же украинцы, но… христиане. Только среди этих, совершенно до того незнакомых людей, вдруг раскрылось, стало в яви понятным, что Бог воистину есть любовь. Бескорыстная, жалостливая любовь к ним — вдовицам и сиротам. Отец Николай никогда после «даже принцыпово» не хотел «размовляться на украинской мове», и постоянным рефреном бурчал, что «зря не утикал в Россию», когда его туда звали. Сергей и Павел ездили к отцу Николаю за лето несколько раз, обычно на субботу-воскресенье. Храм середины девятнадцатого века был классикой «украинского барокко». Можно было часами ходить по высоко выгороженному белёным кирпичным забором двору и рассматривать узорочье белого же пятиглавого храма. На восходе или закате маленькие золотые куполки переливались всеми своими ребристыми плечиками, а сквозные кресты казались возносящимся плазменным сиянием, с трудом удерживаемым на земле цепями. Ребята, вместе с другими приезжающими с Киева, работали на церковном огороде, потом, когда начался ремонт, помогали ставить леса, красили крышу, меняли стоки. Вместе с другими учились молиться, в очередь читать шестопсалмие и даже петь на клиросе. Там Павла крестили, впервые исповедали. И с Ириной повенчали.
Туда он сейчас и поехал. Только там должны были всё понять и что-то посоветовать. И пожалеть. Именно этого сейчас хотелось больше всего. Хотелось перестать быть всезнающим учителем и способным на сопротивление борцом, а просто сжаться, скрючиться и ткнуться лицом в чью-нибудь жилетку и поскулить. Нет, не в чью-нибудь, а конкретно отца Николая. Ибо давно, после самой первой же своей, удивительно доверительной беседы с этим батюшкой, понял, почему такой герой, человек-гора и непоколебимый бульдозер Сергей рядом с этим пожилым сухоньким священником кажется значительно меньше ростом. Отец Николай тогда позвал Павла к себе в дом, по крутой тёмной лестнице провёл на второй этаж в гостиную с большим лимонным деревом в кадке и целым углом икон, усадил в неудобное жёсткое кресло. Им принесли чай в высоких стаканах со старинными подстаканниками и печенье. Павел впервые пил чай с человеком с крестом и в подряснике, и немного стеснялся, что тот не замечает зацепившейся в своей бороде крошки. Подсказать или не подсказать? А она, как назло, всё время лезла в глаза. Конечно, у него, тогда ещё студента и человека только что обретшего свою веру, было много вопросов к священнику и, конечно, не меньше было им же заранее заготовленных ответов. Беседа планировалась как взаимно познавательная. Ведь в принципе, Павел и так знал, как ему нужно жить, он просто хотел услышать ещё несколько подтверждений собственным выкладкам. Прежде всего, о чём стоило беседовать с иереем? Например, — Личность Богочеловека он принимал безоговорочно, но недоумевал: в чём смысл современной церкви. Со всеми её утомительными сложностями и явно устаревшими ритуалами. Не мешает ли она этими своими средневековыми условностями прямому богообщению? Одно только чинопочитание чего стоит. Откуда берётся это безапелляционное право считать себя обязательным посредником между Богом и человеком? Ему казалось, что от этого пора уже уходить, современная жизнь требует индивидуализации мистического опыта, и он приготовил в доказательство этому некоторые аргументы. Но, настроившийся было заранее, на долгий и серьёзный диспут, Павел неожиданно для себя онемел, даже не успев один раз раскрыть рот. И не менее часа оказался совершенно безответным слушателем, просто спешащим запомнить всё, что ему повествовали.
Отец Николай, перекрестившись и благословив стол, вдруг погрозил Павлу пальцем: «Помолчи пока!» и стал поучать. Именно поучать. Он сходу взял точный тон человека «власть имеющего», тон истинного, от Бога учителя. Совершенно не вызнавая ни жизни, ни мыслей собеседника, он негромко, но жёстко, с первых же слов начал перечислять заготовленные вопросы и ответы. И пока он только проговаривал эти вопросы, Павел уже сам понимал их наивность и… глупость. А заготовленные, — такие, казалось, оригинальные в своей неожиданной свежести, — ответы просто устыжали: оказывается, на подобном «умотворчестве» уже давно росло множество сект, и все его, Павла, религиозные «первооткрытия» имели тысячелетние еретические истории. Голова клонилась, уши горели, — нет, не был он тут самым умным. Совершенно не был. Это было не советскую идеологию щипать…
Вошёл Павел в кованную, крашенную зелёным калитку обнесённого высоким бело-штукатуренным забором церковного двора совсем в сумерки. Солнца давно уже не было, только бледно-фиолетовая туча на зеленоватом западе подсвечивалась снизу мелкой алой рябью. Воздух по-весеннему немного лип сыростью, и густо тянуло цветом старой акации. Дождь, что ли, собирается? В стоявшем в дальнем углу доме священника на втором этаже горел за розовыми шторками свет. Но идти сразу к отцу Николаю что-то не захотелось. По дороге в автобусе вдруг накатила дрёмная усталость, и всё происшедшее с ним в этот день, — начиная с картинного ареста с «воронком», стало казаться нереальным. Как так: он, всегда такой благополучный, такой правильный «головастик», — и наручники, безумное мерзкое обвинение, свинтопрульный следователь? И самое главное — предательство! Такая грязная клевета. И кто? Кто оклеветал? Он же ей самое дорогое, самое ценное своё доверил. Самое сокровенное. Как же она так могла? Ну, ладно бы, в воровстве обвинили… А ведь это было его первое Евангелие. Первое… Предательство и обида. Обида. Да, обида была единственной реальностью. А всё остальное бредом… Павел толкнул дверь в сторожку: «Мир дому сему»! — «С миром принимаем», — сизо-седой, длинноволосый, очень благообразный Никодим Петрович строго посмотрел на сумки нежданного гостя, но ничего не спросил. Поставил на плитку чайник и вышел запирать ворота. Ополоснувшись в гремучем рукомойнике, Павел не найдя полотенца, просто мокрыми ладонями пригладил волосы и прилёг на «гостевую» лавку поверх синего солдатского одеялка. Никодим где-то долго бродил, оглядывая и проверяя двор. И, войдя, застал припозднившегося гостя спящим. Он со вздохом выключил уже засопевший чайник и повернул самодельный из жести абажур так, чтобы свет не падал Павлу на глаза. Достал из тумбочки стёртый от долгого употребления по углам и многократно склеенный молитвослов, встал к иконам на вечернее правило. Читая, то и дело косился: понятно, что беда у человека, — чего бы иначе в такое время прилетел. И лежит беспокойно, подёргивается. Набедокурил, поди, да к батюшке за утешением. Эх, молодость, молодость. Прости, Господи, и помилуй…
Проснулся Павел рано, но сторожа уже не было. Осторожно полуоткрыв дверь, выскользнул во двор. Стоял плотный, непроглядно белый туман. Только-только собирающееся приподняться от горизонта солнце чуть желтило восток, не в силах пробиться сквозь играющую мириадами светящихся брызг вязкую влажную завесу. Было довольно зябко. Проходя мимо дровяника, Павел чуть было не наткнулся на спящего прямо на полувыбранной поленнице монаха. Закинувшееся вверх страшно худое лицо с острой реденькой бородкой, сплетённые костистыми пальцами руки, прижимающие к груди деревянные чётки, торчащие из-под старенького, серого уже подрясничка рыжие растоптанные сапоги. Надо же, — под спиной поленья, а он спит, прямо как на перине. Оправившись от неожиданности, Павел тихонечко стал отходить от его, но снова замер: от монаха сильно пахнуло мирром. Ещё раз потянул носом воздух: нет, он не ошибался, пахло явно. Павел бочком-бочком двинулся дальше, посмеиваясь своим мыслям. Конечно же, этот монах ни какое не видение, а просто прислужник где-нибудь в крестильне. Там все так пахнут.
Ворота храма были ещё заперты, но, может быть, Никодим Петрович был в пономарке? Обходя церковь, Павел разглядел за алтарём одинокую фигурку. Сторож? Или батюшка? Откуда-то потянуло ветерком, и туман разом поредел. Да, батюшка. Отец Николай стоял около самой стенки понурившись, о чём-то бормоча сам с собой. На Павла взглянул сурово, не благословляя, быстро сунул руку для поцелуя и тут же спрятал. И выслушивал словно через силу, всё время пряча глаза и ничего не комментируя. Когда Павел закончил, он ещё некоторое время помолчал, потом буркнул сквозь узко поджатые губы: «Помогай сегодня Никодиму с водопроводом. А вечером ко мне подойдёшь».
День был бесконечным. В голове всё рвалось на две стороны: «что там с женой и матерью»? — и «почему отец Николай так себя повёл»? «Вдруг его ищут»? — и «неужели батюшка не видит, как ему тяжело»? Конечно, раз заступились отцовы друзья, на подписку о невыезде можно начихать. Да он и отъехал-то в пригород. А вот что здесь за явная такая неприязнь? Можно подумать, что он действительно в чём-то виноват. А, может, никому не хочется чужих неприятностей?.. И Никодим тоже молча сопит, ничего не спрашивает. Успел, подстроился под настроение настоятеля. Ещё бы немного, и Павел, махнув на всё рукой, уехал бы домой. И будь, что будет! Но дотерпел. К концу дня, заменив в подвале задвижку с выржавевшим краном, они отмывались у сторожки от чёрной графитовой смазки керосином. Павел увидел, как отец Николай провожал и прощался с тем самым незнакомым монахом. Они сердечно расцеловались за калиткой, и батюшка ещё долго стоял, глядя в след уходящему к автовокзалу гостю. Потом сам подошёл к Павлу.
— Видал человека? — отец Николай обидно искренне светился улыбкой радости к другому. — Это, брат, удивительный человек. Мы с ним тридцать лет дружим. Монах, истинный монах. Настоящий.
— Из Лавры? Просто монах?
— Из Лавры, из Лавры. «Просто» — ты спрашиваешь? Да. Вот сколько лет знаю, столько просто монахом и спасается. Редкого смирения человек. Редкой чистоты душевной.
Павлу захотелось подыграть отцу Николаю, продлить его благостное настроение. Может, и ему тоже тепла достанется, и его тоже приласкают:
— А он там в крестильне служит? Мне вот показалось, что от него мирром пахнет. Когда я утром мимо проходил.
— Эх, «показалось». Выпороть бы тебя, да настроение не то. «В крестильне»! — Нужники он в монастыре чистит. Общественные уборные. Послушание у него такое монашеское. Так мало того, ведь он, как получил сие послушание, так и впрягся в него всеми силами. Он же с самых первых своих трудовых дней и до сих пор, — не только в бане ни разу не мылся, но и одежды на себе сам не менял! Столько лет. Пока на нём подрясник держится, пока с плеч не спадёт, он так и ходит! Только руки и лицо ополаскивает.
— Как «в бане не моется»?! Так от него чем тогда пахнет?
— А тем, голова твоя садовая! Послушанием, послушанием пахнет. И смирением. С ним же братия первые годы даже есть рядом не желала. К трапезной близко не подпускали. И спал он где придётся. Все им брезговали. И бранили, и в причастии отказывали. А он терпел да терпел. Вот теперь и благоухает, словно новокрещённый младенец. Куда там одеколоны! Вот ведь какая явная милость, какое нравоучение всем. Слава Тебе Боже, слава Тебе за милость, за урок нам, маловерам! А тут ты со своими… Я тебе что говорил? — Не ходи в школу, не ходи! Не твоё это дело. Говорил?
— Говорил…
— А ты как столб чугунный. Всё в своеволии. Ничего тебя не назидает. А теперь до чего дошло? Опять то же самомнение. Обидели, видишь, его! Ишь ты, какое горе! Ишь, пуп земли! О себе, о себе только заплакал. Ты ведь за этой своей обидой опять самое главное просмотрел: на что же девчушку-то толкнули? Каково же ей-то сейчас? Ведь такая боль её душе нанесена, какая боль! А ты? — «меня обидели», «меня предали», «оклеветали»… Какое ж, всё-таки, неистребимое самолюбование! Ох, отойди от меня, дай остыну. Не то согрешу, тресну.
Отец Николай и в самом деле руками замахал, словно обветриваясь. На сморщившемся лице такая искренняя горечь, что, лучше бы, и в правду ударил.
— Я ж тебе говорил: погоди, вот станешь священником, тогда и учи. С утра до вечера. Учи, пока язык ворочаться будет. А пока рано. Молод. Просил ведь тебя, просил как человека: поработай несколько годочков где в науке, там, или на производстве. В вере укрепись, опыта набери. Никуда твоё от тебя не денется. А ты? Господи, помилуй! Вот что сам удумает, то и творит. Пока петух жареный не клюнет. Ну да, теперь конечно: «Батюшка прости»! «Батюшка помоги»! А всего-то, всего-то — смирения бы чуток! И благоухал бы тоже.
Ладно. Хоть и рано, но теперь ничего не попишешь. Всё одно тебе теперь в Киеве жить не дадут. Дозадирался. Хорошо, что у меня в друзьях не одни ассенизаторы, но и архиепископы имеются. Созвонился я насчёт тебя. Примут. Так что, собирайтеся с женой, — в Россию поедешь. Постажируешься с годик-другой, почитаешь, а там тебя и рукоположат. В России-то. Сам знаешь, тут у нашего Филарета вам, Ивановым, Петровым да Сидоровым, никаким подвигом сана не выслужить. Був бы ты Иванэнко, тады ой. А так… Ох, Господи, рано, рано бы тебе.
И ещё учти: владыко там — тоже монах истинный. Тоже пример послушания. Его смирение хоть не в нужнике проявляется, но клеветы ему также хватает. Хватает. Клевета, она, пожалуй, ещё и позловонней будет. Её под митрой и омофором терпеть гораздо труднее, чем под драным подрясником. Вообще, как ты мог в своей обидёнке так измазаться? Так запросто бесов потешить? Толи мы с тобой не беседовали, толи ты умных книг не читал? Вера на земле — это терпение. Сто раз об этом говорено. И ничто не вразумило! Сколько ж тебе талдычить-то ещё нужно: клевета — это обязательное условие духовного роста. Какие же могут быть обиды? И на кого? На кого, я тебя спрашиваю?
СТРЕКОЗА
Елену похоронили у самой дороги на новоприрезанном участке кладбища. Светлый деревянный крест высоко выделялся посреди уродливого единообразия серых памятников местного производства. Её отпевали и хоронили иеромонах отец Нифонт, женщины из соборного сестричества и пятнадцатилетняя дочь Ника. Мелкий осенний дождичек перемежался клочкастым туманом, ярко-рыжая глина около утром выкопанной могилы липла неотскребаемо. Кладбищенские рабочие, проникшись происходящим, принесли и положили для священника и хора дощатый помост, забрав его от свежего богатого захоронения какого-то «братка». Вика не плакала, она просто неподвижно стояла чуть в сторонке и, не мигая, отстранёно смотрела на происходящее. Стояла и неслышно, сама по себе, молилась. Отец Нифонт закончил, дождался всех прощающихся, вытряхнул угли и спрятал кадило в сумку. Стараясь не запачкать о землю, осторожно стянул через голову фелонь, смотал шнурки поручей. Потом ещё раз огляделся по сторонам, вздохнул. Шагнул в грязь, обнял Нику и повёл к автобусу. На светлом кресте неярко белела дюралевая табличка: «Монахиня Елена. 1963–1999».
Все, кто знал Елену от школьных лет до этой самой тяжёлой и смертельной болезни, не сговариваясь, всегда характеризовали её одним словом «стрекоза». И в этом не было ничего оскорбляющего или насмешливо злого. Нет, она именно так всеми и воспринималась: лёгкая, вёрткая, какая-то всегда блестящая и безобидно бестолковая. Небольшого роста, глазастая, коротко остриженная брюнетка с хорошо сохранившейся, почти мальчишеской, спортивной фигурой, она и в характере и в манерах была чистая травести.
Закончив иняз пединститута, Елена получила «свободный» от распределения в какой-нибудь Мохнатый Лог Кочковского района диплом, и, неожиданно для всех, вдруг умчалась в Прибалтику. Оказалось, она уже ждала ребёнка от заезжавшего к ним в институт на практику молоденького специалиста-электронщика. Но долго в своём Таллинне Елена не протянула, и через год она опять встречалась на всех, ещё достаточно братских, хоть уже и не студенческих, пирушках. От этого года замужества у неё остались только крохотная девчушка да странная еврейская фамилия с эстонским окончанием. Устроившись переводчицей в Интурист, она из-за этой своей фамилии оказалась «невыездной», и обслуживала только приезжие немецкие промышленные делегации. За незадумчивую легковесность поступков и неудержимую болтливость, её даже не стали вербовать в сексоты. Ибо, какое тайное задание ей можно было бы поручить, что бы о нём тут же не узнали несколько десятков, а, может, и сотен человек?
О её влюбчивости ходили анекдоты. Каждый год Елена, искренне начиная «всё сначала», горячо и щедро делилась со всем миром радостью от обретения «своего истинного идеала». Но порой не все даже успевали толком разглядеть достоинства этого «идеала», как уже выяснялась, что «он тоже сволочь». Как будто где-то в природе могли существовать тридцатилетние, весёлые, компанейские, в меру пьющие и любящие потанцевать холостяки, способные на роль отца и мужа! И, в тоже время, в этих её романах не было какой-то обычной в таких случаях грязи, не было того, что могло бы просто называться распутством. То есть, не было грубости. Были только глупость и… ещё раз глупость. Её не ругали, а жалели. Как, впрочем, и Нику.
Постепенно, в согласии с возрастом, все её институтские друзья и подруги переженились, завели детей и, ради их правильного воспитания, старались забыть свою буйную молодость. Елену же время как-то не трогало, она сдаваться и не собиралась. Кажется, Хемингуэй пошутил: «счастье — это крепкое здоровье и слабая память». Здоровье пока было… Её страстной лёгкой натуре хотелось продолжать порхать и веселиться. Ведь всё вокруг ещё может случиться, всё может произойти. Ну, ещё хотя бы немного так. Чуть-чуть… Дополнительную иллюзию этой вечной весны и бесконечного красного лета ей додали богемные кампании разномастных артистов, художников и певцов, которых она подкупала своими иностранными знакомствами. Немцы в свободное от переговоров время обожали ходить по мастерским и пить дармовую водку под русские песни и мечты об эмиграции. Любовь к искусству проявлялась у них в виде рассказов о том, что у «фатера» или «мутера» «ин Дейчланд» тоже есть дома картины. Иногда, правда, всё же покупали какую-то мелочёвку, что превращало «фройндшафт» в ещё больший праздник. Для русского художника главное ведь не деньги, главное — внимание. Тем более — иностранное. Елена чувствовала себя кому-то нужной, её окружали приторным вниманием, со всех сторон кокетничали, она в ответ строила глазки, и молодость продолжалась. Разве это было не чудо? В подвальном и полуподвальном свете морщинки были почти незаметны, комплименты от надеющихся на очередную продажу художников сыпались без меры. Нет, не буду так примитизировать: вообще-то артистический народец приятен и добр ко всем неконкурентам, вполне даже и бескорыстно. А, тем более, — к легкокрылой и блестящей щебетунье. Так что, если в ответ не вглядываться во всё обширней седеющие и лысеющие шевелюры растолстевших бодрячков, и делать вид, что ты в очередной раз не помнишь этого анекдота и не догадываешься, что через два часа тебе брести домой одинокой золушкой к разбитому корыту… О, эти несносные часы, безжалостно отбивающие двенадцать!.. Всё равно бывало вполне весело. Хорошо.
А вот наша семья, не смотря на обилие творческих профессий, в это «хорошо» никак не вписывалась. И этим не столько цепляла Ленкино самолюбие, сколько разрушала старательно создаваемую ею для самой себя круговую панораму всеобщего порханья. Мы на её балу были… как селёдка в блюде с пирожными. Или, вернее, как дырка в нарисованном очаге. Она так же пыталась знакомить нас со своими иностранцами, щедро рекламируя бошам и австриякам супружнины спектакли и мои картинки. Но те у нас за столом почему-то не веселились, а смурели, начинали важничать. Словно вспоминали, что несут непосильное бремя представительства европейской цивилизации в центре азиатского континента. Тон застолья становился сугубо германским, без далёкого звона бубенцов и цыганских монист. Ну, не получалось праздников, да и переводчики, в общем-то, были не нужны. Поэтому с нашей семьёй Елена общалась кавалерийскими налётами. Обычно ни с того, ни с сего, в самое неудобное время раздавался звонок: «Ну, вы там чего? Я к вам иду пиво пить». И всё, это было приговором для целого вечера. Появлялась она всегда не только с пивом и дочерью, но с целым списком заученных вопросов. Дело обычно происходило на кухне. Пока дети где-то нешумели, мы с женой подвергались риторическим пыткам на тему отношений добра и зла. Вопросы были однообразны, особой эрудиции для ответов не требовалось, но задавались с очень нездоровым, с нарастающей агрессией, азартом. Я тогда ещё не знал причины этого её особого внутреннего возбуждения, и от незнания ответно раздражался, тоже начинал ёрничать. Вспыхивал спор. Да такой, что иной раз моя жена едва разводила нас по углам ринга. В конце концов, в самый разгар дебатов из детской комнаты наконец-то появлялась Ника и строго командовала матери: «домой»! А я ещё долго не мог успокоиться. Зачем она приходит? Что между нами может или должно быть общего? Совершенно чужой человек. Всё, больше не принимаем! Но через пару недель в трубке опять звенело: «Ну, вы там чего»? И всё повторялось.
А дело было как раз в Нике. У спортивной мамы девочка росла очень болезненной. Куча наследственных дефектов от папы, плюс копившиеся недолеченные хроники. Но самое страшное, что у неё с семи лет стала катастрофически быстро развиваться глухота и слепота. Елена обегала и объездила всех специалистов. Заставила даже кого-то где-то поискать и бывшего мужа в его освободившейся от имперского ига маленькой, и теперь такой независимой стране. Как выяснилось в результате всех консилиумов и консультаций, — требовалась срочная операция на мозге. И сделать её могли только в Германии и только за большие деньги.
В это время она сотрудничала с одним немецким профессором. Этот профессор, благодаря брату-чиновнику, попал в финансируемую федеральным правительством программу и постоянно приезжал читать нам лекции по свободной рыночной экономике в условиях демократического государственного устройства. Заодно он подыскивал здесь для крупных западных фирм относительно надёжных партнёров-дилеров, на которых ему указывали уже наши чиновники, тоже, в свою очередь, чьи-то родственники. За это он получал с этих «надёжных местных бизнесменов» комиссионные. Суммы хоть и в валюте, но вывозить их из России в Германию не рекомендовалось. Зачем налоговой полиции и его супруге было знать слишком многое?
Когда Елена поделилась с ним своей бедой, профессор немного подумал, надел свой лучший костюм, пригласил её в гостиничный ресторан и сделал ей вполне деловое предложение. Он уже пожилой и очень уважаемый человек, у него есть достойная карьера и очень добропорядочная семья. Он может гордиться тем, как прожил жизнь. Но! Профессор ещё не собирается умирать, ему ещё хочется иметь немного человеческих радостей. И для этого есть некоторые накопления. Она смотрела на его рыбьи за толстыми линзами мутные глаза, на по-бабьи обвисшие глубокими морщинами щёки. На толстенькие конопатые, с короткими холёными ноготочками, ручки. Шестьдесят пять. И ему ещё хочется иметь немного человеческих радостей. А дома одиноко сидела слепнущая и глохнущая дочь.
Одно дело — чувства. В них есть, пусть иллюзорное, ощущение собственной несвободы выбора. Мол, судьба, рок. Ослепление. За это и судить-то в общем нельзя. То есть, в них сразу заложено некое право на ошибку. Совсем другое — положение тайной содержанки, унизительно рационально обслуживающей чужую похоть. Тут только холодный расчёт. Вернее, только расчётливая подлость. А в подлости ошибок не бывает. Значит, не может быть и прощения. Конечно, — всё ради дочери, только ради дочери, но… Неужели, действительно, нельзя было по-другому?.. Тайная ночная борьба с собственной совестью у Елены вырывалось дневной горячечной агрессией против общественной морали. Елена пыталась обрести хоть какое-нибудь оправдание себе в том, что «другие-то не лучше». Не ожидая пощады от окружающих, она сама задиралась на всех, рассыпая самые разнообразные варианты только одного вопроса: «Кто без греха»? Чтобы затем кричать всему миру: «так и не смейте кидать в меня камни»!
Но мы-то ничего не знали.
Из Германии они вернулись через три месяца. Операция прошла успешно, Ника стала слышать, улучшалось и зрение. От избытка благодарности Елена несколько раз заходила в церковь, ставя свечи перед всеми иконами подряд. И после каждого такого похода она обязательно отчитывалась перед нами. Мне бы просто порадоваться этому порыву, но я уже не мог выйти из задиристого ернического тона предыдущих наших кухонных баталий. Ну, и слишком она была стрекоза, чтобы поверить в её долгую религиозность. А Елена вдруг, — а может быть мне назло? — накупила целую кипу толстых и тонких руководств по христианской жизни. Апофеозом этой скороспелой библиотечки стала супер фарисейская книжица с многозначительным названием: «Можно ли спастись в современном городе?»… Что ответить на такой вопрос? Конечно, о даже гипотетическом Еленином православии в таком русле развития и речи не могло быть. Хорошо, что успел отнять и выкинуть целый том Меня. Но, зато, теперь она цеплялась ко всем вполне конкретно. Согласно изучаемым дома уставам и правилам.
Прежде всего: почему «старослужащие» в соборе бабки не проявляют к неофитам любви? Чуть ли не щипаются, если женщина без платка и в брюках. Второе: почему дьякон всё утро зевал и не крестил рот? Третье: почему владыко такой толстый? А ещё, — почему называется «таинство», а исповедуются все вместе? Всем же всё слышно! — Перечень подобных вопросов требовал постоянно здорового чувства юмора. Но со временем список изменялся. Вернее, у Елены с какого-то момента вопросы стали перемежаться утверждениями. И цитатами. И осуждениями. Меня, многогрешного, в том числе.
Дело, оказывается, было вполне стрекозиное. Весна, цветы, характер. Конечно же, — она опять влюбилась. Но в этот раз влюбилась так необычно, что не могла даже поделиться известием о встреченном «идеале» ни с кем, кроме нас. Ибо он был «послушник». Чему послушник? Кому? Она не могла внятно объяснить, а я не мог удержаться от хохота. И Елена пропала надолго.
Зашла она только через год. Я привычно рванулся за пивом, но она заявила, что теперь не пьёт спиртного вообще. Пошто? Духовник не велит. Это было уже интересно. И от чая она отказалась, потому что разговор предстоял сугубо деловой. Это было уже очень интересно. Выглядела она осунувшейся, нездорово усталой, я даже причину понял не сразу: да это же она абсолютно без грима и с аккуратно прибранными, пробитыми первой сединой волосами! Когда они успели поседеть? Так она сразу преставала быть «девочкой». Время, до того изо всех сил тормозимое ею, теперь рванулось вперёд, стремясь догнать… кого? А самоё себя. Событий в Елениной жизни за год произошло неисчислимо. Она нашла в своём семейном древе дедушку священника, похороненного на бывшем кладбище, а теперь парке развлечений в Берёзовой роще; она стала активной прихожанкой одного из соборов, где несла послушание бесплатной переводчицы; она возила летом Нику в детский православный лагерь и, вот, вступила в сестричество. По проблемам этого сестричества теперь и пришла. Обсудили, порешали. Дело было благое: женщины взялись помогать одиноким матерям, которых они же и уговаривали не делать аборты. Ходили по консультациям и больницам и упрашивали не убивать ни в чём не повинных младенцев. Основная причина абортов в России примитивно проста: нищета, ужасающая перестроечная нищета. Практически всем, решившимся под впечатлением собеседований родить, срочно требовались деньги, продукты, одежда. Может быть, кому-то найдётся и надомная работа. Для этого Елена просила рекомендаций к нашим знакомым «бизнес-леди», у которых семейные и, естественно, материальные дела были достаточно благополучны. Она уже попыталась собирать помощь без рекомендаций, но что-то не получалось. Не получалось? А почему именно она? — Ну да, сама на это «послушание» напросилась: «раньше, мол, столько вокруг знакомств и друзей было. А теперь вдруг все шарахаются, смотрят как на сумасшедшую»… Ох, простота. Нормально смотрят: в её клёпаной никелированными шипами рокерской кожанке и в узких брюках просить на церковную благотворительность? Да и к кому она могла обращаться? И ещё обижаться: «столько было знакомств и друзей»! Это же были знакомства и друзья стрекозы… Немного задирала ситуация, когда настоятель только благословил начинание и спокойно умыл руки. Не понял, что ли, — кого и на что? Получалось: уговорить-то несчастных уговорили, а дальше ответственность перекладывалась на плечи третьих лиц. Совершенно случайных. Иной раз даже не православных. «Ленка, а он-то о чём думал»? Но для новоиспечённой истинной христианки настоятель выше любой критики. «Да, кстати, а как твой послушник»? Естественно, сбежал. В какой-то далёкий монастырь, Псковский или Ферапонтовский.
А потом она с благословения своего настоятеля ещё боролась с сектантами. Со всеми и во всём мире сразу. Естественно, никакими не молитвами, а переводными гневными брошюрами и печатными обличениями. Когда я попытался втолковать, что судьбы Божьи — это не её дело, что одержимых не уговаривают, а бесов не переубеждают, она только терпеливо кивала головой, но по-сектантски заучено твердила, что «кто-то же должен это делать, что нужно спасать, спасать, спасать». И заодно пыталась спасти и меня, работавшего тогда в Могочинском монастыре, объявленном в их приходе вне закона. Потом, потом… В общем, всё было нормально. Круг за кругом Елена проходила по «Кормчей» все положенные этапы развития неофита. Ещё бы немного, и мы бы примирились. Но она снова куда-то надолго исчезла.
Последний раз мы встретились на крестном ходе. Ход этот для нас есть нечто совершенно указующее. Милостью Божией, политические митинги начала девяностых, проводившиеся у подземного «вечного» огня под поводом юбилея Куликовской битвы, мягко и безболезненно переросли в совершенно церковное действие в Рождество Богородицы. «Вечный» этот огонь венчает мемориальный комплекс строго масонской направленности, — с обязательными четырьмя алтарными ступеньками перед поклонением западу. Помню, сколько было нареканий от отца Димитрия, ныне архиепископа соседней епархии, когда, по недоумию, мы просили отслужить литию по вождям и воинам, жизнь за Отечество в полях сложивших, рядом с рвущимся адским факелом, забросанным жертвенной мелочью. На фоне изображения пятиконечных звезд, победно наступающих на кресты. Но всё-таки отслужили. Ради любви. И та молитва 1988-го года может считаться для многих новосибирцев поворотной точкой в понимании патриотизма. Здесь прошёл водораздел, уведший одних под хоругвь, других под красное знамя… Крестный ход — это Крест идущий — и люди идущие за Крестом. Крест — это любовь, преодолевающая ненависть. Старательно раскручиваемый пролетарский социал-национализм, злободневно прикрашенный неоязычеством, не успев вздуться, лопнул, освободив путь для возрождения православной Руси. И эксплуатация страстей испуганной и разозлённой перестройкой толпы сменилась торжественным шествием от Вознесенского кафедрального собора через весь центр к собору Александра Невского. Предлогом для первого хода стало освещения памятного камня, где затем была восстановлена часовня святителя Николая, покровителя нашего города. Молебен у часовни, отмечавшей когда-то географический центр Российской империи, теперь стал главным общественным событием для православных горожан. Слава Богу. Ведь только вдуматься: от демонстрации — к крестному ходу! От мегафонных призывов ненависти и бунта — к молебну с «мир мирови даруй и Духа Твоего Святаго». Многое, многое возможно в Рождество Покровительницы нашей Родины. Слава Богу за всё… В этот, всегда светло солнечный день, мы с детьми как обычно шли в самом конце растянувшейся колонны, празднично возглавляемой архиереем, священниками, монахинями, сборными хорами и бравыми казаками с хоругвями. Шествие Крестного хода по Красному проспекту — это нужно видеть. Золотые хоругви на сером каменном фоне, метания кадил над асфальтом, блеск риз вдоль пропылённых, чуть желтеющих берёзок, светлые лики икон и строгие монашеские клобуки, красные лампасы, ладан через выхлопа… Наш относительно молодой, почти абсолютно советский по архитектуре, промышленный мегаполис в этот момент обретал вневременность. Всего лишь столетняя биография города вдруг совершенно зримо вливалась в многовековую историю России, а с ней — в историю тысячелетий христианства, и далее, далее — в безвременность сотворения мира, в вечность Божественного промысла. Жизнь суетливого центрального проспекта зачарованно замирала, спешащие куда-то люди замедляли свой бег, останавливались вдоль парапетов, лица их светлели, кто-то крестился, кто-то, спохватившись, присоединялся. И все, все улыбались. Крестный ход по проспекту. Это нужно почувствовать. «Мир мирови даруй и Духа Твоего Святаго». Сколько незнакомых, но теперь таких близких, таких родных шли рядом под явным благодатным покровом… В конце колонны старушки в белых платочках несли иконки, вокруг нас было много родителей с детьми, кто-то вёл увечных, немощных. И разговоры, тихие разговоры только о сокровенном, только о святом. Впереди хоры перекликались со священством, но ветер относил звуки в сторону. Не разобрать. Поэтому женщины сами, нестройно, но воодушевлёно пели «Богородицу». Когда мы приблизились к часовне св. Николая, толпа уже плотно сгрудилась около служащего на ступенях молебен владыки. Воздев детей на заборчик, мы с супругой встали в сторонке. И здесь увидели Елену, поразительно бледную, как-то ссутулившуюся и тяжело опиравшуюся на догнавшую её ростом Нику. Но так же, как все кругом, радостно улыбающуюся. Они собирались сразу после молебна ехать домой, но мы уговорили зайти к нам. Нике очень хотелось поиграть с нашими девчонками, Елена согласилась:
— У тебя водка есть?
Увидев моё лицо, засмеялась:
— Не падай, мне и шприц нужен. Двухкубовый.
Она недавно перенесла операцию, и ей приходилось каждые четыре часа делать инъекцию. Что-то растирая и растворяя в столовой ложке, Елена, наскучавшись в больнице, тараторила не переставая. Торопливый, перелетающий с темы на тему говорок никак не вязался с тем, что она рассказывала. Я сидел, развесив и понурив уши, и ругал себя, ругал за невнимательность: как можно было не увидеть чужие человеческие страдания? Казнил за недоверчивость: разве Дух не дышит, где хочет? Вот слепота и глухота. Ленивость сердца. Да пусть она всегда была стрекоза, да пусть недалёкая, увлекающаяся, смешная. Но — искренняя, всегда искренняя!.. И это было в ней главным… Болезнь развивалась давно, вначале медленно, обещая шансы на выздоровление, потом всё стремительней, безжалостней. Все её мысли были о Нике: как же она в таком возрасте останется сиротой? Елена, сколько могла, не подавала дочери виду. Слёзы пускала только в ванной. Вместе с кровью. Держалась молитвами. Научилась сердечному деланию, это утешало, не давало отчаяться. Милостью Божией познакомилась с приехавшим из Сергиевой Лавры в наш город старцем Наумом. Его заступничеством боли немного отошли, но анализы не оставляли никакой надежды. И старец благословил на тайный постриг и операцию. Елена тогда уже часто теряла сознание. Поэтому и постриг помнила отрывками. Из-за Ники выписалась пораньше. «Да, да, и теперь в брюках хожу. Но это для поддержки бандажа. Сейчас для меня самое главное — молчать. Мне же очень трудно мирским не проболтаться о своём монашестве. Ладно, это вы всё понимаете, а вот встретила вчера Вовку А-ева. Тот, конечно же, сразу полез обниматься по старой памяти. Но мне же теперь нельзя, чтобы мужчина прикасался…». — Я смотрел на неё и чуть сам не плакал: Ленка — монахиня, в тайном постриге, смертельно больная, рядом малолетняя дочь скоро останется сиротой, — и мелкие, такие, чисто её, смешные проблемы. Придумать невозможно. Сколько уже довелось видеть монахов и схимников, знал верижников, слыхал и про тайный постриг. Но! Но никогда бы не смог даже подумать о Елене, — что она, именно она! — станет в ангельском чине. Господи, неисповедимы пути Твои, поразительно Ты ведёшь нас, таких разных и несхожих, под единую Свою волю!.. Она — и монахиня! Нет, если бы не авторитет отца Наума… Прости меня, Господи! Прости меня, новопредставившаяся монахиня Елена! Молись там о нас, здесь живущих. Каковы-то ещё будут наши судьбы…
ГРЯНУЛО
Дед Зубровин изворчался с самого утра. Да и как иначе? Ещё со вчерашнего заката было ясно: день будет в подарок. Солнце садилось в чистый горизонт, в розовом небе ни тучки, ни облачка. И по реке полное безветрие и тишина. Даже стрижи к вечеру поднялись, так что и гадалок не надо. Ни митерологов. Таких деньков за этот месяц по пальцам пересчитать, каждый как праздник помнился. Весь покос в дождях шёл, сено собирали уже чёрное, возки не стожили, боялись, что запреет и загорится. Можно, конечно, присолить. Только скотину не обманешь. И что за напасть в этом году? Правду говорят, коль весна рано началась, так до поздней осени и протянет, не изжаришься. В зиму бычка придётся сдавать сразу, какие тут заработки, корову бы прокормить. И надо же, в такой вот на радость рабочий день, его бабка покатила в город. Подоила — и сразу на пристань, на «зарю». А ему и свиньи, и гуси, и куры, и одному теперь ещё валки переворачивать. Изворчался Зубровин, изворчался.
Так-то ладно, он ведь всё понимает, — коли народ её попросил, оказал доверие, надо стараться. Раз выбрали старостой по приходу, так оно теперь пусть и будет, он не против. Но и другое в расчёт брать необходимо: какие же летом бумажные хлопоты? Летом, когда один день год кормит. Что уж так там их всех приспичило, чтобы посреди страды в область ехать, эти подписи сдавать? Там, в городе-то, конечно, всё равно, а в деревне всё же маленько думать надо. Вот наступит зима, огород приберётся, гуси поколются, куры лишние, там, кабанчик оприходуется, да и корова запустится от молока, — так хоть на неделю езжай! И собирай свои бумажки, и отдавай, и сиди по приёмным. И с уполномоченными, и с благочинными встречайся, хоть с самим епископом, коли тебе такой почёт выпал. Но не в покос же!.. Только разве с его бабкой поспоришь? Характерная она с самого молоду была, теперь тем более не выправишь. Что вобьёт в голову, то и тешит, хоть разрази её гром.
С такими мыслями Зубровин примотал к раме велосипеда грабли, закрепил к багажнику свёрток с обедом, и покатил на дальнюю елань. Полевая дорожка пролегла вдоль овсяного поля, пересекла по дамбе стоптанного стадом пруда поросший березняком ложок и вывела на длинную, скошенную на паях гриву. И тут, успокоившемуся, было, Зубровину опять стало обидно. Все, ну все на своих делянах работали семьями. Куда ни глянешь, везде — мужик да баба. Переворачивали, гребли и метали копёшки вместе с детьми и внуками. А он всегда как сыч. Даже здороваться, отвечать на их весёлые голоса не хотелось. Нажав на педали, выставился под ноги, словно очень боялся наехать на какого-нибудь перепелиного слётка или зайчонка. Километров через пять грива просела, расплылась, и дорога запетляла промеж кочковатых лужаек и мусорного ольховника. Здесь было безлюдно тихо, слева начиналось болото, другого края которому не было. Зубровин остановился поправить свёрток и протереть вспотевшую под кепкой лысину. Сразу вокруг заныли редкие уже, августовские комары. Мошка за велосипедом не поспевала, а эти тут как тут. Рядышком посреди обнажённой глины бил родничок, образуя кривую чашу. Он осторожно набрал в бутылку ледяной, со ржавчинкой воды, попил. Хорошо. Плеснул за ворот. Ух, хорошо. От леса грибами пахнет. Тишина настоянная, только перелетающие с метёлки на метёлку конских щавелей щеглы пересвистываются. Конечно, с бабкой пришлось бы на мотоцикле ехать, трещать, бензин тратить. И не попил бы из этого родничка. Из которого пил уже без малого семьдесят лет. Ещё с покойными родителями здесь каждый покос останавливались. Ох, как же давно это было… Потом и своих детей тут прохлаждал. Да. И где они, его дети? Конечно, у других и хуже бывает, — эти, слава Богу, все живы-здоровы, и внуков нарожали. Хоть изредка, но видятся. Только какие-то его дети очень городские получились, — что сын, то и дочки. Словно отрезанные. Приезжают ровно на неделю и так навозу боятся, будто впервые его видят. Носы воротят, ботиночки по пять раз на день вытирают. Куда там, инженерная интеллигенция. Выучились на начальство, простого труда чураются. И за столом то и дело тычут: «так не говори, так не бери»! А от родительского творога да сала не отказываются. И варенья, и соленья не по силам вывозят. Нет, он не к тому, что жалко, а к тому, что можно бы и помочь. Неужели они в самом деле забыли, как этот самый навоз по огороду вилами раскидывали? И воду таскали, и картошку окучивали, и корову доили. Было же, было! А сейчас? Как вот нынче можно на земле-то развернуться. Власти не давят, — сколько сможешь скотинки держать, столько и держи. Это тебе не при Хрущёве. И огороды никто никому не урезает. И теплицы не промеряет. Живи. Вкалывай! Обогащайся! Так нет, никого не уговоришь, — им лучше в этом своём городе по полгода безработными сидеть, либо на морозе в ларьках позориться. С вышним образованием. Тьфу! А они-то с бабкой радовались: вот, деточки учатся, вот учатся! Погодите, завернёт вас жизнь ещё, припомните папкины уговоры.
Дальше дорожка была почти не езженой, кроме рыбаков никто ею давно не пользовался. Перелески, болотца, длинные узкие протоки. Это были их потомственные угодья, другие и не зарились. Ибо тут нужно было точно знать, где какие поляны годились для покоса, а какие торчали кочками, так, что литовку обломаешь. Пятачок на пятачке, заплатка на заплатке. Не поделишься. Но смех смехом, а пять-шесть возов всегда набиралось… Зубровин сердито открутил грабли и начал с левой крайней полянки. Переворачивая валок за валком, опять взъелся на уехавшую супругу. Такой день, такое вёдро стоит. Небо как стёклышко. Как бы щас вдвоём вмиг всё перевернули, подсушили, а после обеда можно было бы и копёшки скидать. И пусть потом мочит. Не страшно. Ну, баба, ну, досталась ему. Что ей с этой церковью так втемяшилось? Жили же без неё, жили бы и дальше. Кому надо, так поезжай в город, окрести там кого или ещё чего. А в прошлый раз поп и сам собой приезжал, так совсем благодать была. Нет, сговорилась с такими же старухами, собрали приход. Задумали батюшке дом купить, а потом и строиться. Ничего себе, фантазёры: где денег-то возьмут? Из пенсий? Или кто им подаст? Какие такие спонсеры? Дуры. И его — главная. Вместо того, чтобы делом заниматься, в город, видишь ли, она подалась. Ну что за баба? А если бы он не был таким терпеливым? Другой, на его месте, уже как врезал бы промеж ушей, — узнала бы как эту свою церковь строить. Точно бы узнала.
Из-за верхушек невысоких берёзок и осокорей неожиданно выросло округлое облако. Немного повисев на месте, оно стало расползаться, быстро чернея серединой. Осеребряя осинки, дунул ветерок. И Зубровин окончательно рассвирепел. Вот, пропади эта церковь пропадом, коли сейчас польёт! Всё насмарку. Что он один вот так успеет? Нет, вечером он ей устроит. Точно, устроит. Он ей всё выскажет, богомолке. И про то, и про это…
Вихрь ударил так, что деревья разом застонали, засвистели полетевшей листвой и мелкими веточками. Небо в минуту закрылось, где-то громыхнуло, и на землю упали первые холодные капли. В сердцах бросив ненужные грабли, Зубровин, сгорбившись, вслед за несомым вихрем сеном побежал под деревья. Ливень догнал его около старой, развесившей до земли свои мятущиеся бичами ветви, берёзы. Обняв издолбленный дятлами узластый ствол, он, упрятывая затылок в поднятый воротничок, зло смотрел, как по пресыщено невпитывающей земле быстро растекаются пенящиеся лужи. С козырька кепки струйка текла прямо на нос, спину остро зазнобило. Ну, бабка, всё! Всё! Ко всем чертям! Достала ты его со своею верой!..
Он не увидел ни молнии разбившей на пополам обнимаемую им берёзу, не услышал раздирающего всё вокруг треска. Он просто понял, что лежит на спине и смотрит в голубое чистое небо. В ушах звон, во рту солоноватый привкус крови. И всё. Зубровин снова опустил веки. Звенит, звенит. А почему он лежит? Что, вообще, произошло? Где он? Попытался так, не открывая глаз, сесть. Вроде удалось, только тело совсем не ощущалось. Как после хорошей пропарки в бане. И звон, звон. Он прикоснулся ладонью к груди и резко раскрыл глаза: да, грудь была голой! Качаясь, встал на ноги, недоумевающе оглянулся. Когда он вставал, с него окончательно свалились клочки оставшейся обгорелой одежды. Зубровин, прикрывшись руками, оглядывался по сторонам, пытаясь понять, вспомнить что здесь с ним произошло. Поляна, покос. Вон его грабли. Но сам-то он почему нагой, как адам какой-то? Из всех одеяний на онемелом бесчувственном теле только маленький дюралевый крестик на суровой нитке. За спиной развалилась, словно гигантским колуном расщеплённая пополам, берёза. Береста по краям раскола ещё горела. И он вспомнил.
Прошло двенадцать лет. В их селе поднялся высокий каменный храм. Каждое воскресенье стоит на службе около правого клироса старик Зубровин. Уже давно его супруга по здоровью отстранилась от приходских дел, часто даже в праздник не в силах дойти до церкви. Так что в последний пост и соборовали её на дому, — ноги совсем не дюжат. А он ходит. И стоит всю службу строго, не шелохнувшись, как бы что не болело. Разве только когда крестится, иной раз и улыбнётся. Уж точно это про него было сказано: «пока гром не грянет…». И слава Богу.
ДА КАК ЖЕ ТАК?
Лизавета задыхалась, но не отставала от других, бочком сползая, перечохивала через рельсы, и опять бочком трудно вскарабкивалась на платформу. Так что на третий путь успела к открытию дверей вместе со всеми. Из синих вагонов скорого «Новокузнецк-Кисловодск» вслед за проводниками на сырой после утреннего дождика асфальт густо попрыгали проезжающие. На призывы и предложения мужики, прикуривая, только смято и угрюмо молчали, щурясь в поисках киосков, а вот женщины, в халатиках поверх трико, прижимая к груди кошельки, сразу же вступали в выяснение цен. А чего спрашивать? Всё давно устоялось, бери, если надобно. Кто на чём, а Лизавета свой «бизнес» строила на овощах и фруктах. Сосиски в тесте и пиво — это неплохо, прибыльно, но ими торговали от «фирмы», как, собственно, и пирожками или бёдрышками. «Левых» пресекали сразу и жестко. Не дай кому Бог из новеньких попробовать, бандюки не пощадят и на возраст не посмотрят. А вот чем с огорода — это можно. Сунул полсотни — и бегай целый день с пути на путь, пока живот не развяжется. А как иначе? На пенсию-то не проживёшь, да ещё и сынок стал пить совсем уж по нехорошему, так что и жена выгнала, и на работах не задерживается.
— Помидоры, кому помидоры? — Своего огорода у Лизаветы не было, пять лет, как дачу продали, на похороны мужа ушла, и она просто-напросто закупала с вечера, когда цены падали, кое-что на базаре, дома мыла, раскладывала по пакетам, а с утречка вот так и «бизнесменила». Ничего, бывало, что по сотни три зарабатывала. Редко, правда — это на сезон, на вишне и черешне.
— Граждане, берите помидорки! Смотрите, как хороши. Всего за двадцать пять, это же дешевле не бывает. Вон, за вокзалом на рынке такие тридцать! Сходите, посмотрите! — Уловка простая, кто ж куда от своего вагона пойдёт, а действовало безотказно. Услыхав про дешёвость, народ вздрагивал, как бы просыпаясь, и далее всё больше зависело от того, были ли помидоры уже куплены на какой-нибудь ранешней станции. Если поезд с юга или запада, то в ответ язвили, что, мол, «в Волгодонске такие пятнашка, а в Ростове и вовсе десятка», но которые ехали от востока, те брали с верой в экономию.
— Берите, они крепкие, мясные — вам одно удовольствие будет. Счастливого пути! — Сунув деньги в нутряной карман, Лизавета засеменила в конец состава. — Граждане, берите помидорки! Смотрите, как хороши.
Оставался один, последний пакет, но перед ней успели пройтись Любка-буза и Кондратиха. «Конкурентки» прочесали платформу до конца, распихав те же базарные яблоки и помидоры, и уже возвращались через бесполезную теперь толкучку. Однако, встречно обменявшись косыми взглядами, все трое разом начали кричать громче, назло друг дружке:
— Граждане, берите помидорки!
Конечно, дело дохлое, но и оставаться с последним пакетом Лизавете не хотелось. Да ещё бы и Любку с Кондратихой взять, да и позлить — вот, вы наперёд прошустрили, а я и после вас продала! За фирменными синими вагонами стояла пара прицепных, зелёных. Около них докуривали десятка два-три крепких, коротко стриженых парней и мужиков, кто в полувоенной форме, а кто в спортивном и тапочках. Судя по кислым лицам возвращающихся с пивом и сосисками, здесь вообще ничего не продавалось.
— Помидоры! Берите, я уступлю. Все за двадцатку отдам. Последние, за двадцатку. — Получалось почти без навару, рубля четыре с полтиной, если мешочек вычесть, но дело-то принципа.
— Покажите, бабушка.
— Последние. Берите, вам уступлю! — Она метнулась на вопрос, приподняв пакетик повыше. — Что ж мне с ними делать, коли остались? Не домой же…
Две молодых девчонки, одна беленькая, другая чёрненькая, уже прижимали у груди что-то съестное.
— Всего за двадцатку, дешевле не бывает. Вон, за вокзалом на рынке такие тридцать! Сходите, посмотрите!
Беленькая, что чуть постарше, нерешительно протянула руку.
— Сходите, посмотрите. Просто последние, не домой же. Они крепкие, мясные — одно удовольствие. Ну, вот, вот, без сдачи. Счастливого вам пути!
Избавившись от товара, и пряча деньги, Лизавета в краткий, как фотографическая вспышка, миг — словно кто её веки раздёрнул — вдруг ясно-ясно увидела, прозрела своих покупательниц: две молодых девчонки — одна беленькая, лет двадцати пяти, а другая, чёрненькая, и того младше, стояли перед ней в одинаковых, высоко шнурованных чёрных ботинках, в одинаковых, пятнистых, как арбузная корка, зелёных брюках, и только кофточки были разные. А вокруг, в точно таких же пятнистых арбузных брюках и куртках, толклись серьёзные, сильные парни. И один, у самых ступенек, держал почти неприметный под локтём короткий автомат.
— Счастливого вам… вы же… туда? Туда?
От этого неожиданного и даже больного прозрения Лизавета как-то так потерялась, что не могла сдвинуться с места. Ровно пришпиленная, она, неловко перетаптываясь, медленно поворачиваясь вокруг оси, и искала, взглядом просила чьего-то стороннего подтверждения тому, что уже и сама поняла, да только никак не могла высказать через перехваченное судорогой горло:
— Вы же… милые… туда.
Судорога от горла потянулась к сердцу.
Поезд хрустким толчком сдёрнулся и, почти бесшумно проскользнув вдоль перрона, всё быстрей покатился мимо бесконечного разветвления путей, мимо складов, гаражей, ангаров, окраинных панелек, усадеб и дач Саратова. Фирменно синий «Новокузнецк-Кисловодск», с двумя прицепными зелёными.
Отсидевшись на лавочке, Лизавета потихоньку пошаркала к дому. На углу Советской чуток постояла — свербела мысль, что на эти проклятые деньги, что она взяла с девчонок, нужно бы поставить в церкви свечки. За здравие. Но сердце опять остро закололо, и, смалодушничав, она не свернула, прошла храмовый поворот.
Ночь томила нудным постукиванием дождя по водосливам, шуршанием яблоневых листьев, опустившихся до первого этажа их старого деревянного дома, тяжёлым храпом пьяного сына. О-хо-хо-х! Когда тебе семьдесят, то, если не удалось уснуть сразу, тогда жди — может, повезёт, и ещё сможешь придремнуть под утро. После валокордина боль притупела, но совсем не отпускала, то и дело как-то царапая изнутри, однако вставать, идти на кухню, что бы накапать ещё, сил не было. Ладно, пройдёт, чай не впервые, можно и потерпеть. Потерпеть, подождать. Так вот она и лежала, ждала, то закрывая глаза, то лупясь в потолочную мглу. «Да как же так? Девчонки на войну, а я с них двадцатку. Ох, стыдобище-то, Господи». Слёз бы, хоть чуток, тогда и сердцу полегчало б. Но в глазах сухо, только щёки припекает. «Как же я так? Как же так? Чего ж сразу не разглядела? Молоденькие совсем, красивые. Медсёстрами, поди. Или поварихами».
Такой же молодой и красивой запомнилась тётя Варя, когда они в сорок третьем провожали её на фронт. Из Омска. Тётя Варя была младшей маминой сестрой, и они приживали у неё, когда убежали от немцев, в десятиметровой коммунальной комнате: мама, бабушка, четырнадцатилетняя Лиза и пятилетка Люська. Провожание помнилось как сейчас: ноябрь, огромные хлопья снега, страшно шипящий паровоз с красными колёсами, и тётя Варя, в белом полушубке, в ремнях, с обрезанными волосами под новенькой солдатской ушанкой с косо прицепленной звездочкой — почему-то вдруг такая жалкая-жалкая. Первой разревелась Люська, даже обниматься не хотела, потом мама с бабушкой. А у Лизаветы вот так же, как сегодня, только сухой резью перехватило горло.
Варю убили в самом конце войны. Под Прагой.
А как они к ней добирались до Омска, это особая история.
Отец служил шифровальщиком в штабе полка, возле Могилёва, и летом сорок первого находился на учениях у самой границы. В субботу 21-го июня мама сводила их в зоопарк, солнце палило, и все животные попрятались по избушкам, одни только белки прыгали по сеточному потолку. От пустых клеток сильно воняло, а ещё они с Люськой напились лимонаду «по уши», так что сестрёнка ночью «обдулась».
Утром в небе гудело много-много самолётов, и вдруг стали стучать в двери и кричать: «Война! Война»!
Налёты немецких самолётов на сам Могилёв начались в понедельник, и потом уже не прекращались, по несколько раз в день выла сирена, и репродуктор приказывал спуститься в бомбоубежище. Это было страшно и интересно. Центр города мгновенно заполнили беженцы, через три дня магазины опустели, и есть стало нечего. Тогда мама, с соседкой, тоже женой офицера, собрали вещи в чемоданы и повели детей к военкомату. Там уже собралась огромная толпа, все волновались, толкаясь, записывались в какие-то очереди, маленькие дети плакали. Сутолока была ужасная, Лизавета, которую, как старшую, оставили около кирпичного забора следить за малышнёй и вещами, сама была готова раскричаться. И все слушали небо. Мама и соседка попытались войти внутрь, да куда там! Комендант никого не принимал, время от времени подходил к окну второго этажа и кричал: «Граждане! Товарищи! Никаких машин нет! Когда будут — не знаю»! И вдруг к воротам военкомата вывернули три крытых грузовика, и из первой кабины выпрыгивает офицер — папин сослуживец. Эта колонна с грузом радиостанций направлялась к фронту, но у самого Могилёва её жестоко разбомбили, остались только эти три, пощерблённые осколками, автомобиля. Командир колонны за руку провёл маму внутрь здания. Потерянный комендант только отмахнулся, разрешив прихватить семьи офицеров до ближайшего действующего вокзала, и вот они забрались в заставленный всякой военной аппаратурой, закрытый зелёной фанерой кузов. Сидели плотно, Люську, из-за тряски, мама держала на коленях, а Лизавета то больно прыгала на жёстком ящике, то привставала, пытаясь выглянуть в крохотное окошечко. Во второе не отрываясь смотрел угрюмый солдат. Где большаком, где просёлками они весь день до темноты ехали на восток, заночевав в большущем сарае с телегами и конными граблями. К вечеру второго дня добрались до Орши. Но там железнодорожную станцию только что разбомбили, горели цистерны с горючим, и патрули никого не подпускали. Город под чёрным от жирного дыма, низким небом казался мёртвым. От страха Лизавета закрывала ладошками глаза, а, всё же, иногда выглядывала: вот — нет части дома, и квартиры, как ячейки в улье, оголены, видно мебель, шторы, по стенам висят зеркала, картины. Совсем близко, прямо над поворотом свисала зацепившаяся за что-то кровать, а на ней — кукла. Выбравшись за город, поехали дальше очень медленно. По дороге — сплошной поток беженцев: старики, женщины, дети, все с котомками, чемоданами, узелками, многие с колясками, но в них тоже лежали вещи. Рядом бежали самые разные собаки. Мама, укачивая ноющую Люську, громко спросила солдата: «И далеко ли они вот так? Когда немца-то остановят»? Тот промолчал.
В Смоленск колонну беженцев опять не пустили, так как город бомбился непрестанно. Привычный уже чёрный дым, «туканье» зениток, дальний вой пикирующих бомбардировщиков и гул сплошных разрывов. Следующей станцией было Ярцево. Слава Богу, там вокзал хоть тоже сильно обгорел, но работал. Наскоро попрощались со своими спасителями и втиснулись в уже переполненный товарный вагон. Едва они нашли место, где разместились на своих вещах, как вагон дёрнулся, и покатился. Куда? На восток, лишь бы на восток. Всего в маленьком, остро продуваемом во все щели, гремучем товарнике сидело и лежало человек сто. Всё сплошь женщины и дети, мужчин только пятеро, они и держались кучкой. Курили у входа. Все оказались без продуктов, даже воды не было, и солнечная жажда мучила надоедливо кричавших малышей.
Останавливались часто и надолго. Просто в поле и около крохотных деревень. Кое-где местные подносили к вагонам хлеб, молоко, картофель и свежую зелень. Бабы смотрели, как они едят, и плакали вместе с матерями. Денег никто не брал: «Грех, вы ж оттуда». И опять все слушали небо.
Лизавета с другими девчонками сбегала в кусты и возвращалась, когда около самых раздвинутых ворот вагона её остановила тяжело дышащая бабка:
— На, милая, возьми, возьми. — Бабка всучила тяжёлый белый мешочек, и быстро перекрестила. — Это сахар. Чай, сладенького-то хочется?
Мама помогла взобраться, приняла бесценный подарок. А когда выглянула, чтобы поблагодарить, бабка уже тяжело шла прочь.
Ближе к Москве стали кормить организованно, на вокзалах из военных кухонь.
На станции Шачунья Горьковской области тех, кто не имел никаких родственников в России, на Урале или Сибири, пересаживали в машины и развозили по ближним деревням, а кому было куда, дальше отправляли уже плацкартными.
Первое сентября в Омске было дождливым. Третьеклассница Лизавета, с полным портфелем и в пальто, весила 23 килограмма.
Зарплату мама, устроившаяся помощником фрезеровщика-зуборезчика, получала крохотную, чуть-чуть помогало пособие за отца — пришло сообщение, что он пропал без вести. «Без вести — это ещё не пропал», — и мама ждала, ждала, то и дело бегала в военкомат, а дома каждый вечер ставила дочек перед бабушкиной иконкой: «Детская молитва — что ангельская, к Богу близко».
А в марте 42-го вдруг пришло письмо, и почерк был красивый, ровный: «Ваш Дмитрий служил в моём штабе. 16 июля 1941 года в восьми километрах от Молодечно в лесу нас окружили немецкие танки. До ночи мы вели неравный бой, а в темноте решили прорываться. Немцы, видимо, знали, что здесь крупный штаб, и крепко держали нас в кольце. В полночь мы всё же пошли в атаку. Бросали гранаты и, пробежав, ложились. Опять бросали и бежали дальше. Дмитрий вышел со мной, но где-то мы оторвались друг от друга, я его потерял. Ночь была очень тёмная. С группой из 70 командиров я прорвался через немецкий заслон, и, потом, обходя населённые пункты, мы скорым маршем двинулись в сторону Минска. Не доходя до города 40 километров, сделали привал в роще. Стало светать, рощица оказалась старым кладбищем в несколько соток, а кругом были немцы. День отсиделись, и в сумерках продолжили путь. И тут повстречали группу из четырёх человек. Среди них был ваш муж. Я обрадовался, но предупредил, что бы он от меня больше не отрывался. Мы договорились, что при ранении один не оставляет другого, а если кого убьют, то второй сообщит семье. Так мы и шли. Где-то под Дзержинском Минской области увидели на горизонте большой лес. Мы были уже совсем рядом, но он оказался занятым немецкой моторизированной частью. Я отдал команду: „ложись“, и приказал отползать. Однако немцы нас всё-таки заметили и открыли огонь. Стреляли в упор, спасала лишь темнота. Отступив, мы собрались в овраге, пересчитались — 60 человек. Я послал двух лейтенантов назад, поискать — нет ли раненых. Они осмотрелись, нашли шестерых убитых, но вашего Дмитрия там не было».
Это письмо они заучили наизусть, так как читали его каждый вечер, а потом обсуждали и фантазировали. Но в середине лета 45-го маму вызвали в военкомат и сообщили, что отец считается погибшим и нам полагается пенсия.
Люська после этого про Бога никогда не слушала. И про ангелов.
Это потом, уже в 49-ом, выяснилось, что папа погиб не на фронте, а раненым попал в плен, где скончался в польском концлагере.
Когда сёстры с такой разницей, то ссоры и даже драки неизбежны. По любому поводу. Но они и мирились тут же, вообще, больше дня друг без дружки не выдерживали. Даже когда Лизавете исполнилось семнадцать, а потом и двадцать, «хвостик» всегда был рядом. Даже в театр за восемь километров они ходили вместе. Одевались, кутались, и шли, шли на ту сторону за мост. Возвращались за полночь. Ели холодную картошку и делились впечатлениями.
Когда Люська выросла, тогда уже было много легче: Лизавета хорошо получала на стройке штукатуром, и они смогли её выучить на инженера-химика. Ох, было дело, когда та вдруг зафорсила, закуражила, когда диплом выдали! Скоро, правда, опомнилась. Поработав по распределению в Уфе, Люська вышла там замуж, родила сыночка Костика, и уехала за своим Федей в Грозный, на нефтеперерабатывающий, где его назначили начальником цеха. Зарабатывали они там дай Бог, машину быстро купили, потом другую, дачу большущую выстроили. Зачем, спрашивается, если каждый отпуск на море отдыхали? Но и к ним приезжали, два раза, да с такими подарками, что не отдаришься.
А как Костиком своим хвалились: и школу-то он с медалью кончил, и в институте только на отлично учится…
Только последняя весточка от них в девяностом пришла. С восьмым мартом. И после как сгинули. Лизавета и писала, и переговоры заказывала, но с этой проклятой перестройкой почта совсем разухабилась. Всё как в подушку. А там и СССР распался… Где ж они теперь? Ни письма, ни открыточки. Наверно, беженцы, — вон, про Чечню люди такие страсти рассказывают, что и слушать-то не хочется. И по телевизору одни ужасы. Война на Кавказе, потом вторая. Террористы, заложники… Ох, Люська, Люська… Да как же это так, что люди в наше время целыми семьями пропадают? Как же так? Нет, нет, уж лучше думать, что они где-то беженцами. Мало ли где, не маленькие, пристроились… Мир не без добрых людей.
Не без добрых… Вот-вот, сахар тот, в белом мешочке, вспомнился…
Девчонки, молоденькие, красивые — а она с них…
— Господи, Господи, прости меня, дуру окаянную!
Светало серо, пасмурно. В соседней комнате сын, скрипнув на прогибающейся сетке, тяжко сел, потом со стоном встал, прошлёпав босиком на кухню, звонко черпанул со дна ведра и похмельно громко сглотнул. Возвращаясь, словно что-то почувствовал и свернул к матери. Слепо пригнулся к изголовью:
— Ты чего? Ревёшь, что ли?
— Нет, так это. Сердце схватило.
— Ну вот, и молчит! Сказала б, я чего накапал. А то, может, «скорую» вызвать?
— Отходит уже. Легчает. Я просто полежу. А ты, сынок, лучше вот что: возьми-ка эти деньги и поди прямо сейчас в церковь, поставь там две свечки. Две, по десяти рублей. Поставишь к Иверской, что справа от входа — большая такая, увидишь. Только умоляю: поставь честно, не пропей.
— Мать!
— А то я не знаю, о чём ты уже подумал. Эти деньги не тронь. Я на опохмелку тебе другие дам. А эти страшный грех трогать. Страшный.
* * *
Люська аккуратно завесила плетёной дорожкой вход в землянку, прощупав подсыхающее на кустах бельё, подозрительно вгляделась в небольшое, но плотное облачко. Разгладила ладонями по груди концы платка, прихлопала карманы пиджачка, и перешагнула за проволоку, которой огородила свой участок от скотины. Ещё раз оглянулась на облако и, чуть горбясь, быстренько зашагала в сторону автовокзала.
* * *
На четвёртом посту, расположенном на верхнем этаже бывшего заводоуправления, к мощному стационарному биноклю, выставленному в направлении блокпоста, приникла молоденькая девушка с высоко закатанными рукавами камуфляжа.
— Так чего же у нас сегодня на обед? — Дежуривший, дёрнув плечом, закинул подальше за спину изрядно отяжелевший за три часа АКМС.
— Борщик, со свининкой.
— У, замечательно!
— Хорошо как видно-то… Вот они какие… чехи… А там… русская старушка идёт?
Постовой пригнулся, заглянув в ту же бойницу:
— А, эта! Да, она тут рядом в землянке второй год живёт.
— В землянке? А чистенькая какая, на бомжовку совсем не походит.
— Контуженная, наверно: не разговаривает ни с кем и всё время стирает. Стирает и стирает. Бжик какой-то. Тут русские, которые остались, все со бжиком.
* * *
Люська вернулась вовремя — дождик едва лишь спрыснул пыль на листьях, не успев промочить развешенные вещи. Наскоро собрав всё в охапку, она занырнула в свою берлогу, и, свалив бельё на нары, облегчённо присела рядом. Дождавшись, когда разволновавшееся сердце перестанет колотиться, осторожно вынула из стеклянной банки спички, чиркнула. Зажгла самодельную, слепленную из найденного в прошлом году большого куска парафина, свечку и снова затаилась. Дождь за занавесью набирал силу, и как бы не залило. Порожек она, конечно, выложила высокий, но — мало ли, бывало же. Даже приходилось бросать жильё и выкапывать новое. На такой случай на устеленном полынью от земляных блох полу всё хранилось в стеклянных или же жестяных баночках, в кастрюльках и капроновых тазиках. Мало ли!
За нарами, у торцевой стены землянки притулился фанерный ящик, служивший ей столом. Люська на нём ела и писала письма. Вернее, одно письмо. Которое, не смотря на все старания, получалось неровным, некрасивым и с помарками. Его приходилось сжигать и писать заново. Потом ещё и ещё. Все девять лет она писала про то, как на заводе в первый раз появились горцы и стали сгонять всех на выборы Дудаева, и про то, что потом русских стали массово увольнять, а зимой в собственном гараже убили мужа Федю и угнали машину, но тогда уже убивали многих — и её подругу по ОТБ Елену Ивановну, которая ветеран войны, убили и вынесли всё из квартиры, и соседа Петра Трофимовича, что с 1905 года рождения, ударили девять раз ножом и изнасиловали дочку на той же кухне, и потом тоже зарезали. Саму Люську два раза избивали, врываясь в квартиру, ломали рёбра и пробивали кастетом голову, сначала забрали всё ценное — хрусталь, ковры, цветной телевизор, а потом и вовсе приказали убираться на улицу. Тогда они с сыном спрятались в частном домике у Осиповых. Костю тоже много раз били и раздевали, хотя он работал на стройке дворца Закаева, за еду. В 95-м, когда начался штурм, в домик попала авиабомба, и после они жили в яме, где раньше хранились овощи. Русские солдаты быстро ушли, а им уехать было не на что. Да и чеченцы больше никого не отпускали.
Дальше письмо никогда начисто не получалось, приходилось сжигать и начинать заново. И с каждым разом писала Люська реже — становилось всё труднее найти хорошую, неиспользованную бумагу. А ведь нужно было рассказать сестре ещё и о том, как Костеньку под Новый 1997-й год схватили прямо около автовокзала, запихнули в «жигули» и увезли в горы, а когда через год он вернулся из рабства весь растерзанный, тощий, беззубый, то каждую ночь рвался куда-то убежать. Люська, как могла, сторожила сына, но однажды тот всё-таки ускользнул. Она искала, бегала по ближним и дальним улицам под красно подсвеченным пожарами низким небом, звала, звала, а потом вдруг подумала, что он может прятаться в их бывшем гараже.
В это время пошёл снег. Огромные кружащиеся хлопья залепляли черноту руин, влажно клонили ветви самшита и заслоняли, отдаляли багровые всполохи нефтяных факелов над промзоной.
Когда она потянула подпёртую какой-то палкой железную гаражную дверь, оттуда страшно пыхнуло и навстречу ей с громом рвануло облако дыма.
Первое, что Люська увидела, придя в себя, — как сквозь испачканное глиной зелёное пальто частыми пятнышками выступает красная кровь. Но это было совсем не больно, ибо над головой в близком и широком небе стоял удивительный по нежной красоте хрустальный звон, как в Рождественскую ночь, когда, если затаить дыхание, то слышишь, как звенят при падении разноцветно сверкающие снежинки. В чудном, частом перезвоне ей стало так легко и светло, так хорошо, что казалось — чуть-чуть, и душа вырвется, взовьётся навстречу этой кристальной нежности! Мир искрился и кружил тихими звуками — «динь-динь-динь… динь-динь-динь…», перезвоны, свиваясь и сливаясь, превращались в частые детские голосочки: «динь-динь-динь…» — «Святый Боже, Святый Крепкий… динь-динь-динь… Святый Бессмертный…» — «Динь-динь-динь… динь-динь-динь…». Да это же ангелы! Это ангелы поют! И опять, только уже подальше: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный…» — и совсем-совсем издалёка — «динь-динь-динь…».
Люська тянулась, из последних сил тянулась к нежно тающим звукам, но что-то мешало, никак не пуская к ним… А! Это же пальто! Это оно своей глиной и кровью не отпускало её в эту кристально чистую красоту. Но сил снять, избавиться от грязной одежды не было. И голоса отходили, отходили. Пока не наступила полная тишина. Тишина навсегда.
Да как же так? Как же это так?
И сколько потом она не меняла одежду, сколько не стирала, не отшёркивала её, и снова, снова меняла и стирала, стирала, стирала — но кровь и грязь всё равно проступали множеством мелких пятен. И сколько она ни слушала небо, там была только тишина. Да как же это так?
Как же так?
БУСЛАЙ И ЗОТИК
— Я не пью.
— Чего так?
— В завязке.
— …?
— Отвали, я же сказал. — Буслай резко, на пятках, развернулся, и крупно пошагал в сторону березняка.
Четверо уже присевших на краях расстеленного посреди обдуваемого поля брезента мужиков молча переглянулись и одновременно начали поправлять выложенную по центру снедь. А стоявший с эффектно вознесённой бутылкой китайского спирта Серёга-электрик недоумённо повторял в никуда:
— Чего он так? Чего?
Сентябрьский ветерок налётисто приглаживал хорошо отросшую отаву, снося неугомонных слепней и мошку. Нежаркое солнышко, окончательно просушив землю от утреннего дождика, щекотливо нежило расположившихся отобедать на природе бригадников, в своей несуетной, сдержано-материнской ласке вызывая из забытья какое-то неуловимо детское, вязко-разморенное состояние беззаботности. И только Серёга продолжал дёргаться:
— Эй, ты! Ты, псих! Псих! — Но вот и он, тряхнув впослед уже входившему в сплошь золотой берёзовый колок Буслаю мутно запузырившейся бутылкой, плюхнулся к остальным. — Психом был и психом помрёт.
— Оставь. — Бригадир дорожных ремонтников, бородавочно-грузный, пугающий всех новичков тяжким пыхтением Диманыч сосредоточенно отлавливал в своём пакетике и выдавал каждому по ровно откалиброванному малосольному огурчику. — У него резонный повод. Уважительный.
Вообще Буслай, — по паспорту Олег Олегович Буслаев, — всегда был сам по себе, всё молчком и на отшибе. В болельщицкие споры не вступал, в праздничных куражах не участвовал, на складчину шёл неохотно, и поэтому, хотя в работе не сачковал и тянул лямку в полную меру своих внушительных сил, однако нежной любовью у товарищей не пользовался.
Что о нём знали? Детдомовец, болтавшийся по молодости в портах и на каботаже Приморья, тянувший через Томские болота ЛЭП, гонявший скот из Монголии и строивший мост в Екатеринбурге, этот вечный бесприютник к тридцати пяти годам, даже для самого себя неожиданно, взял да и родил от такой же неприкаянной подруги сынишку — Егорушку. Однако общаговский быт беспросветных девяностых как-то уж слишком быстро разбил их утлую семейную лодку. И месяцев через шесть, забрав сына, Танька сбежала к родителям в райцентр Ивановской области, оставив сожителю письменные претензии и приличных размеров долги.
Тогда-то Буслай и испытал первый приступ религиозности.
Субботним апрельским вечером, пьяный смесью водки и тоски до почти полной утраты человеческой речи, он ввалился во двор прикладбищенской церкви Успения Пресвятой Богородицы, и, распугав благостно воркующих после службы старушек, тяжко грохнулся на колени прямо перед высоким крыльцом. Страшно мыча и рыча, Буслай кулачищами размазывал по щекам слёзы и слюни, и, тычась лбом в асфальт, неумелой щепотью крестил себя то слева направо, то справа налево. Молоденький сторож и дворник Толик, робко вжался в косяк, настраиваясь как-нибудь, но не впустить невменяемого громилу в незапертый ещё храм.
Однако Буслай даже не пытался войти. Минут за пять-десять откричавшись, всё ещё крупно сотрясаемый всхлипами, он, обмякая, прочно устроился на асфальте и, раскачиваясь, теперь лишь жалостливо поскуливал. Старушки от греха подальше давно разбежались, а на укрепление Толикова духа из ризной подоспел ещё более тщедушный, семидесятипятилетний иеродиакон отец Зотик. Вдвоём они затворили тяжеленные двери, замкнули их на висячий замок. И монах, отправив послушника ужинать, остался на ступеньках покараулить нежданного гостя.
С полчаса они молчали, погружённый каждый в своё. Зотик, перебирая узелочки самодельных чёток, отстранённо смотрел, как влажно-розовое небо заполняется синей облачной рябью, как подлетевшие недавно с юга серошеии, голубоглазые галки, нежно перекликаясь, собираются на ночёвку в дальнем краю кладбища. Как настоятельский кот брезгливо моет белые носочки передних лап под дверями трапезной. Буслай окончательно притих, как вдруг, словно очнувшись, вскинулся, удивлённо заозиравшись по сторонам. Попытался даже подняться, но ноги не послушались, и он, смешно растопырясь, завалился на спину. Коротко простонав, замер.
— Ты, сынок, не располагайся надолго. — Старческий тенорок звучал с необидным юморком. — Землица ещё холодная, будешь потом с почками али с простатитом маяться. Вставай полегоньку, не пляжный сезон.
— Душа умерла. — Только что мычавший и скуливший Буслай произнёс эти слова совершенно отчётливо, словно даже не своим, чуждо хрипловатым голосом.
— Вряд ли. Но, всё одно, поднимайся. Давай вот сюда, на мой коврик. И выкладывай скорби да печали.
Со второй попытки одолев крутые крыльцовые ступени, Буслай тяжко подсел, едва не придавив крохотного худенького старичка, и, опять раскачиваясь, захрипел по-чужому:
— Жить незачем.
— Что так? Неужто ни денег, ни почёта не хочется? Ну, хоть поблудить-то тянет?
— Ничего не хочу. Устал.
— Надо же, какой заране утомлённый.
Чернильно-синие облачка окончательно залепили небосклон, резко засмеркалось. Глыбы громоздящихся вдали девятиэтажек просветились рябью оконного разноцветья. Отужинавший Толик уже дважды выглядывал во двор, но, верно оценивая обстановку, тут же скрывался.
— И когда душа обмерла?
— Не знаю. Может, сейчас. Может — двадцать лет таила, да теперь прорвало.
— Ты крещёный? Каким именем?
— Олег. На Тысячелетие в Новосибирске крестился.
— Сам? Молодец.
— А-а-а! Тогда все в церковь повалили — как сдурели разом. Очередь, духотища. Дети вопят, бабы в обмороки падают.
— Не «сдурели», а очнулись. Не сами же шли, а Господь призывал. Вспомни, какие у всех лица осветлённые были благодатью.
— Не помню ничего, мы тогда крепко это дело обмыли.
Чётки в руке Зотика дрогнули, но он сдержался:
— А после того в храм заходил?
— Раза два. На Пасху как-то, и за водой.
Нехороший ветерок жёстко заколол мельчайшими каплями-брызгами, застучал-зацарапал голыми ветвями ивы по кладбищенской огороди. Зотик зябко подтянул плечи, и нежданно легко приподнялся:
— Ну, Олежек, протрезвел? На ногах устоишь?
Буслай встал, с неким недоверием к себе бочком спустился с крыльца, и вдруг притопнул:
— Пожалуй, что и спляшу. Цыганочку с выходом.
— Не дерзи! — Ответно притопнул Зотик. — Пьянь разэтакая. Ну что ж ты над собой вытворяешь, дурья твоя башка? Что ж ты так сам себя мытаришь-мучаешь? Это ж надо — такую боль терпеть и ещё фуфыриться! Проспись-ка и приходи назавтра. Приходи, сынок! Надо тебе, вижу, очень надо.
От неожиданности выговора Буслай вытянулся во весь рост и жалобно прошептал:
— А ты научишь меня, как опять жить захотеть?
— Ох, горе ты, горькое! Тут не учительствовать надобно, а молиться за тебя. Крепко молиться. Ходатайствовать о тебе перед Господом и Пречистой Матерью Его.
О чём уж они в воскресенье после литургии три часа пробеседовали, кружа по кладбищенским дорожкам, — но вскоре заходил Буслай за Зотиком ровно прирученный медведь. Или точнее — пёс, утерявший и вновь обретший хозяина. Что такого сотворил старичок-монах со здоровенным вольнолюбивым мужичиной, но в любую свободную минуту бежал тот теперь в церковь: ставить ли леса на перекрытии колоколенной крыши, помогать ли маломощному Толику с вывозом весеннего мусора с могилок. Выбивать ли для старушек ковры-дорожки. Просто подхватничать. И, спрашивая, слушать, слушать такие, оказывается, простые и ясные истины.
А потом, затяготившись несовпадением своих новых интересов и общежицкого окружения, и вовсе перебрался к Зотику на постой, в его крохотный деревянный домик в две комнатки, с заросшим сиренью палисадником.
Лето отцвело-отплодило. Ветреная осень наскоро раскрасила парки и скверы, и уступила город первоснегу. Отпустивший рыжевато-пшеничную, с завидно пышными усами, бородку, Буслай одолел Евангелие, вычитал кое-что из пророков, научился различать священноначалие. Постепенно отлаживалась и молитва. Обнаружив приятный тенорок, он тихонько подпевал в непраздничные дни в хоре. Настоятель даже благословил в очередь с отцом Зотиком и Толей читать Шестопсалмие. В общем, столь явное чудо душевного Буслаевского воскресения сердечно умиляло всех, кто знал-слышал про прежнее его беспутное житие. Вся их приходская старушачья гвардия любовалась духовным чадом отца Зотика, гордилась, ластила-льстила, смущая мелочными подарками и услужливой заботливостью.
А зима вошла в красу! Присыпая блёсткой порошею городские убогости, метелями свежила улицы, синичьим звоном полнила дворы, сияла юной розовощёкостью по каткам и горкам, дразня предвкусием грядущего праздника всеобщих счастливых надежд.
И вот, под самое заговенье на Рождественский пост, налегло-навалилось на Буслая неодолимое желание увидеть сбежавшую от его дёрганности и пьяных закидонов подругу-сожительницу, всё же решившуюся тогда родить ему, разгильдяю, сына. Просто неутерпимо захотелось поделиться с Татьяной радостью обновлённой своей жизни, а, может, и уговорить ещё разок попытать возможность семейного счастья. Понятно, что никаких таких уж особенных чувств меж ними и изначально не лежало, но — сын! Егор! Имеет же право мальчик воспитываться отцом. Тем более, таким, нынешним, обретшим трезвое христианское мировидение.
Зотик как-то странно не восхитился Буслаевским настроением. Не отговаривая, просто замкнулся, съёжился-ужался, насуплено не участвуя в суетливости покупок билетов, подарков и новой представительской одёжи. А Олег пел и порхал, фонтанируя планами и предположениями, красно вычёркивая дни до отпуска в настенном календаре.
— Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабу Твоему Олегу ныне, якоже Товии иногда, посли сохраняюща… — Буслай даже не оглянулся на крупно крестящего его в спину Зотика. Держа над головой чемоданчик, он по раскатанному детворой спуску сбежал-скатился к автобусной остановке, уже оттуда отмахнувшись на прощанье шапкой.
Встречная метель забивала глаза и рот крупными лепёшками снега, выстужала грудь и щиколотки, норовила вывернуть чемодан. Из-за перемётов автобус не дотянул до райцентра три километра, остановился ждать тягача. Но Буслай-то ждать не мог! Наваливаясь на противящуюся его страсти злую белесую взвесь, он почти вслепую шаг за шагом пробивался к тем, кто должен был удивиться, озадачиться, а потом, наверняка, и обрадоваться новому — нет! — обновлённому человеку. Нечужому им человеку.
На стук дверь отворять не спешили. После умучивающе долгой возни, наконец, в сенях загорелся свет, и в узко приоткрытом проёме встал невысокий, крепкий, совсем ещё нестарый Пётр Андреевич — Татьянин отец. Выслушав Буслаевкие самопредставления, отстранился, пропуская в дом:
— Входи.
Жарко натопленная кухня сыто благоухала подходящим тестом, свеже нажаренной картошкой с грибами и чесночной заготовкой к холодцу. Где-то за плотной занавеской притаилась слишком уж скоро удалившаяся «с мигренью» Анна Николаевна, а далее… сколько Буслай не прислушивался, но из комнаты, где, как сказали, спал сынишка, никаких звуков не доносилось.
Над узким, нечасто заставленном по клеёнчатой скатерти разнородными мисками и тарелками столом они сидели, почти уперевшись лбами. Петр Андреевич только слушал, лишь кивая или вскидывая к губам палец, да иногда выдавливая невнятные междометия.
А когда Буслай иссяк, он ещё и затянул невыносимую паузу.
— Всё это весьма интересно. И поучительно, и душе приятно. — В грудном шёпотке вынеслось нечто неискреннее, актёрствующее. Буслай ощутил под желудком тоскливый холодок. — Оно даже несколько извиняет твоё запоздалое, так сказать, явление народу. Однако теперь выслушай и моё мнение. Не перебивай.
Петр Андреевич опять приподнял палец:
— Ты вот осчастливить нас решил. Так сказать, покаялся, получил грехам отпущение, и айда на отцовство и супружество. В самый раз под ёлочку подгадал. Однако, и я ведь к сему свиданьицу тоже весь этот год шёл. Всякого понадумал-понафантазировал. То Богу молился, то к четям посылал. Даже об убийстве мыслишки прокрадывались. Зато могу теперь заявить осознанно и несомнительно: не нужен ты нам. Убирайся. Утопывай. Чтобы духу твоего тут не было. Таково моё окончательное решение.
И вдруг свистящий вскрик:
— Будьте вы с Танькой прокляты!!
Буслай смотрел на дрожащие в кривоте губы, на зажмуренные удержанием слёз глаза. И холод из живота возгонялся в сердце, ожимал горло, горбатил межплечье.
Да, надо было понять и принять решение человека, русского крестьянина, отца, чья дочь-дочурка, радость и надежда, поехав за судьбой в дальние города, так и не закончила строительного колледжа, но нашлялась-нагуляла ребёнка, и затем, скинув его дедам, уже совсем отвязано зажила с каким-то носатым-усатым Аликом. Полупьяная, раскрашено-чумазая, торговала теперь в кавказской конуре всякой дрянью.
— Где?!
— Не греши. Ты же ноне святой, только щёки подставлять должен.
Петр Андреевич официально усыновил Егорушку, дав свои отчество и фамилию. Пусть парнишка растёт, думая, что он просто запоздалый ребёнок. Чтобы никто, нигде и никогда не посмел ткнуть его шлюхой-матерью и бомжарой-отцом.
— Досидишь до шести утра, соберёшь свои прянички, и — скатертью дорога. На все, так сказать, четыре стороны.
— Взглянуть хоть на малого позволь?
— Нет. Ради него и не допущу.
Надо было понять. Принять.
Два диких затяжных запоя довели до психушки. Прочищенный галоперидолом и утихомиренный «серкой» до овощного состояния, опять же сырым апрельским вечером стоял Буслай на коленочках перед Зотиком. «Ох, горе ты, горькое! Дурья твоя башка!» — и снова монтировал он леса для реставраторов, помогал Толику, выбивал ковры-дорожки. Подхватничал. Но уже без всякого задора-радости. И без старушечьего любования.
Продержаться удавалось не более месяца. Накатывала депрессия, когда даже свет луны резал болью, а лёгкий шорох разворачивался дикими страхами — и Буслай запивал. Пил он всё, со всеми, где только что мог добыть. Пропадая неделями, вдруг приползал — грязный, избитый, раздетый и разутый. Размазывая сопли и слюни, скулил о себе и грязно, до богохульства, ругал остальной мир. В эти периоды Зотик прятал Буслая, даже что-то лгал настоятелю, чтобы мужика не погнали с прихода — какая-никакая, а всё ж работа, не отлучили от таинств — ведь тогда гибель точно неотвратимая. Терпеливо мыл загаженные полы, подстирывал, штопал, выносил опустошённые бутылки и отпаивал настоями трав. И ничем не попрекал. Так, ворчал-бурчал необидно.
Что понудило этого малосильного, хворобного старичка взвалить на себя и понести такой тяготный и неприглядный крест? Почему именно Буслая выбрал он из виденных-перевиденных алкашей и бродяг, то и дело молящих и требующих на церковных папертях помощи? Искренне и не очень рыдающих о себе и клянущихся преобразиться, лишь бы их пожалели. Сейчас, немедля. А после полученной краткой передышки неизбежно вновь срывающихся в прижизненный ад, в новом падении злорадно высмеивая и хуля своих мягкодушных лабухов-жалельщиков.
Чем же Зотику показался именно этот? То осталось тайной сердца монаха.
Буслай, уловив свою безнаказанность, по протрезвлению винился теперь нетрудно, даже вызывающе: да, мол, падаю, грязнюсь, но потому как больной, одержимый. Жизнь подломила, судьбина подсекла, и демоны одолевают. А православные должны прощать, обязаны — так Бог заповедал! Отлежавшись, правда, впрягался в работу по-полной, подхлёстывая себя чефиром, крутился и тянул, не ведая ни отдыха, ни продыха. Как раз в храме капитально меняли трубы отопления и канализацию, и его взрывная физическая мощь была весьма к месту.
И ещё. При всех своих пьяных безобразиях, никогда Буслай не проявлял ни к кому насилия. Это его били милиционеры, грабили собутыльники, оскорбляли проститутки. Он же свой кураж демонстрировал только в работе.
Однако по зиме начал вдруг резко слабеть, спал с лица, пожелтел глазами. Ночами крутился, покряхтывал от бродячих болей то в суставах, то в подреберье. Зотик предлагал обратиться к врачам, тем более, были и свои, воцерковлённые, но — куда там! Даже когда и без выпивок тошнило уже постоянно, Буслай только кисло усмехался: «А давай, отец, на руках! Передавишь, веди хоть в анатомический театр, студентам на опыты». Открылись частые носовые кровотечения, на животе всплыла венозная «голова медузы». Но страшно догадывающемуся Зотику оставалось только ждать. Ждать, когда бычащемуся Буслаю станет невмоготу.
Невмоготу стало прямо на улице. Они возвращались из храма предсретенскими сумерками в том чудном душевном расслаблении, каковое наступает после вечери с миропомазанием. Синяя февральская тишина не смущалась мягким скрипом их шагов по свежо подсыпаемому снежку, а других звуков в переулках частного сектора в это время и небывало. Буслай, с утра какой-то угнетённый, за службу отмяк, расправился складками вокруг глаз. И теперь, поддерживая под локоток мелко топотавшего Зотика, он то и дело вскидывался к невидимому небу, игриво сфыркивая с усов тающие звёздочки. Как вдруг, закосившись, пошёл-пошёл на подгибающихся ногах в сторону. И упал, ткнувшись лицом в призаборный сугроб.
— Олежек! Олежек! — Зотик за воротник вытянул его из закровавленного отпечатка. Обняв, пытался посадить. — Что же это, Господи? Господи Иисусе!
Диагноз, он же приговор: алкогольный цирроз печени на последней стадии.
Перерождающаяся ткань, уплотняясь, рубцами пережимала внутренние сосуды печени и загоняла кровяное давление уменьшающегося органа до неизбежности разрыва вен. Как правило, после первого обильного кровотечения восемьдесят процентов больных не проживало и года.
Выведенный из комы, Буслай ещё три месяца лежал, бессмысленно прокачиваемый капельницами и уколами, травимый таблетками и порошками, истязаемый диетой в желтушном отделении, пока не выписали его домой… помирать. И не было за эти месяцы дня, в кой не забегал бы, не просиживал у его кровати дозволенные к посещению часы, сам до прозрачности усохший, старичок-монашек. В больнице к Зотику привыкли, кроме Буслая, он всегда как-то успевал переговорить-перевидаться с десятком лежачих и лечащих, нуждающихся в просфорках и святой воде, в молитвословах и иконках, в подаче в алтарь заказных записок на молебны и сорокоусты. К Зотику привыкли, его ждали, дорожили каждой минуткой общения. А через его заботы проникались состраданием и к его «сынку Олежеку — пьяни разэтакой».
Начальное лето вливалось в открытое окно, переизбытком растущей и цветущей жизни выжимая из комнатки запахи камфары и фуроцилина, загоняя боль в подкроватную темноту дожидаться своего ночного всевластия. Укачиваемый рябой тенью осыпавшейся фиолетом сирени, Буслай прислушивался к доносящимся с улицы ребячьим голосам. Там, прямо у палисадника, шла азартная возня, сопровождаемая звонкими препираниями. Четверо или пятеро дрессировщиков наперебой обучали соседского Шпунтика всем необходимым служебной собаке командам. «Сидеть»! «Лежать»! «Ко мне»! «Апорт»! Но вот, судя по рёву самого младшего инструктора, съевшей все вкусные стимулы дворняжке удалось сбежать.
В доме Зотика отродясь не водилось ни телевизора, ни радио, и десятилетиями настоянная тишина легко меняла окраску. От пугающей предчувствиями и удушливо злой, до нудно тупящей или же распирающе-праздничной — тишина была эхом всего, что звучало внутри Буслая. Сейчас в ней вился и метался то ликующий, то отчаивающийся мальчоноческий голосочек. Голосочек, каким мог бы спорить, командовать и упрашивать хитроумную собачку его сын. Его Егорка.
Толстый молитвослов с акафистами… Лествица… Златоуст… Июньские Жития…
Развал раскрытых книг возле изголовья опротестовывал, осуждал пенящуюся в сердце гневность, но не мог остудить уже закипевшей жажды бунта. Бунта против, когда-то, по недоумству, столько раз задираемой, дразнимой, а теперь вот совершенно реально представшей смерти. Его смерти.
Смерть не пугала, а именно злила. Бесила, — тем, что сама назначала срок. Безо всякого учёта Буслаевой воли.
Зотик нашёл его на вокзале, в крапивных порослях за дальним почтово-багажным ангаром. Влипнув спиной в жёлто-крашенную кирпичную стену, Буслай, судорожно давясь, загонял в себя остатки водки из плоской гранёной бутылки. Удерживая ладонью рвоту, скосил слёзно блестящие глаза на набегающего старичка:
— Это вторая. Так что доза для моего нынешнего веса уже почти летальная. Ха-ха, щас как полечу!
— Господи! Иисусе Христе! Ну что ж ты, дурья башка, делаешь? — Зотик вырвал бутылку, бросил под ноги, зачем-то начал топтать. — Расточись! Расточись!
— Сказано тебе: я уже летальный. — Хохотнув, Буслай взмахнул руками и закаркал. Но тут же, сгибаясь от боли, нутряно закашлялся.
— Что ж ты чудишь, горе-горькое, что ты себя мытаришь? Пойдём-ка, сынок, домой.
Буслая качнуло-откинуло:
— Нет у меня никакого дома. Никогда не было. И меня тоже не было.
— Господи, помилуй. Да какие же ты, Олежек, глупости мелешь?
— Следа за мной нет! Ни дома, ни дерева. Ни сына. Сдохну, и — пустота.
Он жестом фокусника вынул из-за спины бутылку:
— Всё, отец, последняя. И привет, курносенькая! Встречай!
Винтовая пробка никак не поддавалась распухшим пальцам, и Буслай зачертыхался от получавшейся неэффектности самоубийства. Зотик с каким-то смешным подскоком набросился на него, ухватился за рукава и изо всех сил дёрнул. Бутылка звякнула отбитым донышком, и меж ног борющихся мгновенно расплылась вонючая лужа.
Замерев, они, яростно дыша, несколько секунд всматривались друг в друга. Затем Буслаево левое плечо медленно приспустилось.
Под хлёстким ударом Зотик слёг как скошенный.
Зло дошагав почти до угла ангара, Буслай вдруг притормозил, повернулся к стене. Упершись ладонями, быстро согнулся. Вырвало с кровью.
Отеревшись и отдышавшись, поворотился. Нетвёрдо, но с ускорением двинулся назад. И, руки за спину, навис над присевшим уже Зотиком. Отчётливо, совершенно тем же, как два года назад — не своим — хрипловатым голосом спросил:
— Что, отец, довёл? Вот теперь всему и конец.
Зотик, придерживая вспухшую правую щёку, чуть слышно залепетал:
— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его… И да бежат от лица Его ненавидящие Его… Яко тает воск от лица огня…
Буслая от поясницы к затылку протянуло судорогой. Горбясь и кривясь нутряной болью, зажимая уши большими пальцами, он начал медленно опускаться. А Зотик продолжал молиться всё громче и громче:
— Радуйся Пречестной и Животворящий Кресте Господень! Прогоняй бесы силою распятого на тебе…
Буслая окончательно придавило к земле, и, под явственным насилием сгибаясь-разгибаясь, он тыкался и тыкался лбом в водочную лужу. Но голос исходил прежний, чёткий:
— Ты почему смерти не позволяешь? Тогда спасал, теперь?
— И ныне! И присно! И во веки веков! Аминь! — Закончил Зотик молитву почти в крик, широко крестя себя и Буслая.
С колен они опять всматривались друг в друга. И вдруг Зотик осторожно положил свои лёгкие ладошки на Буслаевы плечи и почти улыбнулся, вздёрнув лопнувшую губу:
— Олежек, ведь то не я — то Господь наш, Иисус Христос тебя живит. Не перебить человеку милости Его.
И, притянув к груди сотрясаемую прорвавшимися рыданиями голову, вздохнул:
— Ох, горе ты, горькое! Только не пей больше, не унижай в себе Бога. И будет тебе жизнь. Долгая!
Что потом?
Буслай уехал в Иваново, устроился укатчиком в «Дорстрой» латать магистрали федерального и областного значения, что б иной раз да появляться в райцентре, где вдруг, пусть издалека, — случайно! — да видеть маленького мальчика Егора. Понятно, что не пил Буслай, не курил. И дивя, а более раздражая, недоуменных сотоварищей, соблюдал посты и не пропускал воскресных богослужений.
Может, от правильного образа жизни, может, от чего иного, но третий год на здоровье он почти и не жаловался. Даже животик нагулял.
А Зотик?
Иеродиакон Зотик отошёл ко Господу в ту же осень.
Медицинская экспертиза заключила, что приведшая старика к смерти пневмония осложнялась обширным рубцеванием печени. Причина же стремительного развившегося цирроза, скорее всего, обусловлена была застойной сердечной недостаточностью. А, возможно, наследственным нарушением обмена веществ. Ведь почти у тридцати пяти процентов пациентов этиологию заболевания современной науке выяснять пока не удаётся.
Конечно, это для тех, кто не всё ведает.



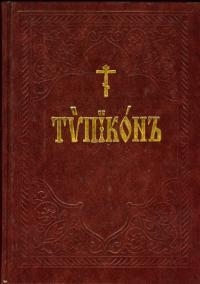

Комментарии к книге «Манефа», Василий Владимирович Дворцов
Всего 0 комментариев