Ты просил, о любезный и верный мне брат дорогой[1] (Аллах да одарит тебя вечным бытием, наделив нескончаемым счастьем), раскрыть пред тобою то, что сумел бы я раскрыть из тайн мудрости восточной, о которой говорил Шейх Глава Абу Али Ибн-Сина[2]. А коли так, то пойми: кто жаждет знать истину в ясно выраженном виде, тот должен искать ее и проявлять усердие в овладении ею.
Во мне же просьба твоя возбудила возвышенное умонастроение, заставившее меня (хвала Аллаху) испытать такое Состояние[3], какого я дотоле никогда не испытывал, и привела в расположение духа столь необычное, что оно не поддается ни описанию словами, ни объяснению с помощью рассуждения, ибо положение это относится к другому разряду и к иному миру, нежели те, к коим принадлежат слова и рассуждения. Однако Состояние это вселяет в того, кто оказался в нем, достигши одного из рубежей, такую радость, такой восторг, такое наслаждение и блаженство, что он уже не в силах молчать о нем или хранить про себя его тайну: возбуждение, пыл и ликование, что овладевает им, понуждают его поведать о том Состоянии хотя бы в общей, приблизительной форме. Если это человек, не искушенный в науках, то и говорит о нем невразумительно: один передает его словами "Хвала мне! Как я велик!"[4], другой – "Я есмь Истинное Бытие!"[5], третий – "Под сей одеждой не кто иной, как бог!"[6] Что же касается шейха Абу-Хамида ал-Газали[7] (да смилостивится над ним Аллах), то, достигши этого состояния, он выражает его словами бейта:
Было, что было, а что – не могу передать;
Не исповедуй меня – думай: была благодать[8]
– хотя он и был человеком образованным, искушенным в науках. А вот посмотри, что пишет Абу Бакр Ибн-ас-Саиг[9] вслед за рассуждением своим о характере Соединения[10]: когда-де усвоена мысль, которую он хотел изложить в этом сочинении, "тогда становится очевидно: никакое знание, почерпнутое из обычных практических наук, не может быть одного с нею порядка, а кто, уяснив эту мысль, способен выразить ее в форме представлений, тот оказывается на такой ступени, с которой кажется себе отрешенным от всего, что тому предшествовало, и обладающим иными убеждениями – лишенными связи с праматерией, слишком возвышенными, чтобы их можно было бы отнести к жизни природной, и, более того, представляющими собой Состояния, свойственные счастливцам и, стало быть, освобождающие от сложности, присущей природной жизни. И именно их приличествует именовать теми божественными Состояниями, коими Аллах (великий и всемогущий) одаряет кого пожелает из рабов своих"[11]. Ступень же, которую имеет в виду Абу Бакр, достигается посредством умозрительного знания и размышления, и нет сомнения, что сам он достиг и не миновал ее. А та ступень, о которой мы вели речь вначале, – иная, хотя и тождественна с нею в том смысле, что на ней не открывается ничего такого, что отличалось бы от того, что открывается на этой ступени. Разница заключается лишь в том, что на той ступени предмет созерцания обнаруживается более отчетливо и созерцается чем-то таким, что мы метафорически можем именовать силой[12], поскольку ни в обыденной речи, ни среди специальных терминов не найти подходящих имен для обозначения того, посредством чего осуществляется подобного рода созерцание.
Упоминавшееся нами Состояние, вкусить[13] от которого нас побудила твоя просьба, принадлежит к числу тех, о которых Абу Али говорит: "Далее, когда воля и упражнения доводят его до известного предела, у него наступают упоительные и краткие, подобно вспышкам молнии, что гаснут, не успев сверкнуть, мгновения, когда он прозревает свет Истинного Бытия. Чем истовее он предается упражнениям, тем чаще наступают внезапные состояния забытья, а затем находят на него они и сами по себе, охватывая его без всяких упражнений: на что бы ни падал его взор, мысль отвращается у него от данного предмета, воспаряя к райским кущам Святости, чтобы вспомнить хоть что-нибудь о них. Так, впадая в состояние беспамятства, он и видит Истинное Бытие едва ли не в каждом предмете. Наконец, упражнения доводят его до того, что мимолетные чувства возбуждения у него превращаются в длительное ощущение покоя, то, что было ранее внезапным, делается теперь привычным, а то, что прежде было кратковременной вспышкой, ныне становится ярким сиянием. И у него появляется знание, устойчивое, как постоянная дружба".
Так описывает он последовательные ступени восхождения, которые завершаются у человека Достижением, когда "его сокровенное бытие становится как бы гладким зеркалом, обращенным к части Истинного Бытия. И тогда изливаются на него в изобилии высшие наслаждения, и он радуется в душе всему, в чем обнаруживает проявление Истинного Бытия. Взор его на этой ступени бывает обращен, с одной стороны, на Истинное Бытие, а с другой – на его собственное Я, так что внимание его оказывается раздвоенным. Но вот он уже не осознает своего Я – взор его обращен только в сторону святости, а если он и замечает свое Я, то лишь постольку, поскольку оно погружено в ее созерцание. Вот тогда-то и осуществляется Соединение"[14].
Описывая эти состояния, шейх Абу Али хотел выразить ту мысль, что они принимают у человека форму Вкушания, а отнюдь не умозрительного знания, которое добывают с помощью силлогизмов, выдвигая посылки и выводя заключения.
Если о разнице между способами познания, принятыми у сторонников этого направления и у прочих людей, тебе угодно обрести наглядное представление на каком-нибудь примере, то вообрази себе состояние человека слепорожденного[15], но здравомыслящего, весьма сообразительного, с крепкой памятью и рассудительного. С поры своего рождения рос этот человек в некоем городе, знакомясь день изо дня с помощью оставшихся в его распоряжении способов познания с отдельными обитателями его, с многообразными видами живых существ и неодушевленных предметов, с городскими улицами, проулками, домами и рынками, так что стал он наконец ходить по городу без поводыря, с первого раза узнавая и приветствуя всякого, кто встречался ему на пути. Лишь цвета он распознавал по толкованиям их названий да по некоторым объясняющим их смысл определениям. И вот, когда он добивается этого, пелена с его глаз спадает, и он впервые обретает способность к зрительному восприятию. Теперь, гуляя по городу, он обходит его целиком и не находит ни единого предмета, который бы выглядел не так, как он представлял себе его прежде, в городе не оказывается ничего, что осталось бы для него неузнанным. И цвета, что попадаются ему на глаза, убеждают его в правдивости прежних их описаний. В новинку были ему, однако, две очень важные взаимосвязанные вещи, именно: возросшая ясность, отчетливость, с одной стороны, и великое наслаждение – с другой.
Состояние тех, кто познает умозрительным путем, не достигая никогда степени Близости[16], соответствует первоначальному состоянию слепца, а цвета, поддающиеся познанию через толкование их названий, соответствуют вещам, которые, по словам Абу Бакра, слишком возвышены, чтобы их можно было относить к жизни Природной, и коими Аллах одаряет кого пожелает из рабов своих. Состояние же тех приверженцев умозрительного знания, которые достигли степени Близости и коих всевышний Аллах награждает чем-то, что, как говорилось, лишь метафорически можно назвать силой, соответствует последующему его состоянию[17]. Но редко можно встретить человека, который, имея всегда проницательный взгляд и открытые глаза, не нуждался бы в умозрительном знании.
Говоря о знании поборников умозрения (Аллах да почтит тебя близостью к себе), я вовсе не имею в виду то, что они воспринимают из мира природного, как под знанием поборников Близости я не подразумеваю того, что воспринимается ими из мира, запредельного по отношению к миру природы[18]. Два эти предмета восприятия различны сами по себе, и смешивать их друг с другом нельзя. Под знанием поборников умозрения мы понимаем то, что они, подобно Абу Бакру, воспринимают из мира, запредельного по отношению к природному миру, поскольку условием этого их знания является то, чтобы оно было истинным и имеющим основание. Следовательно, между этим знанием и знанием поборников Близости, которые воспринимают те же самые предметы, но более ясно и с необыкновенным наслаждением, есть определенное соответствие. Осуждая суфиев за то, как они истолковывают это наслаждение, Абу Бакр относит последнее к силе воображения и обещает дать ясное и четкое описание обстоятельств, которыми определяется состояние тех, кто испытывает блаженство (тут, правда, уместно было бы ему возразить: "Не говори о том, чего не отведал, будто вкус его сладок, и не наступай на шею праведнику"), но он так и не выполнил обещания своего. Помешали же ему в том, видимо, недостаток времени, о котором он говорит, и суматоха, связанная с его отъездом в Оран; а может статься, Абу Бакр подумал: примись он за описание этого состояния, и ему пришлось бы высказать такое, что образ мыслей его подвергся бы осуждению, а это значило бы для него отказаться от собственных советов касательно приобретения и накопления богатств с помощью всякого рода ухищрений, направленных на их стяжание. С отступлением этим, к коему нас вынудила необходимость, мы несколько отвлеклись от предмета, к рассмотрению которого нас побудила твоя просьба.
Из сказанного явствует, что просьбой своей ты мог преследовать либо одну, либо другую из двух нижеследующих целей. Ты спрашиваешь меня, быть может, о том, что именно видят поборники Непосредственного Созерцания, Вкушания и Присутствия на ступени Близости. Но ведь в сущности своей это не поддается объяснению ни в каком сочинении, и, когда иные берутся сделать нечто подобное, сущность этого, претерпев превращение, переходит в разряд совсем другого, умозрительного знания. Ибо, когда это облекается в буквы и звуки и сближается с данным нам в непосредственном созерцании миром, оно ни по форме своей, ни по состоянию уже не является тем, что было, а выражения, коими это хотят передать, различаются между собою чрезвычайно. При этом одни уклоняются с правильного пути, тогда как другие хотя и не сбиваются вовсе, но считаются сбившимися. А все лишь потому, что это нечто беспредельное в бескрайнем просторе, всё объемлющем и ничем не объемлемым[19].
Другая же из целей, одну из которых, как говорилось, ты мог преследовать своей просьбой, связана с желанием получить такую характеристику этого, которая была бы составлена способом, принятым у поборников умозрительного знания. Вот это (Аллах да почтит тебя близостью к себе) есть уже нечто такое, что вполне поддается изложению в книгах и может как угодно быть выражено словами. Но при всем том скорее можно отыскать красную серу[20], чем обнаружить такого рода знание, особенно в наших краях[21], – настолько оно редкостно, что обретших лишь даже ничтожную толику его можно найти не более чем по одному в целом поколении. Да и те, кто обрел хоть что-нибудь из этого знания, говорили с людьми одними только намеками, ибо религия правоверная и истинный закон окружают занятия эти запретами. Пусть не возникнет у тебя представления, будто философии, донесенной до нас сочинениями Аристотеля, Абу Насра[22] и "Книгой исцеления"[23], достанет для достижения преследуемой тобою цели или что кто-либо из живущих в ал-Андалусе написал об этом предмете что-нибудь такое, чем можно было бы вполне удовлетвориться. Ведь те из высокоодаренных мужей, что выросли в ал-Андалусе во времена, когда наука логики и философия еще не получили там распространения, посвящали жизнь свою математическим наукам, в коих они и добились премногих успехов, но на что-нибудь большее оказались неспособны. На смену им пришло поколение ученых, которые превзошли их в известной степени познаниями в логике, в коей ими проводились кой-какие теоретические исследования, но наука эта не довела их до подлинного совершенства, так что кто-то из них даже сказал:
Терзаюсь мыслью, тягостной до боли,
Что знания людей двояки, но не боле:
В чем истина – постигнуть невозможно,
А проку нет, коль знаешь то, что ложно[24].
Потом на смену этим пришло еще одно поколение ученых, которые оказались более изощренными в умозрительном знании и ближе их продвинулись к истине. И среди них не было мужа с умом более проницательным, более здравомыслящего и с более верными взглядами на вещи, чем Ибн ас-Саиг, да вот только мирские дела захватили этого мужа, так, что смерть похитила его прежде, чем успели обнаружиться сокровища его познаний и смогли раскрыться тайны его мудрости[25]. Но и написанное им осталось в большей части своей незавершенным, не доведенным до конца, как, например, обстоит дело с его "Книгой о душе", "Жизнеустройством соединившегося" и тем, что было написано им по логике и физике; завершенные произведения же его представляют собой небольшие книги и наскоро составленные трактаты, в этом он и сам признается без обиняков, говоря, что лишь с трудом великим и изрядно помаявшись можно понять из сказанного мысль, которую он намеревался объяснить в "Трактате о Соединении", что порядок изложения у него отнюдь не всегда совершенный и что, будь у него время, он бы те места охотно подверг переработке. Вот в таком-то виде и дошли до нас познания сего мужа, с коим лично нам встречаться не приходилось. А что до современников его, которых характеризуют как людей, не овладевших так ученостью, как он, то ничего из написанного ими нам на глаза не попадалось.
Пришедшие же им на смену наши современники либо только еще растут[26], либо остановились в росте, так и не достигнув совершенства, либо принадлежат к тем, о которых нам ничего не известно. Что же касается дошедших до нас сочинений Абу Насра, то в большинстве своем они относятся к логике, а те из них, что посвящены философии, изобилуют сомнительными местами. Так, в книге "Добродетельная религия" он доказывает, что души злые после смерти обречены навечно на нескончаемые муки, в "Политике" же он заявляет, что таковые исчезают и обращаются в ничто, а бытие посмертное предуготовлено лишь душам добродетельным и совершенным[27], тогда как в комментарии к книге "Этика"[28], говоря о том, как обстоит дело с человеческим счастьем, характеризует оное как то, что приходит только в здешней, посюсторонней жизни, и продолжает это рассуждение словами, смысл которых сводится к тому, что все прочее, о чем говорят, касаясь данного предмета, – бредни и суеверия старух. Тем самым он отнимал у всех надежду на милосердие Всевышнего, ставил в один ряд и добродетельных, и злых, ибо уделом всего он считал обращение в небытие, а это невыразимо грубая ошибка, оплошность неописуемая, мы не говорим уже об откровенных заявлениях его касательно недоверия, которое он питает к пророчеству, основанному, по утверждению его, лишь на силе воображения, а также о предпочтении, которое он отдает перед пророчеством философии, и о прочих мыслях, кои приводить здесь нет необходимости.
Что касается сочинений Аристотеля, то изложить их содержание взял на себя шейх Абу Али, который в "Книге исцеления" следовал его учению и придерживался его философского метода. В самом начале этой книги он заявляет, что истина, с его точки зрения, заключается не в том, что составил он данное произведение, дабы изложить в нем взгляды перипатетиков[29], а кому угодно знать истину в открыто выраженном виде, тому надлежит познакомиться с сочинением его "Восточная мудрость". Если человек даст себе труд прочитать "Книгу исцеления", с одной стороны, и сочинения Аристотеля – с другой, то он обнаружит, что по содержанию своему они большей частью совпадают, хотя в "Книге исцеления" высказываются и мысли, кои дошли до нас не от самого Аристотеля[30]. Но если этот человек, принимая все, что изложено в книгах Аристотеля и в "Книге исцеления" в буквальном смысле, не будет проникать в их сокровенный, глубоко таящийся смысл, то ему не достичь совершенства, как это и замечает в "Книге исцеления" шейх Абу Али.
Что же до сочинений шейха Абу-Хамида ал-Газали, то, коль скоро он обращался к широкой публике, то в одном месте в них, бывает, запрещается то, что в другой раз считается дозволенным, в одном случае какие-то мысли расцениваются как проявление неверия, а в другом оказываются вполне оправданными. Кроме того, хотя в книге "Непоследовательность"[31] он и обвиняет философов в неверии, среди прочего, за отрицание телесного воскрешения и доказательство того, что награда и наказание могут относиться к одним лишь душам, тем не менее в начале книги "Весы"[32] он сам утверждает, что таковы же точно и убеждения суфийских шейхов, тогда как в книге "Избавляющий от заблуждения и разъясняющий Состояния" он признается, что убеждения его таковы же, как и у суфиев, и что пришел он к ним после продолжительных исканий. И многое в таком роде можно обнаружить в написанных им сочинениях, если просмотреть и вникнуть в их содержание. Подобные вещи он оправдывает в конце книги "Весы деяний", там, где описываются три разновидности взглядов: взгляды, разделяемые и широкой публикой на предмет веры; взгляды, которые подходят для беседы со всяким, кто задает вопросы и просит наставления; взгляды, что человек держит при себе, поверяя их только тем, кто разделяет с ним убеждения.
Далее он пишет: "Даже если бы это и не дало тебе ничего, но лишь побудило усомниться в унаследованных тобою убеждениях, то и этой пользы было бы вполне достаточно. Ведь кто не сомневается, тот не исследует; кто не исследует – не прозревает, а кто не прозревает, тот и далее пребывает в слепоте и замешательстве"[33]. Объясняя эту мысль, он приводит для наглядности следующий бейт:
Тому лишь верь, что видишь сам,
Чужим не доверяй словам:
Улавливать Сатурна свет
С восходом Солнца смысла нет.
Вот так и излагает он свои воззрения – чаще всего прибегая к символам и намекам, которые доступны лишь тем, кто готов проникнуть в их значение благодаря собственной проницательности и повторному использованию их каким-нибудь имамом[34] или кто предрасположен к их пониманию высоким врожденным даром и кому достаточно самого легкого намека.
В "Книге драгоценных камней" рассказывается о его сочинениях, предназначенных только тем, кто достоин их, и что именно в них-то и содержится открыто выраженная истина[35]. Но нам известно, что такие произведения в аль-Андалус не доходили. Поступали книги, которые лишь выдаются иными за сочинения, предназначенные тем, кто их достоин, хотя в действительности дело обстоит не так. К ним относятся "Рациональные знания", "Вдувание и выравнивание"[36], "Сборник вопросов" и некоторые другие книги. В них и вправду есть намеки, но в них нет ничего такого, что проясняло бы его взгляды глубже и полнее, чем то, что рассеяно в его произведениях, известных широкой публике. В книге "Высшая цель" встречаются мысли, даже более туманные, чем те, которые содержатся в упомянутых книгах, однако шейх Абу-Хамид сам заявляет, что данная книга не относится к числу сочинений для избранных, тех, кто достоин их, а отсюда следует, что и эти дошедшие до нас книги не принадлежат к указанному разряду сочинений.
Некоторые из позднейших авторов усмотрели в мыслях, изложенных в книге "Ниша"[37], нечто столь чудовищно греховное, что ее составитель, по их убеждению, должен был быть низвергнут в преисподнюю безо всякой надежды оттуда выбраться. Речь идет о словах его, идущих за рассуждением о тех, кто отгорожен от света, и последующим рассмотрением вопроса о людях, достигших Соединения: эти люди поняли-де, что у Великого Сущего есть атрибут, несовместимый с чистым единством. Отсюда, хотели они сказать, шейх Абу-Хамид должен был неминуемо прийти к убеждению, что в сущности Истинно Первосущего (хвала ему) имеется некоторое множество (но Аллах превыше того, что глаголют неправедные). Однако мы ничуть не сомневаемся: шейх АбуХамид – из тех, кто испытал предельное блаженство, достигнув высочайших и святых ступеней Соединения. И все-таки каких-либо сочинений его для достойных их и заключающих в себе науку об интуитивном знании до нас не доходило.
Нам же истина, которую мы наконец постигли, досталась после того, как мы приобщились к знаниям по его рассуждениям и рассуждениям шейха Абу Али, рассматривая первые с точки зрения вторых и вторые – с точки зрения первых, равно и сопоставляя все это с воззрениями, которые появились уже в наше время, сбив с толку кой-кого из любителей философии[38]. Так что истину мы познали сперва путем исследования и умозрения, а вот теперь уже и вкусив малость от нее через непосредственное созерцание.
Лишь после этого сочли мы себя готовыми написать нечто такое, что можно оставить для будущих поколений. И выбор наш, разумеется, пал на тебя, о обращающийся с просьбой, как на первого, кому поднесем мы в дар то, что у нас вышло и чем мы теперь располагаем, за бескорыстную преданность твою и неподдельную искренность. Но если бы мы изложили тебе конечные итоги всего этого прежде, чем установили с тобой исходные начала, то пользы бы от этого ты получил не больше, чем от общих положений, основанных на чьем-то авторитете, да и то лишь в меру доброго твоего о нас мнения, опирающегося на дружбу и доверие, а вовсе не потому, что мы заслужили признания своих взглядов.
Нам не хотелось бы видеть тебя в таком положении, нас не удовлетворило бы пребывание твое на подобном уровне. Мы не желаем тебе ничего, кроме восхождения на более высокую ступень, ибо уровня того слишком мало для спасения, а тем паче для достижения высших ступеней. И единственное, что мы хотим сделать, – это увлечь тебя по стезе, что была пройдена ранее нами, и пуститься вплавь по морю, коего просторы нам доводилось уже бороздить, дабы ты мог добраться туда, куда мы добирались, повидать там то, чего мы навидались, убедиться в том самом, в чем и мы убеждались, и освободиться от необходимости связывать знание свое от того, что было познано нами. А для этого требуется время, и немалое, нужен досуг, нужна полная самоотдача этому делу. И если ты действительно решился, если вправду намерен посвятить себя достижению этой цели, то восславить тебе поутру свое ночное странствие[39], принять тебе за труды свои небесное благодарствие, и доставишь ты господу своему удовлетворение, и сам он ниспошлет тебе ублаготворение. Мы же, готовые всегда помогать тебе в осуществлении того, на что устремлены чаяния твои, и в достижении того, чего ты добиваешься помыслами своими и словами, надеемся повести тебя по пути, избранному наирасчетливейшим и наинадежнейшим образом, огражденному от всяких бед и злоключений.
Вот теперь, коли уделишь ты мне времени самую малость, чтобы настроить и побудить тебя отправиться в путь, я начинаю излагать тебе повесть о Хайе, сыне Якзана, и Саламане и Абсале, коим имена такие дал шейх Абу Али. Повесть сия может служить назиданием для тех, кто наделен умом, и увещанием для тех, у кого есть сердце или кто внимает и видит (Ср.: Коран, 50:36-37).
Рассказывают наши благие предшественники (да будет ими доволен Аллах), будто среди островов Индийских, что под экватором, некий остров, на коем человек может появиться на свет, не имея ни матери, ни отца[40], ибо из всех участков земной поверхности на острове том самая умеренная температура воздуха и ввиду отвесного падения на него света он обладает самым полным предрасположением.
Объяснение это, впрочем, противоречит точке зрения большинства философов и великих врачей, по убеждению которых самым умеренным во всем обитаемом мире является четвертый климат[41]. Если убеждение это основано на точке зрения, которую они считают правильной и согласно коей экваториальной области мешает быть обитаемой нечто связанное с землей, то утверждение их, что четвертый климат – самый умеренный из всех участков земной поверхности, имеет определенное основание. Если же за убеждением этим кроется не что иное, как провозглашаемое ими положение, что экваториальная область – чрезвычайно жаркая, то это уже ошибочное убеждение, в чем можно удостовериться путем доказательства противоположного.
В самом деле, естественными науками давно уже доказано, что причиной образования тепла может быть или движение, или соприкасание с горячим телом, или световое излучение. Ими установлено было также, что солнцу самому по себе не присуще ни тепло, ни какое-либо другое из подобных качеств, порождаемых смесью элементов, как было доказано в них и то, что световое излучение в наиболее полной мере воспринимается телами гладкими и прозрачными, за которыми следуют, с точки зрения способности к его восприятию, тела плотные и негладкие, в то время как тела прозрачные и совершенно неплотные не принимают света вообще. Шейх Абу Али – единственный, кто установил все это посредством доказательств, тогда как его предшественники даже и не рассматривали эти вопросы.
Если приведенные посылки истинны, то из них с необходимостью следует, что солнце не нагревает землю так, как горячие тела нагревают предметы, входящие с ними в соприкосновение, поскольку солнце не является само по себе чем-то горячим. Но земля не может нагреваться и от движения, ибо она находится в состоянии покоя и пребывает в том же самом положении и тогда, когда солнце восходит над нею, и тогда, когда скрывается, между тем как для чувственного восприятия вполне различима разница в температуре при ее нагревании в одном случае и охлаждении в другом. Не может быть и так, чтобы солнце нагревало сперва воздух, а затем, посредством теплоты его, и землю – хотя бы потому, что та часть воздуха, которая находится у самой земли, в жаркую погоду, как мы это наблюдаем, оказывается нагретой гораздо сильнее, чем та ее часть, которая находится высоко над землей[42].
Остается, таким образом, признать, что земля нагревается от солнца исключительно благодаря световому излучению. В самом деле, за появлением света всегда возникает теплота, вот почему от света и воспламеняются предметы, расположенные против вогнутого зеркала, когда он достигает в таковом высокой степени сосредоточения. В математических науках путем неоспоримых доказательств установлено, что солнце имеет сферическую форму, и точно так же обстоит дело с землей, что землю оно превосходит многократно размерами своими, что освещаемая им постоянно часть земли составляет более ее половины и что у этой освещаемой части наиболее освещен в любое время бывает центр. Ибо центр более всего удален от мрака, объемлющего периферию круга, и именно там больше всего участков, расположенных прямо против солнца. По мере же приближения к периферии сила света постепенно убывает, пока он не сменяется мраком, объемлющим периферию круга, которая и являет собою то земное пространство, где света не бывает вообще. А в центр освещенного круга та или иная местность попадает тогда, когда солнце оказывается прямо над головой ее обитателей, отчего жара в данной местности достигает наибольшей силы. Если местность эта оказывается одной из тех, где солнце занимает положение, удаленное от зенита, то в ней наступает очень сильное похолодание, а если оно постоянно занимает это положение, то в ней устанавливается очень сильная жара. Между тем в астрономии было доказано, что над экваториальными областями земли солнце бывает в зените только дважды в году; раз – когда оно входит в знак Овна и раз – когда оказывается в знаке Весов; в остальное же время года оно находится шесть месяцев к югу от них и шесть месяцев – к северу. Вот почему их обитатели не знают ни чрезмерной жары, ни чрезмерного холода, а стало быть, и жизнь протекает у них там в одинаковых условиях.
Все эти соображения следовало бы сопроводить более подробными пояснениями, но это бы увело нас в сторону от поставленной цели, а внимание твое мы привлекли к ним лишь в той мере, в какой они говорят в пользу предположения, что человек в той местности может появиться на свет, не имея ни матери, ни отца. Ибо если одни категорически и твердо заявляют о принадлежности Хайа, сына Якзана, к тем, кто появляется на свет вышеуказанным образом, то другие, отрицая это, передают иной о нем рассказ, который мы тебе сейчас и не преминем изложить.
Напротив того острова, говорят они, находится другой – огромных размеров, с широкими просторами и обжитой людьми, в коем и царствовал один из них – человек весьма гордый и ревнивый. А у него была сестра, такая пленительная и столь ослепительной красоты, что, не находя ни в ком достойного ей супруга, он всячески противился вступлению ее в брак с теми, кто добивался ее руки. И был у него еще близкий человек по имени Якзан. Этот человек связал себя с царской сестрой тайными брачными узами, кои допускались принятым у них тогда вероучением, та зачала от него и родила мальчика.
И вот, когда овладел ею страх, что случившееся с ней станет явным и тайна ее обнаружится, уложила она чадо свое, покормив до этого грудью, в крепко сколоченный ларь и с наступлением ночи понесла его, сопровождаемая служанками и верными людьми, к берегу морскому с сердцем, изнывающим от нежности к дитяти и трепета за него. Затем, прощаясь с ним, она сказала: "О боже! Это ты создал дитя сие, бывшее дотоле вещью, не достойной упоминания (Ср.: Коран, 76:1), ты питал во мраке чрева и опекал его, пока не подросло оно и не достигло полной зрелости. Ныне же предаю я его благой воле твоей, уповая на милосердие твое к чаду, из страха пред тем царем свирепым, жестокосердным и своевластным. Так будь же с ним и не покидай его, о милостивейший из милосердных!" С тем и ввергла она дитя свое в море. Но случилось так: сильным приливом было вызвано течение, которое перенесло ларь той же ночью к берегу другого острова – того самого, о котором говорилось выше. Прилив же доходил как раз до такого места, куда он добирался лишь раз в году, и силою его вода вынесла ларь в густую заросль деревьев, защищенную от ветров и дождя и укрытую от солнца так, что она оказывалась как бы отвернувшейся от него на восходе и отклонившейся на заходе (Ср.: Коран, 18:15 (16). Потом вода стала убывать, уносимая отливом от ларя с ребенком, а ларь остался на месте. После этого горы песка, наносимые порывами ветра, поднимались все выше и выше, и под конец его накопилось столько, что, засыпав проход к ларю в той чаще, он оградил последнюю от вторжения воды так, что прилив до нее уже больше не доходил. Тем временем ударами волн, накатывавшихся на ларь в той чаще, гвозди его разболтало, доски расшатало, а дитя в нем, проголодавшись, принялось плакать, взывая о помощи, и барахтаться. И вот крики его дошли до слуха газели, что потеряла перед тем детеныша своего – вышедший из логова газеленок был унесен орлом. И показались газели эти крики похожими на те, что исходят от ее детеныша, и, направившись в сторону, откуда они доносились, шла она, представляя себе в воображении газеленка, пока не добралась до ларя. Вслед за тем принялась она испытывать копытами крепость ларя, изнутри которого раздавались крики и стенания ребенка, и била ими до тех пор, пока не отвалилась сверху одна из досок. И издала газель жалобный крик. Проникшись же к дитя состраданием, она сжалилась над ним, дала ему сосцы свои и покормила вкусным молоком. И продолжала она с тех пор пестовать его и вскармливать, оберегая от напастей. Так начинают рассказ о Хайе, сыне Якзана, те, кто отрицают возможность самозарождения[43]. Мы еще вернемся к тому, как мальчик рос дальше, переходя из одного состояния в другое, пока не достиг в развитии своем успехов чрезвычайных.
Что же касается тех, кто утверждает самозарождение его из земли, то они говорят следующее.
В недрах острова была одна полость, в коей на протяжении многих лет бродила толща глины, пока в ней не смешались соразмерным и равным по силе образом теплое с холодным и влажное с сухим. Эта пришедшая в брожение толща глины была очень больших размеров, и различные части ее превосходили друг друга по соразмерности смеси и предрасположенности к образованию жизненных соков, причем наиболее соразмерной и близкой к человеческой была смесь ее срединной части[44].
И вот в этой толще глины начали возникать первые зачатки жизни: поскольку она была вязкой, в ней образовалось нечто, напоминающее пузырьки, которые возникают при кипении; в середине ее появились вязкая жидкость и крохотный пузырь, разделенный надвое тонкой перегородкой и заполненный разреженным, воздухообразным телом, смесь которого отличалась соответствующей ему предельной соразмерностью; с оным телом в связь вошел, далее, дух – тот самый, который "от повеления Всевышнего" (Ср.; Коран, 17:87 (85), образовав с ним столь прочное единство, что уже не отделить его от тела ни в чувственном восприятии, ни мысленно[45], ибо дух этот, как было доказано, изливается от Аллаха (велик он и славен) с таким же постоянством, с каким солнечный свет изливается на мир.
В самом деле, одни тела, такие, как чрезвычайно прозрачный воздух, невосприимчивы к свету; другие, такие, как негладкие плотные тела, до определенной степени восприимчивы к нему, различаясь между собой тем, в какой именно степени они к нему восприимчивы, а в соответствии с этим – и свойственными им цветами; третьи же, такие, как гладкие тела, вроде зеркал и тому подобного, восприимчивы к нему в наивысшей степени, так что если зеркалу придана особым образом вогнутая форма, то от чрезвычайного сосредоточения в нем света возникает огонь. Вот так и дух, который "от повеления Всевышнего", изливаясь постоянно на существующие вещи, в одних из них не проявляет своего действия, поскольку те не имеют соответствующего предрасположения, как это бывает с минеральными, лишенными жизни телами, подобно воздуху в приводившемся выше примере, в других обнаруживает его, как это происходит в меру их предрасположенности с различными видами растений, которые подобны в том же примере плотным телам, в третьих же его действие проявляется с большой силой, как это бывает с различными видами животных. И как среди гладких тел есть такие, восприимчивость которых к солнечному свету оказывается столь сильной, что они воспроизводят образ и подобие солнца, точно так же среди животных встречаются такие, чья восприимчивость к этому духу столь сильна, что они воспроизводят его и принимают свойственную ему форму. К последним принадлежат одни только люди, и именно их имел в виду пророк (да благословит его Аллах и приветствует), говоря: "Сотворил господь Адама по образу своему"[46]. Так что когда эта форма обнаруживает себя в людях с такой силой, что все другие формы обращаются перед ней в ничто и она остается одна, испепеляя светом своим благословенным все, чего бы он ни достигал, тогда она становится подобна зеркалу, само себя отражающему, прочее же сжигающему, а такое бывает с одними лишь пророками (да благословит их всех Аллах). Объясняется же все это в своем, подобающем месте[47].
Но обратимся к тому, как завершается рассказ с описанием того самозарождения.
Когда дух присоединился, говорят, к вместилищу, все силы, сколь их было, подчинились ему и склонились перед ним, приведенные к покорности повелением всевышнего Аллаха[48]. Напротив же упомянутого вместилища образовался другой пузырь, разделенный на три вместилища тонкими перегородками со сквозными проходами и заполненный чем-то подобным тому воздухообразному телу, которым заполнилось первое вместилище, только еще более разреженным. В трех полостях, на которые делилось это единое вместилище, разместилась некоторая часть покорившихся духу сил. Эти силы взялись охранять оные полости, заботиться о них и передавать все малое и великое, что появлялось в них, первому духу, вошедшему в соединение с первым вместилищем.
Наконец, напротив этого второго вместилища, с противоположной данному стороны, образовался третий пузырь, заполненный воздухообразным, но более плотным, чем предыдущие два, телом, и в этом вместилище расположилась еще одна часть подчинившихся духу сил, которые взялись оберегать его и заботиться о нем.
Оные вместилища – первое, второе и третье – образовались из той пришедшей в брожение толщи глины ранее всего прочего и именно в том порядке, в каком мы о них говорили, испытывая друг в друге взаимную потребность. Потребность первого из них в двух остальных обусловливалась тем, что оно должно было поставить их себе на службу и в подчинение, а эти оба нуждались в нем так, как возглавляемое нуждается в главе и управляемое – в правителе. Но по отношению к органам, образовавшимся после них, то и другое вместилища стали занимать уже место главы, а не возглавляемого, причем одному из них – второму – главенство перешло более полное, чем третьему. Предшествовавшее же им в порядке образования вместилище, когда в связь с ним вошел дух и теплота его перешла в состояние жара, получило коническую форму огня, каковую вслед за ним приняло и обволакивавшее его плотное тело, и оно стало твердым мускулистым образованием, поверху покрытым пленкой защитной оболочки. Орган этот в целом стали называть сердцем.
Так как теплота рассеивает и улетучивает влажные вещества, органу этому требовалось нечто такое, что оказывало бы ему постоянную поддержку, снабжая его пищей и восполняя ему рассеивающиеся части, – в противном случае он не мог бы продолжать существование. Кроме того, он должен был чувствовать, что подходит ему, дабы привлекать это к себе, и что не подходит, дабы отталкивать. Удовлетворять одну из этих потребностей с помощью исходящих из него же сил взялся один орган, а удовлетворять другую – другой. Орган, который принял на себя заботу об обеспечении сердца чувством, есть мозг; орган же, взявшийся снабжать его пищей, – печень[49]. Оба они нуждаются в сердце потому, что оно делится с ними свойственной ему теплотой, равно как проистекающими из него силами, особыми для каждого из них. И для осуществления всего этого между ними образовалась сеть каналов и протоков, в меру необходимости имеющих большую или меньшую ширину, – так возникли артерии и вены.
Дальнейшее описание этого образования со всеми его органами также ведется в соответствии с тем, как описывают естествоиспытатели формирование зародыша в матке, без каких-либо отступлений вплоть до этапа, когда развитие его заканчивается, органы приобретают завершенный вид и оно достигает рубежа, на котором зародыш покидает чрево. Причем описание это ведется до самого конца с помощью той большой толщи глины: последняя-де пришла в состояние, когда из нее стали образовываться покрывающие все тело оболочки и прочее такое, что необходимо для формирования человека, и по обретении им вполне законченного вида те оболочки отделились от него, как это происходит при разрешении от бремени, а что осталось от толщи глины – высохло и раскололось на части. Затем, лишившись питавшего его вещества и проголодавшись, дитя сие принялось взывать о помощи, и на зов его откликнулась газель, что потеряла перед тем детеныша своего.
Описание дальнейшего развития ребенка, начиная с этого места, дается теми и другими рассказчиками одинаковое и сводится к нижеследующему. Газели, взявшейся опекать дитятю, выпали на долю луга плодородные и сочные травы: тело у нее было тучным, молоко – обильным, и кормила она младенца так, что и нельзя лучше. Она постоянно находилась при нем, отлучаясь лишь, когда ей требовалось пастись на лугах. И ребенок привык к газели, так что стоило той хоть немного замешкаться, как он принимался громко плакать, и та немедля мчалась к нему.
Хищников на том острове никаких не водилось, и рос там малыш, развивался, вскармливаемый молоком газели, пока ему не исполнилось два года. С этого времени он начал постепенно ходить, и у него стали прорезаться первые зубы. Мальчик неотступно следовал за газелью, и та заботилась о нем ласково и нежно: водила в места, поросшие плодовыми деревьями, и кормила осыпавшимися спелыми и сладкими плодами, а если у них была твердая скорлупа, разбивала их копытами; когда младенец к ней тянулся за молоком, она давала ему свои сосцы; когда ему хотелось пить – вела его к роднику; когда припекало солнце – защищала своей тенью; когда становилось холодно – согревала его; а когда опускалась ночь – прятала в том месте, куда он попал первоначально, укрывая телом своим и остатками тех перьев, коими наполнили ларь, прежде чем положить туда ребенка. И куда бы они ни направлялись, сопровождало их повсюду стадо газелей, которые выходили вместе с ними в поисках корма на луга и ночевали там, где было место их ночлега.
Находясь так безотлучно при газели, мальчик то и дело подражал ее переливчатым крикам, так что голоса их стали под конец почти неразличимы[50]. Подражал он и тем звукам, что издавали птицы и многообразные виды других животных, и сходства между их голосами было тем больше, чем сильнее стремился он к тому, чего хотел добиться. Чаще же всего он подражал крикам, издаваемым газелями, когда они зовут на помощь или ищут близости, подзывают к себе или отпугивают, – ведь в подобного рода случаях и голоса у животных бывают разными. Под конец и ребенок подружился со зверьми, и те к нему привыкли, он их не чуждался и они не обходили его стороной[51].
Когда образы предметов начали удерживаться в душе его и после того, как сами вещи исчезали из поля зрения, тогда впервые стали возникать у него влечения к одним из них и неприязнь к другим[52]. Тем временем, присматриваясь ко всевозможным видам животных, он отмечал про себя, что те покрыты пухом, шерстью или перьями, видел, как стремителен их бег, сколь сильной они обладают хваткой и каким располагают оружием для отпора сопернику, вроде рогов, клыков, копыт, шпор и когтей. Обращая же потом взор на себя, он замечал, как он гол, как недостает ему оружия, как нерезв его бег и слаба его хватка в случаях, когда звери, вступая в борьбу с ним за плоды, не подпускают его к оным или отнимают их, а самому ему не под силу ни отогнать соперников, ни убежать от кого-нибудь из них. Между тем он наблюдал, как у сверстников его – газелей отрастают рога, коих прежде не было, и какими проворными они становятся в беге, в коем раньше были немощны. Не замечая же ничего подобного у себя он задумывался над этим обстоятельством, но причины его постичь не мог. Тогда он стал наблюдать за животными с увечьями и телесными изъянами, но никакого сходства с собою не находил. Присматриваясь же при этом к отверстиям для выхода излишков пищи, он обнаруживал, что у других животных они прикрыты чем-нибудь, для твердых отходов – хвостами, а для жидких – шерстью или еще чем в этом роде. А коль скоро у тех и половые части оказывались более сокрытыми, нежели у него самого, то для мальчика все это стало и удручительным, и обидным.
Долго ходил он, озадаченный всеми этими обстоятельствами, – а мальчик приблизился уже к семи годам[53], – и даже было расстался с надеждой на восполнение всего этого и того, отсутствие чего уже причинило ему столько вреда. Но вот из широких древесных листьев он изготовил нечто, частью чего прикрылся сзади, а частью – спереди, из пальмовых листьев и хальфы сделал себе набедренную повязку и связал ею те листья. Однако очень скоро листья начали увядать, засыхать и осыпаться, и ему приходилось беспрестанно сменять их другими, сшивая оные. В последнем случае они, быть может, держались и дольше, но как бы там ни было – недолго.
Сделав же из древесных ветвей палки с прямыми концами и гладкой поверхностью, он отгонял ими соперников, нападая на зверей, что послабее, и давая отпор тем, кто посильнее. Таким путем он несколько возвысился в своих глазах и пришел к выводу, что рука его имеет значительное превосходство над лапами зверей, ибо именно ею он смог прикрыть наготу свою и изготовить палки для самозащиты, а это позволило ему обходиться без предметов его былой мечты – без хвоста и естественного вооружения[54].
Тем временем мальчик подрастал, ему перевалило за семь, а он по-прежнему только и делал, что обновлял листья для прикрытия наготы. И пришла тогда ему в голову мысль взять у какого-нибудь из погибших животных хвост и приладить его к себе. Однако он замечал, что живые звери остерегаются и избегают своих мертвых собратьев, а потому не решался этого сделать, пока не набрел однажды на мертвого орла и не придумал, как с его помощью осуществить свое намерение, воспользовавшись тем, что звери в данном случае, как он видел, не испытывали к падали никакого отвращения. Он подошел к орлу, вырвал у него целыми оба крыла и хвост, расправил и разровнял на них перья, снял с него всю кожу и, разделив ее на две части, прикрепил одну на спине, а другую под пупком и ниже. Подвесив сзади хвост, а на предплечьях крылья, он получил то, что служило ему покровом, и давало тепло, и действовало на зверей всех столь устрашающе, что никто из них не дерзал ни вступать с ним в борьбу, ни оказывать ему сопротивление.
И вот никто уже не приближался к нему, кроме вскормившей и взрастившей его газели. Они жили неразлучно вплоть до той поры, когда она стала стара и немощна. И тогда он стал водить ее на тучные луга и кормить собранными для нее сладкими плодами.
Газель же продолжала тощать и слабеть, покуда ей не пришел конец[55]. Увидев ее в таком состоянии, мальчик сильно загоревал, так что душа его едва не разрывалась от переполнившей скорби. Он звал газель голосом, на который она, бывало, откликалась, кричал что мочи, но никакого движения, никакого изменения у нее не замечал. Он и в уши ей заглядывал, и в глаза, но никакого явного изъяна не обнаружил. Осмотрев точно так же и все члены ее, он и там не нашел никакого изъяна. Надеялся же он при этом на то, что, напав на место, где мог бы обнаружиться изъян, он сумел бы устранить его таким образом, чтобы вернуть газель в прежнее ее состояние. Но ничего такого не произошло, и предпринять что-либо отроку так и не пришлось.
К мысли же этой навело его открытие, сделанное им при наблюдении над собой. Он замечал, что, зажмурив либо прикрыв глаза, он не видит ничего, пока не исчезнет заслон, как замечал и то, что, если заткнет свои уши, введя в них пальцы, не слышит ничего, пока не уберет пальцы, а если зажмет рукой нос, то не чует никаких запахов, пока не освободит его. Потому он и думал, что всем присущим газели восприятиям и действиям мешают какие-то препятствия и что стоит их устранить, как действия ее возобновятся.
Коль скоро, осматривая у газели всевозможные наружные члены, он не замечал в них явного изъяна и поскольку видел, что бездействие охватило всю ее целиком, а не один какой-либо из ее органов, его осенила догадка, что изъян, поразивший ее, не иначе как в органе, недоступном для наблюдения и скрытом в глубине тела, и что члены наружные в действиях своих без того органа обойтись не могут, а потому, когда появился у нее изъян, расстройство приобрело общий характер, и бездействие охватило все ее тело. Отсюда и надежда мальчика на то, что если бы удалось ему напасть на тот орган и устранить порчу, то орган бы тот вернулся в надлежащее состояние, польза, приносимая им, распространилась на все тело и действия осуществлялись бы вновь своим чередом.
Между тем еще ранее он замечал, осматривая бездыханные тела зверей и других существ, что все члены у них представляют собой сплошную, не полую внутри, толщу, за исключением черепа, груди и живота. И теперь подумалось ему, что такого рода орган может находиться лишь в одном из перечисленных трех мест. Кроме того он сильно склонялся к мнению, что из трех этих мест упомянутый орган занимает не иначе как то, которое располагается посредине, ибо он уже пришел к твердому убеждению, что в этом органе нуждаются все остальные, а потому местоположение его должно быть непременно посредине. Да и наблюдая над собой, он догадывался, что подобный орган имеется у него в груди. Ибо когда он думал о других своих членах, таких, как руки, ноги, уши, нос, глаза, и представлял себя мысленно отрешенным от них, тогда оказывалось, что он вполне способен и обойтись без оных. Представляя себе то же самое в отношении головы, он убеждался, что мог бы вполне обойтись и без нее. Но когда он думал о том, что находится у него в груди, – вот тогда он не в силах был представить себя способным обойтись без этого хоть на единое мгновение. Притом и в схватках со зверями оберегал он от их рогов пуще всего грудь, как бы догадываясь о том, что там находится.
После того как укрепилась уверенность его, что орган, пораженный изъяном, находится у газели в груди и нигде больше, он решил отыскать его и обследовать – если вдруг удастся найти этот орган, то можно будет обнаружить и случившийся в нем изъян, а значит, и устранить его. Но затем он испугался: не принесут ли сами эти его действия газели большего вреда, чем поразивший ее уже ранее изъян, не обернутся ли против нее предпринимаемые им усилия? После этого он стал думать, не встречались ли ему звери или какие другие существа, которые, оказавшись в подобном состоянии, вернулись бы в прежнее. Но ничего такого не припомнил. И тогда перестал он уповать на то, что, буде он оставит газель такой, как есть, то она, быть может, вернется в прежнее свое состояние. Сохранялась лишь надежда, что она может вернуться в это состояние в случае, если ему удастся отыскать тот орган и устранить поразивший его изъян.
И вот решился он вскрыть у газели грудь и обследовать, что там находится внутри. Изготовив из твердых обломков камней и сухих долек камыша некоторое подобие ножей, он принялся рассекать ими у газели межреберье, пока не разрезал подреберные мышцы, добравшись до подреберной оболочки. Оболочка же та оказалась прочной, и это внушило ему твердую уверенность в том, что подобная оболочка может быть только у этого органа. В надежде, что, если он проникнет за оболочку, ему удастся обнаружить искомый орган, он попробовал расчленить ее, но без подходящих орудий сделать это оказалось невозможно, а те, что имелись у него в распоряжении, были, как известно, из камня и тростника. Тогда он приготовил новые орудия и, отточив их, стал резать перегородку без излишней поспешности, пока та не рассеклась у него и не открыла ему доступ к легкому. Сперва он принял его за искомый орган и вертел, стараясь разглядеть, где там случился изъян. Попалась же ему сперва та часть легких, которая находится с одной только стороны. Увидев, что она сосредоточена где-то сбоку, тогда как, по убеждению его, искомый орган должен располагаться в центре тела и по ширине его и по длине, он продолжил поиски в середине груди, пока не обнаружил наконец сердце.
Покрыто оно было чрезвычайно прочной плевой и закреплено в высшей степени крепкими жилами, а легкое обволакивало его с той стороны, с которой начато было рассечение. И отрок подумал: если у этого органа с противоположной стороны то же самое, что и со здешней, то он действительно расположен в центре и представляет собою, без сомнения, то, что я стремился найти, тем более, что мне видно, как удачно при этом его местоположение, какие изящные он имеет очертания, как он плотен, сколь прочны его мышцы и какой не наблюдавшейся мною ни у одного органа оболочкой он покрыт. Обследовав грудь с другого боку, он нашел подреберную оболочку и обнаружил легкое – такое же, какое было найдено им с противоположной стороны. И, решив, что это-то и есть искомый орган, он стал пытаться прорвать оболочку и рассечь плеву. С величайшим трудом он завершил свое дело, потратив на него все силы.
Обнажив сердце и увидев, что оно закрыто наглухо со всех сторон, он стал смотреть, не обнаружится ли в нем изъяна. Не найдя же ничего, он сжал рукою сердце и, выяснив, что внутри него какая-то полость, подумал: быть может, в глубине именно этого органа заветная цель моя, а я до сих пор еще до нее не добрался. Тогда он рассек сердце, и в нем обнаружились две полости – справа и слева. Правая полость была заполнена сгустком крови, между тем как левая оказалась пустой и ничем не заполненной. И он подумал: то, что я ищу, находится непременно если не в том, то в другом помещении. Что касается правого помещения, размышлял он далее, то мне там не видно ничего, кроме вот этой сгустившейся крови, и она, без сомнения, сгустилась не раньше, чем все тело пришло в такое состояние (ему и прежде приходилось замечать, что всякая кровь, вытекая наружу, превращается в сгусток и затвердевает, а эта кровь была такая же, как любая другая). Но кровь эта, я вижу, имеется во всех органах, а не в каком-то особом из них. Искомый же орган иного рода – это нечто такое, чем должно выделяться место, без которого, как я выяснил, мне не обойтись ни единого мгновения. К нему-то и стремился я с самого начала. А эта кровь – сколько раз, получая раны от зверей или каменьев, истекал я ею, но это и не вредило мне, и не лишало способности совершать какие-либо действия. Нет в этом помещении того, что я ищу. А то левое помещение, я вижу, пусто и ничем не заполнено. Но и оно, мне думается, не бесполезно: каждый орган, как я видел, непременно выполняет какое-то свое, особое действие. Не может же помещение это занимать столь важное, как я вижу, положение и при этом не приносить никакой пользы. Единственное, что можно подумать, – это то, что предмет моих поисков находился в нем прежде, а затем покинул его и оставил пустым. Тогда-то и пришло это тело в теперешнее его бездействие, утратив восприимчивость и лишившись способности к движению.
Когда он понял, что нечто, обитавшее в этом помещении, покинуло его прежде, чем оно пришло к разрухе, и оставило его в этом состоянии, ему стало очевидно, что оное нечто, скорее всего, больше уже и не вернется сюда после всего того разрушения и опустошения, коим подверглось это помещение. И все тело показалось ему теперь чем-то ничтожным и лишенным всякого значения в сравнении с тем, что обитает в нем, по его убеждению, какое-то время, а потом покидает его. Мысль его ныне была направлена только на это нечто. Что оно есть? Каково оно? Что связывает его с этим телом? Куда оно удалилось? Через какие проходы оно выбиралось, покидая тело? Что за причина могла его заставить удалиться, если выбираться ему оттуда пришлось по принуждению? Если же выбираться ему оттуда довелось по свободному выбору, то какая причина могла внушить ему к телу неприязнь, что оно разлучилось с ним? Мысль его рассредоточилась по всем этим вопросам, а отвлекшись от тела, он и вовсе забыл о нем.
Понял мальчик, что приласкавшая и взрастившая его мать есть не что иное, как это удалившееся нечто, понял, что от него исходили все эти действия, а не от этого бездействующего тела, и что тело это, взятое в целом, представляет собою лишь как бы орудие оного, – нечто, подобное палке, которой он пользовался в схватках со зверями. Теперь помыслы его, прежде связанные с телом, переместились к тому, что обитает в нем и служит для него движущим началом. Только к нему отныне была направлена его любознательность[56].
Тем временем тело газели начало разлагаться, издавать отвратительные запахи, и мальчику, почувствовавшему еще большую неприязнь, захотелось, чтобы оно и вовсе перестало попадаться на глаза. Однажды ему довелось наблюдать двух воронов, бившихся между собой до тех пор, пока один из них не сразил другого насмерть, после чего оставшийся в живых принялся копаться в земле, вырыл яму и захоронил в земле поверженного ворона. И тогда он подумал: как хорошо он сделал, этот ворон, что похоронил труп своего собрата, хотя и дурно поступил, убив его; мне же тем более следует поступить так с телом моей матери. Выкопав яму, он опустил туда останки своей матери, засыпал их землей, а сам вновь углубился в размышления о том нечто, которое управляет телом и о котором ему было неизвестно, что же оно такое из себя представляет.
Вместе с тем, рассматривая различные особи газелей, он замечал, что по телосложению и по форме своей они сходны с его матерью, и он все больше стал склоняться к мнению, что каждою из них движет и управляет нечто подобное тому, что двигало и управляло его матерью. А из-за сходства этого он привязался к газелям и проникся к ним нежным расположением[57].
Так и оставался он некоторое время, изучая один за другим различные виды животных и растений и бродя по берегу того острова в надежде увидеть или найти себе подобное существо так же, как он видел для каждой особи животного или растения множество других подобных ей особей. Но никакого такого существа ему не попадалось. Поскольку же остров свой он видел окруженным со всех сторон морем, то и о нем сложилось у него убеждение, что кроме острова никаких других земель на свете не существует.
И однажды случилось так, что в зарослях ферулы от трения тростинок между собой разгорелся пожар. Когда мальчик заметил это, взору его открылось зрелище устрашающее, явление, о существовании которого он прежде и не подозревал. Долго он стоял, оцепенев от удивления, а затем стал мало-помалу придвигаться к огню и замечать, как ослепительно ярок его свет и сколь сокрушительно его действие: стоит пламени коснуться какого-то предмета, как оно тут же уничтожает его, претворяя в свою сущность. Удивление, вызванное огнем, а равно смелость и сила, коими всевышний наделил его характер, побудили мальчика протянуть руку к пламени, чтобы взять немного огня. Когда же рука его коснулась пламени, огонь обжег ее, и получить огня ему не удалось. Тогда он догадался взять головню, еще не охваченную пламенем целиком. Он старался схватить ее за нетронутый конец, когда огонь был на другом конце, а справившись с этим, понес ее в обиталище свое, представлявшее собою пещеру, которую он еще раньше облюбовал себе для жилья.
Дальше он беспрерывно поддерживал огонь сухой травой и дровами, ухаживая за ним днем и ночью, переполненный к нему любовью и восхищением. Особую радость доставлял огонь по ночам, ибо светом и теплом он заменял ему солнце. И у мальчика, проникшегося к нему великою любовью, сложилось убеждение, что огонь есть лучшее из всего, чем он располагал. Наблюдая же постоянно, как пламя движется отвесно ввысь, он склонился к мнению, что огонь принадлежит к числу тех небесных субстанций, которые он то и дело созерцал[58]. Он испытывал силу огня на всевозможных предметах, бросая их в него, и замечал, что охватывает их пламя быстро или медленно в зависимости от большего или меньшего предрасположения бросаемого туда тела к возгоранию. Среди прочих предметов, что метал он в огонь для испытания его силы, оказалось некое морское животное, вынесенное волнами на берег. И вот, когда животное это подрумянилось и от него стал распространяться запах жареного, отроку захотелось испробовать его, он отведал кусочек и остался доволен. Так приучился он к мясной пище, и это изощрило его изобретательность в охоте на сухопутных и морских животных, стал он в этом деле чрезвычайно искусным. Любовь же его к огню возросла, так как огонь позволял ему готовить разнообразную и вкусную пищу, дотоле ему неведомую.
Когда привязанность к огню крепла по мере того, как он наблюдал благие действия его и могучую силу, мальчика осенила мысль: то нечто, которое покинуло сердце взрастившей его матери-газели, должно быть, принадлежит к субстанции огня или чего-то однородного с ним. Мнение это его подтверждалось и тем, что он видел у животных: они теплые, пока живут, а как умирают, становятся холодными, причем так бывает постоянно и неизменно, – и тем, что замечал, наблюдая над собой: сильнее всего он чувствовал тепло в груди, под тем местом, где он делал вскрытие у газели. И он подумал: если бы взять какое-нибудь существо в живом виде, рассечь ему сердце и заглянуть в ту полость, которую он нашел пустой при вскрытии ее у матери-газели, то она, быть может, оказалась бы занятой этим обитающим в нем нечто, и тогда выяснилось бы, принадлежит ли оно к субстанции огня, испускает ли свет и тепло. Поймав одного зверька, он связал его накрепко и стал делать ему вскрытие, подобно тому, как это делал уже с газелью, и добрался до сердца. Сперва он сосредоточился на левой стороне сердца, разрезал его там и нашел полость занятой каким-то парообразным воздухом, напоминающим туман[59]. Когда он ввел в нее палец, воздух тот казался столь горячим, что едва не обжег его, а животное сей же час околело. И ему показалось возможным вполне, что в движение зверек приводился именно горячим тем паром, что точно так же обстоит дело со всеми прочими особями животных и что с отделением его от животного оно гибнет.
Вслед за тем у него возникло желание обследовать и другие органы животного, узнать их взаиморасположение, места, где они находятся, их величину и количество, как они связаны между собой, как снабжаются этим горячим паром, чтоб поддерживать в себе жизнь, как сохраняется тот пар все это время, откуда берет он начало и почему не иссякает его тепло. Все это он исследовал с помощью вскрытий, проводившихся и над живыми, и над мертвыми животными, не переставая осматривать их внимательно и напряженно думать, пока не достиг в сем деле уровня великих естествоиспытателей.
Как он выяснил, каждая особь животных при всем разнообразии органов, при всей специализации чувств и движений являет собой единство благодаря духу, что, имея начало в едином центре и расходясь от него, передается всем прочим органам, а те выступают по отношению к нему лишь как нечто служебное или опосредствующее. Распоряжаясь телом, дух этот уподобляется человеку, который сражается с врагами, пользуясь совершенным оружием, и охотится на животных, морских и сухопутных, имея наготове для каждого рода охоты особые орудия: оружие, коим пользуется он в схватке, подразделяется на то, чем отражает он удары противника, и то, чем наносит удары другому сам, и точно так же охотничьи орудия разделяются на то, что годится для охоты на морских животных, и на то, что подходит для охоты на сухопутного зверя. Подобным же образом и предметы, коими пользуются при вскрытии, делятся на то, чем можно рассекать, то, чем можно ломать, и то, чем можно проделывать отверстия. Тело едино, но распоряжается всем этим по-разному в соответствии со способностями органов и их назначением.
Точно так же един и животный дух, но если он пользуется орудием глаз, то действие его бывает созерцанием, если пользуется орудием носа – обонянием, если пользуется орудием языка – вкусовым восприятием, если пользуется кожей и мышцами – осязанием, если пользуется мускулами – движением, если пользуется печенью – распределением и усвоением пищи. Для каждого из перечисленных действий есть особый обслуживающий его орган, но все они осуществляются лишь благодаря тому, что поступает к органам от духа по тем путям, которые именуются нервами. Когда пути эти обрываются или чем-то преграждаются, действие данного органа прекращается. В нервы дух поступает из желудочков мозга, а в мозг – из сердца. Мозг содержит в себе множество духов, поскольку он представляет собой место, распадающееся на множество отделений, И какой бы орган ни оказался почему-либо лишенным этого духа, его деятельность прекращается, а сам он становится подобным выброшенному орудию, которым никто не пользуется и от которого нет уже никакой пользы. Когда же дух целиком покидает тело, исчезает или каким-то образом рассеивается, тогда тело полностью утрачивает всякую дееспособность и приходит в состояние смерти.
Вот на такие высоты умозрения поднялся он благодаря подобным рассуждениям к исходу третьей седмины – к двадцать первому году своей жизни.
За это время развивалась и его изобретательность. Одевался и обувался он в шкуры животных, которых подвергал вскрытию, нити делал из шерсти, из коры стеблей просвирняка, мальвы, конопли и прочих волокнистых растений (мысль об их использовании подсказал ему первоначально опыт обращения его с хальфой), шило изготовлял из крепких шипов и заостренных на камне тростинок. На мысль заняться строительством подтолкнули его наблюдения над тем, что делали ласточки. Он возвел тогда жилище и амбар для хранения съестных припасов, а чтобы в него не забрался кто из зверей, если он отлучится по делам, закрыл доступ в него дверью из сплетенного тростника.
Он приручал хищных птиц, чтобы те помогали ему в охоте, и заводил птицу домашнюю, чтоб та давала ему яйца и цыплят. Из рогов дикой коровы он изготовлял нечто похожее на наконечники и прикреплял к прочным стволам тростника, к палкам из буковой или иной какой древесины, прибегая к помощи огня и острых камней, в итоге чего получались некие подобия копий. Щит себе он сделал из кожи, сложенной в несколько слоев.
Ко всем этим ухищрениям он вынужден был прибегать потому, что у него не было естественного вооружения, но, как он заметил, чего ему из этого недоставало – все могли восполнить его руки.
Животные, к какому бы виду они ни относились, сопротивления ему теперь не оказывали, но спасались бегством и, убегая, становились недосягаемыми. Думая над тем, что с этим поделать, он пришел к заключению, что наибольшего успеха ему можно будет достигнуть только в случае, если приручит каких-нибудь быстроногих животных и добрым обхождением, давая им подходящий корм, добьется того, что те будут позволять ему садиться на них и преследовать других животных. На острове водились дикие лошади и ослы, и он отобрал среди них подходящих особей, занялся их объездкой и в итоге добился от них всего того, чего хотел. Он набросил на них подобия узды и седла из ремешков и кожаных лоскутов, после чего, как он и надеялся, ему удавалось настигать животных, поймать которых он до этого не мог, несмотря на всякие ухищрения.
Успехов же своих во всех этих делах он добивался в то время, когда был занят вскрытием животных, желая выяснить свойства их органов и признаки, которыми они отличаются друг от друга, а именно в ту пору, конец которой мы обозначили двадцать первым годом его жизни. После этого он занялся некоторыми другими вопросами и стал внимательно изучать тела, существующие в мире возникновения и уничтожения, как-то: животных со всеми их разнообразными видами, растения, минералы, различные породы камней, землю, воду, пар, снег, град, дым, лед, пламя, уголь. Он выяснил при этом, что им свойственны многоразличные признаки, разнообразные действия и то одинаковые, то противоположные движения. При ближайшем рассмотрении и размышлении над этим он убедился в том, что в отношении одних признаков эти предметы обнаруживают сходство, а в отношении других – различие и что с точки зрения своего сходства они образуют известное единство, тогда как в отношении различия находятся друг к другу в отношении инаковости и составляют множество.
Иногда он сосредоточивал внимание на собственных признаках предметов и на том, чем одни из них отличаются от других, и тогда предметы казались ему не поддающимся ограничению множеством, и бытие в его глазах неопределенным образом рассеивалось. Точно так же и сам он казался себе чем-то множественным в той мере, в какой сосредоточивал внимание на разнообразии органов своих и на том, что каждый из них представляет собой нечто обособленное каким-либо действием или свойственным ему одному признаком. Рассматривая же каждый орган в отдельности, он приходил к выводу о делимости его на великое множество частей. И так он убеждался в том, что множественность свойственна и его собственной самости, и самости всех вещей.
Но затем он начинал смотреть на вещи по-иному, с другой точки зрения и приходил к заключению, что хотя органы его и образуют множество, тем не менее все они находятся между собой в непрерывном соединении и ничем не отделены друг от друга, а потому составляют единое целое, что различаются они лишь постольку, поскольку различаются их действия, что различие это обусловливается поступающей в них силой животного духа, на котором завершились его предшествовавшие размышления, и что дух этот сам по себе есть нечто единое и именно он образует реальную сущность самости, тогда как прочие органы выступают в качестве своего рода орудий. С этой точки зрения самость его представлялась ему уже как нечто единое[60].
Потом он переводил взор на животных всевозможных видов и, рассматривая их с этой точки зрения, воспринимал каждую особь также как нечто единое. Перенося же внимание на отдельные виды, например, газелей, лошадей, ослов, наблюдая за птицами тех или иных пород, он видел, что особи каждого вида сходны друг с другом внешними и внутренними органами, восприятием, движениями и влечениями, тогда как различие между ними замечалось только в вещах, малозначительных сравнительно с тем, в чем они совпадали. Это приводило его к убеждению, что дух, присущий данному виду в целом, есть нечто единое, и различия в нем лишь потому, что он распределен по множеству сердец, а если бы можно было собрать в одно все то, что рассредоточено по сердцам, то это оказалось бы чем-то столь же единым, как вода или вино, разлитые во многие сосуды, а затем слитые вместе. Ибо дух и в раздельном, и в собранном состоянии был бы одним и тем же предметом, в который множественность привходит лишь акцидентально. Так что каждый данный вид представлялся ему с этой точки зрения в целом чем-то единым, в то время как множественность особей его казалась подобной множественности органов отдельной особи, которые на самом деле не образуют никакого множества. Затем, представляя себе мысленно все виды животных и внимательно изучая их, он приходил к выводу, что их объединяет способность к чувственному восприятию, питанию и свободному движению в угодном им направлении. Ранее же он понял, что эти действия специфичны для животного духа в наибольшей мере, тогда как прочие, обнаруживающие общность между собой, потом оказываются отличными друг от друга, не столь специфичны для него. Рассматриваемый так дух, присущий всему роду животных, предстал перед ним как нечто подлинно единое, хотя и содержащее в себе малозначительные различия, свойственные тем или иным видам, подобно одной и той же воде, которая, если разлить ее по многим сосудам, оказывается в одних из них холоднее, в других – теплее, хотя в исконном своем состоянии является единой.
Причастность воды в каждом отдельном случае какой-то одной температуре подобна причастности животного духа каждому отдельному виду и вместе с тем как вода, взятая в целом, представляет собой нечто единое, точно так же и дух этот есть нечто единое, хотя и некоторым образом привходит в него множественность. Итак, весь род животных предстал перед ним, с этой точки зрения, как нечто единое.
Далее, обращая взор на растения со всеми их разнообразными видами, он замечал, что особи каждого вида схожи между собой ветвями, листьями, цветами, плодами и действиями, И тогда, сравнивая их с животными, он начинал понимать: у растений тоже есть нечто единое, что является для них тем же самым, чем животный дух является для животных, и именно поэтому они и образуют определенное единство. Рассматривая же род растений в целом, он приходил к заключению, что единством своим тот обязан присущей ему деятельности, каковая состоит в питании и росте.
Отмечая про себя признаки, объединяющие род животных и род растений, он убеждался, что питание и рост присущи им обоим, но животные в отличие от растений способны сверх того чувствовать, воспринимать и двигаться, хотя и растения подчас обнаруживают сходные способности, когда, допустим, цветы поворачиваются к солнцу лицевой стороной своей, когда корни двигаются в направлении, где для них имеется питание, и тому подобное[61]. И в этом отношении растения и животные представлялись ему чем-то единым, обязанным единством своим чему-то общему, что в одном случае находит для себя более полное и законченное проявление, а в другом – встречает нечто препятствующее тому. И это напоминало ему одну и ту же воду, разделенную на две части, из коих одна находится в замерзшем состоянии, а другая – в текучем.
Итак, растения и животные предстали перед ним как нечто единое. Обратив, далее, взор на тела, лишенные способности к чувственному восприятию, питанию и росту, такие, как камни, земля, вода, воздух, он пришел к заключению, что они имеют длину, ширину и глубину и различаются меж собой лишь тем, что одни из них обладают цветом, другие бесцветны, одни теплые, другие холодные, и тому подобное. Он замечал, что теплые тела становятся холодными, а холодные – теплыми, наблюдал, как вода превращается в пар, а пар преобразуется в воду, горящие предметы становятся углем, пеплом, пламенем и дымом и как дым, поднимаясь, достигает свода пещеры, застывает на нем и становится подобным прочим землистым веществам. И представились они все ему под этим углом зрения чем-то в действительности единым, хотя и таким, которому сопутствует множественность совершенно так же, как она сопутствовала перед тем животным и растениям.
Далее он обратил внимание на то, что придавало в его глазах единство растениям и животным, и убедился, что это – такое же тело, имеет длину, ширину и глубину, и что, подобно телам, лишенным способности к чувственному восприятию и питанию, оно бывает либо теплым, либо холодным. Отличается же оно от них исключительно лишь действиями, которые проистекают от него через посредство органов, животных и растительных. Только действия эти, быть может, являются не сущностными, но привносятся в него и если бы они привносились и в остальные тела, то последние были бы подобны ему.
Рассматривая же его теперь само по себе, отвлеченное от действий, каковые кажутся на первый взгляд исходящими от него, он приходил к заключению, что оно лишь одно из этих тел, и с этой точки зрения все тела, живые и неживые, движущиеся и неподвижные, образовывали в его глазах нечто единое, только видно было, что у иных из них действия производятся посредством органов, и он не знал, являются они сущностными или привносятся от чего-то другого.
В ту пору предметами созерцания у него были одни лишь тела, и все бытие под этим углом зрения представало перед ним как нечто единое, тогда как с прежней точки зрения оно казалось ему ничем не ограниченным и беспредельным множеством. С такими представлениями он и оставался некоторое время.
Изучая затем тела, живые и неживые, которые казались ему то чем-то единым, то чем-то бесконечно множественным, он заметил, что любому из них свойственно одно из двух: либо двигаться вверх, как это бывает с дымом, пламенем и воздухом, оказавшимся под водой, либо двигаться вниз, как то бывает с водой, частицами земли, частями животных и растений. Всякому телу непременно присуще если не одно, то другое из указанных движений. В состояние же покоя тело приходит только в случае, когда на пути своем встречает препятствие, как это, к примеру, бывает с падающим камнем, когда он сталкивается с поверхностью земли, твердость которой не позволяет ему прорваться сквозь нее. Если же ему удалось бы это, то в своем движении он не отклонялся бы от первоначального направления, что вполне очевидно. Вот почему, когда поднимаешь камень, чувствуешь, как он отягощает тебя, стремясь вниз. Точно так же и дым, поднимаясь, отклоняется на пути своем только, когда встречает какой-нибудь твердый свод, что и задерживает его, после чего он меняет направление, расстилаясь вправо и влево; если же ему удается вырваться из-под свода, то устремляется ввысь, прорываясь сквозь воздух, ибо задержать его последний не в состоянии. Замечал он также, что если кожаные мехи наполнить воздухом, завязать и погрузить в воду, то воздух, стремясь вверх, заставит напрягаться того, кто старается удержать мехи под водой, и будет это делать до тех пор, пока не достигнет местоположения воздуха, вырвавшись из-под воды, после чего придет в состояние покоя и, перестав стремиться вверх, не будет уже, как прежде, заставлять того, кто держит их, прикладывать какие-то усилия.
Он смотрел, не отыщется ли тело, которое было бы хоть на время лишено одного из этих двух видов движения или стремления к нему, но обнаружить его среди окружавших тел ему не удалось. Поиски же эти были вызваны одним желанием: выяснить природу тела как такового – не связанного ни с одним из тех признаков, которыми порождается множественность. Когда старания его оказались тщетны, он стал исследовать тела в той мере, в какой они служат носителями для наименьшего количества признаков, и в итоге пришел к выводу, что их никак нельзя представить себе без двух рассмотренных признаков, а именно тех, которые обозначаются словами "тяжесть" и "легкость". Тогда он стал думать о тяжести и легкости: принадлежат ли они телу как таковому или суть нечто дополнительное к телесности? В итоге он выяснил, что то и другое суть нечто дополнительное к телесности, ибо если бы они принадлежали телу как таковому, то нельзя было бы найти ни одного тела, которому бы они не были свойственны, между тем мы находим тяжелые тела, лишенные легкости, а лёгкие – тяжести. Те и другие, конечно, являются телами, но в них есть нечто такое, чем они отличаются друг от друга и что является вещью, дополнительной к их телесности. Именно этим различаются между собой тела тяжелые и легкие, и не будь этого, составляли бы они нечто единое во всех отношениях. И ему стало очевидно, что реальная сущность как тяжелого, так и легкого образуется двумя вещами, из коих одна выступает как нечто, свойственное тому и другому, и это есть телесность, а другая – нечто, чем реальные их сущности отличаются друг от друга и что для первого выступает как тяжесть, а для второго – как легкость, и оба находятся в сочетании с телесностью, и это есть то, что движет одно тело вверх, другое – вниз.
Исследуя таким путем всевозможные тела, неживые и живые, и обнаруживая, что реальная сущность бытия любого из них образуется из телесности и чего-то еще, дополнительного к ней, что бывает либо одним, либо более чем одним, он заметил, что телам присуще многоразличие форм, и это первое, что раскрылось перед ним из мира духовного. Ибо то были формы, постигаемые не чувствами, а посредством определенного рода умственного созерцания.
Среди прочего перед ним открылось и то, что дух, обиталище которого – сердце, тоже должен обладать чем-то дополнительным к его телесности, что и делает его способным к удивительным действиям чувственного восприятия, к тому или иному разряду движения. А это и есть его форма, различающий признак, коим он выделяется среди прочих тел, или то, что сторонники умозрительного знания именуют животной душой[62].
Равным образом у вещи, имеющей для растений такое же значение, какое для животных имеет врожденная теплота, есть нечто свойственное только ей, что выступает в качестве ее различающего признака и чему сторонники умозрительного знания дали название растительной души. Точно так же у всех взятых вместе минералов, т.е. у всего, что, помимо животных и растений, пребывает в мире возникновения и исчезновения, есть нечто свойственное только им, посредством чего каждое из них совершает свои особые действия, относящиеся к тем или иным разрядам движения и к тем или иным воспринимаемым в них чувствами разновидностям качества. И эта вещь служит для каждого из них различающим признаком, а сторонники умозрительного знания обозначают ее словом "природа".
Когда он понял таким путем, что реальная сущность животного духа, постоянно привлекавшего к себе его любознательность, образуется сочетанием телесности и чего-то еще, дополнительного к ней, и что если телесность характерна для остальных тел, то это другое нечто, связанное с ним, свойственно ему лишь одному, тогда телесность в его глазах потеряла всякое значение, и он, оставив ее в покое, сосредоточил свою мысль на том втором, что называется "душа". Стремление его разобраться в сущности этого нечто было столь сильным, что отныне думы у него были заняты лишь этим.
Исследование свое он начал с того, что стал рассматривать тела не как таковые, а как предметы, имеющие определенные формы, из коих с необходимостью исходят свойства, обусловливающие их взаиморазличие. Наблюдая за ними и располагая их мысленно по классам, он выделял совокупность тел с общей для них формой, из каковой проистекает одно или ряд каких-то действий, затем выделял в той совокупности группу, сопричастную с ней той форме, но имеющую сверх этого еще одну форму, откуда проистекают еще действия, а в этой группе – разряд, имеющий помимо первой и второй форм некую третью, из коей происходят специфические для него действия. Например, все землистые тела, такие, как прах, камни, минералы, растения, животные и прочие, образуют единую совокупность с общей для нее формой, из которой проистекает движение вниз, если падению ничего не препятствует. Когда подобные тела движутся по принуждению вверх, стоит их отпустить, как они в соответствии с формой своей тут же начинают двигаться вниз. Входящая в эту совокупность группа, которую образуют растения и животные, помимо общей для нее вместе с упомянутой совокупностью формы имеет еще одну форму, из коей проистекают питание и рост. Питание – это восполнение питающимся телом того, что в нем актуально распалось, посредством питающей силы, которая заставляет уподобляться субстанции этого тела пищу, доведенную до полного предрасположения пищеварительной силой, с помощью доводящей силы и через силу привлекающую, для поддержания существования данного индивида и сохранения его надлежащей величины. Рост же – это увеличение размеров тела проникающей в его частицы пищей посредством растящей силы, т.е. той, которая увеличивает измерения тела – длину, ширину и глубину – в соответствии с естественной пропорцией. Два эти действия, кои свойственны и растениям и животным, происходят, конечно, от общей для них формы, именуемой растительной душой. Поэтому входящему в эту группу разряду тел, а именно животным, помимо разделяемых им с этой группой первой и второй форм, свойственна третья форма, от которой исходит чувственное восприятие и перемещение из одного участка пространства в другой.
Он заметил также, что каждый вид животных имеет некоторое свойство, выделяющее его среди прочих видов и служащее признаком, отличающим от них. И ему стало понятно, что оно возникает у вида благодаря какой-то форме, присущей только ему и дополняющей ту форму, которой он похож на остальных животных. А поэтому ему стало очевидно, что у чувственно воспринимаемых тел, которые находятся в мире возникновения и уничтожения, реальная сущность складывается у одних из большего числа элементов, дополняющих телесность, у других из меньшего, и поскольку он знал, что меньшее числом познать легче, чем большее, то первым делом он решил изучить форму того, реальная сущность чего составлена из меньшего числа элементов.
Он видел, что для того, чтобы животные и растения осуществляли свойственные им разнообразные действия, их реальные сущности должны быть составлены из большого числа элементов, а потому с размышлениями касательно форм тех и других он решил повременить. Заметив же, что одни части у земли имеют более простой состав, нежели другие, он по мере возможности старался изучить те из них, состав которых попроще. Вода, по его наблюдениям, имеет несложный состав, так как из формы ее проистекает меньшее количество действий, и так же обстоит дело с огнем и воздухом.
Еще ранее у него сложилось впечатление, что эти четыре тела превращаются друг в друга, что у них есть нечто общее, а именно телесность, и что это последнее должно быть лишено признаков, которыми каждое из этих тел отличается от остальных. Так, оно не может двигаться вверх или вниз, быть теплым или холодным, влажным или сухим, ибо ни один из перечисленных признаков не разделяется всеми телами и, следовательно, не может принадлежать телу как таковому. Поэтому если бы могло существовать тело, у которого помимо телесности не было бы никакой другой формы, то в нем не оказалось бы ни одного из этих признаков, а если бы в нем все же оказался какойто еще признак, то именно он и был бы общим для всех наделенных теми или иными формами тел.
И он стал смотреть, не найдется ли хоть одного такого признака, который был бы общим для всех тел, живых и неживых. Но он не обнаружил ничего, что было бы общим для них, кроме протяженности, которая существует у них всех по трем измерениям, именуемым "длиной", "шириной" и "глубиной". Эта вещь, он понял, принадлежит телу как таковому, однако чувствами своими ему никогда не приходилось убеждаться в том, чтобы могло существовать какое-то тело с одним только этим признаком, которое поэтому не имело бы ничего сверх упомянутой протяженности и было бы вообще лишено всех прочих форм[63].
Затем он задумался над этой трехмерной протяженностью: тождественна ли она самому телу так, чтобы уже не оставалось места ничему, или же дело обстоит иначе? И он пришел к выводу, что за протяженностью этой есть еще что-то, в чем существует одна только эта протяженность и которая не может существовать сама по себе, и что без протяженности бытие этой вещи невозможно.
Под этим углом зрения он и стал изучать некоторые наделенные формами чувственно воспринимаемые предметы окружающего мира, такие, например, как глина. По его наблюдениям, оказалось, что если вылепить из глины какую-нибудь фигуру, допустим, шар, то у нее будут определенных размеров длина, ширина и глубина, а если взять затем тот же самый шар и вылепить из него уже кубическую или яйцевидную фигуру, то и эта длина, и эта ширина, и эта глубина, изменившись, примут другие размеры, отличные от тех, что у них были прежде. Глина же при этом, оставаясь тождественной себе, не испытает никакого изменения, но будет обязательно иметь длину, ширину и глубину, независимо от того, каковы будут их размеры. То, что эти измерения получали в глине разную величину, показало ему, что они суть нечто отличное от глины, а то, что она не может быть лишена их вообще, убедило его, что они входят в ее реальную сущность.
Подходя к вопросу с этой точки зрения, он обнаружил теперь, что тело как таковое состоит в действительности из двух вещей, из коих одна соответствует в приведенном примере глине, образующей шар, а другая – длине, ширине и глубине шара, куба или какой другой фигуры, вылепленной из этой глины, что тело можно мыслить себе лишь как нечто составленное из этих двух вещей и что они не могут обойтись друг без друга. Вместе с тем вещь, способная всевозможным образом изменяться и обновляться, т.е. протяженность, напоминает форму, которая имеется у наделенных формой тел, в то время как вещь, пребывающая в одном и том же состоянии, а именно та, которая в приведенном примере соответствует глине, напоминает телесность, присущую всем наделенным формой телам. Вещь, соответствующая в указанном примере глине, и есть то, что сторонники умозрительного знания называют материей и праматерией, и она совершенно лишена формы.
Когда размышления его достигли данного рубежа, несколько удалившись от чувственно воспринимаемого мира и приблизившись к подступам мира умозрительного, ему вдруг стало не по себе, и его охватила тоска по столь привычному ему чувственному миру. Он немного вернулся назад, оставив абсолютное тело как вещь, недоступную для чувственного восприятия и неуловимую, и взялся за самые простые из виденных им доселе чувственно воспринимаемых тел, а именно за те четыре тела, которые еще ранее привлекли его внимание[64].
Обратившись первым делом к воде, он заметил, что если ее предоставить самой себе вместе с тем, чего требует ее форма, то в ней обнаруживаются холод, который можно воспринять чувством, и стремление опуститься вниз; если же ее подогреть на огне или на солнце, то в первую очередь у нее исчезает холод, но стремление вниз сохраняется; а если ее сильно нагреть, то это стремление исчезает, а возникает стремление подняться ввысь. И тогда вода лишается обоих признаков, которые доселе постоянно обнаруживались в воде и ее форме, а так как о форме можно судить лишь по двум этим действиям, то с их исчезновением становится недействительной и форма. Данное тело утрачивает форму воды, когда от него исходят действия, коим свойственно проистекать от какой-то другой формы, в нем возникает иная форма, каковой у него ранее не было, и благодаря ей в нем обнаруживаются действия, коим исходить от этого тела было не свойственно, когда оно имело прежнюю свою форму.
Отсюда он пришел к заключению, что у всего происходящего должно быть какое-то начало, и в свете этого вывода в душе его стал прорисовываться в общих чертах, без подробностей, некий действователь, производящий форму. После этого он перебрал в памяти уже известные ему формы и понял, что все они имеют какое-то происхождение и что для них непременно должен быть какой-нибудь действователь.
Рассмотрев далее сами формы, он увидел, что они являют собой не более как предрасположение тела к тому, чтобы от него исходило данное действие. Вода, к примеру, будучи сильно нагрета, становится способной к восходящему движению – эта предрасположенность и есть форма, ибо здесь нет ничего, помимо тела, его воспринимаемых чувством признаков, которых ранее не было, таких, как качества и движения, и некоего действующего начала, которое воспроизводит их. Способность же тела совершать одни, а не другие движения есть его предрасположение и форма. Обнаружив, что дело обстоит подобным образом со всеми формами, он убедился: исходящие от них действия принадлежат в сущности не им самим, а некоему действующему началу, которое осуществляет посредством форм приписываемые им действия. И именно это его открытие выражают слова посланника божьего (да благословит его Аллах и приветствует): "Я есмь слух его, коим он внимает, и зрение, коим созерцает", – а также в ясном стихе Откровения: "Не вы их убивали, но Аллах убивал их, и не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил" (Коран, 8:17).
Когда он получил о том действующем начале некоторое обобщенное, без подробностей, представление, у него возникло страстное стремление узнать о нем побольше. Поскольку же ему еще не приходилось тогда покидать пределы чувственного мира, то и искать он этого действователя начал так, как если бы это был один из предметов, доступных чувственному восприятию. При этом ему еще неведомо было, один ли это действователь или их множество.
Он изучил окружающие тела, каковыми и ограничивался доселе круг предметов, на которые направлены были всегда его размышления, и пришел к убеждению: все они в какое-то время возникают, а в какое-то – уничтожаются; те же из них, которые не уничтожаются целиком, гибнут, по его наблюдениям, частями, как это происходит, например, с водою и землей, коих части, видел он, исчезают от огня. Точно так же и воздух, как ему приходилось видеть, уничтожается под влиянием сильного холода, обращаясь в снег, а затем, когда тает, и в воду. И среди прочих окружающих тел он не видел ни одного, которое не возникало бы во времени и не уничтожалось и для которого не требовалось бы действующего начала[65]. А посему оставил он их всех в покое и перенесся мыслями к телам небесным.
К размышлениям всем этим он пришел к концу четвертой седьмины своей жизни – к двадцати восьми годам.
Небо и светила, расположенные на нем, как он выяснил, суть тела, потому что имеют протяженность в трех измерениях – в длину, ширину и глубину: этого признака не лишено ни одно из них; все, что не лишено этого признака, есть тело; следовательно, все они суть тела[66]. Затем он задумался: беспредельна ли их протяженность, простираются ли они неизменно до бесконечности в длину, ширину и глубину или имеют какую-то конечную величину и какие-то пределы, далее которых уже не простираются и за которыми не может быть никакой протяженности? Опираясь на рассудительность свою и проницательность, он пришел после некоторых колебаний к выводу: бесконечное тело есть нечто нереальное, вещь невозможная и немыслимая. Заключение это обосновывалось многими складывавшимися в уме его доводами.
А рассуждал он так[67]. В направлении ко мне, со стороны, доступной чувственному восприятию моему, тело небесное есть нечто конечное, в чем не может быть никаких сомнений, так как вижу я это собственными глазами. В противоположном же направлении, т.е. в том, относительно которого у меня возникают сомнения, невозможность его бесконечности установима следующим образом. Вот представлю себе в воображении две линии, которые, начинаясь с этой, конечной, стороны, тянутся в толще небесного тела до бесконечности в соответствии с его собственной протяженностью. Затем представлю себе одну из них значительно укороченной с конечной стороны и то, что осталось от нее, примкну укороченным концом к концу нетронутой линии и так, смыкая укороченную линию с нетронутой, последую мысленно вдоль них обеих дальше в направлении, которое можно предположить не имеющим конца. В итоге должно обнаружиться одно из двух: либо обе линии будут неизменно простираться до бесконечности, и одна из них уже не будет короче другой, и тогда укороченная линия окажется равной линии неукороченной, что, однако, столь же невозможно, сколь невозможно равенство целого и части; либо укороченная линия не будет простираться с нею вместе вечно, но где-то прервется, и тогда длина ее окажется конечной. Если же вернуть ей после этого отрезок, на который она была прежде укорочена, то, коль скоро отрезок этот имел конечную величину, она и в целом виде окажется конечной, притом и не уступая линии нетронутой в длине, и не превосходя ее, т.е. будучи равновеликой ей. Но так как линия эта конечна, то и та должна будет иметь конечную длину, а это значит, что конечной величины должно быть и тело, в коем эти линии были мысленно проведены. Поскольку же линии такие можно представить себе в любом теле, то, стало быть, и всякое тело имеет конечную величину, и если мы предположим, что существует какое-то бесконечное тело, то допустим нечто нереальное и невозможное.
Убедившись благодаря подсказавшей ему эти доводы проницательности в том, что тело неба имеет конечные размеры, он захотел узнать, какую оно имеет форму и как именно заканчивается поверхностями, ограничивающими его величину.
Первым делом он обратил свой взор на Солнце, Луну и другие светила и увидел, что все они появляются на востоке и скрываются на западе. Те из светил, которые проходят через зенит, представлялись ему описывающими больший круг, а те, которые проходят севернее или южнее зенита, – меньший. Причем круги, описываемые светилами с большим удалением в ту или другую сторону от зенита, меньше кругов, описываемых светилами с меньшим расстоянием от него, так что наименьшими из кругов, по которым движутся светила, оказываются два: один – с центром в Южном полюсе, а именно круг Канопуса, другой – с центром в Северном полюсе, т.е. круг Двух Тельцов[68]. Поскольку жил он, как говорилось вначале, на экваторе, все круги эти по отношению к плоскости горизонта находились у него в перпендикулярном положении, располагаясь симметрично к северу и югу, и оба полюса у него были на виду.
Выжидая, когда одно какое-нибудь светило восходило по большему кругу, а какое-то другое – по меньшему так, чтобы время их восхода было одним и тем же, и видя, что заход их также происходит одновременно и что то же самое повторяется со всеми светилами и во всякое время, он убеждался воочию, что небо имеет сферическую форму. Убеждение это подтверждалось наблюдениями, говорившими о том, что Солнце, Луна и другие светила, скрываясь на западе, возвращаются затем с востока, а равно о том, что и на восходе, и в середине пути, и при заходе они имеют одинаковую величину и что, если бы движение их происходило не по сферической линии, то расстояние от них до глаз его в разное время было бы обязательно разным, а значит, величины и размеры их представлялись бы ему тоже неодинаковыми, ибо из-за неодинаковой удаленности своей от центра они казались бы вблизи больше, чем издалека. Поскольку же ничего такого не происходило, сферичность неба для него стала доказанной.
Беспрестанно наблюдая за движением Луны, он убедился, что ему свойственно направление с запада на восток; к таким же выводам он приходил в отношении движения планет; а под конец ему открылось многое из того, чему учит астрономия. Он выяснил, что движение светил осуществляется благодаря многочисленным небесным сферам, заключенным в совокупности своей внутри одной, высшей, сферы, каковая и сообщает Вселенной суточное движение с востока на запад. Пришлось бы потратить много времени прежде, чем можно было объяснить и, уразуметь, как именно происходит движение Вселенной, – это доказывается в соответствующих сочинениях. Для нашей же цели вполне достаточно и того, что было здесь сказано.
Познав все это, он пришел к заключению, что вся небесная сфера и содержимое ее суть как бы единая вещь, части которой находятся друг с другом в непрерывном соединении[69]; что все исследованные им ранее тела, такие, как земля, вода, воздух, растения, животные и тому подобное, целиком заключены внутри этой сферы и не выходят за ее пределы; что, взятая в целом, она более всего напоминает особь какого-то животного[70], а горящие в ней светила соответствуют чувствам животного, разнообразные сферы, что находятся в ней, соединенные друг с другом, соответствуют органам животного, тогда как пребывающий в ее глубине мир возникновения и уничтожения соответствует содержащимся во внутренностях животного разного рода излишкам и жидкостям, в коих, как и в макрокосмосе, часто тоже возникают живые существа[71].
Когда ему стало очевидно, что все это действительно подобно единому индивиду, в бытии своем нуждающемуся в некоем действующем начале, и когда многообразные части этого предстали перед ним как нечто единое, рассматриваемые под тем же углом зрения, под которым единство обрели в его глазах тела, находящиеся в мире возникновения и уничтожения, он начал размышлять о мире в целом: есть ли это нечто такое, что, появившись после того, как его не было, вошло в бытие, предваряемое небытием, или же это вещь, существованию которой в прошлом не предшествовало никакого небытия? Вопрос этот вызвал у него затруднения, и он не мог отдать предпочтение ни тому, ни другому положению.
Когда он решался было поверить в извечность мира, его удерживали от этого многочисленные доводы, говорившие о невозможности существования чего-либо бесконечного, вроде того силлогизма, который убедил его в невозможности существования бесконечного тела. Он видел также, что окружающее его бытие не бывает лишено явлений, имеющих начало во времени, и, следовательно, не может быть чем-то им предшествующим, а что не может предшествовать имеющим во времени начало явлениям, то и само должно иметь во времени начало. Но когда решался было он поверить в возникновение мира во времени, ему препятствовали в этом уже иные доводы. Он понимал, что возникновение мира после того, как его не было, можно мыслить себе, только разумея под этим предшествование миру времени. Время же, входя в совокупность мира, неотделимо от него. Следовательно, отставание мира от времени немыслимо.
А еще он рассуждал так. Если мир имеет происхождение во времени, то у него должно быть непременно и какое-то производящее начало. Но почему это начало произвело его именно в данное "теперь", а не раньше? Может, на него повлияло какое-то возникшее вдруг обстоятельство? Но ведь, кроме него, ничего и не было. Или, может, в нем самом произошло какое-то изменение? Но если так, то что же произвело это изменение?[72] Несколько лет он все время размышлял над этим, но доводы у него оказывались противоречивыми, и ни одному из двух положений предпочтения отдать он не мог. Когда у него не было уже другого выхода, он начал думать о том, что может следовать из этих положений, – а не окажется ли, что из них следует одно и то же?
Он видел: если принять точку зрения, согласно которой мир возник, вступив в бытие после того, как он был не-сущим, то пришлось бы с необходимостью признать, что мир не мог вступить в бытие сам по себе, что для него обязательно должно иметься некое действующее начало, которое и вывело его в бытие, и что начало это не может быть воспринято ни одним из чувств. Ибо если бы его могло воспринимать какое-то чувство, то это было бы некоторое тело; если бы это было тело, оно входило бы в совокупность мира, имело бы происхождение во времени и нуждалось бы в некотором производящем начале; если это второе производящее начало тоже было бы телом, то оно нуждалось бы в третьем производящем начале, третье – в четвертом и так до бесконечности, что нелепо[73].
Следовательно, для мира должно иметься некое действующее начало, и оно не есть тело. Если это начало не является телом, то его нельзя воспринимать никаким чувством, потому что пять чувств способны воспринимать лишь тела и то, что сопутствует телам. Если оно невоспринимаемо чувствами, то его нельзя себе представить и в воображении, поскольку воображение есть не что иное, как представление форм чувственно воспринимаемых предметов после того, как самих предметов уже нет в наличии. А раз это действующее начало не есть тело, то оно не может выступать носителем свойственных телам признаков, из коих первейшим является протяженность в длину, ширину и глубину. Протяженность чужда ему, как чужды и другие, следующие из нее, признаки тел. Поскольку же оно по отношению к миру выступает как некий действователь, то у него, без сомнения, должны быть и власть над миром, и знание о нем: "Разве же не знает тот, кто сотворил, а Он – проникающий, сведущий?" (Коран, 67:14).
С другой стороны, он видел: если принять точку зрения, согласно которой мир извечен, небытие не предшествовало ему и он всегда был таким, каков есть, то пришлось бы с необходимостью признать, что движение его извечно и безначально, ибо ему не предшествовало никакого покоя, с которого бы оно могло начаться. Для всякого же движения по необходимости должен быть двигатель, а двигатель бывает либо силой, заключенной в каком-то теле, будь то тело самого двигателя или другое, внеположенное ему тело, либо силой, ни в каком теле не заключенной и не разлитой. Всякая сила, заключенная и разлитая в каком-нибудь теле, распадается на части вместе с его делением и умножается вместе с его увеличением. Так, например, обстоит дело с тяжестью в камне, движущей его вниз: если камень разбить надвое, то и тяжесть его разделится пополам, а если к камню добавить другой, равный ему по величине, то и тяжесть его возрастет на равную ей величину. Если же размеры камня могли бы увеличиваться до бесконечности, то и тяжесть эта возрастала бы беспредельно, а если камень, достигнув в своей величине какого-то предела, перестал бы далее расти, то и тяжесть перестала бы возрастать на этом пределе. Но, как было уже доказано, всякое тело имеет конечную величину, а раз так, то и всякая сила в теле должна иметь непременно конечную величину.
Таким образом, если бы мы нашли силу, совершающую какое-то бесконечное действие, то это была бы сила, не заключенная в теле. Между тем небесная сфера, как мы обнаружили, пребывает в бесконечном и беспрерывном движении, поскольку, по предположению нашему, она извечна и безначальна. Отсюда с необходимостью следует, что приводящая ее в движение сила не заключена ни в теле сферы, ни в каком-то внеположенном ему теле. А раз так, то эта сила принадлежит чему-то такому, что отрешено от тел и чему нельзя приписать никаких признаков телесности. Изучая же мир возникновения и уничтожения, он выяснил, что реальная сущность бытия всякого тела относится к его формальной стороне, т.е. к предрасположенности совершать многообразные движения, а бытие его со стороны материи – слабое и почти неуловимое[74]. Значит, бытие всего мира относится к той его стороне, с которой он предрасположен быть приводимым в движение этим двигателем – отрешенным и от материи, и от признаков, свойственных телам, и от всего того, что воспринимаемо чувством или доступно для воображения. И если оно служит действующим началом для разнообразных движений неба так, что те совершаются равномерно и с неослабной силой, то у него, бесспорно, должны быть и власть над миром, и знание о нем.
Этот способ рассуждения привел его к тому же, к чему привел его и предыдущий способ. При этом прежние его сомнения относительно того, извечен мир или имеет начало, ему нисколько не помешали: и то и другое решение вопроса подтверждали в его глазах существование некоего действующего начала, которое и не является телом, и не соединено с телом, и не разъединено с ним, и не включено в него, и не внеположено ему, ибо соединение, разъединение, включенность, внеположенность – все это признаки, свойственные телу, а оно отрешено от них.
Коль скоро материя любого тела нуждается в форме, поскольку бытие ее зависит от формы и без последней реальная ее сущность неустановима, а форма, со своей стороны, может существовать лишь благодаря действию этого действующего начала, то ему стало ясно, что все сущее в бытии своем нуждается в оном действователе, и все вещи зиждутся только на нем. По отношению к существующим вещам это начало, следовательно, выступает как причина, а те по отношению к нему – как обусловленное причиной, все равно, стали ли они существовать после того, как их не было, или у них не было начала, с точки зрения времени, и небытие никак их не предваряло. В том и другом случае они суть вещи, причинно обусловленные и нуждающиеся в действователе, от которого зависит их существование. Не будь это начало постоянным, и вещи не были бы постоянными; не будь оно сущим, и вещи бы не существовали; не будь оно извечным, и вещи не были бы извечными. Само же оно не нуждается в этих вещах и отрешено от них. А как же иначе? Ведь доказано было, что мощь и сила его бесконечны, тогда как тела все и всё, что связано с ними или хоть как-то зависит от них, имеют конец и известный предел.
Итак, весь мир со всеми объемлемыми им "небесами, землей, светилами и тем, что пребывает меж ними", над ними и под ними, есть действие и творение его. Мир этот выступает по отношению к нему как нечто последующее в сущности, хотя и не является таковым во времени. Если ты станешь, к примеру, двигать рукою, взяв в ладонь какое-нибудь тело, то вслед за рукой твоей в движение придет, конечно, и это тело, и движение его будет чем-то последующим по отношению к движению твоей руки в сущности, хотя и не будет таковым во времени, поскольку то и другое движения начались одновременно. Вот точно так же и мир весь выступает как нечто причинно обусловленное и тварное по отношению к оному действователю в непременном смысле: "Его приказ, когда Он желает чего-нибудь, – только сказать ему: "Будь!" – и оно возникает" (Коран, 36:82).
Убедившись, что все сущее есть результат действия этого действующего начала, он стал рассматривать вещи после этого как проявления могущества определившего бытие их действующего начала, дивясь необыкновенному его искусству, всепроницающей мудрости и всеобъемлющему знанию. И не то что в широких областях сущего – даже в ничтожнейших его частях открывались перед ним изумительные признаки мудрости и проявления искусства, и он уже не сомневался: все это может исходить только от творца, самого совершенного и сверхсовершенного, от кого не утаится ни вес пылинки на небесах и на земле и ничто самое меньшее или самое большее (Ср.: Коран, 34:3).
Далее он стал рассматривать всевозможные виды животных с точки зрения того, как тот, кто вечно и всегда действует, дал каждой вещи ее строй, а потом научил (Ср.: Коран, 20:52 (50)) должному применению этого строя – ведь не научи он животных надлежащему применению органов, созданных на пользу с тем или иным назначением, то органы не пользу приносили бы им, а только тяготы одни, – и понял, что это действующее начало – щедрейшее из щедрых, милостивейшее из милосердных.
Отныне, на какой бы из предметов, отличающихся красотой, блеском, совершенством, силой или любой иной добродетелью[75], ни падал взор его, он убеждался, поразмыслив, что все они суть эманация этого действующего начала, его существования и действия. Ему понятно было поэтому: то, чем оно является само, превосходит это все и по величию, и по совершенству, и по законченности, и по красоте, и по постоянству – и ни с чем это нельзя сравнивать. Продолжая перебирать так всевозможные признаки совершенства, он заключил, что таковые и принадлежат ему, и исходят от него и по сравнению с прочими носителями тех же признаков оно обладает ими с гораздо большим правом.
Проследив же все признаки несовершенства, он убедился, что это действующее начало свободно и отрешено от них. Как же ему не быть свободным от них, если по идее своей несовершенство есть не что иное, как чистое небытие либо то, что связано с небытием? Какое отношение, какое касательство может иметь небытие к тому, кто то самое сущее, бытийно необходимое[76] само по себе, которое наделяет существованием все, что обладает бытием, и помимо которого, следовательно, нет никакого бытия, если оно есть само Бытие, само Совершенство, сама Законченность, сам Блеск, само Могущество, само Знание, само Оно, которое таково, что всякая вещь гибнет, кроме лика Его? (Ср.: Коран, 28:88).
Этого рубежа познания он достиг к концу пятой седьмины своей жизни – к тридцати пяти годам. Мысль о действователе том запала в сердце его так глубоко, что он не в силах был размышлять о чем-нибудь другом, помимо него. Ему уже недосуг было заниматься, как прежде, изучением и исследованием существующих вещей: отныне, на какой бы предмет ни падал его взор, он сразу видел в нем проявление Мастерства и в тот же миг переносился мыслями своими к Мастеру, оставляя без внимания его творение. Влечение души его к тому действователю стало под конец столь сильным, что, всецело отвлекшись от мира чувственного, низменного, она привязалась к миру возвышенному, умопостигаемому. Когда у него сложилось представление об этом возвышенном и в бытии своем устойчивом сущем, для бытия которого нет никакой причины, но которое само и есть причина бытия всего, ему захотелось выяснить, чему обязан он обретением этого знания, какою силой удалось ему то сущее постичь. Все чувства перебрав свои – и слух, и зрение, и обоняние, и вкус, и осязание, он убедился, что предметом восприятия для них всех может быть лишь тело, либо то, что пребывает в нем. Ибо слух воспринимает только звуки, т.е. волнообразное движение воздуха, возникающее при ударе тел; обоняние воспринимает запахи; вкус – вкусовые качества; осязание – температуру, твердое и мягкое, шероховатое и гладкое. Точно так же и сила воображения воспринимает предметы не иначе как имеющими длину, ширину и глубину. Все эти данные восприятию вещи суть нечто, свойственное телам, а воспринимать что-нибудь другое чувства неспособны. Ведь чувства – это силы, разлитые в телах и при делении последних подвергающиеся такому же делению, ввиду чего воспринимаются ими лишь тела, которые поддаются делению. Ибо если такая сила разлита в чем-то поддающемся делению, то при восприятии ею какого-нибудь предмета, последний должен непременно вместе с ее делением делиться и сам. Стало быть, всякая сила в теле способна воспринимать лишь тело, либо то, что пребывает в нем.
Между тем уже было выяснено: бытийно необходимое сущее совершенно свободно от всего, что свойственно телам, а следовательно, постичь его можно лишь чем-то таким, что не есть ни тело, ни сила в теле, у чего нет никакой связи с телом, что не пребывает ни внутри тела, ни за его пределами, что и не соединено, и не разъединено с телами. Ему стало ясно, что постиг он сущее сие своею самостью. Знание о нем у него упрочилось, и он понял таким образом: самость его, которой он постиг то сущее, есть нечто нетелесное, не поддающееся описанию чем-либо, свойственным телам, и все, что постигает он в самости своей с внешней, телесной стороны, не тождественно реальной ее сущности, а эта последняя и есть то самое нечто, посредством которого он постиг абсолютное, бытийно необходимое сущее.
Уяснив, что самость его не тождественна вот этой постигаемой им посредством чувств кожей обтянутой плоти, он и вовсе перестал обращать на свое тело какое-либо внимание и начал думать об этой благородной самости, с помощью которой ему удалось постичь то благородное бытийно необходимое сущее. Поразмыслив, может ли благородная самость его погибнуть либо исчезнуть, обратившись в ничто, он пришел к выводу: уничтожение и исчезновение суть нечто, свойственное телам и выражающееся в том, что последние, сбрасывая одну какую-нибудь форму, облачаются в другую. Так, к примеру, обстоит дело с водой, обращающейся в воздух, с воздухом, становящимся водой, с растениями, превращающимися в прах или пепел, и с прахом, претворяющимся в растения. Все это означает уничтожение. Что же касается предмета, который не является телом и, будучи отрешен от всего телесного, для существования своего не нуждается в теле, то уничтожение его есть нечто совершенно немыслимое.
Когда он установил, что подлинная его самость уничтожиться не может, ему захотелось узнать, что будет с ней, если она, покинув тело, освободится от него. Ему было ясно, что самость его покинет тело только тогда, когда оно станет непригодным для нее в качестве орудия. Рассмотрев же одну за другой все свои воспринимающие силы, он пришел к заключению, что каждая из них бывает воспринимающей то потенциально, то актуально. Допустим, если глаза зажмурены или отведены от вещи, которую можно созерцать, то они являются воспринимающими потенциально (последнее означает, что они не воспринимают сейчас, но могут воспринимать в будущем), а если открыты и обращены на эту вещь – воспринимающими актуально (т.е. они воспринимают в данное время). Точно так же и любая другая воспринимающая сила бывает таковой то потенциально, то актуально. С каждой из этих сил дело обстоит таким образом, что если ей не приходилось никогда воспринимать чего-нибудь актуально, то, пребывая в потенциальном состоянии, она не будет стремиться воспринять то, что ей положено воспринимать, ибо она об этом не имеет никакого представления. Так, к примеру, бывает со слепорожденным. Буде же ей доведется раз почувствовать что-либо актуально, а затем перейти в потенциальное состояние, то в этом последнем состоянии она будет стремиться к актуальному восприятию, поскольку с тем, что ею ощущается, она уже знакома, привязалась к этому предмету и томится по нему. Так, к примеру, обстоит дело с человеком, который, прежде зрячий, ослеп и теперь испытывает по предметам зрительного восприятия непрестанную тоску. И чем более совершенен, великолепен и прекрасен воспринимаемый предмет, тем сильнее бывает к нему влечение и тем мучительней приносимая его утратой боль. Вот почему потеря зрения человеком, который был до этого зрячим, причиняет ему страдания, более тяжкие, чем те, которые бы он испытывал от потери обоняния: предметы, воспринимаемые зрением, отличаются большим совершенством и красотой, чем предметы, воспринимаемые обонянием. Если же среди прочего нашелся бы предмет совершенства бесконечного, красоты, благолепия и блеска беспредельного, предмет, который возвышался бы над всяким совершенством, всяким блеском, всякой красотой, который был бы таков, что любое совершенство, любая красота, всякий блеск, всякое благолепие, какие только есть в бытии, исходили бы неизменно с его стороны, проистекали единственно лишь от него, то человек, утративший после знакомства с ним способность к дальнейшему его восприятию, испытывал бы, несомненно, муки неизбывные, а кто бы непрестанно воспринимал его, тот пребывал бы в состоянии бесконечной радости, беспредельного восторга, безграничного блаженства и наслаждения. Ему стало ясно, что сущее, бытийно необходимое, обладает всеми атрибутами совершенства, тогда как от признаков несовершенства отрешено и свободно.
Ему стало очевидно и то, что вещь, посредством которой можно достичь восприятия его, есть нечто непохожее на тела и не уничтожающееся при их уничтожении. Отсюда он пришел к заключению: кто наделен атрибутами, предрасполагающими к подобного рода восприятию, тот, разлучаясь с телом после смерти, оказывается в одном из нижеследующих состояний.
Либо прежде, пока он распоряжался телом, не имел о сущем, бытийно необходимом, никакого представления, не входил с ним в соединение и ничего не слышал о нем. Тогда, расставшись с телом, он не стремится к сущему сему и не испытывает мучений, связанных с его утратой. А что до телесных сил, то, раз таковые погибают вместе с гибелью тела, то они тоже не стремятся к тому, к чему им надлежало бы стремиться, не тоскуют по нему и не испытывают от его утраты никаких мучений. Так обстоит дело со всякой лишенной разума скотской породой, безразлично, в человеческом та обличье или нет.
Либо прежде, пока он распоряжался телом, познал это сущее, получил представление о том, каковы его совершенство, величие, власть, могущество и красота, но отвернулся от него, увлеченный собственными страстями, так что в этом состоянии смерть его и застигла. Тогда придется ему, лишенному возможности Созерцания, но страждущему достичь его, пройти через пытки долгие, муки безмерные, все равно, дано ли ему после усилий продолжительных избавиться от этих мук и созерцать то, что он мечтал доселе созерцать, или суждено ему остаться со страданиями своими навеки – в зависимости от того, к какому из этих исходов был предуготовлен он своей телесной жизнью. Либо же он прежде, чем расстался с телом, познал это бытийно необходимое сущее, всевсецело предался размышлениям о нем и, беспрестанно думая о великолепии его, красоте и блеске, никогда не отворачивался от него, так что смерть его застигла погруженным в размышления о нем и предавшимся в актуальное его созерцание. Тогда после разлуки с телом ему суждено пребывать в состоянии беспредельной радости, нескончаемого блаженства, наслаждения и восторга от беспрерывного созерцания бытийно необходимого сущего и от того, что созерцание это ничем не затемнено и не замутнено. И он освобождается от связанных с телесными силами чувственных вещей, кои по сравнению с тем состоянием суть только мука, зло и помеха. Убедившись, что самость его может достичь совершенства и блаженства, лишь если будет находиться беспрерывно в состоянии неизменно актуального созерцания бытийно необходимого сущего, не отвлекаться от него ни на единое мгновение, так, чтобы смерть застала его в этом состоянии и испытываемое им блаженство продолжалось, не нарушаемое никаким страданием, он стал думать: как добиться непрерывности этого актуального созерцания, дабы не приходилось отвлекаться от него?[77]
Дело в том, что стоило ему на этом сущем сосредоточить свою мысль, как или какая-нибудь чувственная вещь попадалась на глаза, или крик какого-нибудь животного проникал в его уши, или что-нибудь представлялось ему в воображении, или в органе каком-то донимать его начинала боль, или начинали досаждать голод, жажда, холод либо жара, или приходилось подниматься с места по естественной потребности. Мысль тогда рассредоточивалась, настрой душевный пропадал, и возвращаться в прежнее созерцательное состояние удавалось лишь с трудом. Поэтому он боялся, что, явившись нежданно, смерть застигнет его в таком, несосредоточенном состоянии и тогда быть уделом его вечным страданиям и мукам. Подобное положение вещей его огорчало, но ничего поделать с этим он не мог.
Тогда он начал наблюдать над животными всевозможных видов, изучать их повадки и влечения в надежде заметить хоть у кого-нибудь из них, что и они, догадываясь об этом сущем, стремятся к нему, и поучиться у них тому, что, быть может, послужило бы ему средством для спасения. Но наблюдения эти показали, что все они то и делают, что стремятся добыть себе пищу, заняты тем, что необходимо для удовлетворения желания есть, пить, удовлетворить половую страсть, найти тень или тепло, усердствуя в этом денно и нощно, пока с истечением отведенного им срока не околеют. Он не замечал, чтобы хоть одно из них отошло когда-нибудь от этого распорядка или пыталось следовать другому, откуда он заключил, что животные и не догадываются об этом сущем, и не испытывают к нему влечения, и не имеют о нем никакого представления и что все они обречены перейти в небытие или в какое-то небытию подобное состояние[78].
Придя в отношении животных к такому заключению, он понял, что данный вывод в еще большей мере справедлив в отношении растений, ибо у последних есть только часть тех восприятий, которыми располагают животные: если подобного знания не достигло существо с восприятием более совершенным, то существу с восприятием менее совершенным его и подавно не достичь. И все действия у растений, как он видел, сводятся к одному лишь питанию да размножению.
После этого он стал наблюдать за светилами и сферами небесными. Он заметил, что движения у них всех упорядочены, закономерны и что, прозрачные и сверкающие, они не подвержены ни изменению, ни уничтожению. И с силою необычайной интуиции его осенило: помимо тел, у них есть самости, которые познают бытийно необходимое сущее, и эти познающие самости и не являются телами, и не запечатлены в телах. И как не обладать им такими, отрешенными от телесности, самостями, если таковая имеется у него – существа слабого, столь нуждающегося в чувственных вещах и принадлежащего к разряду тел, подверженных уничтожению? А ведь при всем свойственном ему несовершенстве это не мешает его самости быть вещью, отрешенной от тел и не подверженной уничтожению. Отсюда он вывел, что так тем более должно быть с телами небесными, понял, что они познают бытийно необходимое сущее, созерцая его непрерывно и актуально, поскольку тела небесные не сталкиваются с чувственными помехами, подобными тем, которые, прерывая у него созерцание, нарушают его постоянство.
Далее, он стал думать: среди всех прочих видов живых существ именно у него оказалась самость, с которой наибольшее сходство обнаруживают небесные тела. Наблюдая же раньше за элементами и их взаимопревращением, он убедился в следующем. Ничто на земле не пребывает в одной и той же форме, но во всем происходит бесконечное чередование возникновения и уничтожения. Большинство окружающих тел – это смеси, состоящие из противоположных вещей, ввиду чего они и обречены на гибель. Ни одно из них не существует в чистом виде, а тела, которые близки к тому, чтобы быть чистыми, свободными от посторонних примесей и вкраплений, весьма далеки от гибели, как, например, обстоит дело с золотом и яхонтом. Но небесные тела просты и чисты, а это значит, что они далеки от уничтожения[79] и формы в них не сменяются друг другом.
Он убедился тогда и в том, что в мире возникновения и уничтожения у одних тел сущность воплощается в одной – дополнительно к телесности – форме, как это имеет место с четырьмя стихиями, а у других – более чем в одной, как, например, в случае с животными и растениями. Тела, сущность которых конституируется меньшим количеством форм, совершают более однообразные действия и более далеки от жизни. То, что вообще лишено формы, к проявлению признаков жизни неспособно и находится в состоянии, подобном небытию. То же, сущность чего воплощается большим количеством форм, совершает более разнообразные действия и способно к более полному обнаружению признаков жизни. А когда формы эти таковы, что никак не могут быть отрешены от свойственной им материи, тогда жизнь проявляет себя предельно ярким, постоянным и интенсивным образом.
Вещь, вообще лишенная формы, – это первоматерия и материя. В ней нет никакой жизни, и она подобна небытию. Вещи, образованные одной формой, – это четыре стихии. Таковые находятся на начальной ступени бытия в мире возникновения и уничтожения, и из сочетания их возникают вещи, обладающие многоразличными формами. Жизнь в стихиях обнаруживает себя чрезвычайно слабо, ибо совершают они только одно какое-то действие[80]. Причина же слабого обнаружения в них признаков жизни состоит исключительно в том, что у каждой из них есть своя противоположность, которая явственно противодействует ей, препятствуя осуществлению того, чего требует ее природа, и вынуждая ее к тому, чтобы она изменила свойственную ей форму. Вот почему бытие у стихий неустойчивое и проявляется слабо. У растений же признаки жизни обнаруживаются сильнее, а у животных – еще заметнее. Дело в том, что, когда в каком-нибудь составном теле получает преобладание природа одной из стихий, последняя, благодаря заключенной в ней силе, берет верх над природой других стихий и заключенную в них силу сводит на нет. В итоге составное тело начинает вести себя так же, как взявшая верх стихия: оно оказывается способным проявлять столь же незначительные признаки жизни, сколь слабы ее признаки, кои способен обнаруживать данный элемент.
Напротив, в том составном теле, в котором природа одной какой-то стихии преобладания не получает, стихии взаимно нейтрализуются и уравновешиваются: одна из них сводит на нет силу другой не в большей мере, чем та этой, и действие их друг на друга осуществляется с одинаковой интенсивностью, так что ни одна стихия и не производит в этом теле действия, более заметные, чем другие, и не господствует в нем. Поэтому данное тело далеко от того, чтобы вести себя подобно одной из стихий, и как бы не имеет ничего противоположного своей форме, а значит, и оказывается способным обнаруживать признаки жизни. И чем строже эта соразмерность, чем полнее она осуществлена и чем меньше возможность ее нарушения, тем незначительнее вероятность появления для этого тела противоположности и тем полнее обнаруживает себя в нем жизнь. Поскольку же обитающий в сердце животный дух, будучи более разреженным, чем земля и вода, но более плотным, чем огонь и воздух, имеет в высшей степени уравновешенный состав, то положение он занимает среднее, исключающее заметное противостояние ему какой-либо из стихий, благодаря чему он и оказывается предрасположенным к принятию формы животности.
Из этого, как он заметил, вытекают с необходимостью следующие выводы.
Животные духи, которым свойственна наибольшая соразмерность, способны обнаруживать наиболее полным образом признаки жизни, присущей миру возникновения и уничтожения. Относительно же того духа можно с полным правом утверждать, что для его формы не существует никакой противоположности, а потому он схож с небесными телами, формы которых тоже не имеют противоположности. Дух такого рода живого существа будто и в самом деле занимает срединное положение между стихиями, которые не движутся абсолютно ни вверх, ни вниз, – если бы его можно было поместить в середине пространства, разделяющего центр и верхний предел, достижимый для огня[81], и если бы он при этом не подвергался уничтожению, то, заняв там устойчивое положение, он не стремился бы ни подняться, ни опуститься. Если же ему пришлось бы прийти в движение, то, изменяя место, он двигался бы вокруг центра, как это делают небесные тела, а изменяя положение – вокруг самого себя, и в таком случае у него была бы сферическая форма, поскольку всякая другая форма была бы невозможна. Таким образом, дух этот обнаруживает чрезвычайное сходство с небесными телами.
Коль скоро, наблюдая прежде за поведением животных, он не замечал ничего дающего повод для предположения, что они догадываются о бытийно необходимом сущем, тогда как относительно собственной самости ему было известно, что она догадывается о нем, то у него сложилось о себе твердое убеждение: он и есть то живое существо, которое наделено духом, уравновешенным и обнаруживающим сходство со всеми небесными телами. И для него стало очевидно, что он представляет собой особый вид, отличный от прочих видов живых существ, и что, созданный с иной целью, он предназначен для чего-то великого, ради чего ни один другой вид живых существ быть созданным не мог[82].
Над окружающим его возвышало уже одно то, что даже низшая, телесная, из двух его составных частей более, чем что-либо другое, сходна с небесными субстанциями, пребывающими по ту сторону мира возникновения и уничтожения и свободными от привходящих недостатков, превращения и изменения. Что же до высшей его составной части, то это вещь, посредством которой он познал бытийно необходимое сущее, это нечто божественное, господнее, не подверженное ни превращению, ни уничтожению, чего нельзя ни описать какими-либо свойственными телам признаками, ни воспринять каким-либо из чувств, ни представить себе в воображении, ни познать иными какими-нибудь средствами, помимо нее самой. Через нее же самое она может быть познана потому, что умопостигающее, умопостигаемое и умопостижение в ней – едино, это и познающее, и познаваемое, и познание. Причем это не вызывает в ней никакого внутреннего различия, ибо внутреннее различие и членение на части суть атрибуты и сопутствующие признаки тел, а здесь ни тела никакого нет, ни атрибутов тела, ни каких-либо сопутствующих ему признаков.
Выяснив, что именно выделило его среди прочих разновидностей живых существ в качестве существа, обнаруживающего сходство с небесными телами, он счел за необходимое уподобляться им, подражать их действиям и всячески стараться быть похожим на них.
Увидев же, с другой стороны, что высшей своей частью, которой было познано бытийно необходимое сущее, он сходен с этим сущим постольку, поскольку он отрешен, подобно ему, от свойственных телам атрибутов, он счел за необходимое также стараться заимствовать по мере возможности его атрибуты, перенимать черты его натуры, следовать его примеру в своих действиях, со всем рвением выполнять его волю, подчиняться ему и соглашаться от души со всеми его решениями как внутренне, так и внешне, дабы получать от этого радость и тогда, когда это несло бы его плоти страдания, вред и даже полную гибель. Вместе с тем ему было понятно, что он похож на живые существа других видов низшей своей частью, принадлежащей миру возникновения и уничтожения, а именно мрачной и грубой своей плотью, каковая вызывает в нем чувственные влечения, связанные с желанием есть, пить и удовлетворить половую страсть. Но понимал он и то, что тело создано для него неспроста и в сочетание с ним вошло не напрасно, что он должен заботиться о нем и поддерживать его в надлежащем состоянии. Заботиться же о теле он мог, лишь совершая действия, сходные с действиями других живых существ.
Действия, которые ему надлежало совершать, имели, как он думал, троякую цель: это были либо действия, помогающие уподобиться неразумным животным, либо действия, помогающие уподобиться небесным телам, либо действия, помогающие уподобиться бытийно необходимому сущему. Первое уподобление требуется от него, раз он наделен мрачной плотью с раздельными органами, различными силами и многообразными влечениями; второе – поскольку он обладает животным духом, место которого в сердце и который выступает началом для всего остального тела и для имеющихся в последнем сил; третье же – поскольку он тождествен себе, т.е. является сущностью, которой он познал бытийно необходимое сущее.
Счастье и избавление от мук могло ему принести, как он уже знал, лишь такое постоянство созерцания бытийно необходимого сущего, когда он не будет отвлекаться от него ни на единое мгновение. Дальнейшие же размышления над тем, как именно добиться такого постоянства, убедили его в необходимости прибегать к этим трем родам уподобления. Первое уподобление не только не дает никакого созерцания, но и, отвлекая внимание, препятствует ему, ибо оно заставляет заниматься чувственными предметами, а таковые все встают препятствием на пути к достижению того созерцательного состояния. Уподобление данного рода требуется единственно для того, чтобы поддерживать существование животного духа, посредством которого достигается второе уподобление – небесным телам. В этом отношении потребность в нем, при всем приносимом им ущербе, вызывается необходимостью.
Второе уподобление дает для достижения постоянного Созерцания очень много, но все же Созерцание, связанное с ним, не безупречно, поскольку тот, кто погружен в подобного рода Созерцание, думает одновременно и о самом себе, отвлекаясь самостью своею так, как это выяснится ниже.
Третьим же уподоблением достигается чистое Созерцание, ничем не омрачаемое Погружение, когда все внимание устремлено только на бытийно необходимое сущее. Кто пребывает в состоянии подобного рода созерцания, для того собственной его самости уже не существует – она скрывается, исчезает и обращается в ничто. И то же самое происходит со всеми прочими самостями, много их или мало, помимо бытийно необходимого истинно единосущего (великое оно, всевышнее и всеславное).
Когда стало ясно для него, что конечная цель его состоит в этом, третьем, уподоблении, что достичь его он может, лишь долго упражняясь и прибегая ко второму уподоблению, и что необходимое для этого время он может обеспечить себе только через уподобление первого рода, когда стало понятно, что первое уподобление, при всей его необходимости, само по себе является препятствием и что хотя оно оказывает помощь акцидентально, а не сущностно, тем не менее обойтись без него невозможно, тогда он счел своим долгом прибегать к уподоблению первого рода лишь в меру необходимости, т.е. самую малость – столько, сколько требуется для того, чтобы поддерживать существование животного духа.
Для поддержания же существования животного духа, как он обнаружил, необходимы две вещи: во-первых, это то, чем он должен снабжаться изнутри, восполняя рассеивающиеся свои частицы, а именно пища; во-вторых, это то, посредством чего он должен оберегать себя снаружи, защищаясь от всякого рода напастей, вроде холода, жары, дождя, солнцепека, живых существ, доставляющих неприятности, и тому подобного. При этом ему было понятно, что если он станет прибегать к этим необходимым вещам необдуманно, как попало, то может хватить лишку, и тогда он сам не заметит, как старания его обернутся против него же самого. И он счел за благоразумное установить для всего этого какие-то пределы, которые не будет преступать, и какую-то меру, которую не станет превышать.
Ему было ясно, что решение этой задачи требует рассмотрения того, какого рода пищу он употребляет, что именно он ест и через какие промежутки. Рассмотрев прежде всего, какого рода пища им употребляется, он увидел, что ее можно разделить на три разряда: не созревшие до конца и не достигшие предела роста растения, т.е. всевозможная годная в пищу свежая зелень; далее, плоды растений, которые уже созрели, достигли полного развития и произвели семена, чтобы из них образовались другие растения того же вида и тем самым была обеспечена сохранность данного вида, т.е. всевозможные свежие и сушеные плоды; наконец, разновидности пригодных в пищу сухопутных и морских животных.
Как он выяснил раньше, все три рода этих предметов представляют собой творения бытийно необходимого сущего, в приближении к которому и в стремлении к уподоблению которому, по его убеждению, и заключается его счастье. Конечно, употребление этих предметов в пищу останавливает их движение к полному развитию, препятствует достижению стоящей перед ними конечной цели. Следовательно, это мешает действию того действующего начала, а противодействие этому началу мешает достижению и его собственной цели – приближению к оному действующему началу и уподоблению ему. Лучше всего было бы, думал он, если бы ему можно было вообще отказаться от всякой пищи, но это невозможно. Он понимал, что воздержание от пищи привело бы к гибели его тело, а это было бы еще более серьезным противодействием сотворившему его началу, чем вышеуказанное противодействие, так как сам он пребывает выше прочих вещей, коих гибель выступает условием поддержания его собственного существования.
Выбрав меньшее из двух зол, он решил позволить себе менее серьезное противодействие и счел благоразумным брать для себя те из перечисленных предметов, которые он может достать, когда их у него нет, и притом в количествах, о которых будет сказано ниже.
Если в наличии имеются все эти предметы, то ему следует отобрать, сообразуясь с обстоятельствами, те из них, потребление которых не создаст слишком серьезного препятствия действию того действующего начала. Можно, к примеру, употреблять в пищу мякоть окончательно созревших плодов, коих зернышки способны породить растения того же вида, при условии, если зернышки эти будут сохранены, т.е. не съедены, не испорчены и не брошены в каменистое, покрытое солончаком или какое другое непригодное для растительности место. Если ему нельзя найти плодов со съедобной мякотью, таких, как яблоки, груши, сливы и тому подобное, то он может употреблять в пищу плоды, у которых съедобны только сами зернышки, такие, как орехи и каштаны, или еще не развившуюся до конца зелень. В том и другом случае он, однако, должен соблюдать следующие условия: выбирать растения более всего распространенных и бурно размножающихся видов, не вырывать их с корнем и не губить у них зернышки. При отсутствии же и таких растений он может употреблять в пищу животных или откладываемые ими яйца. В отношении животных условие, подлежащее соблюдению, состоит в том, чтобы в пищу шли наиболее распространенные виды и чтобы ни один вид не оказался полностью искорененным.
Таковы были взгляды, к которым он пришел в отношении того, какого рода пищей он должен пользоваться.
В отношении же количества им было решено, что пищи должно быть ровно столько, сколько требуется для утоления голода, но не более того. А что касается промежутков времени, разделяющих каждые два приема пищи, то в отношении них он решил следующее: когда потребность в пище будет удовлетворена, он должен держаться, не прикасаясь к другой еде, до тех пор, пока не наступит слабость, препятствующая некоторым из тех действий, которые он должен совершать при уподоблении второго рода и о которых речь пойдет ниже.
В отношении же вещей, которыми он должен оберегать себя снаружи для поддержания существования животного духа, дело облегчалось тем, что он одевался в шкуры и имел жилище, охранявшее его от всяких внешних напастей. Этого было вполне достаточно, и он не считал нужным делать в этом направлении чего-нибудь еще. Так что ему оставалось только соблюдать предписанные им себе правила приема пищи, о которых рассказывалось выше.
После этого он приступил к осуществлению действий второго рода, т.е. к уподоблению небесным телам, подражанию им и заимствованию свойственных им атрибутов. Он рассмотрел их признаки, и те оказались у него сведенными к трем разрядам.
В первый разряд вошли признаки, характеризующие небесные тела с точки зрения их отношения к расположенному под ними миру возникновения и уничтожения, а именно вызываемые ими в этом мире нагревание и – акцидентально – охлаждение, а также освещение, разрежение, сгущение и прочие производимые ими вещи, коими мир этот предрасполагается к тому, чтобы на него изливались от бытийно необходимого действователя духовные формы.
Во второй разряд вошли признаки, присущие самим небесным телам, например то, что они прозрачны, то, что они светятся, то, что они чисты, ничем не замутнены и не запятнаны, то, что они совершают вращательное движение, одни – вокруг собственного центра, другие – вокруг чужого.
В третий разряд вошли признаки, характеризующие небесные тела с точки зрения их отношения к бытийно необходимому сущему, например то, что они постоянно погружены в созерцание этого сущего, не отвлекаются от него, стремятся к нему, следуют его решениям, предаются целиком осуществлению его воли и совершают движения, только угодные ему и по его соизволению.
И начал он уподобляться небесным телам, стараясь всеми силами перенимать у них черты каждого из перечисленных выше трех разрядов. В отношении первого разряда уподобление его небесным телам состояло в том, что он взял за правило всякий раз, как увидит животное или растение, испытывающее в чем-то нужду, страдающее от какой-то порчи, повреждения или помехи, непременно избавлять их от этого по мере своих сил. Когда он замечал, что какое-то препятствие заслоняет растение от солнца, что с ним сцепилось какое-то другое растение, причиняющее ему вред, или что оно едва не гибнет от недостатка влаги, он удалял препятствие, буде его можно было удалить, отцеплял от него растение, причиняющее вред, так, чтобы и тому не нанести ущерба, и, как мог, ухаживал за растением, поливая его водой. Когда он замечал у кого-нибудь из животных, что его обижает гиена, что оно в чем-то запуталось, что к нему пристала колючка, что глаза или уши ему засорило чем-то, что оно страдает от жажды или голода, он, как мог, старался избавить животное от всего этого, накормить его и напоить. А когда замечал, что упавшим камнем или осыпавшимся берегом перегорожено русло потока, орошающего растения и служащего местом, куда животные приходят на водопой, он очищал его. Он продолжал с усердием заниматься уподоблением этого разряда, пока не достиг преследуемой в нем цели[83].
В отношении второго разряда уподобление его небесным телам состояло в том, что он взял за правило следить все время за чистотой своей, удалять с тела все, что пачкает его и грязнит, как можно чаще обливаться водой, держать в опрятности ногти, зубы, скрытые части тела, по мере возможности душить их благовонными растениями, умащать различными ароматическими маслами, ухаживать за одеянием своим, дабы оно было чистым и благоухающим, так что стал он под конец сиять и красотой, и благолепием, и чистотой и распространять вокруг благоухание. Одновременно он взял за правило приводить себя тем или иным способом в круговращательное движение: то кружил по острову, обходя его побережье и гуляя по окраинам, то обходил или обегал по нескольку раз свой дом или какой-нибудь камень, то вращался вокруг себя до потери сознания[84].
В отношении же третьего разряда уподобление его небесным телам состояло в том, что он беспрестанно размышлял о бытийно необходимом сущем, отрешаясь от всего чувственного, зажмуривая глаза, затыкая уши, стараясь всеми силами не дать увлечь себя воображению и стараясь думать лишь о нем одном и не примысливать к нему ничего другого. А для этого он вращался вокруг себя и придавал вращению своему всевозрастающую скорость: с убыстрением вращения чувственно воспринимаемые предметы скрывались, воображение и прочие нуждающиеся в телесных органах силы притуплялись, тогда как действие самости его, отрешенной от тела, приобретало все большую и большую интенсивность. Временами мысль его освобождалась от всего постороннего и он созерцал ею бытийно необходимое сущее, но вскоре телесные силы начинали одолевать его опять, выводя из оного состояния и низводя в нижайшее из нижайших (Ср.: Коран, 95:5), и он вновь оказывался в своем прежнем положении. Когда же у него наступала усталость, мешавшая достижению преследуемой им цели, он закусывал чем-нибудь, соблюдая правила, о которых говорилось выше, и возобновлял занятия свои, направленные на уподобление телам небесным по трем упоминавшимся разрядам.
В усердных занятиях тех прошло какое-то время, на протяжении которого он вел джихад телесными своими силами[85], когда и он боролся с ними, и те противоборствовали ему. В мгновения, когда он брал над ними верх и мысль его отрешалась от всего постороннего, он впадал ненадолго в те состояния, которые бывают у людей, добившихся третьего уподобления. И тогда, поставив своей целью третье уподобление и стремясь достичь его, он стал рассматривать атрибуты бытийно необходимого сущего.
Еще до того как предпринимать для достижения этой цели первые практические шаги, размышляя об этом сущем в теоретическом плане, он понял, что атрибуты его двояки: это или такие атрибуты, как знание, могущество, мудрость, или такие, как отрешенность от телесности, сопутствующих ей признаков и всего того, что имеет с ней хотя бы даже отдаленную связь[86], причем аффирмативные атрибуты должны отвечать следующему условию: им надлежит быть столь чистыми, чтобы в них не содержалось ничего, свойственного телам, и в частности – множественности, и чтобы самость необходимо сущего, таким образом, не оказывалась множественной из-за этих атрибутов; а потому они должны все сводиться к одной идее – к идее сущности его самости. И он начал искать пути к уподоблению ему по каждому из двух родов его атрибутов.
Поняв, что положительные атрибуты все сводятся к сущности самости необходимо сущего и что в них нет никакой множественности, поскольку множественность принадлежит к признакам, свойственным телам, а также уяснив, что знание его о собственной самости не есть что-то дополнительное к самой его самости, что как его самость есть знание его о своей самости, так и знание его о своей самости есть его самость, он убедился: если бы удалось ему познать свою самость, то это знание его, посредством которого он познал собственную самость, не было бы чем-то дополнительным к его самости, но было бы тождественно ей. А посему он решил, что уподобление его бытийно необходимому сущему по положительным атрибутам должно заключаться в одном лишь познавании его, без примысливания к тому чего бы то ни было свойственного телам. Тем он и занялся.
Что же до негативных атрибутов, то все они сводятся к отрешенности от телесных признаков. А раз так, то он начал освобождать свою самость и от этих признаков. Впрочем, от многих из них он уже избавил ее в ходе предшествовавших упражнений, с помощью которых старался уподобиться небесным телам. Но немало их и сохранялось еще у него. Так, например, обстояло дело с вращательным движением, ибо движение принадлежит к наиболее специфическим признакам тел, а также в случае с уходом за растениями и животными, с проявлением к ним жалости и удалением от них всего, что им мешает, поскольку прежде всего он должен был это увидеть, а увидеть он мог только посредством определенной телесной силы, после чего он должен был заниматься ими, прибегая опять же к той или иной из телесных сил. И он принялся освобождать себя от всех этих признаков, раз они не соответствовали уже тому состоянию, достижения которого он отныне добивался. Он все время то и делал что сидел недвижно, не выходя из своей пещеры, со склоненной головой, с опущенным взором, отрешенный от всех чувственных вещей и телесных сил, сосредоточив все внимание свое, всю мысль на одном и только одном бытийно необходимом сущем[87]. Когда же перед воображением его представало что-нибудь постороннее, он напрягал все силы, чтобы изгнать его оттуда и отринуть прочь.
Долго предавался он подобным упражнениям, по нескольку дней кряду ничего не беря в рот и не делая ни единого движения. Временами, когда впадал он в состояние особого напряжения, все самости, помимо его собственной, исчезали из памяти его и мысли. Самость его, однако, не исчезала и в те мгновения, когда он погружался в созерцание бытийно необходимого истинно первосущего. И он мучился от этого, понимая, что к чистому созерцанию у него примешивается что-то постороннее и что внимание его раздваивается.
Он беспрестанно старался, отрешившись от себя самого, предаться чистому созерцанию Истинного Бытия. И под конец ему это удалось. Исчезли из памяти его и мысли небеса и земли и то, что пребывает между ними (Ср.: Коран, 5:20), все формы духовные и телесные силы, равно как и все отрешенные от материй самости, т.е. самости, познающие сущее, а в их числе и его собственная. Все обратилось в ничто, исчезло и стало рассыпающимся прахом (Ср.: Коран, 56:6). Осталось лишь единое истинное бытийно непреходящее сущее, каковое изрекает слово свое, не являющееся, однако, чем-то дополнительным к его самости: "Кому царство в тот день? Богу единому, могучему!" (Ср.: Коран, 40:16). И речь его он уразумел, зов его услышал, и не воспрепятствовало ему в понимании этого то, что речи он не знал и сам не говорил[88]. Погрузившись в это состояние свое, он созерцал нечто такое, что и глаз не видывал, и ухо не слышало и что не представлялось сердцу человеческому[89].
Но не привязывайся сердцем к описанию того, что не представлялось сердцу человеческому. Ведь описать невозможно даже многое из того, что может представиться ему. Так что же говорить о вещи, которая непредставима для сердца, которая принадлежит иному миру и пребывает на иной ступени, чем оно! Причем, говоря о сердце, я имею в виду не тело сердца и не пребывающий в его полости дух, а форму этого духа, изливающуюся благодаря силам его на тело человека. Каждый из трех предметов этих называется "сердцем", но ни одному из них та вещь представиться не может, а выразимо только то, что представимо им. Кто берется передать это состояние, тот пытается совершить невозможное и уподобляется человеку, который пробует на вкус передаваемые красками цвета как таковые, желая узнать, допустим, о черном цвете, сладкий он или кислый. Тем не менее мы дадим тебе возможность получить хотя бы косвенное представление о созерцавшихся им на той Стоянке[90] чудесах, а для этого мы не станем колотить в дверь к самой сути дела, но пойдем по окольному пути символического повествования. Ибо о том, что бывает на той Стоянке, достоверное знание способен получить лишь тот, кто сам на ней и побывал. А теперь слухом сердца, взором разума своего приготовься воспринять то, что я поведаю тебе и в чем, быть может, ты найдешь себе указание, направляющее на верную стезю. Только вот мое условие: не требуй сейчас от меня никаких устных пояснений дополнительно к тому, что я излагаю тебе на этих листках, – слишком узок простор, слишком опасно рассуждать о предмете, по самой природе своей неизреченном. Итак, говорю я, исчезнув[91] для своей и прочих всех самостей, он видел в бытии лишь вечносущее живое единое и созерцал то, что было дано ему в непосредственном созерцании. Затем, когда он, очнувшись, вышел из этого опьянению подобного состояния и начал вновь замечать другие предметы, его внезапно осенило: ведь у него нет самости, от которой отличалась бы самость всевышнего Истинного Бытия, – сущность самости его тождественна самости Истинного Бытия, а то, что прежде он считал своей собственной самостью, отличной от самости Истинного Бытия, в действительности не есть какое-то нечто, ибо нет ничего, помимо самости Истинного Бытия. Это похоже на солнечный свет, который, падая на плотные тела, становится видимым в них: хотя свет этот и кажется принадлежащим телу, в котором появился, на самом деле это свет солнца, и если бы тело исчезло, то исчез бы и свет его; солнечный же свет оставался бы таким же, как был, не уменьшаясь при наличии тела и не увеличиваясь при отсутствии его. Когда оказывается тело, способное воспринять этот свет, оно воспринимает его, а если тело лишено такой способности, в нем ничего и не возникает.
Точка зрения эта у него подтверждалась тем, что самость Истинного Бытия (великое оно и всемогущее) не допускает в себе, как уже выяснилось, никакой множественности и что знание его о себе тождественно его самости. Отсюда следовало: у кого налицо знание о его самости, у того налицо его самость; знание у него налицо; стало быть, у него налицо и самость. Но эта самость может наличествовать только у нее самой; самостью же является само ее наличие; следовательно, оно тождественно самости.
Точно так же относятся к этой истинной самости все те отрешенные от материи самости, которые представлялись ему прежде множественными и которые стали для него с этой точки зрения уже чем-то единым. А ведь сомнительная точка зрения та едва не укоренилась в душе его, и так бы оно и было, если бы не поправил дело милостью своей Аллах, наставивший его на верный путь, когда он понял, что эта точка зрения была порождена у него остатками свойственного телам мрака и присущей чувственным вещам неясности. Ибо множественное, малочисленное и единичное, единство и множественность, соединение и разъединение – все это признаки, свойственные телам. Между тем отрешенные от материи самости, обладающие знанием о самости Истинного Бытия (великое оно и всемогущее), ввиду отвлеченности их от материи нельзя описывать ни как нечто множественное, ни как нечто единое. Ибо множественность означает пребывание самостей друг к другу в отношении инаковости, и точно так же единство возникает только через соединение, а все это может иметь какой-то смысл лишь применительно к вещам составным и смешанным с материей.
Но выразить все это здесь словами очень нелегко. Ибо если об отрешенных от материи самостях говорить, как мы это делаем, во множественном числе, то это внушит мысль об их множественности, в то время как они не образуют никакого множества, а если использовать единственное число, то это внушит мысль о единстве, между тем как эта идея неприменима к ним.
Мнится мне, что кто-нибудь из тех летучих мышей, коим солнце ослепляет глаза[92], вскочит тут и, содрогаясь в цепях безумства своего, воскликнет: "Это ты уж так перемудрствовал, что, лишившись натуры рассудительных людей, стал выступать против положений, подсказываемых самим разумом. Ведь именно таково положение о том, что нечто может быть только или единым, или множественным!" Но пусть он, поостыв немного, воздержится от дальнейших пылких речей и подумает, не лучше ли ему пенять на самого себя. Пусть взглянет на окружающий его низменный, чувственный мир так, как на него смотрел Хайй, сын Якзана, когда мир этот ему казался, с одной точки зрения, неопределенным и не поддающимся никакому ограничению множеством, а с другой – чем-то единым, так что он даже колебался некоторое время, не решаясь отдать предпочтение какой-то одной из этих точек зрения. Ведь мир чувственный – это то, в чем берут начало множественное и единичное, в чем сущность их может иметь какой-то реальный смысл и в чем бывают разъединение и соединение, местопребывание в одном и в различных участках пространства, совпадение и расхождение. Какое же может тот человек иметь представление о мире божественном, относительно которого нельзя сказать "все" или "часть", к которому нельзя применить ни одного привычного для слуха выражения, не приписав ему при этом чего-то противоречащего действительности, который, стало быть, познать способен только тот, кто созерцал его, и коего сущность приобретает положительный смысл лишь для того, у кого она получила наличное бытие.
Что же до слов его "лишившись натуры рассудительных людей, стал выступать против положений, подсказываемых самим разумом", то пусть будет так, и оставим его в покое вместе с его разумом и рассудительными людьми. Ибо разум, который имеют в виду он и ему подобные, есть не что иное, как рациональная сила, обозревающая единичные чувственно воспринимаемые предметы с тем, чтобы свести их множество к данной общей идее, а люди рассудительные, о которых говорят они, – это те, кто как раз и практикуют указанный метод умозрения. Метод же познания, о котором речь идет у нас, превосходит все это, так что пусть замкнут себе уши, чтоб не слышать ее, те, кому неведомо ничего помимо чувственных предметов и их общих идей, и да вернутся они к единомышленникам своим, кои знают явное в жизни здешней, но к будущей небрежны[93].
Коли ты из тех, кому достаточно подобного рода косвенных указаний и намеков касательно предметов, относящихся к божественному миру, и если не станешь придавать высказываниям нашим те значения, которые им придают в обычном словоупотреблении, то мы не преминем тебе рассказать еще кое-что о том, что именно созерцал Хайй, сын Якзана, находясь на упомянутой выше Стоянке обладателей истины.
После чистого Погружения, говорю я, после полного Исчезновения и Соединения, созерцая высшую, лишенную тела, сферу, он увидел свободную от материи самость[94], которая не была ни самостью Истинного Единого, ни самой сферой, ни чем-либо отличным от них. Это нечто вроде появляющегося в гладком зеркале образа солнца, который не есть ни солнце, ни зеркало, ни что-либо отличное от них[95]. Он увидел у отрешенной от материи самости той сферы совершенство, блеск и красоту слишком великие, чтобы описать их был способен хоть какой-нибудь язык, и слишком тонкие, чтобы их можно было облечь в какие-то буквы или звуки. Увидел он и то, что эта самость пребывает в состоянии высшего наслаждения, радости и блаженства от созерцания самости Истинного Бытия (велика его слава).
И у следующей сферы, сферы неподвижных звезд, созерцал он свободную от материи самость, которая тоже не была ни самостью Истинного Единого, ни отрешенной от материи самостью высшей сферы, ни самой этой сферой, ни чем-либо отличным от них. Это было нечто вроде образа солнца, появляющегося в зеркале, которому образ передается от другого, обращенного к солнцу, зеркала. И у этой самости он увидел те же блеск и красоту и то же наслаждение, что и у самости высшей сферы.
Точно так же и у следующей за ней сферы, сферы Сатурна, созерцал он свободную от материи самость, которая не была ни какой-нибудь из созерцавшихся им дотоле самостей, ни чем-либо отличным от них. Это было нечто вроде образа солнца, появляющегося в зеркале, в коем отражается образ, отраженный во втором зеркале, в котором отражается образ, отраженный в третьем, обращенном к солнцу, зеркале. И у этой самости он увидел тот же блеск и то же наслаждение, что и у предыдущих.
Так и дальше продолжал он созерцать у каждой сферы самость, отрешенную, свободную от материи, которая не была ни какой-нибудь из предыдущих самостей, ни чем-либо отличным от них. Это было нечто вроде образа солнца, отражение которого передается от зеркала к зеркалу в порядке расположения сфер. И у каждой самости этой созерцал он нечто такое, относящееся к красоте и блеску, наслаждению и радости, что и глаз не видывал, и ухо не слыхало и что не представлялось сердцу человеческому. И в конце концов он дошел до мира возникновения и уничтожения, образуемого целиком тем, что заполняет сферу Луны. У мира этого он увидел свободную от материи самость[96], которая не была ни какой-нибудь из созерцавшихся им самостей, ни чем-либо отличным от них. У этой самости было семьдесят тысяч ликов, у каждого лика – семьдесят тысяч уст, в каждых устах – семьдесят тысяч языков, коими те уста и восславляли, и благословляли, и превозносили неустанно Истинное Единое[97]. И у этой самости, которая представлялась ему прежде множественной и которая казалась вовсе не множественной, он увидел то же совершенство и то же наслаждение, что и у предыдущих. Это было нечто вроде образа солнца, являющегося в подернутой рябью воде, в которой отражается образ, полученный от последнего из зеркал, в коем завершается многократное отражение, идущее в указанном выше порядке от обращенного к самому солнцу зеркала.
После этого он стал созерцать свою собственную самость: если бы самость семидесяти тысяч ликов могла распадаться на части, мы сказали бы, что она одна из них; если бы самость его не возникла после того, как ее не было, мы сказали бы, что она тождественна этой самости; если бы она не обособилась телом его при возникновении оного, мы сказали бы, что она вообще не возникала[98].
Самости, подобные своей, он созерцал на этой ступени и у тел, которые, раз возникнув, успели уже исчезнуть, и у тел, которые продолжали существовать одновременно с ним, причем таковые образовывали бы бесконечное множество, если бы им можно было приписывать множественность, или составляли бы все некое единство, если бы их позволительно было характеризовать как нечто единое. У самости своей и у тех, что находились на одной с ним ступени, он увидел нечто такое, относящееся к красоте, великолепию и наслаждению, что и глаз не видывал, и ухо не слыхало и что не представлялось сердцу человеческому, нечто такое, чего не описать ни одному любителю описаний и чего не уразуметь никому, помимо тех, кто достиг Соединения и Знания.
Созерцал он во множестве и такие отрешенные от материи самости, которые напоминали зеркала ржавые и покрытые грязью, а к тому же в бытии своем отвращенные от зеркал гладких, с запечатленным на них образом солнца, и повернутые к ним своею тыльной стороной. У самостей этих узрел он черты, такие безобразные и несовершенные, о каких не приходилось ему прежде никогда и думать. И видел он их пребывающими в страданиях бесконечных, в горести неизбывной, охваченными вихрем мучения, палимыми огнем Разъединения и пилимыми пилой меж тщетой и суетой[99].
Он увидел здесь, помимо этих, осужденных на муки, самостей, и такие, которые, раз явившись, исчезали, раз сгустившись, растворялись. И пока он рассматривал их ближе, изучал внимательно, взору его открылись и ужас великий, и беда огромная, и творение торопливое, и порядки премудрые, выравнивание и вдувание, устроение и уничтожение[100].
Но недолго пришлось ему предаваться этим наблюдениям: чувства вернулись к нему, и, очнувшись, он вышел из своего на обморок похожего состояния – Стоянка эта выскользнула из-под ступней его, и явился взору его чувственный мир, а мир божественный скрылся из виду. Ибо миры эти несовместимы, как две жены: угодишь одной – разгневаешь другую.
Ты можешь сказать: "Из рассказанного тобой об оном Созерцании явствует, что если отрешенные от материи самости принадлежат каким-то постоянно существующим, не уничтожающимся телам, таким, как небесные сферы, то и они существуют постоянно, а если они у тел, которых ожидает гибель, таких, как разумные живые существа, то и их ожидают гибель, исчезновение и обращение в ничто в соответствии с тем, что ты выражаешь символами отражающих зеркал. Ведь отображение существует лишь постольку, поскольку существует зеркало, так что с уничтожением зеркала неизбежно уничтожается и исчезает отображение". На это я отвечу тебе: как же быстро ты забыл о нашем уговоре, нарушая выдвинутое условие. Разве не предупреждали мы тебя, что простор тут для выражения мыслей слишком узок и что слова, как ни применяй их, будут внушать представления, искажающие истинное положение вещей? Вот такие-то превратные представления у тебя и возникли. В заблуждение же тебя ввело то, что ты полностью отождествил символ с символизируемым. Это недопустимо даже в различных формах обыденной речи, а уж тем более – здесь. Ведь солнце, свет его, образ его и внешний вид, зеркала и появляющиеся в них отображения – все это вещи, которые неотделимы от тел, существуют благодаря телам и в самих телах, а потому зависят в бытии своем от них и уничтожаются вместе с их уничтожением. Что же до божественных самостей и господних духов, то они все свободны от тел и сопутствующих телам признаков, совершенно отрешены от них, не имеют с ними никакой связи, не зависят от них, и им все равно, преходящи тела или непреходящи, существуют они или их нет.
Единственно, с чем связаны те самости и духи и от чего они находятся в зависимости, – это самость Истинного Единого, бытийно необходимого сущего, которое выступает по отношению к ним как их предтеча и начало, выступает причиной их и источником существования, даруя постоянство им, снабжая беспрерывным и непреходящим бытием. Не они нуждаются в телах, а тела испытывают в них потребность. Ведь если бы они могли обратиться в ничто, то не существовало бы более и тел, так как началами для последних выступают именно они. Подобным же образом, если бы в ничто могла обратиться самость Истинного Единого (в возвышенности и в святости своей не допускающего, однако, применимость предположения такого к нему, помимо которого нет иного божества), то не существовало бы более ни всех этих самостей, ни тел, ни чувственного мира в целом – не осталось бы ничего сущего. Ибо все взаимосвязано.
Хоть мир чувственный и следует, подобно тени, за миром божественным, тогда как божественный мир не зависит и свободен от него, все же предполагать возможность обращения его в ничто недопустимо – ведь мир этот обязательно должен следовать за божественным миром[101]. Уничтожение для него означает лишь замену одного другим, а не обращение полное в ничто, о чем и говорится в Коране, там, где эту идею передают слова об изменении гор, об обращении их в подобие расщипанной шерсти, а людей – в подобие мотыльков (Ср.: Коран, 101:3-4), о скручивании солнца и луны (Ср.: Коран, 81:1) и о разливе морей в тот день, когда земля будет заменена другой землей, как равно и небеса (Ср.: Коран, 14:49).
Вот и все, что я мог поведать тебе косвенно о вещах, кои созерцал Хайй, сын Якзана, на той возвышенной Стоянке, а посему просить меня о каких-то еще словесных разъяснениях бесполезно. А о том, чем завершается его история, я расскажу тебе, коли на то будет воля всевышнего Аллаха.
Вернувшись из путешествия своего по тем местам, где странствовал, в мир чувственный, он проникся отвращением к суетным заботам дольней жизни и с возросшей силой стал стремиться к жизни отдаленной. А посему он предпринял попытку прежним способом вернуться на Стоянку ту и под конец достиг ее, употребив на это меньше усилий, чем в первый раз. Повторное пребывание на ней оказалось продолжительней предшествующего. По возвращении же в чувственный мир он возобновил попытки и Достиг Стоянки с еще большей легкостью, чем в первый и второй раз, и еще дольше продолжалось пребывание на ней. После этого он достигал возвышенной Стоянки со все большей и большей легкостью и с каждым разом оставался там все дольше и дольше, пока не добился того, что по желанию и приходил на ту Стоянку и покидал ее. А пребывал он там уже беспрерывно, покидая ее только в случаях, когда вынуждали к тому потребности тела. Последние же он ограничил до степени, меньше которой уж и быть не может. Вместе с тем он все мечтал, что бог (великий он и всемогущий) вообще освободит его от плоти, которая только и принуждает его каждый раз расставаться с достигнутой им Стоянкой, после чего ему удастся целиком и навсегда предаться наслаждениям своим, избавившись от мук, испытываемых при расставании с той Стоянкой из-за потребностей тела.
В таком состоянии он пребывал вплоть до поры, когда ему перевалило за седьмую седьмину жизни, т.е. до пятидесяти лет. И вот тогда-то ему случилось встретиться с Абсалем, историю которого мы изложим дальше, коли на то будет воля всевышнего Аллаха.
Рассказывают, что на некий остров, расположенный неподалеку от того, на котором, по одной из версий появления его на свет, родился Хайй, сын Якзана, перешло одно из здравых вероучений, полученных от кого-то из древних пророков (да благословит их Аллах). Это было учение, подражавшее всем реальностям символами, которые давали о них образное представление и запечатлевали их образы в душах так, как это бывает обычно с речью, обращенной к широкой публике[102]. Вероучение это распространялось по острову, становилось все сильнее и влиятельней, так что тамошний царь и сам под конец к нему примкнул и людей своих исповедовать его обязал.
А на острове том родились и выросли два молодых человека, отличавшихся добродетельным нравом и благими помыслами. Одного звали Абсаль, другого – Саламан[103]. Познакомившись с этим вероучением и проникшись к нему величайшим расположением, они обязались следовать всем его законам, соблюдать неукоснительно все предписываемые им обряды и выполняли обязательство свое в обоюдном дружеском согласии[104].
Временами они обсуждали между собой встречавшиеся в этом учении выражения, коими описывались бог (великий он и всемогущий), ангелы его, возврат в потусторонний мир, загробные награды и наказания. При этом Абсаль обнаруживал в большей мере способность углубляться в их внутренний смысл, склонность проникать в их духовное содержание и стремление подвергать их иносказательному толкованию, между тем как друг его Саламан склонен был скорее придерживаться их буквального смысла, иносказательного толкования избегать, от самостоятельных суждений и размышлений воздерживаться. Но тот и другой проявляли усердие в отправлении внешних обрядов, воспитании души и противоборствовании страстям. В религиозном учении том имелись, с одной стороны, положения, которые побуждали вести жизнь уединенную, обособленную и указывали, что спасение и избавление заключаются именно в этом, а с другой – положения, склонявшие вступать в близкие отношения с людьми и жить в постоянном общении с ними. Абсаль стал привержен поискам уединения, отдав предпочтение побуждавшим к тому положениям религии по природной склонности своей постоянно предаваться размышлениям, вникать всегда в существо вопросов и искать в вещах глубокий смысл, ибо то, чего он при этом надеялся добиться, чаще всего удавалось достичь в уединении. Саламан же стал привержен постоянному общению с людьми, отдав предпочтение соответствующим положениям религии по прирожденному ему боязненному отношению к размышлениям и самостоятельным суждениям, ибо общение свое с людьми считал средством, противодействующим подобного рода искушениям и кладущим конец инакомыслию, рассматривал как защиту от дьявольских наущений. И расхождение их взглядов по данному вопросу привело в конце концов к тому, что им пришлось расстаться[105]. Еще раньше когда-то Абсалю рассказали об острове, на котором произошло, как уже говорилось, самозарождение Хайя, сына Якзана. Он узнал о плодородии этого острова, о его богатствах, об умеренной температуре воздуха на нем. И он понял, что, уединившись там, нашел бы то, чего искал. А посему решил Абсаль перебраться на тот остров и там, вдали от людей, провести остаток своей жизни. Собрав все деньги, что у него были, он истратил часть на покупку судна, а остальное раздал бедным, после чего распростился с другом своим Саламаном и сел на корабль.
Корабельщики доставили Абсаля на остров и, высадив на берег, уплыли прочь. И остался он жить на острове, поклоняясь богу (великий он и всемогущий), превознося и восхваляя его, предаваясь размышлениям о прекрасных именах его и возвышенных атрибутах. Ничто стороннее и не прерывало размышления его, и не примешивалось к его думам.
Проголодавшись, он ел, сколько нужно было для утоления голода, плоды, которые находил на острове, или то, что удавалось раздобыть охотой на зверей. Так провел он некоторое время в счастье совершеннейшем и величайшей радости от близкого общения с господом своим, и не проходило дня, чтоб не являлись ему для вящей веры и на глаз утеху знаки доброты его, расположения любезного, готовности помочь в нужде какой или в добывании пищи.
В ту пору Хайй, сын Якзана, находился беспрерывно на возвышенных своих Стоянках и покидал пещеру только раз в неделю, дабы перекусить чем бог послал, а потому столкнуться с ним Абсалю довелось не сразу. Бродя по острову, Абсаль заглядывал во все уголки его, но ни единой человеческой души не встретил, никаких следов присутствия людей не нашел. И это доставляло ему еще большую радость и удовлетворение, убеждая в том, что он добился наконец желанного уединения и одиночества.
Но случилось так, что Хайй, сын Якзана, выйдя однажды на поиски пищи, направился туда же, где оказался Абсаль, и они увидели друг друга. Абсаль не сомневался, что перед ним какой-то благочестивый отшельник, которого привело на остров, как и самого его, стремление уйти подальше от людей, а потому боялся, что если подойдет знакомиться к нему, то лишь выведет его из созерцательного состояния и помешает осуществлению того, чего тот надеется достичь. Что же до Хайя, сына Якзана, то он и вовсе не понимал, что это перед ним, так как обликом своим Абсаль не походил ни на одного из виденных им доселе животных: на нем была хламида из волос и шерсти, которую он принял за естественный покров. И долго он стоял, дивясь его виду. Между тем Абсаль, боявшийся нарушить его созерцательное состояние, бросился бежать от него, а Хайй, сын Якзана, по природной любознательности своей кинулся за ним вдогонку, но, заметив, как быстро он бежит, отстал и спрятался от него. Абсаль же, подумав, что тот прекратил преследование и что поблизости его уже нет, принялся молиться, читать, взывать, стенать, умолять, возносить жалобы и увлекся этим настолько, что забыл обо всем на свете. А Хайй, сын Якзана, не замечаемый Абсалем, стал подкрадываться к нему и приблизился на такое расстояние, что мог слышать его чтение и славословие, наблюдать, как он, смиренно преклонив колени, плачет. Внимал же он такому красивому голосу, таким слаженным звукам, каких не знал ни у одной разновидности живых существ. Затем он присмотрелся к его чертам и общему виду и убедился, что по наружности тот подобен ему самому. К тому же стало ясно, что бывшая на том хламида – не естественный кожный покров, а, как и у него, искусственно изготовленная одежда.
Благоговейный, смиренный и плачущий вид Абсаля не оставлял никакого сомнения в том, что это одна из самостей, познающих Истинное Бытие. Влекомый любознательностью, желанием узнать, что с ним, чем вызваны и плач его и самоунижение, он стал придвигаться к Абсалю все ближе и ближе. Но, почувствовав его присутствие, тот бросился от него со всех ног, а Хайй, сын Якзана, кинулся за ним вдогонку и в конце концов настиг его благодаря силе и сноровке, коими наделил его Аллах как в умственном отношении, так и в телесном. Остановив Абсаля, он схватил его так, что вырваться тому не удалось.
При виде Хайя, сына Якзана, в наряде из мохнатых звериных шкур, с волосами, отросшими настолько, что те покрывали значительную часть туловища, при виде того, как стремителен его бег и как сильна его хватка, Абсаль пришел в невероятный ужас и стал молить о пощаде, пытаясь растрогать его речами, которые тот не понимал и о которых даже не знал, что это такое. И все же в речах Абсаля он уловил признаки испытываемого тем страха, а потому стал успокаивать его, издавая звуки, каким научился у животных, накладывая руку его себе на голову, гладя его со всех сторон, заискивая перед ним и давая понять, что тот доставляет ему радость и удовольствие. И Абсаль успокоился, убедившись в конце концов, что ничего дурного ему причинять не собираются.
Из любви к науке о толковании Абсаль давно еще овладел и искусно пользовался большинством языков. И вот он начал обращаться к Хайю, сыну Якзана, на каждом из известных ему языков, расспрашивая его и всячески пытаясь довести до понимания его свои слова. Но старания его были тщетны: Хайй, сын Якзана, все время только изумлялся доносившимся до слуха звукам, и единственное, что ему удавалось улавливать в них, – это то, что они выражают радость и доброжелательное отношение. И оба не могли надивиться друг другу. При Абсале были остатки съестных припасов, захваченных с обитаемого острова, и он протянул их Хайю, сыну Якзана, но тот не понял, что это такое, ибо прежде ничего подобного не видел. Тогда Абсаль отведал их сам и предложил знаками сделать то же Хайю, сыну Якзана. Но тот вспомнил о данном им обете соблюдать касательно пищи определенные условия и, не зная, что собою представляет предлагаемая ему еда и допустимо ли ему употреблять ее, отказался от трапезы. Абсаль же продолжал его упрашивать и уговаривать, и Хайй, сын Якзана, из доброго расположения к нему и опасения оттолкнуть его от себя дальнейшим своим отказом, попробовал ее. Когда же, познакомившись со вкусом пищи, он нашел его приятным, ему подумалось, что поступил он неправильно, что обет его касательно еды оказался нарушенным. Раскаявшись в содеянном, Хайй, сын Якзана, вознамерился расстаться с Абсалем, вернуться к обычным своим занятиям и постараться вновь достичь своей возвышенной Стоянки. Впасть быстро в созерцательное состояние ему, однако, не удалось, а посему он решил: побудет с Абсалем в чувственном мире еще какое-то время, пока не выяснит всю истину о нем, а затем, освободившись таким путем от возбуждаемого им любопытства, ничем не отвлекаемый вернется на свою Стоянку. И он остался с Абсалем.
Абсаль же, видя, что тот не умеет говорить, подумал, со своей стороны: если он захочет обучить его речи, науке и религии[106], с верой его ничего страшного не случится, но, напротив, ему сторицей воздается за это, дело его будет богоугодным[107]. И начал он прежде всего с обучения его речи. Он показывал ему сперва на отдельные предметы, называл их по именам, а затем, повторяя то же самое, предлагал ему выговаривать слова, и тот произносил их, указывая на соответствующие предметы. Так обучил он его всем названиям предметов и постепенно добился того, что тот вскоре уже заговорил. И Абсаль стал расспрашивать его после этого, кто он таков и откуда он попал на этот остров. Хайй, сын Якзана, признался, что не знает ничего о своем происхождении, не знает ни о матери своей, ни об отце, если не считать вскормившей его газели[108], и поведал о себе все, включая и то, как он поднимался по ступеням познания, пока не вознесся до уровня Достижения.
Когда выслушал Абсаль описания, дававшиеся Хайем, сыном Якзана, сущностям и самостям, отрешенным от чувственного мира и познающим самость Истинного Бытия (великое оно и всемогущее), описания самости Истинного Бытия (всевышнее оно и всемогущее) посредством прекрасных его эпитетов, описания, которые он мог дать виденным им при Достижении радостям достигших и мукам разъединенных, – когда он выслушал все это, у него не осталось ни малейшего сомнения: все, что говорится в его вероучении о боге, великом и всемогущем, об ангелах его, Писаниях, посланниках, о дне последнем, о рае его и аде, – это символы того, что созерцал Хайй, сын Якзана. Глаза сердца его отверзлись, пламя мысли его возгорелось – постигаемое умом и передаваемое религиозной традицией у него совпали, способы толкования символического стали понятными. И не оставалось уже в религиозном законе ничего затруднявшего его, что не было бы доказанным, ничего сокровенного, что не раскрылось бы, ничего темного, что не разъяснилось бы, и стал он отныне одним из тех, кто обладает пониманием. На Хайя, сына Якзана, он начал смотреть теперь глазами почтения и уважения, уверенный, что он принадлежит к числу тех, кто близок к богу, над кем не будет страха и кто не будет знать печали (Ср.: Коран, 2:36). Он обязался служить ему, следовать его примеру и руководствоваться советами его в отношении казавшихся ему противоречивыми практических предписаний религии, с коими знаком он был по вероучению своему[109].
Хайй, сын Якзана, со своей стороны, стал разузнавать у Абсаля, что да как у него, и тот рассказал ему об острове своем: что за люди там живут, какого они придерживались образа жизни до прихода к ним нынешнего их вероучения, а какого стали придерживаться после. Познакомил он его и со всем тем, что говорит религия о божественном мире, о рае, аде, воскрешении, о судном дне, о воздаяниях, Весах и Пути[110]. Уразумев все это, Хайй, сын Якзана, убедился, что в рассказанном нет ничего противоречащего тому, что созерцал на возвышенной своей Стоянке. А отсюда заключил: кто описал и передал все это людям, тот в описаниях правдив, в высказываниях справедлив, это посланник от господа своего. И он уверовал в него, согласился с ним и засвидетельствовал убежденность свою в его посланнической миссии.
Потом он стал расспрашивать Абсаля о предписаниях религии, кои поведал людям тот посланник, об установленных им обрядах, и тот рассказал ему о молитве, о милостыне обязательной, о посте, о паломничестве и тому подобных внешних делах. Усвоив предписания эти и обряды, он признал их обязательными и начал сам их соблюдать во исполнение воли того, чья правота в нем не вызывала сомнений. И тем не менее две вещи не выходили у него из головы, заставляя его и удивляться, и отказываться взять в толк, какая в них может быть мудрость.
Почему, во-первых, этот посланник, рассказывая о божественном мире, описывает его людям преимущественно в образной форме и воздерживается от раскрытия истины в чистом его виде, так что люди, впадая в ужасный грех, приписывают Истинному Бытию телесность и веруют в такие вещи касательно его самости, от которых он отрешен и свободен? И то же самое можно спросить относительно потусторонних наград и наказаний.
Почему, во-вторых, довольствовавшись одними этими религиозными предписаниями и обрядовыми обязанностями, он позволил стяжание богатств и излишества в еде, так что люди только и знают, что предаются суетным делам и отвращаются от истины? Ведь, по убеждению его, никто не должен был бы есть сверх меры, необходимой для поддержания жизни, а что касается богатств, то они вообще были лишены для него какого-либо смысла.
Узнавая о содержащихся в религиозном законе положениях касательно богатств, о таких, например, как положения об обязательной милости и ее разновидностях, о купле-продаже, о ростовщичестве, о карах, предусмотренных самим законом, и наказаниях, устанавливаемых судом, он находил их странными и ненужными. Если бы люди разумели истинное положение вещей, думал он, то непременно бросили бы заниматься всеми этими суетными делами, поняли бы, что они не нужны, и никто не стал бы выделяться никаким богатством, за которое или милостыню обязательную взимают, или руку отрубают при тайном его похищении, или жизни лишают при дерзком ограблении.
А думал он так потому, что, по разумению его, все люди наделены здравым смыслом, рассудительностью, благоразумием, и невдомек ему было, насколько они глупы на самом деле, как несовершенны, не правы в суждениях и слабы умом, неведомо ему было, что они как скот и даже хуже скота сбились с верного пути (Ср.: Коран, 25:46; 7:178). Проникшись к людям сильной жалостью и разгоревшись желанием самому их привести к спасению, он вознамерился отправиться к ним, дабы раскрыть и растолковать им истину. С тем и обратился он к другу своему Абсалю, спросив, не может ли он придумать чего, чтоб ему удалось добраться до людей. Абсаль пытался было объяснить ему, как несовершенны у людей природные задатки, как отошли они от божьей воли, но тот слов этих так понять и не сумел и в душе остался верен пробудившейся у него мечте.
Но Абсалю и самому хотелось, чтоб всевышний наставил чрез него на путь истинный некоторых из его знакомых, которые готовы были встать на этот путь и более других могли рассчитывать на спасение. Поэтому он поддержал его решение. Лучше всего, подумали они, оставаться у берега морского и не отлучаться оттуда ни днем, ни ночью – авось, ниспошлет им бог какой-нибудь случай и им удастся переправиться через море.
Они не покидали берега, обращаясь ко всевышнему с молитвенной просьбой привести к успеху затеянное ими дело. И вот по воле Аллаха (великий он и всевышний) сбился в море с пути своего корабль, а ветры и волны бушующие понесли его к берегу того острова. Когда его пригнало к побережью, те, кто были на борту, заметили двоих, стоявших у воды, и сошли к ним на берег. Заговоривши с ними, Абсаль попросил, чтобы те взяли их с собой, а корабельщики согласились и приняли их на борт. Аллах же послал им свежего ветра, который привел корабль вскорости к острову, на который они и хотели попасть. Сойдя на берег, тот и другой вошли в тамошний город. Абсаля встретили друзья, и он рассказал им о Хайе, сыне Якзана, а те, столпившись вокруг него, принялись выражать ему свое восхищение. Они и потом приходили, восхваляя и превознося его, а Абсаль предупредил: эти люди превосходят всех понятливостью и рассудительностью, и если не удастся ему научить их уму-разуму, то он подавно не преуспеет в этом с широкой публикой. Главным же и самым большим человеком на острове был друг Абсаля – Саламан, тот самый, который предпочитал общение с людьми и говорил, что уединение следовало бы поставить под запрет.
И взялся Хайй, сын Якзана, за обучение тех людей и приобщение их к тайнам мудрости. Но стоило подняться ему чуть выше буквального понимания слов, едва приступил он к толкованию знакомых им вещей способом, отличным от того, к которому они привыкли, как те стали отстраняться от него все больше и больше, а слова его начали вызывать в них гнев и возмущение. Впрочем, из приличия перед чужестранцем и из уважения к другу своему Абсалю они делали вид, что согласны с ним.
День и ночь вел с ними вежливые беседы Хайй, сын Якзана, и с глазу на глаз, и при народе стараясь объяснить им истину, но единственно чего он добивался – это того, что они проникались к словам его еще большей неприязнью и отвращением. Были они людьми доброжелательными и правдолюбцами, да только по скудости природных задатков своих шли они к правде не тем путем, подходили не с той стороны, подступались не через те ворота. Но что еще хуже было, так это то, что они и не желали познавать истину способом, свойственным тем, кто ею уже овладел. И Хайй, сын Якзана, отчаялся направить их на путь истинный, а ввиду обнаруживаемой ими непредрасположенности к тому и вовсе потерял надежду на будущее их благополучие.
Рассмотрев, далее, один за другим различные классы людей, он пришел к заключению: всякая партия у них радуется тому, что у нее, божествами они сделали себе свои страсти, а предметами поклонения – вожделения свои, устремившись алчно за преходящими благами дольнего мира; увлекает их страсть к умножению, пока не навещают они могилы, так что ни увещеванием их не образумишь, ни красноречием не проймешь, а спорить с ними – только упорство их преумножать; что же до мудрости, то путь заказан им к ней, и не получить им, погрязшим в невежестве, ни единой толики ее; покрыло ржавчиной их сердца приобретенные ими, наложил бог печать на сердца их и на слух, а на взорах их – завеса, и уготовлено им великое наказание!
Вихрь страданий, он увидел, закрутился вокруг них, мрак Разлуки их покрыл. Все они, за малым исключением, из религии своей черпают лишь то, что имеет отношение к дольнему миру, а дела, возложенные на них, как бы ни были они легки и необременительны, швыряют за спины свои и распродают по дешевой цене: отвлекают их от поминовения бога купля и продажа, и не боятся они дня, когда перевернутся и сердца, и очи. Тогда он понял и убедился окончательно: говорить с ними об истине в чистом виде невозможно; требовать от них чего-то большего бессмысленно; пользоваться божественным законом широкая публика в большинстве своем способна лишь в той мере, в какой закон этот касается ее мирской жизни, и лишь постольку, поскольку можно устроить жизнь свою на его основе так, чтобы не бояться покушения на собственное достояние со стороны других; грядущее же счастье дано обрести лишь считанным из них – тем, кто желает будущей жизни и должным образом стремится к ней, тем, кто верует, а кто несправедлив и предпочитает жизнь здешнюю, тому прибежищем будет геенна.
Сколь же тягостно, должно быть, и бедственно состояние человека, в чьих делах, коль проследить их от утреннего пробуждения до отхода ко сну, не встретишь ни единого, которое не направлено было бы на ту или иную цель, связанную с этими низменными, чувственными вещами: либо он богатства накопляет, либо к наслаждениям стремится, либо страсти утоляет, либо гнев свой вымещает, либо власти над другими добивается, либо делами религии занимается, дабы оными кичиться или просто, чтоб головы не лишиться[111]. Все это – мрак, один поверх другого, в бездонном море (Ср.: Коран, 24:40). И нет средь вас никого, кто не вошел бы в геенну; для господа твоего это – приговор окончательный (Ср.: Коран, 19:72).
Разобравшись, в каком находятся люди состоянии, и выяснив, что в большинстве своем они пребывают на уровне неразумных животных, он пришел к заключению: вся мудрость, руководство и преуспеяние заключены в том, что провозглашалось посланниками божиими и о чем гласит божественный закон; ничем этого и заменить нельзя, и дополнить невозможно. Ибо для каждого дела есть свои мужи и каждому удается то, к чему у него имеется призвание. Таково установление бога по отношению к тем, кто ушел раньше, и не найдешь ты для установления его никакой замены (Ср.: Коран, 33:62; 35:41; 48:23). А посему, обратившись к Саламану и друзьям его, он начал оправдываться за речи, которые с ними вел, и отказываться от них. Объявив, что взгляды его стали такими же, как их, и руководствуется он ныне тем же, чем они руководствуются, посоветовал им Хайй, сын Якзана, соблюдать и впредь как заповеди религии, так и внешние ее обряды, поменьше заниматься тем, что не касается их, доверять двусмысленным высказываниям священных текстов и принимать их как есть, новых и собственных убеждений избегать, пример брать с праведных предшественников и всяких нововведений избегать. Вместе с тем он велел им не допускать свойственного широкой публике небрежения религиозным законом, погружения в мирские дела и строго-настрого предостерег от этого.
Они убедились с Абсалем: эти незрелые, несовершенные люди могут прийти к спасению только указанным выше путем; если их оторвать от этого пути и вознести на высоты умозрения, то положение их нынешнее расстроится, а степени счастливых достичь им не удастся – они зашатаются, опрокинутся и найдут себе недобрый конец (Ср.: Коран, 56:10); пребывая же в теперешнем своем состоянии до самого смертного часа, они обеспечат себе грядущее благополучие и приобщатся к тем, кто стоит с правой стороны. А стоящие спереди? А стоящие спереди – это приближенные к богу[112].
Распрощавшись с этими людьми, они стали ждать, когда бог ниспошлет им случай, чтобы вернуться на свой остров. И Аллах (великий он и всемогущий) помог им переправиться туда.
Хайй, сын Якзана, прежним своим способом начал добиваться того, чтобы оказаться на возвышенной Стоянке, и в конце концов достиг ее опять. Абсаль же подражал ему, пока не приблизился – или почти не приблизился – к уровню его[113]. И поклонялись они богу на острове том до самой своей смерти.
Вот что (да поможет нам с тобою Аллах духом от него) рассказывают о Хайе, сыне Якзана, Абсале и Саламане. Рассказ этот содержит некоторые рассуждения, которых ни в книге никакой не встретишь, ни в беседе обычной не услышишь. Они относятся к сокровенному знанию, к коему восприимчивы лишь те, кто познает Аллаха, и которое остается неведомым лишь тем, кто пользуется Аллахом ради своей гордыни. Передавая оное знание, мы отступили от пути, которым следовали наши благие предшественники, державшие его при себе и ни с кем не делившиеся им. Решиться же с такой легкостью приоткрыть эту тайну и разверзнуть скрывающий ее полог побудили нас те появившиеся в наше время порочные воззрения, с коими выступили некоторые современные нам любители пофилософствовать и которые разглашались ими так, что распространились по разным странам и вред, приносимый ими, стал всеобщим. Нас охватило беспокойство за нетвердые умы, которые, отбросив авторитет пророков (да благословит их Аллах), предпочли авторитет глупцов и невежд, как бы не возомнили они, будто воззрения эти как раз и являются теми, что предназначены только достойным их, и как бы их привязанность к ним и пристрастие не стали от этого еще сильней.
А посему мы сочли за благоразумное приоткрыть намеками тайну тайн, дабы направить эти умы на поиски истины и отвратить их от того порочного пути. Но и изложенные на сих немногих листках тайны мы не преминули прикрыть пологом тонким и завесой легкой, кои не замедлят развернуться перед тем, кто этого достоин, но окажутся слишком плотными для того, кто не заслуживает права заглянуть за них. Братьев же моих – знатоков подобного рода рассуждений – я прошу принять извинения за вольности, которые мог допустить в объяснениях, и за погрешности, которые мог позволить себе в доказательствах. Ведь делалось мною это потому, что взбираться приходилось на высоты необозримые, а поведать о них хотелось языком доступным, дабы вызвать у людей стремление, возбудить у них влечение к тому, чтобы далее идти по достойному пути.
И прошу я у Аллаха прощения и снисхождения, молю, чтобы знание о себе он дал нам чистое – ведь он милостивый, щедрый. Мир тебе, о брат, коему долг мой приходить на подмогу, а равно милосердие Аллаха и благословение его.
Примечания
1
По другой версии: "Ты просил, о чистый брат..." Таким обращением начинаются многие трактаты, образующие энциклопедию Чистых Братьев – конспиративной группы идеологов исмаилитского движения (Х в.).
(обратно)2
Великий философ средневековья Абу Али Ибн-Сина (980-1037) утверждал, что свою "Книгу исцеления" он написал, дабы удовлетворить интерес к учению Аристотеля современных ему почитателей древнегреческой философии, а для себя и своих единомышленников составил трактат "Восточная мудрость". Трактат этот, за исключением небольших разделов, по физике и логике, до нас не дошел, и о его содержании ученые высказывают разноречивые догадки. Младший современник и друг Ибн-Туфейля Ибн-Рушд точку зрения последователей Ибн-Сины на его "восточную мудрость" передает так: Абу Али не верит в реальное существование некоего божественного начала, отрешенного от материи, и свою книгу назвал "Восточной мудростью" потому, что на Востоке есть люди, по представлениям которых божественное начало находится в небесных телах. Такая интерпретация "восточной мудрости" Ибн-Сины вполне согласуется с пантеистическими идеями, содержащимися в некоторых символах повести Ибн-Туфейля.
(обратно)3
Слово "Состояние" здесь и далее используется как термин, обозначающий экстатическое состояние, в котором единство Бытия, отождествляемое с божеством, выступает объектом непосредственного, интуитивного созерцания. Этот и другие термины из словаря суфиев (мусульманских мистиков) будут даваться с прописной буквы, чтобы подчеркнуть их принадлежность к суфийской терминологии.
(обратно)4
Восклицание, приписываемое суфию Абу Язиду ал-Бистами (ум. ок. 875), который в состоянии экстаза отождествлял свое Я с Истинным Бытием, то есть божеством.
(обратно)5
Высказывание суфия ал-Халляджа (казнен в 922).
(обратно)6
Слова, приписываемые еще одному представителю суфизма – Абу Саиду Ибн-Аби-ль-Хайру (967 – 1049), а также ал-Халляджу.
(обратно)7
Абу-Хамид ал-Газали (1058-1111) – известный мусульманский богослов и философ.
(обратно)8
Это двустишие (бейт), принадлежащее арабсому поэту IХ в. Ибн-ал-Мутаззу, ал-Газали приводит в автобиографическом трактате "Избавляющий от заблуждения" (Газали. Избавляющий от заблуждения / Пер. А. В. Сагадеева // Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII – ХII вв. М., 1970, с. 247.
(обратно)9
Абу Бекр Ибн-ас-Саиг Ибн-Баджа (ум. в 1138) – андалусский философ, старший современник Ибн-Туфейля.
(обратно)10
Соединение с так называемым "деятельным разумом", символизирующим и закономерность процессов, происходящих в подлунном мире, и постигающий ее адекватно общечеловеческий разум.
(обратно)11
Ибн-Баджа. Соединение разума с человеком (на араб. яз.): Ibn Bajjah (Avempace), Opera metaphysica / Ed. by M. Fakhry. Beirut, 1968, p. 172 – 173.
(обратно)12
Речь идет о познавательной "силе" души.
(обратно)13
"Вкушанием" суфии обозначали состояние, при котором божество становится объектом непосредственного, мистического переживания.
(обратно)14
См.: Ibn-Sina (Avicenna). Livre des direktives et remarques (Kitab alisarat wa l-tanbinat) / Traduction avec introduction et notes par A.M. Goichon. P., 1951, p.493–494; 495–496.
(обратно)15
Пример со слепым от рождения человеком в таком же контексте приводится и в трактате ал-Газали (Газали. Указ. соч., с. 249).
(обратно)16
Близости к пантеистически понимаемому божеству, когда человек не осознает своей самости как чего-то отличного от данного ему в интуитивном созерцании объекта.
(обратно)17
Дальнейший текст со слов "С отступлением этим..." в издании А. Амина отсутствует.
(обратно)18
Предмет метафизики, учения о сущем как таковом, отличен как от предмета физики, учения о данных нам в ощущении явлениях природы, так и от предмета мистического опыта.
(обратно)19
Божество пантеистов, или Истинное Бытие, не поддается определению, а потому не имеет "предела", тогда как все остальное получает определение благодаря ему.
(обратно)20
Красная сера – философский камень.
(обратно)21
В наших краях – в Андалусии.
(обратно)22
Абу Наср ал-Фараби (870-950) – великий философ средневековья, предшественник Ибн-Сины.
(обратно)23
"Книга исцеления" – главное энциклопедическое сочинение Ибн-Сины, охватывающее логику, математические науки (арифметику, геометрию, теорию музыки, астрономию), физику (включая психологию) и метафизику, или "божественную науку".
(обратно)24
Стихи арабского поэта из Толедо ал-Ваккаша (ум. в 1095).
(обратно)25
Смерть похитила его... Ибн-Баджа, занимающий пост везира при одном из правителей; был обвинен в неверии и под конец отравлен своими соперниками.
(обратно)26
...либо только еще растут... Некоторые исследователи считают, что речь здесь идет об Ибн-Рушде.
(обратно)27
О совершенной душе, стремящейся к подлинному счастью, то есть к философскому познанию сущего, в "Политике" ал-Фараби говорится, что таковая "не погибает с гибелью материи, так как для своих способностей и существования она более не нуждается в материи", поскольку метафизические понятия, хотя у их истоков и находятся ощущения, абстрагированы от всего чувственного, материального. Иная доля ожидает души людей, помыслы которых не поднимаются выше чувственного: их души "не достигают того совершенства, посредством которого они отрешаются от материи, так что они гибнут, как только гибнет материя". (См.: Ал-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата, 1973, с. 127, 130, 131).
(обратно)28
Речь идет о не дошедшем до нас комментарии ал-Фараби к "Никомаховой этике" Аристотеля.
(обратно)29
Перипатетики – последователи учения Аристотеля.
(обратно)30
...и мысли, кои дошли до нас... К ним относятся прежде всего идеи, почерпнутые из апокрифической "Теологии Аристотеля".
(обратно)31
Имеется в виду трактат ал-Газали "Непоследовательность философии", или, по более принятому, но неточному переводу – "Опровержение философов".
(обратно)32
Речь идет о работе ал-Газали "Весы деяний".
(обратно)33
Эта мысль ал-Газали часто сравнивается с "методологическим сомнением" Декарта.
(обратно)34
Здесь под имамом подразумевается религиозный деятель, богослов, пользующийся высоким авторитетом.
(обратно)35
...содержится... истина... Речь идет о так называемых "эзотерических сочинениях" ал-Газали.
(обратно)36
О сотворении человека в Коране говорится: "И вот сказал Господь твой ангелам: "Я сотворю человека из звучащей, из глины, облеченной в форму. А когда я выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклонясь" (Коран, 15:28–29). Здесь и далее в основу перевода цитат из Корана положено издание его в переводе И.Ю.Крачковского (Коран. М., 1986). В отсылках на Коран число, стоящее перед двоеточием, указывает на порядковый номер суры, а после – номер аята. Ссылки на Коран даются прямо в тексте под строкой.
(обратно)37
Философское сочинение Абу-Хамида ал-Газали "Ниша светов". Ввиду указанного здесь обстоятельства некоторые исследователи высказывают сомнение в авторстве трактата "Ниша светов". Вопрос этот может быть решен в свете общей характеристики, даваемой творчеству ал-Газали Ибн-Рушдом, согласно которому ал-Газали "в своих книгах не связывает себя ни с одним из учений, будучи с ашаритами ашаритом, с суфиями – суфием, с философами – философом" (Ибн-Рушд. Рассуждение, выносящее решение относительно связи между религией и философией // Сагадеев А.В.Ибн-Рушд (Аверроэс). М., 1973, с.189); "Из приписываемых ему книг явствует, – пишет он в другом месте, – что в метафизических науках он обращается к учению философов. Самым ярким свидетельством и наиболее убедительным подтверждением тому служит книга его, озаглавленная "Ниша светов" (Ибн-Рушд. Опровержение опровержения / Пер. А.В. Сагадеева и А.И. Рубина // Избр. произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IХ – ХIV вв. М., 1961, с. 479.
(обратно)38
...воззрениях... кой-кого из любителей философии. Об этих, распространившихся в современной ему Андалусии взглядах Ибн-Туфейль говорит в конце повести, ссылаясь на них как на одну из причин, побудивших его взяться за перо. По мнению Л.Гудмена, речь в данном случае идет о мистиках, притязавших на полное самоотождествление с богом. Но с этим вряд ли можно согласиться, поскольку мистики (суфии) не притязали на философскую мудрость. Скорее всего, автор имеет в виду тех, кто, встав на путь грубого "материализма", пренебрегал высшими метафизическими истинами, а возможно, и не скрывая своего скептицизма по отношению к религиозным догмам и предписаниям. Таких людей ал-Фараби называл "ненастоящими философами". В связь с подобного рода воззрениями можно поставить высказывание Ибн-Сины о действии воображения ("летающего сонмища") на людей, которые, не будучи способны мыслить абстрактными категориями, отрицают все, что нельзя представить себе в чувственной форме: "Что же до летающего сонмища, то оно лишь наущает человека считать ложным все незримое, расписывает перед ним красоту поклонения тому, что сотворено природой и искусством, и тайно внушает ему, будто нет другого рождения, нет воздаяния за дурные и благие дела и нет вечносущего над царствием". (Ибн-Сина, Трактат о Хайе, сыне Якзана // Сагадеев А.В. Ибн-Сина (Авиценна). М., 1980, с. 228.
(обратно)39
Намек на ночное путешествие Мухаммеда из Мекки в Иерусалим, о котором говорится в 17-й суре Корана.
(обратно)40
В тексте, изданном Амином, далее следуют слова, видимо, представляющие собой позднейшую интерполяцию: "...и будто растут там некие деревья, приносящие плоды в виде женщин (это и есть тот самый остров ал-Вак-Вак, о котором повествует ал-Масуди)..."
(обратно)41
В средневековой арабо-мусульманской науке земная поверхность делилась с юга на север на семь климатов (поясов). Наиболее умеренным, а потому благоприятным для развития жизни и цивилизации считался четвертый климат, соответствующий широте Средиземноморья.
(обратно)42
Точка зрения, высказывавшаяся "философом арабов" Ал-Кинди (ок. 800-873).
(обратно)43
...те, кто отрицает возможность самозарождения... – то есть те, кто придерживается в вопросе о появлении на земле людей религиозной точки зрения. Историю с принцессой и ее ребенком можно рассматривать как аллегорию на ветхозаветный рассказ о первородном грехе и изгнании Адама из рая. Ветхозаветная версия начальной истории человечества в учении Чистых Братьев смыкается с излагаемой далее натуралистической версией, выступая в качестве "небесного" архетипа того, что происходило на земле в пространстве и во времени. "Земной Адам", первый человек, согласно Чистым Братьям, появился там, где для этого имелись соответствующие условия, – в районе экватора, где день равен ночи, температура воздуха постоянна и климат умерен. "Земным раем" они считали гору Якут, расположенную на одном из "островов Индийских", а именно на острове Шри Ланка. При этом ближневосточные энциклопедисты рассматривали возникновение человечества как один из этапов эволюции земной жизни, которому предшествовали этапы появления на земле неразумных животных, до них – растений, а еще раньше – минералов.
(обратно)44
Представления о возможности самозарождения живых организмов из "бродящей глины" восходит к античной науке. См.: Аристотель. О душе, с. 415; О возникновении животных, с. 715.
(обратно)45
Пневма, или "воздухообразное тело", служит носителем души как совокупности сил, функций организма. То, что душа не может быть отделена от своего носителя ни в чувственном восприятии, ни мысленно, делает невозможным и ее самостоятельное существование после гибели тела..
(обратно)46
Ветхозаветное положение, отсутствующее в Коране, но приписываемое исламской традицией пророку Мухаммеду.
(обратно)47
В аналогичном контексте световая символика используется в трудах Ибн-Сины, а символ зеркала – у ал-Газали, в энциклопедии Чистых Братьев и, по сообщению аш-Шахрастани, у сабиев.
(обратно)48
Двойной намек: на философское положение о том, что человеческая душа функционирует, опираясь на силы неорганической природы, и на положение Корана – о том, что Аллах, сотворив Адама, повелел ангелам склониться перед ним. Для философов мусульманского средневековья второе положение было аллегорическим выражением первого, а также тезиса о том, что человек призван познать природу и властвовать над ней.
(обратно)49
Точку зрения, согласно которой из трех важнейших органов человеческого тела – сердца, головного мозга и печени – главенствующее положение занимает сердце, Ибн-Сина противопоставлял излагаемому в Платоновом "Тимее" тезису о том, что это положение принадлежит мозгу.
(обратно)50
В этом, как и в ряде других случаев, развитие некоторых навыков у человека – вплоть до тех, что связаны с методами постижения Истинного Бытия, Ибн-Туфейль склонен объяснять, исходя из своеобразной теории подражания.
(обратно)51
В происхождении "языка" животных Ибн-Сина предавал решающее значение его коммуникативной функции, причем "язык" этот считал основой. на которой развивалась человеческая речь.
(обратно)52
Хайй ибн-Якзан выделяется на этом этапе развития высшими психическими силами, свойственными неразумным животным.
(обратно)53
По традиции, восходящей к Пифагору и Галену, Ибн-Туфейль делит жизнь своего героя на семилетние периоды, или "седмины".
(обратно)54
Рубеж, разделяющий первую и вторую седмины в жизни героя, знаменует переход от животного способа существования к человеческому, когда Хайй ибн-Якзан получает первые навыки в "практических искусствах", то есть в изготовлении всевозможных орудий. Очевидна первостепенная роль, которую играет, по Ибн-Туфейлю, в становлении человека как существа разумного его рука, заменяющая "естественные" орудия, которыми пользуются животные.
(обратно)55
Смерть газели символизирует конец того периода в развитии человечества, когда оно жило "дарами природы". Отныне человек занимает по отношению к природе активную позицию.
(обратно)56
Размышляя над вопросом о сущности жизни и смерти, герой переходит от объяснения явлений только механическим взаимодействием тел к изучению их скрытых, внутренних причин и приходит к идее существования души как начала самодвижения тела и как начала, выражающего самость данной особи. Сравнение тела живого существа с палкой, которой Хайй пользовался в схватках со зверями, указывает на происхождение представления о теле как о совокупности органов, которыми "пользуется" душа (в арабском, как и в древнегреческом, понятия органа и орудия выражаются одним и тем же словом).
(обратно)57
Некоторые авторы видят в отдельных деталях жизнеописания героя намеки на появление у человека в различные периоды его эволюции верований, предшествовавших монотеистическим религиям. Если это так, то здесь можно усмотреть намек на появление у Хайя культа животных.
(обратно)58
Возможно, намек на то, что Хайя превращается в огнепоклонника.
(обратно)59
Речь идет о "пневме" – материальном носителе психических сил.
(обратно)60
Познание единства предмета как непрерывности (см.: Аристотель. Метафизика, 1016 а) и причины его органического единства.
(обратно)61
Для философов мусульманского средневековья была характерна мысль об отсутствии резких границ между различными царствами природы.
(обратно)62
Л. Готье отмечает в этом месте, что Ибн-Туфейль, смешивая два понятия, одно и то же называет попеременно духом и душой. Ж.Лябика, подготовивший к печати алжирское издание его перевода, оправдывает это тем, что форма "романа" позволяет подобного рода "вольности изложения". Между тем никаких вольностей Ибн-Туфейль здесь не допускает: душа – различающий признак и форма духа, или пневмы, а не сам этот дух. Как будет видно дальше, различающий признак того, что у растений выполняет функцию, аналогичную функции животного духа, именуется растительной душой, а различающий признак начала, определяющего движения и качества минеральных тел, – природой.
(обратно)63
Таким образом, Ибн-Туфейль, отождествляя телесность с протяженностью, считает ее, подобно Ибн-Рушду, ближайшим атрибутом материи, а значит, и ее фундаментальной формой. Ибн-Сина же рассматривал три измерения (протяженность) как акциденции материальных вещей, а ближайшей формой материи считал телесность. Далее, однако, автор характеризует протяженность как вещь, которая только напоминает форму. Это позволяет заключить, что точка зрения Ибн-Туфейля на протяженность была как бы переходной от точки зрения Ибн-Сины к точке зрения Ибн-Рушда. После Ибн-Рушда в Европе (у Декарта, Спинозы) утвердилась концепция материи, характеризующейся прежде всего протяженностью (на авторитет Ибн-Рушда в этом вопросе ссылается Джордано Бруно).
(обратно)64
Имеется в виду четыре стихии, или элемента: земля, вода, воздух и огонь.
(обратно)65
Здесь и далее в тексте, изданном Амином, это начало (деятельный разум) характеризуется как нечто "действующее по свободному выбору". Добавления эти, очевидно, вызваны были стремлением переписчика придать рассматриваемому здесь началу черты теистического божества.
(обратно)66
Герой повести начинает мыслить силлогизмами и вскоре, как увидим, приступает к составлению первых доказательств.
(обратно)67
Дальнейшее рассуждение, доказывающее пространственную ограниченность мира, воспроизводит доводы, которыми пользовались Ал-Кинди и Ибн-Сина.
(обратно)68
Две звезды из созвездия Малой Медведицы.
(обратно)69
Существование пустоты, таким образом, исключается.
(обратно)70
Сравнение, восходящее к Платону ("Тимей", 30; 92 с) и использовавшееся Ибн-Баджей.
(обратно)71
Органистическая трактовка Вселенной, очень напоминающая ту, которая была принята у Чистых Братьев.
(обратно)72
Доводы, отвергающие тезис о сотворении мира во времени, повторяют аргументы. приводившиеся с той же целью Ибн-Синой.
(обратно)73
Данное рассуждение воспроизводит доказательство Ибн-Синой существования бытийно необходимого сущего – пантеистического божества, по отношению к которому данный нам в нашем конечном опыте мир выступает как нечто "тварное", но не сотворенное во времени, то есть как бытийно возможно сущее.
(обратно)74
Важная, с философской точки зрения, мысль о том,, что бытие, существование предицируется форме и материи неравносильно.
(обратно)75
У средневековых арабов, как и у древних греков, слово добродетель означало совершенство, идеал.
(обратно)76
До сих пор применительно к этому бытийно необходимому началу использовалось относительное местоимение "что"; если здесь не исправление, внесенное переписчиком, то переход к использованию местоимения "кто" может означать намек на то, что обозначаемое им понятие соответствует понятию бога, как его трактуют теисты.
(обратно)77
Герой повести готовится стать на путь суфиев-гностиков.
(обратно)78
Поскольку именно так обстоит дело "со всякой лишенной разума скотской породой безразлично, в человеческом та обличье или нет", то данное замечание означает, что взгляды, здесь излагаемые, в принципе ничем не отличаются от трактовки бессмертия и потусторонней жизни, которую выдвигал ал-Фараби и которую Ибн-Туфейль характеризует в начале повести как сомнительную.
(обратно)79
Как и Ибн-Сина в одноименном его аллегорическом трактате, ИбнТуфейль здесь воздерживается от утверждения абсолютной неизменности и неуничтожимости небес.
(обратно)80
Следовательно, способность к проявлению признаков жизни заложена в самом фундаменте материального мира в четырех стихиях.
(обратно)81
Центр Вселенной, по тогдашним представлениям, совпадает с центром земли; огонь же из всех стихий, образующих концентрические сферы, наиболее удален от этого центра и находится в непосредственной близости к сфере Луны.
(обратно)82
Так Хайй ибн-Якзан приходит к представлению о существовании вида (по современной терминологии – рода) человеческого, коего единственным представителем он пока считает себя.
(обратно)83
Все эти действия, направленные на сохранение природной среды, – аналоги высоконравственной жизни человека, общающегося с себе подобными существами, каковым Хайй, живущий на острове один, быть, конечно, не мог. Важно, однако, то, что, поступая так, наш Робинзон вовсе не рассчитывал на потусторонние воздаяния. Но при аллегорическом толковании религиозных догм, касающихся потусторонней жизни, их можно без труда согласовать и с поведением Хайя, поскольку цель его жизни отныне – познание Истинного Бытия, то есть бога, а следовательно, и достижение вечного блаженства.
(обратно)84
Три способа круговращения представляют собой последовательные этапы концентрации движений героя вокруг центра, которым и становится наконец его физическое Я. Чрезвычайно смелый намек содержится в описании второго способа круговращения – вокруг дома и камня: во времена паломничества в Мекку мусульмане совершают ритуальный обход Дома Аллаха – храма Каабы с хранящимся там Черным Камнем.
(обратно)85
Речь идет о джихаде души, который, по представлениям суфиев, заключается в противоборстве человека собственным низменным страстям.
(обратно)86
Учение об аффирмативных (положительных) и негативных атрибутах бога принадлежит Ибн-Сине.
(обратно)87
Богомыслие (точнее, поминание имени Аллаха, чего Хайй, разумеется осуществить не мог из-за отсутствия у него человеческой речи), как и кружение на месте (характерное для основанного ас-Сухраварди "братства танцующих дервишей"), было одним из методов, использовавшихся суфиями для приведения себя в экстатическое состояние.
(обратно)88
Поскольку используемое здесь арабское слово, обозначающее речь, служит также для передачи понятия спекулятивной теологии ислама (калама), то эта фраза может быть истолкована и в том смысле, что Хайй Ибн-Якзан познал бога, нисколько не нуждаясь в теологах и теологии.
(обратно)89
Слова, приписываемые мусульманской традицией Мухаммеду.
(обратно)90
Стоянка, согласно принятой у суфиев терминологии, – это длительное состояние мистического созерцания.
(обратно)91
Исчезновение – еще один суфийский термин, обозначающий высшую степень самоотдачи созерцанию Чистого Бытия.
(обратно)92
Этот образ, символизирующий человека, который неспособен постичь самоочевидную истину, восходит к Аристотелю ("Метафизика", 993), а начиная с ал-Кинди использовался и в философской литературе мусульманского Востока.
(обратно)93
Ср.: Коран, 30:6 (7). Не исключено, что распространение в Андалусии именно таких взглядов, не поднимающихся выше уровня обыденного "здравого смысла", имеет в виду Ибн-Туфейль, говоря о воззрениях, заинтересовавших в его стране некоторых любителей философии (см. коммент. к с. 90).
(обратно)94
Речь идет о Перворазуме как первой эманации Истинного Бытия. Космическую иерархию представляют далее в нисходящем порядке сферы неподвижных звезд, Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и Луны, каждой их которых соответствует особый разум, или, по терминологии Ибн-Туфейля, самость (сущность).
(обратно)95
Образ зеркал, передающих друг другу отражение солнца (Истинного Бытия), встречается у ал-Газали и в неоплатонической литературе.
(обратно)96
Деятельный разум, символизирующий единство и закономерность явлений, происходящих в подлунном мире, в мире возникновения и уничтожения.
(обратно)97
Число 70 тысяч фигурирует в "Нише света" ал-Газали, где оно обозначает количество покровов света и тьмы, за которыми скрывается божество. О "ликах" божества говорится в "Эннеадах" Плотина.
(обратно)98
Ввиду тождества Истинного Бытия познающей его самости здесь не имеет значения, подразумевается ли под таковой самость Хайя как индивида или как олицетворение человечества, достигшего данного уровня постижения единства сущего.
(обратно)99
Души несовершенных людей, пребывающих в аду невежества. Выше, однако, говорилось, что подобные души обречены на небытие или нечто подобное небытию (см. коммент. к с. 249).
(обратно)100
Картина мира возникновения и уничтожения. О выравнивании и вдувании см. коммент. к с. 87.
(обратно)101
Совечный Истинному Бытию феноменальный мир не только извечен, но и неуничтожим в будущем.
(обратно)102
То есть в этом вероучении (а по всем признакам речь в данном случае идет об исламе) используются "поэтические" и "риторические" рассуждения, призванные действовать не столько на разум, сколько на эмоции людей.
(обратно)103
Эти два персонажа, имена которых заимствованы Ибн-Туфейлем у Ибн-Сины, олицетворяют, соответственно, теоретический разум и разум практический, из коих второй довольствуется буквальным пониманием священных текстов, а первый стремится постичь их внутренний смысл и предрасположен к чисто теоретическому, абстрактному мышлению.
(обратно)104
В отношении выполнения практических предписаний и законов религии, регулирующих человеческое общежитие, между представителями теоретического разума и разума практического не может быть никаких противоречий. Даже самый атеистически мыслящий философ обязан на людях строго придерживаться освящаемых господствующим вероучением обрядов и норм поведения.
(обратно)105
Непримиримые противоречия между теоретическим разумом и разумом практическим возникают в сфере общего мировоззрения, где или теология должна быть подчинена философии, как это было в социальной утопии ал-Фараби, или философия обязана выступать в качестве служанки богословия, что и осуществляли в своем творчестве Фома Аквинский и другие теологи западноевропейского средневековья.
(обратно)106
Под речью здесь опять можно понимать спекулятивную теологию (калам), а под наукой вполне определенно – религиозные знания.
(обратно)107
Принципиальная разница между Робинзоном и Пятницей: первый, выросший в естественных условиях и руководствующийся "естественным светом разума", совершая благие дела, нисколько не помышляет о том, что ему за это воздастся сторицей в потусторонней жизни; второй, напротив, привык рассматривать такие дела именно как угодные богу, то есть сулящие потусторонние награды.
(обратно)108
Если не считать убеждения в том, что человечество, в общем, представляет собой закономерное порождение природы, вопросы антропогенеза для философов мусульманского средневековья были действительно трудными (хотя здесь и выдвигались гипотезы о том, что переход от неразумных животных к мыслящим существам опосредствуется обезьянами или даже своего рода "снежными людьми", именуемыми "наснас").
(обратно)109
Вариант отношений, складывающихся между чистым, философским разумом и теоретическим разумом, представляемым спекулятивной теологией, о котором мечтал ал-Фараби: теология обязуется подражать философии и быть ее "служанкой" (ср.: ал-Фараби. Книга букв / Под ред. М. Махди; на араб. яз. Дамаск, 1971. С. 133).
(обратно)110
Согласно мусульманским представлениям, в день Страшного Суда деяния каждого человека будут взвешены на особых Весах, а по Пути, о котором здесь говорится, смогут пройти лишь праведники, тогда как грешники низвергнутся с него в ад.
(обратно)111
Говоря о погрязших в невежестве классах людей, Ибн-Туфейль намекает на учение ал-Фараби о "невежественных городах", представленных различными, с точки зрения жизненных ориентаций, категориями людей и противоречащих "образцовому городу". Перечисляемые здесь низменные, чувственные вещи соответствуют ориентациям, противоположным идеальной. Накопление богатства – атрибут "города обмена", где жители "стремятся помогать друг другу для достижения зажиточности и богатства, но не как средства для достижения чего-то, а как цели всей жизни" (ал-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата, 1970. С. 323).
Стремление к наслаждениям – атрибут "города низости", в котором жители "стремятся к наслаждениям – в еде, в питье, половых сношениях, короче, они стремятся к такому наслаждению, которое действовало бы на чувства и воображение, стремятся возбудить веселье и утешаться забавами во всех их видах и проявлениях" (там же). Утоление страстей – атрибут "коллективистского (демократического, по терминологии Платона) города", коего жители "стремятся к тому, чтобы каждый из них свободно мог делать то, что он хочет, ничем не сдерживая свою страсть" (там же, с. 324).
Вымещение гнева – атрибут той разновидности "властолюбивого города", в которой "заведено вредить другому без пользы для себя <...>, например, когда лишают жизни только лишь из жажды насилия" (ал-Фараби. Социально-этические трактаты. С. 153).
Стремление добиться власти – атрибут всякого "властолюбивого города", где жители "стремятся к тому, чтобы другие покорялись им, а сами бы они не покорялись никому" (ал-Фараби. Философские трактаты. С. 324).
Религиозная деятельность, диктуемая тщеславием или опасением подвергнуться преследованиям, – атрибут "заблудшего города" и "невежественных городов" вообще, ибо в городах этих человек, занятый религиозными делами, осуществляет их "лишь для видимости – с тем, чтобы завоевать одно какое-то благо или все эти блага" (там же, с.359). В частности, он может обрести таким путем специфическое благо "честолюбивого города", где его за это "будут почитать, уважать и возвеличивать" (с.360). В крайнем же случае религиозной деятельностью он может добиться того, что его не будут "подозревать в чем-либо" (с. 358).
(обратно)112
Если человек не может мыслить абстракциями, то пытаться разубедить его в истинности изложенных мифологическим языком догматов религии не только бесполезно, но и пагубно, ибо представитель "широкой публики", не став философом, может в этом случае лишь превратиться в скептика, то есть в человека, практически не управляемого ни в нравственном, ни в гражданском отношении.
(обратно)113
Слова о том, что, подражая Хайю, Абсаль лишь приблизился к уровню постижения им бытия, могут указывать и на невозможность достижения теоретическим разумом в каждом отдельном случае абсолютной истины, раскрывающейся лишь перед коллективным умом человечества в его вечном поступательном движении, и неспособность спекулятивной теологии проникнуть в существо метафизических вопросов.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



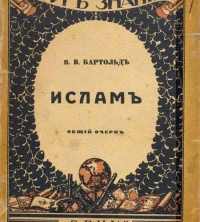

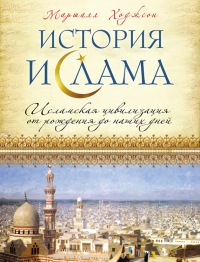
Комментарии к книге «Повесть о Хайе, сыне Якзана», Абу Бекр Мухаммед ибн Абд ал-Малик Ибн Туфейль
Всего 0 комментариев