Книга первая Утро
Что бы нам не говорили синоптики, вероятность дождя всегда – 50% Если вы мне не верите – выгляньте в окошко, дождь на улице или есть, или его нет. Фифти-фифти, так сказать, третьего не дано. Во многих других областях знаний дело обстоит точно так же.
Здравый смысл.
Для начала
Я должен сказать несколько слов о причинах, побудивших меня взяться за эту книгу. Лет десять назад я забросил свои литературные опыты и думал, что навсегда, потеряв стимулы к этому труду и видя бессмысленность писательства в наше время. Чуть позже я расскажу об этом подробнее. И тем не менее, я вернулся к этому неблагодарному занятию в какой-то степени даже против своей воли после того, как со мной произошло событие перевернувшее, в буквальном смысле, мои представления о жизни.
Это было похоже на частичное разрушение личности, было болезненно и неприятно. Я тогда чуть было не дошел до самоубийства.
Чтобы ликвидировать возникшие неудобства, чтобы хоть как-то разобраться в сумятице, в которую превратился мой внутренний мир я, собственно, и начал писать эту книгу.
Поздней осенью 2008 года я «увидел жизнь с другой стороны». В этом выражении нет ни грамма преувеличения. Моё тогдашнее впечатление сродни тому, как если бы человек всю свою жизнь провел внутри дома, ни разу не выходя из него, и вдруг вышел на улицу и увидел свой дом снаружи. Согласитесь, это должно перевернуть его представления о жизни вообще, а не только о своем доме. Предположим еще, что в этом же доме живет много людей, точно так же, как и он, ни разу за свою жизнь не покидавших его. И вот только он один вышел, потом вернулся обратно, ему же определенно захочется поделиться своим знанием с остальными? Наверняка захочется. И мне захотелось.
Представьте себе еще, что люди, какими-то чарами запертые в этом доме, в свободное от основных забот время занимаются изысканиями на предмет того, что может быть снаружи, составляя целые философии и религии, передающиеся из поколений в поколения. Одни придерживаются мнения, что за пределами дома вообще ничего нет – пустота и темнота. Другие говорят, что там обитают многочисленные боги, третьи настаивают на том, что многих богов там нет, что бог един и этот единственный бог очень любит людей и волен наказывать жителей дома или поощрять их по своему произволу. Эти же третьи уверяют всех, что человек, вышедший из дома, обратно вернуться уже не может. Он теперь умер и должен дожидаться страшного суда над собой.
А наш-то человек вышел, посмотрел на то, что происходит на улице и вернулся! Он видел, что на этой улице живут такие же люди, как и в доме, он почувствовал свежий ветерок, увидел небо и солнце, вернулся обратно и пытается поделиться с остальными своим открытием, но ему никто не верит! Не может быть, говорят. Все наши теории трактуют, что этого не может быть. А он им говорит, пойдемте, я вам покажу, что есть на самом деле, достаточно это увидеть и всё поймете сами. А они всё равно говорят, не пойдём – нас не обманешь!
Примерно в такой ситуации я оказался поздней осенью 2008 года. Сравнение со смертью, кстати, это опять не метафора. Тибетский лама Л. Рампа подробно описывает процесс ритуального умерщвления кандидатов в «посвященные». Такой обычай существовал и во многих других древних религиях, в древнем Египте, например – если хочешь стать посвященным в главные таинства, то должен умереть на некоторое время. Если вернешься, станешь Посвященным, если нет – не судьба, похоронят с почестями.
Рампа описывает этот процесс так:
После длительной подготовки его сопроводили в глубокое подземелье, положили на гранитную плиту и замуровали двери недели на две. Почти сразу, после того, как он расслабился на своей каменной плите, тело его одеревенело, в полной темноте он увидел яркий свет, одновременно он ощутил резкие судороги в теле, как будто к этому телу подключили сильный ток низкой частоты. Неприятные ощущения довольно быстро прошли, он покинул своё тело и пребывал вне его до прихода монахов, распечатавших пещеру.
В предисловии к его книге я читал, что многие сомневаются в правдивости его рассказов, но, извините, никто его на лжи не поймал, даже в рассказах об обыденной жизни и обычаях тибетских монастырей, а я сейчас подтверждаю, что и рассказ о временной смерти вполне соответствует действительности. По крайней мере, что касается ощущений в момент выхода из тела, то у меня они точно такие же.
Другой вопрос, что для того, чтобы отделиться от тела вовсе не обязательно замуровываться в глубоких пещерах. Всё это можно проделать в собственной кровати.
Примерно такие же ощущения описывает Роберт Монро в своей книге «Путешествия вне тела». Подобные муки он испытывал долгое время, не понимая их истинного значения, и лишь спустя некоторый срок вышел из тела.
Вообще-то говоря, сначала я думал, что таких как я, Монро или Рампа много, слишком уж легко у меня в первый раз это получилось. Но, как выяснилось, я ошибался. Всё не так просто.
С другой стороны, меня поразило то, что сейчас, оказывается, есть школы, которые берутся быстро научить человека внетелесным прогулкам. После того, как разместил в интернете отрывки из своей книги, я понял, в чем дело. Я получил письма от нескольких людей, прошедших такое обучение и, оказывается, их научили только управляемым снам, а это совсем не то.
По переписке с читателями я понял еще некоторые вещи, например то, что отдельные мысли, излагаемые мной в этой книге настолько неожиданны почти для всех, что читателю остается выбрать – кто здесь сумасшедший, он сам или автор книги. Ни то, ни другое, поверьте мне. Просто само это знание настолько парадоксально, что понять, а тем более, принять его сразу нет никакой возможности. Я об этом предупреждаю читателя с самого начала. Хотя, в этой первой книге я больше описываю сам дом, чем то, что находится за его пределами. По большей части, эта книга всего лишь разговор о жизни, о её веселых и грустных сторонах. Эта книга предназначена для спокойной и длительной беседы о смысле человеческой жизни.
Проще всего, конечно, отказаться от чтения этой книги, но ведь стремление к познанию жизни не дает покоя и заставляет нас совать нос в самые неподходящие для этого места? Это характерно не для всех, но для многих. Не уверены в своих силах и тяге к знаниям? Плюньте и не читайте дальше. Но всё же замечу, что нетрадиционная часть книги – это не мистика и не религиозная догма, это всего лишь, информация к размышлению.
Моя цель здесь состоит только в том, чтобы обозначить проблемы, поставить вопросы, а не дать на них пачку исчерпывающих ответов. А что касается нетрадиционных представлений, то такого рода чтение, кроме всего прочего, требует некоторой специальной подготовки. Проще всего сказать, что это всё фигня, потому что непонятно или не верится. Но согласитесь, чтобы читать, например, учебник по ядерной физике, нужно владеть азами этой науки и смежных наук, хотя бы математикой. То же самое и в нашем случае. Я не могу здесь не ссылаться на Кастанеду, Монро, Вебстера и других, включая тибетских лам, древних европейских киников и «язычников», но и не могу разъяснять полностью их мысли и знания. Читайте и узнавайте сами.
Если при первом прочтении, кое-что здесь покажется непонятным, ничего страшного. Я сам не всё понимаю. Понимание, если не пришло сразу, придет позже. Тем более что основной объем книги прост и понятен. Я ведь изначально взялся писать эту книгу только для себя, для себя одного, чтобы самому себе разъяснить эту жизнь, ставшую вдруг непонятной. Насколько мог, разъяснил.
На всякий случай предупреждаю читателей о трех аспектах:
1. Всё что здесь написано – правда. Всё это действительно было на самом деле.
2. В то же время, если кто-нибудь, прочтя эти записки, захочет привлечь меня к ответственности за: клевету, экономические и другие преступления, разглашение государственной тайны и проч. то, предупреждаю заранее, что в этом случае, я открещусь от документальной точности и скажу, что это художественное произведение, потому что в некоторой степени оно таковым и является. К тому же не надо забывать, что мысль высказанная – уже ложь. Для того чтобы усугубить недокументальность, я не указываю точных имен людей и изменяю географические и прочие названия.
3. Если Вы чувствуете себя уверенным в этой жизни, имеете твердые убеждения, надежно балансирующие вашу жизнь, например, свято верите в христианскую или какую-нибудь другую религию, вы убежденный атеист или имеете собственную философию, отличную от вышеперечисленных, то я Вам читать этих записок не советую. Слишком велика вероятность того, что Ваше мировоззрение изменится, а вместе с ним развалится и спокойная жизнь. Потом понадобится, как минимум, несколько лет для того, чтобы проверить всё это на собственном опыте и хоть как-то восстановить мир в душе.
Это, в основном, касается необычных случаев и выводов, а по остальному повествованию могу привести еще один аргумент со стороны:
«Всегда и везде с осторожностью относитесь к воспоминаниям людей старшего поколения. Они вовсе не думают обманывать себя и других, но сами видят вместо прошедшей жизни мираж отобранных памятью ощущений и образов, окрашенных вдобавок тоскливым сожалением о молодости… В общем, получается, как в литературном произведении. Жизнь как будто и настоящая, реальная, но в то же время концентрированная – большие переживания и впечатления заслоняют собой медленные тоскливые дни с их мелкими разочарованиями.» Иван Ефремов «Лезвие бритвы».
Если я Вас убедил, то выбросьте эти записки в мусорную корзину или подарите товарищу.
Если не убедил, тогда…
Ну, что ж, вперед! И, да поможет нам бог.
Часть первая
1. Сон или другая жизнь?
Началось всё с того, что дочь принесла мне в больницу первую книгу Кастанеды. Я давно собирался познакомиться с этим культовым автором и сам попросил принести именно это. В больнице всё равно, что читать, чем завлекательней книга, тем она менее предпочтительна, потому что кончается быстро. Лучше всего здесь съедаются книги неторопливые, умственные. Кастанеда был очень к месту. Первый том, где речь идет в основном о коллективном употреблении наркотиков мексиканскими индейцами был мне, в принципе, не интересен. К тому же, неуклюжие диалоги Кастанеды коробили. Единственное, что нравилось, это изумительная личность дона Хуана. В другое время, я бы отложил книгу и не стал бы читать дальше, но в больнице она меня захватила.
Захватило меня странное ощущение правды, не правды факта или описываемых событий, а какой-то междустрочной, глубинной правды. Складывалось такое ощущение, будто я не просто согласен с автором, а знаю всё это сам, и не в цифровом обыденном формате, а в аналоговом, интуитивном.
Весьма и весьма странное ощущение. При том, что мне не хотелось читать слова, написанные на бумаге, у меня появилось такое чувство, что я вот-вот пойму какую-то важнейшую для себя мысль. Эта мысль росла во мне с каждой перевернутой страницей, но никак не хотела сформироваться в понимание, как если бы я пил воду и никак не мог утолить жажду.
В больницу я тогда попал в предынфарктном состоянии. Я в очередной раз чуть было не сыграл в ящик, но всё обошлось, даже грудь разрезать не пришлось, мне через ногу вставили стент в коронарный сосуд и дело с концом.
Выйдя из больницы, я заехал в книжный магазин и докупил все остальные тома. Я читал их не спеша, до глубокой осени, с удивлением осознавая, что не могу прекратить это занятие, что вот еще чуть-чуть и я пойму то самое, очень важное для меня. И вот в какой-то осенний день, вернее в одну из ночей, случилось то, что должно было случиться рано или поздно, хотя стало для меня совсем неожиданным. Я проснулся во сне.
Это должно было случиться потому, что практика сновидения занимает в книгах Кастанеды главное место. Читая, постоянно задумываешься об этом и спонтанно хочешь это испытать на себе. Я уже тогда начал догадываться, что неспроста видел в детстве стену из облаков, да и еще что-то было, только нужно это вспомнить.
Очень многие люди, хоть раз в жизни имеют такой опыт, но в подавляющем большинстве случаев, не обращают на это особого внимания. Видимо к этому нужно быть подготовленным, иначе трудно понять происходящее. Для неподготовленных людей это так и остается в памяти очень ярким и почему-то не забывающимся сном.
События, происходящие в сновидениях, не забываются, потому что, когда сталкиваешься с ними, они кажутся более реальными, чем обычная жизнь. На самом деле, они таковыми и являются. Многие смотрели фильмы «Аватар» или «Матрица», в этих фильмах люди засыпая в одном месте, просыпаются в другом и ведут там полноценную жизнь, но ДРУГУЮ. Примерно тоже самое происходит с нами постоянно, только мы этого не помним в «обычной жизни».
Мне снилось тогда, что я иду по городу похожему на Москву в сторону какого-то стеклянного здания. Вдруг я понимаю, что в здании взрывается бомба и вижу начало взрыва, лопающиеся стекла и черный дым. Я быстро разворачиваюсь и пытаюсь убежать, но не успеваю, осколки стекол и камней бьют мне в спину, не очень больно, но всё же чувствительно. Скрывшись за угол соседнего кирпичного дома, я спускаюсь по ступенькам короткой лестницы в полуподвальное кафе, сажусь на высокий стул у стойки и рассуждаю, о том, что во сне я не должен чувствовать боли, и тут же понимаю, что это же сон! Я сплю! Значит, я могу проснуться во сне, для этого Кастанеда советовал посмотреть на свои руки? Смотрю на руки и выхожу из сна.
Все предметы до этого бывшие расплывчатыми и неустойчивыми, приобретают четкость и ясность. Я провожу рукой по стойке – она твердая и гладкая с зазубринами в некоторых местах. Через сквозное отверстие в стене я вижу, как на кухне повариха режет большие куски мяса. Посетители за столиками пьют кофе, не обращая на меня никакого внимания.
Это нисколько не похоже на сон. После того, как я увидел свои руки, я сразу прекратил быть тем аморфным чувственным чучелом, к которому мы привыкли во сне. Я это был я, со своим полным сознанием, памятью и мыслями. Я был твердый, обычный я, если пощупать себя руками. В чем я был одет, не помню, но я и в обычной жизни не обращаю на это внимание. Я встал и пошел к выходу, дверь открыл легко, а вот на ступеньках случилась заминка.
Такое было впечатление, что воздух на улице стал плотным, как вода или даже более вязкая жидкость. Я, повернув влево, смог с большим трудом сделать всего несколько шагов и остановился. По книгам я знал, что в состоянии сновидения можно летать, прыгнул вверх и действительно взлетел. Дальше я передвигался в трех метрах над землей, загребая руками, как бы плывя брассом. Пешеходы подо мной иногда поглядывали на меня, но интереса не проявляли. Таким порядком я выдвинулся на бульвар очень похожий на одно место возле Покровских ворот. Здесь были проложены даже трамвайные рельсы, но совсем ржавые от неиспользования.
Посреди бульвара, один из прохожих попросил меня спуститься вниз, сказал, что здесь не принято летать по воздуху, хотя и не возбороняется никому и предложил поздороваться с кем-то, показывая вниз. Прямо из асфальта высунулась большая волосатая рука. Повинуясь местным традициям, я протянул руку навстречу, и пожал… это было настолько ужасное впечатление, что страх вытолкнул меня тут же из этого мира обратно в постель, где я спал, верней, где спало моё тело. Я до сих пор явственно помню щекотное прикосновение к этой руке. Черная шерсть не очень густо распределялась по всей руке, включая ладонь, причем это были не волосы, а хитиновые лохмы, как у огромной мухи. Я сразу встал с постели и ушел на кухню, закурил и долго не мог успокоиться.
Летать по-настоящему я научился на третий или четвертый раз. Для этого вовсе не нужно грести руками или ногами, нужно просто иметь соответствующее желание. Скорость полёта может быть любой, вовсе не ограниченной сверху скоростью света. К примеру, на Луну, или даже далеко за пределы Солнечной системы, можно переместиться мгновенно, но это уже не полёт, это что-то другое.
Я не ставлю перед собой цели убедить кого бы то ни было в том, что я то или иное количество раз побывал на «том свете», особенно тогда мне это было не нужно. Мне главное было самому понять, что это такое на самом деле.
Наши ученые могут объяснить всё, что угодно. Первое, что может мне сказать любой, это, что я вру. Но самому себе, я врать не могу – это действительно было! Значит, воображаемый ученый оппонент, будем считать, мне поверил. Вторым пунктом программы, он начнёт меня убеждать, что всё это игрушки мозга в возбужденном или, наоборот, в заторможенном состоянии. Но я-то знаю, что мозг здесь ни при чём! А откуда я это знаю? Как это можно понять, например, из описанного мною, первого опыта? Да, никак. Первый опыт оставил у меня массу сомнений. Я вошел в непонятный мне мир из сна и проснулся без всякого перехода. Но однажды я доказательство получил.
Дело было так. Я немножко нахулиганил. Может быть и не немножко. Находясь в ином состоянии, я решил проверить одно положение из последних книжек Кастанеды. Там древний маг утверждает, что можно увидеть энергетическую составляющую человека, или любого существа других миров, указав на них мизинцем левой руки. Я шел по улице чужого города, вспомнил об этом способе и тут же указал мизинцем на первого же прохожего. Человек исчез, вместо него продолжал двигаться по улице энергетический вихрь, голубоватого оттенка. В какой-то эйфории я стал это же делать с остальными. Цветовые оттенки у разных людей немного отличались, но эффект во всех случаях был одинаковым. Я настолько увлекся этим хулиганством, что не заметил подошедшего ко мне стража. На самом деле, я не знаю, как по другому его назвать, но увидев, я сразу понял, что это какой-то секьюрити. Ну, это была просто классика: темный плащ и насупленные брови из-под полей шляпы.
Я уже приготовился давать объяснения, своим действиям, но увидел, что еще с трех сторон ко мне приближаются трое точно таких же. Не знаю, каким по счету чувством я определил, что меня берут в коробочку и ждать последствий не стал. Для того чтобы вернуться в свое земное тело, не нужно никуда звонить по телефону, как в известном фильме, нужно лишь захотеть этого. Я очень захотел и тут же очутился возле него, то есть возле себя спящего. Тело лежало на спине, а я с перепугу попытался в него влететь лицом вниз и не попал, не совместился. Пришлось притормозить и переворачиваться.
Обычно совмещение тел происходит мгновенно и поэтому не фиксируется памятью, а тут, благодаря моей ошибке, весь процесс совмещения я прочувствовал чисто физически. Это было довольно неприятно. Меня подгонял страх, а пришлось подняться выше, перевернуться, совместиться с телом, так, чтобы нематериальная голова была где-то на уровне груди тела и втиснуться в материю со скрипом, как будто бы влезть рукой в тугую перчатку или надеть на ногу сапог меньшего, чем нужно размера.
Сразу после возвращения в тело обязательно просыпаешься в физическом мире, тот раз не был исключением. Даже более того, я сразу вскочил с постели и почувствовал себя бегуном, только что закончившим дистанцию. Учащенный пульс, тяжелое дыхание. Не только сразу после этого события, но и сейчас я могу в замедленном варианте вспомнить все подробности произошедшего, снова видеть физическое тело и рядом с ним мечущееся энергетическое – тоже моё тело! Я помню и свой страх и неприятные физические ощущения при совмещении тел. Очень хорошо помню.
После этого случая сомнений больше никаких у меня не было. Никакие ухищрения мозга не могут дать тех ощущений, что я испытал в тот раз. И спорить ни с какими учеными я больше не хочу, потому что это разговор слепого с глухонемым. При этом, нужно признать, что доказать никому и ничего я не смогу, да и не хочу.
То, что я узнал сам для себя – это только моё, это моя судьба. Может быть, нормальному человеку это знание не только не нужно, но и вредно. Хотя, теоретически, любой человек может узнать то же самое или подобное этому, но об этом будет знать только он сам, и никому не сможет ничего доказать.
Сновидение – это было еще не всё, что появилось нового в моей жизни в тот период. Я вдруг стал видеть энергетические поля вокруг себя – такие своеобразные перемещения странных полупрозрачных форм, немного похожие на тепловые потоки над горячим асфальтом, особенно хорошо они заметны в теневых перепадах солнечным днём.
На восточной половине неба мне стали видны наклонные линии. Если я неожиданно бросаю взгляд в ту сторону, я вижу полосатое небо, потом всё выравнивается и небо становится обычным. Или наоборот, я некоторое время смотрю на плывущее облачко или след инверсии самолета и вдруг небо покрывается странными линиями, как будто это уже не небо, а какая-то матрица или страница из тетрадки по чистописанию.
Ночью за окном я вижу кастанедовских летунов-волотаресов – большие черные тени, снующие вверх-вниз, похожие на огромных бабочек. Первое время они вызывали во мне беспричинную тревогу, даже страх, потом прошло.
Все эти явления, включая сновидение, проявились не сами собой. Сначала я научился выключать внутренний диалог и периодически сохранять внутреннее безмолвие.
Многое из того, что описывал Кастанеда в своих книгах, подтвердилось на моем личном опыте и вошло в мою жизнь еще не вполне осознанным новым. Я сам хотел познать это новое и стремился к нему. Но всё же…
Еще раз повторяю, что эти события разрушили мою внутреннюю философию и связанное с этим спокойствие. Что было делать? Заменить своё мировоззрение на учение древних толтеков? Но я не мог этого сделать по ряду причин. Прежде всего потому, что древняя индейская философия показалась мне ущербной в основных постулатах, главным образом, это касается взглядов на рождение и смерть. Для тех, кто не читал КК или читал не очень внимательно, я вкратце поясню.
Рождение человека толтеки рассматривают как явление случайное. При этом они не могут не видеть, что все люди рождаются разными, не зависимо от физического, социального или материального состояния родителей. И толтеки весьма оригинально выходят из положения. Они говорят, что характер и способности ребенка зависят от настроения родителей в момент физического акта соития. Если они это сделали с любовью и радостью, то и ребенок будет веселым и бодрым, а если эта супружеская пара, уже давно наскучившая взаимно, работает вяло, без энтузиазма, то и дитя у них будет скучное и плаксивое.
Это замечательная версия для анекдота, но серьёзно относиться к такой теории рождений, мне кажется невозможным.
Смерть они видят, как разрушение энергетической защиты человека и поступление останков (энергетической же составляющей) в пищу Орла.
Место бога в их представлениях занимает Большой Орел, некое явление космического масштаба, дающее жизнь и буквально пожирающее её в конце. При этом есть некоторые избранные, имеющие возможность избежать общей участи, воспользоваться даром Орла – проскочить мимо его всё пожирающего клюва и уйти в бесконечность.
Эта теория, может быть, и красива в своём роде и весьма поучительна для верующих в неё, но, на мой взгляд, она просто наивна. Индийская теория реинкарнации выглядит гораздо основательней и правдоподобней. К тому же теория толтеков в этом аспекте противоречит сама себе. Она совмещает в одном и том же моменте чистую случайность с хорошо подготовленной преднамеренностью. Ну, на самом деле, или уж родители дают жизнь и закладывают основы характера будущего человека, или Орел? Кто-то же должен нести за это ответственность? Если Орел забирает себе результаты жизней всех людей, то он должен и совершенствовать эту жизнь, каждый раз корректируя создаваемую вновь жизненную единицу и воздействуя на неё посредством своих «эманаций». А причем тут тогда родители?
Вот это в теории толтеков главный и почти единственный постулат, с которым я ни в коем случае не могу согласиться. Он противоречит и моему опыту и самой теории, в остальном очень правдоподобной. Правдоподобна не только теория, но и практические рекомендации по исследованию жизни, однако, критика учения толтеков не является целью, написания мной этой книги. В дальнейшем я, может быть, коснусь этих методов, если придется, сейчас пока затрону лишь один из них – перепросмотр жизни. Толтеки считали, что перепросмотр дает возможность очиститься от застарелых накоплений вредной энергии, а заодно и избежать клюва Орла, потому что эта вредная энергия и есть самая вкусная часть человека.
Не знаю, насколько я стал менее вкусным, но мне самому этот процесс кое-что дал, даже, можно сказать, дал очень многое. Из памяти повылезло огромное количество отдельных фраз, неясных чувств, неловкостей и красивых картинок. Изложить здесь всё, что я вспомнил о себе и окружавшей меня когда-то жизни совершенно невозможно. Из того, что наметил к написанию, я включил сюда меньше одной десятой части, а намечал где-то сотую от вспомненного.
Да это никому и не нужно. Главное, что я не просто вспомнил, но прочувствовал и осознал некоторые моменты, выходящие за пределы привычной жизни, за пределы рационального объяснения. Обычно мы эти моменты либо не замечаем вовсе, либо они остаются где-то в уголке памяти, ожидая своего часа. Для большинства людей час этот так никогда и не настает.
2. Мираж прошлого
Дон Хуан советует Кастанеде начинать перепросмотр своей жизни с настоящего момента, потому что это проще, потому что все последние события совсем еще свежи в памяти. Я выслушал этот совет и поступил наоборот – я начал свои воспоминания с самого приятного – с детства.
Детство делится на два явно разграниченных периода: до школы и в школе. Светлый период и серый период. Пока не начался серый, я повспоминаю отдельные моменты яркого светлого детства.
Малый Кисельный переулок и сейчас тихий, правда, по другим причинам, нежели раньше – ехать с бульвара некуда, поэтому машины не ездят, они там стоят, плотно закрыв все тротуары. А раньше, их просто не было, проезжали за день три-четыре машины, в основном такси.
Мы жили на последнем этаже небольшого по московским меркам дома. Третий этаж был или четвертый не помню, но из нашей квартиры был выход на чердак, слева от входа.
Центральный подъезд со стороны переулка имел парадное чугунное крыльцо изумительного узорчатого литья, но дверь его всегда (по проф. Преображенскому) была заколочена. Ходили со двора, через черный ход. В небольшом дворе располагались какие-то хозпостройки и небольшой одноэтажный домик с какой-то сов. конторой. Этот домик описан в романе Акунина «Любовница смерти» как жилище злого и коварного Просперо.
Недостатков в тогдашней Москве, конечно, хватало. Особенно бросается в глаза обилие коммунальных квартир и теснота в этих квартирах. Но это неудобство для взрослых, а детям даже лучше в таких условиях, во всяком случае, веселее.
Наша квартира мне казалась огромной. Справа от входа была кухня со столами всех жильцов и газовой плитой, периодически меня на этой кухне мыли в оцинкованном корыте. Слева от входа – небольшой закуток с дверью в сортир и над этой дверью – выход на чердак. Если идти прямо от двери, то по правой руке первая комната принадлежала деду Сорокову, кроме него там жило еще человек пятнадцать и, собственно, дед с бабкой ночевали на сундуке в коридоре. Слева жили старики Холины вдвоем. Наша комната была второй справа.
Комната с одним окном, маленькая – метров 12 квадратных. Из мебели отчетливо помню только диван с высокой спинкой и откидными валиками. Помню зеленый коврик с оленями на стенке, он хорошо гармонировал с книжкой, которую мне читали на ночь, называлась она «Мама ланей». Помню еще ширму «фамильную» и обеденный стол посредине, под который я ходил пешком. Помню игрушки свои у окна: водокачку с колесиками, большую юлу и барабан. Я долбил по этому барабану палочками, когда мы с отцом пели «Мы шли под грохот канонады», про юного барабанщика. Из музыкальных инструментов у нас были еще трофейный аккордеон, привезенный отцом с фронта, и балалайка. Одним словом, всё было замечательно.
Москва, вообще, тогда была очень приятным, уютным и веселым городом. Сейчас мне больно бывать в Москве, я стараюсь не ездить туда, особенно в центр. Такое впечатление, что мумии старых домов подмазаны, подразукрашены и заселены временными жильцами, типа скарабеев или их личинок, съедят внутренности и уйдут в другое место. Может, я нехорошо сказал, но такое ощущение есть, что, не смотря на внешнюю мишуру, старые дома уже не живые. Или это похоже на то, как если бы мой родной город оккупировал враг и насаждает теперь в нем свои порядки, а получается это у него плохо, потому что старое, родное скорее готово умереть, чем подчиниться вражеским порядкам.
Моим воспитателем в М. Кисельном был дед Иван Холин. Не то что бы воспитателем даже, а сиделкой. Рано утром в сонном виде меня перетаскивали в соседнюю комнату и, заснув вечером у себя, утром я просыпался на высокой кровати Холиных. Днем мы гуляли на Рождественском бульваре, а вечером мать забирала меня. Она тогда работала главным инженером красильно-отделочной фабрики, а отец, офицер, был тогда начальником легендарной хоккейной команды ЦДКА, в которой играли Тарасов, Бобров и др.
Дед Иван запомнился мне худощавым стариком с седой щетиной на щеках, но бесконечно добрым человеком. Кстати, как я узнал позже, его фамилия выбита золотыми буквами на стене георгиевского зала в Кремле – он был полным георгиевским кавалером.
В 1916 году с ним был такой случай: он приехал в Москву с фронта и, по такому случаю, немножечко переборщил с приятелем в кабаке. По пути домой они свалились где-то под забором и уснули. Их, естественно, подобрал патруль, и проснулись они утром в кутузке. Сейчас немногие знают, что царская Россия, особенно в последние свои годы, была правовым государством в гораздо большей степени, чем в наши дни, и одним из непререкаемых правил было то, что полных георгиевских кавалеров нельзя заключать под стражу. Иван Холин проснулся в камере, расстегнул шинель и вызвал часового.
Что было бы в наше время? Сто вариантов: 1. Избили и украли ордена, сказав, что так и было; 2. Совсем бы убили, свалив на сокамерников; и т. д. Самый благоприятный вариант: втихаря порвали бы протокол и, отпустив, пригрозили бы, чтоб молчал. А что произошло тогда? Через пятнадцать минут в камеру подали хороший завтрак из соседнего ресторана, с выпивкой, на всех! За время трапезы, к дверям кутузки собрали духовой оркестр и проводили героя к извозчику с развернутым знаменем Московской комендатуры под щемящие звуки Прощания Славянки.
Кстати сказать, подробные воспоминания я начал с детства, но в первую очередь я составил таблицу по годам. И как-то сама собой эта таблица разделилась на тринадцатилетние циклы. Так получилось. Не могу сказать, касается это только меня или всех остальных людей тоже, но в процессе последовательного расположения материала стало очевидным, что раз в тринадцать лет как будто бы происходит повторение. Появляются какие-то сходные моменты, параллели. Такое впечатление, что начинается новый цикл жизни. Непонятно почему у людей сложилось неприязненное отношение к числу «13»?
Впрочем, это тема отдельного семинарского занятия, как говорил один мой друг, ныне покойный. Оставим все эти цифровые изыски пифагорейцам. У меня так получилось: первые тринадцать лет – детство; вторые – юность; третьи – сила; четвертые – зрелость, и так далее. Однако, я вполне отдаю себе отчет в том, что четких границ между периодами нет и быть не может, это во-первых. Во-вторых: сейчас я в этом абсолютно уверен, что наличие и длительность периодов никак не связана с качеством воспитания или самостоятельной работы над собой – эти жизненные этапы нам навязываются извне, со стороны или, как некоторые считают «свыше». Но с этим, опять же, мы, может быть, разберемся дальше, если попадутся подходящие примеры из практики.
Прежде чем вспоминать себя, попытаюсь вспомнить то, что мне известно о моих родителях, в «доменяшечную» эпоху.
3. Память о родителях
Отец родился в Москве. В точности его паспортной даты рождения я не уверен. Когда он уходил на фронт в 1943 году, как поступали многие на его месте, приврал с датой рождения, а поскольку почти вся его жизнь в дальнейшем была связана с армией, эта дата так и осталась в его бумагах. Мистика, но после смерти отца, я почти каждый год пропускаю его паспортный день рождения.
Родился он в Хамовниках, но несколько позже семья переехала в М. Кисельный переулок. Деда своего по отцу, Ивана Васильевича, я совсем не знал, он ушел из семьи еще до войны. Знаю, что родом он был вятский, работал оперативником НКВД, потом был двадцатипятитысячником, организовывал колхоз, в деревне, где родилась моя мать.
Отец рассказывал, как они уезжали туда. На вокзале, пока они ждали посадки в поезд, у них украли какой-то узелок или чемодан, которых было, видимо, не мало. Бабушка начала ругаться на деда. Тот долго и молча слушал, держа руки в карманах пиджака. Как выяснилось позже, в одном из карманов у него лежал револьвер, а палец непроизвольно нажимал на спуск. После выстрела бабушка успокоилась, пуля, слава богу, никого не задела, даже рикошетом.
Бабушка, Екатерина Афанасьевна, не смотря на свои радикальные коммунистические убеждения и членство в ВКП(б), была родом из московской купеческой семьи. Работала она завмагом, верней завмагами, потому что её всё время перебрасывали по распоряжению райкома в магазины, где начальство проворовалось, для организации честной торговли. Бабушку по отцу, как и деда, я живой никогда не видел. Она умерла в 1948 году от инфаркта.
У отца был старший брат. Отцы и фамилии, правда, у них были разные. Дядя Миша пережил моего отца на несколько лет и рассказал мне кое-что из довоенной жизни. Отца своего, до этих рассказов, я представлял очень сдержанным и рассудительным человеком, но в детстве он, оказывается, был изрядным хулиганом. Об этом можно было догадаться по татуировкам на его руках, но я, видимо, внутренне не решался на такое святотатство в сопоставлениях.
Дядя Миша рассказывал о драках между деревнями «стенка на стенку» во времена колхозного строительства, о московской довоенной жизни, но сейчас я уже не могу разделить, то, что я услышал от него и то, что знал раньше от родителей. Я по себе знаю, что даже в шестидесятые годы, годы моей юности, тяжело было нормальному мальчишке избежать знакомства с уголовным, или как тогда говорили «блатным», миром в стране, где миллионы людей одновременно находились в тюрьмах и лагерях. А в довоенные годы – тем более. Тем еще более, что в двух шагах от нашего переулка начинались заброшенные развалины Рождественского монастыря, простиравшиеся до Трубы – самого воровского района Москвы.
Отец ушел на фронт добровольцем, но не сказать, чтобы без давления обстоятельств. В первые годы войны он бросил школу и работал токарем на военном заводе. Впрочем, все заводы тогда были военными. Точил снаряды для фронта, выполнял по три нормы, и был на хорошем счету, но у него всё же были какие-то проблемы с властями и, если бы он не скрылся от этих проблем на фронте, у него могли развиться серьезные неприятности. Сам он никогда об этом не говорил, но мать мне как-то сказала, что он в те поры даже отметился в Бутырках.
Попал отец в 85-й гвардейский минометный полк, проходивший после Сталинграда переформирование в Москве. Для тех, кто не знает: ужасная для врага ракетная установка «Катюша» официально считалась не ракетной установкой, а минометом. На направлении главного удара полк находился под Курском, а потом сошел с этого направления в сторону Прибалтики, не участвовал в форсировании Днепра, во взятии Будапешта и Берлина. Поэтому отец не имел большого количества правительственных побрякушек по окончанию войны, но привез с собой немецкий аккордеон, Парабеллум, Вальтер и кое-что еще, по мелочи. Когда отец был уже на японской войне, по заявлению соседа Сорокова, (который, как потом выяснилось, участвовал в Тамбовском восстании против большевиков) пришли НКВДешники и почти все оружие забрали. Такая же штука повторилась и после японской войны – забрали самурайский меч и какие-то еще пистолеты, но, судя по всему, не все. Потому что окончательно отец разоружился, когда у него родился сын (ваш покорный слуга), пистолеты тогда были разобраны им самим на составляющие и выброшены в разные помойные ящики. Виной тому был сын одного из генералов, который как раз тогда малость пострелял из отцовского пистолета и сел, как водится. Так что трофейного оружия я так и не увидел, а жаль.
О войне отец рассказывал не так уж много. Попытаюсь пересказать, из того, что помню. Их полк, насколько я понимаю, был резервом главного командования, их задача была занять намеченную позицию, дать залп и быстро смотаться, потому что через десять-пятнадцать минут прилетали немецкие самолеты и нещадно бомбили это место, которое сверху было хорошо видно по треугольникам выжженной земли за машинами. Нередко под эти бомбовые удары попадали артиллеристские или пехотные части, стоявшие в непосредственной близости от позиций «Катюш». Те, кто отдавал приказы, наверное, не очень об этом заботились.
Это вовсе не значит, что самим «Катюшам» никогда не доставалось. Однажды немцы подловили их на стоянке в лесу, во время хозработ. Отец с группой товарищей перетаскивал куда-то снятую с машины раму. В этот момент их накрыл залп немецкого Ванюши (шестиствольный миномет). Одна из мин попала прямо в середину рамы. Отца отбросило взрывной волной в сторону. Одному из солдат осколком напрочь срезало яйца, но он остался жив, остальные были убиты наповал. Отец пострадал меньше всех, когда подбежала санитарка, он настаивал, чтобы ему обработали окровавленную руку с перебитым и сильно болевшим пальцем, а та, не обращая внимания на его требования, бинтовала ему голову. Потом выяснилось, что один из осколков мины, слава богу, не очень большой, прилетел ему прямо в лоб, но срикошетил от звездочки на шапке и по касательной только немного задел висок.
Из госпиталя отец убежал, недолечившись. Тогда так поступали многие солдаты, не только потому, что условия в госпиталях были не сахар, но, главное, чтобы не отстать от своей части.
Дважды за войну он выезжал на прямую наводку. Рассказывал он об этом неохотно, один или два раза по моей настойчивой просьбе. При этих рассказах глаза его совсем не выражали восторга. Выглядело в его изложении это примерно так. Разведка сообщила о продвижении по некоей дороге немецкой колонны. На машины сразу установили ракеты и даже примерно выставили угол подъема рамы. В таком виде «Катюши» выдвигались из укрытия на поле в непосредственной видимости дороги с проходящими немецкими войсками. Машины вылетали на предельно возможной скорости и сразу становились в линию. Задачей отца было как можно быстрее выставить опорные лапы с одной стороны машины. В это время наводчик корректировал прямой прицел.
Командир начинает крутить динамку и ракеты одна за одной уходят на цель, один оборот ручки – одна ракета.
В это время отец уже лежал в стороне от машины и смотрел, что будет там, на дороге. Немцы не сразу заметили «Катюши», они могли открыть огонь, но не успели, и начали разбегаться, когда, на самом деле, было уже поздно. Залп накрыл всю видимую часть дороги, и через минуту там уже не было ни живых людей, ни техники, сплошное горящее месиво. Это, конечно страшно. Уезжали обратно, уже не спеша, опасаться стало некого. Летчикам легче – они никогда не видят последствий своей страшной работы.
Рассказывал отец и смешные случаи. Например, однажды в качестве артподготовки они дали залп по деревне, которую атаковала наша пехота. Сразу снялись с позиции и поехали в сторону фронта, за наступавшими войсками. Приехали в ту деревню, по которой стреляли – деревня, как деревня – все дома целы, никаких последствий страшного залпа «Катюш». Только по всей деревне в беспорядке стоят какие-то странные столбы. Не сразу дошло, что это наши славные реактивные снаряды. Ни один не взорвался, а немцы видимо решили, что это новейшее оружие замедленного действия и моментально оставили деревню. Вся партия взрывателей оказалась бракованной.
Или еще одна деревня, тоже целая, только топко на подъезде. Россия, как известно дорогами не богата, особенно в деревнях печально с подъездами. Первая же машина села. Оно и понятно: тяжелый Студебеккер с тяжеленной рамой из трамвайных рельсов и кучей всякой необходимой муры на раскисшем подобии дороги да еще в горку… попробовали толкать и зарылись окончательно. Зацепились лебедкой за дерево – вырвали его с корнем. Что делать? Наш солдат просто так не остановится. Нарастили трос, чтобы достал до ближайшего дома, обмотали вокруг фундамента, потянули лебедкой – вроде пошла. Все сгрудились у машины, удивляются, почему лебедка так быстро наматывает трос. Окончательно поняли, в чем дело, только когда дом подъехал к машине. Пришлось всё-таки ждать, когда подойдут танки.
Когда наши соседи в шестидесятых годах вернулись из Китая, привезли с собой разные подарки, взрывоопасные и не очень, в частности красивый красно-белый графинчик рисовой водки с женьшенем. Отец попробовал немножко и больше не стал, сказав, что с войны этот запах не выносит. И вот тогда я из соседней комнаты подслушал рассказ о японской войне. При детях отец в воспитательных целях рассказывал о войне вещи поучительные, в той или иной степени даже героические, да и то редко, по случаю. А сейчас они думали, что детей нет.
Так вот привезли их полк железной дорогой почти к самому фронту, т. е. к китайской границе. Встали они на позиции очень плотно, вместе со ствольной артиллерией. Боеприпасы подвозились несколько дней. В наступившее время «Ч» вся эта армада открыла огонь и молотила, пока не вышел боезапас. Наступила тишина. Все знали, что после артподготовки, пехота при поддержке танков пошла вперед, но звуков боя не было слышно.
Получили приказ двигаться вперед. Погрузились на машины, двинулись. Перешли границу. Никого, никаких признаков Квантунской армии. Километров через тридцать стали попадаться китайцы. Стоят у дороги продают, кто что может. Чего, говорит, у них не спросишь: «рубиль». У одного симпатичного китайца отец за рубиль купил кружку рисовой водки. А мужик он был боевой, маханул эту кружку в три глотка и улегся обратно на машину.
Вот, собственно, и всё. Потому что проснулся он дня через два с жуткой головной болью и позывами к тошноте, когда уже поступил приказ грузиться в вагоны и отбывать обратно в Россию.
После войны отец окончил военно-политическое училище в Ярославле. Он не хотел оставаться в армии, но так сложилась судьба. Вообще-то, я должен был родиться в Порт-Артуре, если бы у Хрущева не наличествовала мания разбрасываться территориями, а может быть, тут сыграло роль вмешательство одного генерала, в честь которого я получил имя. Но судьба есть судьба – отец стал начальником хоккейной команды ЦДКА, а я родился в Москве.
С матерью отец познакомился еще во времена сталинского колхозного строительства, но у них долго не складывалось. Да и как у них могло легко сложиться, когда в процессе становления колхоза материну семью раскулачили. Слава Богу, не выслали куда-нибудь в Сибирь, но скотину отобрали и кое-что еще. Так что отношения к председателеву сынку вряд ли могли быть хорошими. Справедливости ради надо сказать, что дед был председателем в другом колхозе, соседнем.
Я недавно проезжал на машине через те места, где родилась мать. Попал я туда случайно, ошибся дорогой и вдруг вижу указатель: Красные Холмы, остановился, когда увидел еще и Мормыжи. Мормыжей раньше было двое – верхние и нижние, теперь сократили видно. Кукуевка, наверное, тоже исчезла. А вот почему так поздно, позже шестидесятых годов, покраснели Холмы? Вопрос. Узнать эти места почти невозможно, но это те самые места, недалеко от Скуратова, возле железной дороги, где состоялось жуткое, самое большое железнодорожное крушение девятнадцатого века, описанное, молодым тогда журналистом Гиляровским.
С матерью в детстве был случай, после которого у неё осталась метка на всю жизнь. На краю их деревни висел вечевой колокол. Ну, колоколом назвать это приспособление, конечно, жирно, хотя предназначение одинаковое. Это был старый железнодорожный буфер с привязанной железной занозой, чтобы звонить в случае пожара или каких других оказий. Не исключено, что этот буфер сюда приволокли с того самого крушения. Так вот, две четырехлетние девочки, одна из них моя будущая мать, решили покачаться на этом буфере. А веревка возьми и порвись! Вторая девочка отделалась легким испугом, а мать получила сильный удар тяжелой железякой по голове и умерла. Вторая девочка с воплями побежала звать на помощь, а мать реально находилась в состоянии клинической смерти. Когда подоспели взрослые, гулявшие рядом свиньи уже принялись есть мертвую девочку. Взрослые прогнали свиней, принесли девочку домой, и здесь только она очнулась. После этого, у неё навсегда на щеке осталось красное пятно и очень яркое воспоминание ВТП / внетелесное путешествие/. Я говорю о ВТП, потому что она всё видела немного со стороны: и свое, лежащее в обнимку с железом тело… и как её жевали свиньи, и как её несли домой, и как мать вся в слезах… одним словом – всё. Только возврат в тело описать не могла.
Её мать, моя бабушка, Екатерина Гавриловна, была изумительно хорошим и, я бы сказал, интеллигентным человеком, хотя в академическом смысле дальше церковно-приходской школы не пошла. Я никогда не слышал от неё ни одного грубого слова, не говоря уже о матерных ругательствах. Она всю жизнь провела в крестьянских трудах. Заработала от государства пенсию, хорошую, но слишком маленькую, ажно 18 рублей в месяц. Впрочем, о русском государстве вообще говорить противно.
Дед мой, Иван Яковлевич, гораздо меньше был расположен к крестьянскому труду. Революцию 17-го года он застал в Москве, работая на заводе Гужона. На демонстрации ходил, хотя потом положительно об этом не отзывался. Потом работал на железной дороге, исполняя мелкие должности, иногда уезжал проводником далеко. Я хорошо понимаю его эту тягу к перемене мест, я тоже такой. Может это у нас от моего прадеда моряка, погибшего в Русско-Японскую войну?
Дед проработал до самой смерти. Его труды при начислении пенсии были оценены почти в два раза дороже бабушкиных, в тридцать целковых.
Мать в семье была младшим ребенком. На два года старше неё был дядя Саша. В 41-м году, в Туле, он окончил курсы младших лейтенантов, вместе с Василием Афанасьевичем, моим двоюродным дядей. Когда немцы подошли к Туле, они вместе ушли на фронт, дядя Саша провоевал всего несколько дней. Немецкая пуля раздробила ему кисть правой руки. После госпиталя его направили на Тульский оружейный завод, где он и проработал всю оставшуюся жизнь сменным мастером.
Дяде Васе повезло больше (или не повезло?) он дошел до Берлина.
Каждое девятое мая патетически говорят, что нет в России семьи, не потерявшей кого-либо в войну. Есть. Не смотря на то, что все мои родственники, жившие в тот период, так или иначе, участвовали в войне; например, мать с бабушкой и дедом были в оккупации, и через их деревню дважды прошел фронт, никто из них не погиб. Брат отца Михаил Васильевич всю войну прошел батальонным разведчиком, а дядя Вася взводным командиром в пехоте. Это для тех, кто понимает.
Самым пострадавшим в войну был один из двоюродных дядьев. Он перегонял Студебеккеры и однажды заснул за рулем, за что получил пять лет лагерей.
И всё-таки самым пострадавшим я считаю не его, а дядю Колю.
Был дядя Коля еще более старшим братом матери. Говорят, до войны он был самым веселым парнем на деревне, от девок отбоя не было. Я его помню уже совсем другим. Утром он, согнувшись, затягиваясь из кулачка маленькой папироской, уходил на работу, вечером так же согнувшись, почти никого не замечая, и не здороваясь ни с кем, шел домой. Вечером изредка выходил из своей комнаты в сени покурить. А всё вона! Сейчас наивные или корыстные люди изображают историю советского периода с добренькими такими, милыми диссидентами и злыми, гадкими сотрудниками НКВД – КГБ. Среди тех и других были разные, и хорошие и плохие, неизвестно, кто лучше.
Дядя Коля служил в войсках НКВД с 1939 по 1949 год.
Да, он стоял в заградотрядах, он участвовал в выселении чеченцев и т. п. Но представьте себе ситуацию:
В военкомате полуголый призывник предстает перед комиссией, председатель ему говорит:
– Поздравляю, товарищ! Для прохождения службы вы направляетесь в войска НКВД. Это большая честь, туда направляют только лучших из лучших.
А призывник отвечает:
– Вы знаете… не хочется мне в этих войсках служить…
Мог он так ответить? Никогда в жизни! Он мог ответить только так:
– Служу трудовому народу! – иначе, вместо службы он уехал бы в лагеря по 58-й статье минимум на те же десять лет.
А он в 1940 воевал на финской войне, потом три года на фронте против немцев. Для тех, кто не владеет проблемой, скажу, что эти самые войска НКВД не только стояли в заградотрядах, но и сами участвовали в боях и, в случае чего, немцы их в плен не брали, а расстреливали на месте. Для немцев они были все равно, что для наших эсесовцы. После Чечни их часть перебросили в западную Украину добивать бендеровцев, а потом в Прибалтику против лесных братьев. Представляете? война давно кончилась, а они прочесывают леса, где из-за каждого дерева, в любой момент может грохнуть автоматная очередь и поминай как звали.
Оккупанты, конечно. Понятно. И орденов за это не дают.
В общем, вернулся он домой совсем другим человеком. И хвастаться нечем, и жизнь переломана.
Осенью сорок первого года немцы подошли к Туле. Город они так и не взяли, но деревни вокруг находились в оккупации около трех месяцев.
Когда передовой немецкий отряд вошел в деревню, девчонки, и мать моя в том числе, закутались в рваньё и испачкали физиономии сажей. Опасения их были не напрасными. В первый же вечер один из немецких солдат пристал к одной из девчонок, та заорала и побежала от него по улице. Солдат оказался упрямым и, видимо подшофе, побежал догонять. На крики выбежал немецкий офицер, остановил солдата. Я не склонен обелять фашизм, но факт есть факт – солдата расстреляли за этот поступок на следующий день при общем стечении народа.
Самая большая обида осталась у матери на немцев, когда в доме поселился тыловой офицер (а дом у наших был хороший), он забрал себе её портфельчик, подаренный ей за хорошую учебу. Не смотря на отсутствие особых притеснений от немцев (притеснения были только от русских полицаев), своих встречали очень радостно, со слезами на глазах, как говориться, при виде другого цвета шинелей, тем более что напоследок чуть было не пострадал дед. Немцам нужен был проводник, они разыскивали деда, но тот заранее ушел в лес, Сусаниным стать не захотел.
Через некоторое время семья перебралась в Тулу, на Рогоженский поселок. Мать там окончила среднюю школу и уехала в Москву, в Текстильный институт.
В Москве они поженились с моим отцом и поселились после смерти моей московской бабушки в М. Кисельном переулке.
4. Всплески памяти.
Заставить работать свою настоящую память очень тяжело, мешают мозги – громоздкий аппарат, предназначенный для трансформации настоящей памяти в практическое, цифровое русло. На самом деле человек помнит всё, каждое чувство, каждое движение, но попробуйте вспомнить, что было лет десять, пятнадцать назад. Память выдает лишь самые яркие, эмоционально окрашенные моменты, которые я назвал здесь всплесками памяти. Можно натренировать себя и вспомнить всё, но это очень не просто.
Первое сознательное воспоминание в моей жизни, которое можно датировать: Весна. Март или апрель? По бульвару вниз текут ручьи. Дед Холин гуляет со мной на Рождественском бульваре. Вода течет по канавкам мимо скамеек вниз, в сторону Трубной площади. У меня в руках старая ненужная кастрюля без ручек. На соседней канавке мальчишки пускают кораблики. Говорю о них, что они большие – им целых пять лет, а мне только два.
Дед Сороков сидит у дощатого стола на кухне и пьет чай без заварки. До сих пор этого не понимаю, неужели заварка дороже сахара? Это худощавый высокий старик с большими висячими усами на коричневом обветренном лице, у него темные волосы почти без седины. Он в галифе со штрипками на босых ступнях, ремень расстегнут, но не от неаккуратности – после того, как напьется кипятку, он об этот ремень будет править опасную бритву.
В квартирную дверь заходит парень лет тринадцати-четырнадцати. Даже для меня, совсем маленького он не дядька, а взрослый мальчишка. Он в гимнастерке, с двумя медалями на груди, пьяный. Он что-то пытается сказать, но бабка Сорокова ругает его за то, что нацепил чужие медали, гонит в шею и закрывает за ним дверь.
У Сороковых комната была еще меньше чем у нас, но народу там очень много – три семьи с детьми за ширмами. Бабка с дедом спали на сундуке в коридоре.
Утро. Я уже одет и мне хочется писать. Я выхожу из комнаты и спокойно выдвигаюсь в сторону туалета, но тут возникает неожиданное препятствие. Дело в том, что живший раньше в нашей квартире старый кот приказал долго жить, и соседи завели нового котенка. Котенок злобный и страшный. Почему старый кот был добрым и любимым и я с удовольствием играл с ним, а этот мелкий тип злобный и неприятный? Не знаю, но у детей чутьё. Котенок стоит прямо на моем пути, и я пускаюсь в переговоры. Мне, дескать, надо в туалет, пропусти меня, пожалуйста, а этот стоит и еще шерсть вздыбил, я злюсь, топаю ногой, но пройти не решаюсь. Эти переговоры слышат многие, катаются со смеху. Котенка убрали с моего пути не сразу, и потом будут долго вспоминать этот случай.
Первый общественный этап в жизни – детский сад на Самотеке. Детсад почти напротив ЦДКА, но забирает меня вечером в основном мать. Видимо отец постоянно мотался по командировкам с хоккеистами. К тому же, в то время он учился в Ленинграде, в военном институте физкультуры. Когда он успевал? Более того, он стал тогда мастером спорта по пулевой стрельбе и, по-моему, кандидатом в мастера по лыжам.
После детсада мы ходим с матерью по магазинам. Сверкающая огнями Сретенка. Я всегда узнаю неоновую букву «о» в слове ОВОЩИ. Под этим словом ярко освещенная витрина с велками капусты и прочими овощами по которым кривыми синусоидными струйками течет вода. Красиво!
Почему-то большое впечатление на меня произвели две тетки в грязных желтых куртках, скоблившие рельсы возле уголка Дурова. Разговор их был примерно такой:
– Ненавижу машины, так их и так, все рельсы засрали, так иху мать… и т. п.
После этого я долго с недоверием относился к автомобилям в пользу трамваев, на которых ездил регулярно.
Однажды зимой мать пришла меня забирать и разговорилась с воспитательницей, а мы с ребятами катались на ногах по раскатанной ледяной дорожке. Я споткнулся, упал навзничь и ударился головой об лед. Лежу на спине и говорю:
– Смотрите, подъемный кран падает.
Встал на ноги и опять упал. Нес какую-то ахинею. До дома мы добрались более-менее, но дома стало совсем плохо, комната вращалась, меня сильно рвало. Приехавшие врачи констатировали сотрясение мозга.
Впрочем, помню два ярких случая, когда из детсада меня забирал отец. Он в жесткой шинели, на руках меня держать не просто, а в трамвае много народу. Он меня пристраивает где-то рядом с кассой, сам начинает искать деньги для оплаты, достал сначала пятерку, лезет в карман за более мелкими (билет тогда стоил тридцать копеек), пятирублевая бумажка в руке ему мешает и он дает её подержать мне. Я, очень гордый тем, что мне доверили такое важное дело, как оплата проезда, моментально бросаю бумажку в кассу. Не только у отца, но и у всех окружающих случился шок. Пять рублей тогда были большие деньги. Помогать доставать бумажку начали все, кто мог, один доброволец собирал мелочь на всякий случай, что было безнадежно – ехать нам всего три остановки. По-моему, бумажку всё-таки достали.
Второй раз мы пошли с отцом в парикмахерскую. Всю жизнь не люблю парикмахерские: сначала сидишь, ждешь и маешься, потом стригут неприятно и иногда больно, а после всего этого противно колется за шиворотом. Но в тот раз я всё перенес стоически, отец был мной доволен. Веселые мы с ним пришли домой, и тут случилось самое большое несчастье в моей детской жизни. Мать, встретившая нас уже в комнате, всплеснула руками и сказала:
– Чей это мальчик? Это не наш мальчик!
– Это же я, мама, только я постригся!
– Нет, это не наш мальчик.
Я понимал, что это шутка, но со второго раза промолчал и насупился. А когда эта фраза в разных вариантах была повторена еще и еще раз, я начал плакать. Родители засмеялись и сообщили, что уже признали меня, но мне стало еще обидней, и я разревелся уже в полную силу. Я просто впал в истерику, меня не могли остановить несколько часов. Я так и заснул, отвернувшись к стенке, все тише и тише всхлипывая.
Самое веселое путешествие с отцом было тогда в Сандуновские бани. До них было пять минут пешком от нашего дома, можно было бы ходить каждый выходной, особенно учитывая то обстоятельство, что у нас не было ванной. Но, как я уже говорил, отец в ту пору часто бывал в разъездах, а мать (тогда многие матери водили маленьких мальчиков с собой в женское отделение) в баню меня не водила и, наверное, правильно делала. Обычно меня мыли на кухне в жестяном корыте.
С отцом мы ходили в высший разряд. Касса была в левом углу у входа, под чугунной лестницей с бронзовыми светильниками в виде коричневых женщин в накидках. На втором этаже, в раздевалке даже взрослого человека поражала высота потолков, богатство резных деревянных колонн и длиннейших диванов, я же, как будто попадал в сказочный лес. Мыльное отделение, выдержанное в белом мраморе не поражало моего воображения, за исключением разве что ванн, расположенных на возвышении и подсвеченных большими окнами. К парилке я был равнодушен, но вот бассейн… мраморные колонны и скульптуры только дополняли общую радость процесса.
Уже одетыми мы заходили в буфет, где отец брал себе бутылку пива, а мне стакан клюквенного морса или газировки. Однажды я глотнул пива у него из стакана и сразу же выплюнул. Хуже ощущение было, только когда из стопки у одного из гостей дома я случайно хлебнул остатки водки.
Гости у нас были почти на все праздники. Мужчины почему-то приходили в военной форме. Они сидели за столом, пели песни. На всё это я тогда смотрел из-под стола, где мы играли с детьми гостей.
По выходным мы ходили гулять. Отец часто шутил: «Мама взяла большую сумку, и мы пошли гулять». Чаще всего заходили в «Детский мир». Обилие игрушек почему-то не поражало моё воображение, мне больше вспоминается лестница, вечно заполненная народом, и складные леса возле главного входа. Я почему-то боялся их, они неразрывно были связаны для меня с поговоркой: «любопытной Варваре на базаре нос оторвали». Видимо изначально я совал туда свой нос.
Зимой все тротуары были закрыты толстым слоем снега. Здесь и там были накатаны ледяные дорожки, по которым я катался, держась за руки родителей или бабушки. Однажды я поставил их в тупик такой дилеммой. Я сказал, что подо льдом – снег. Они убеждали меня, что, наоборот – под снегом лёд. На следующий день я взял с собой металлический совок, расковырял лед и доказал, что я прав.
Ледяная горка на Цветном бульваре не доставляла мне радости, кататься с неё было страшно, а удовольствие сомнительное.
Снегу вообще было много. Один год даже в апреле еще лежал белый снег. На крышах висели многочисленные сосульки. Особенно казенный особнячок во дворе просто утонул в сугробах.
Помню потоп на Неглинке. С нашего бульвара текли вниз ручьи и уже возле сортира впадали в большое озеро, в которое превратилась Трубная площадь. Кстати, на месте сортира сейчас построили станцию метро, удивительно напоминающую по архитектуре своего предшественника.
Летом в выходные принаряжались. Меня одевали в матроску, позже в клетчатый пиджачок, даже костюмчик и с береткой. Помню себя в таком виде в скверике у Большого театра, разукрашенного флагами по случаю праздника. Помню Красную площадь и жуткий зал мавзолея с лежащими там двумя мужиками во френчах.
Иногда я попадал к родителям на работу. Это было летом, видимо некуда было меня сплавить.
Отцовское место работы выглядело прекрасно. Здание ЦДКА смотрелось дворцом (чем оно и было изначально), это заведение, собственно, было московским Домом офицеров, местом для отдыха и развлечений. Непосредственно к зданию примыкал прекрасный сад с беседками, танцплощадками, тиром и прудом. По выходным там играл духовой оркестр и вообще, было очень здорово.
Материнская работа оказалась гораздо прозаичнее. Фабрика располагалась в центре города. Она пряталась за обычным для тогдашней Москвы немногоэтажным домом старой постройки, но внутри оказалось очень вонючее и грязное производство. В цехах стояли большие котлы, в которых варили огромное количество каких-то лент, выглядели они как длинные грязные макароны, перекрученные и перепутанные между собой. Рабочие периодически открывали котлы, вытаскивали эти грязные макароны, от которых шел пар с отвратительным запахом. Другого пути в материнский кабинет не было, только через цех, но кабинет уже был вполне приличным с секретаршей и кожаным диваном при входе. Однако в кабинете у неё находиться мне было не положено – к матери всё время приходили какие-то люди и что-то громко и непонятно говорили. Мое присутствие видимо обременяло, и мать меня сдавала в испытательную лабораторию. Там было светло и чисто, можно было смотреть в окно на улицу, очень оживленную по сравнению с нашим переулком, а можно было играть с испытательными приборами. По улице ходили озабоченные люди, ездили легковые машины и грузовики, гремящие цепями, и ломовые извозчики на телегах с резиновыми шинами переругивались между собой и с прохожими. Можно было часами висеть на подоконнике.
А еще была фабричная столовая. Когда мы с матерью обедали, к нам подсел очень худой и помятый мужичок в синем линялом халате, который больше всех кричал в кабинете. Сейчас он был тих и даже чрезмерно скромен. Он принес с собой пустой стакан, сырое яйцо и бутылку пива, сейчас же объяснив, что изобрел самый калорийный способ обедать. Он разбил яйцо в стакан, посолил, разболтал ложкой и туда же налил пиво, выпил эту гадость и сообщил, что до вечера уже есть не захочет. Мне в этом типе не понравилось решительно всё: и то, что сидел он не всем задом на стуле, не касаясь спинки и вращался при этом то в одну, то в другую сторону, и вся фальшивость, исходившая от него. И потом, какой же это обед? сырое яйцо с этой горькой лялявкой, которую я недавно попробовал у отца в бане?
Но вообще-то, лето я проводил на детсадовской даче. Начиналось это с площади Коммуны, между ЦДКА и Театром. Сюда подходили автобусы армейского защитного цвета и увозили нас куда-то за город, не так уж близко, потому что делались остановки. Водитель открывал дверь блестящей рукояткой, не сходя с места, и мы выбегали на лужок восхищаться цветочками и писать на травку.
Ярко стоит перед глазами пустое узкое шоссе с прижавшимися к обочине темно-зелеными автобусами. Я стою на лугу и держу в руках огромную пчелу. Воспитательница очень испугалась – оказалось, что это шершень. Потом, уже в автобусе, всем долго говорят, что этого делать нельзя, что шершни и еще кто-то очень опасны.
Дача детского сада – это несколько деревянных домов посреди соснового бора. Сосен много и на территории, на их золотистой коре я ловлю больших жуков с длинными усами или с рогами. Они тоже относились к категории опасных. У меня есть фотографии, на которых рукой отца подписано, что мне пять лет. Я стою на широком пеньке в коротких штанишках на лямочках и в белой панамке. На других я с отцом и матерью, видимо на мой день рожденья они приехали вместе. Я этого дня не помню совсем. Зато хорошо помню, когда мать приезжала одна.
Лесная поляна, мать разговаривает с воспитательницей, ребята бегают по поляне ловят сачками бабочек, тогда это было модно. Мне скучно. Я брожу краем леса и вдруг нахожу гриб белого цвета, срываю его, подхожу к взрослым похвастаться грибом и поинтересоваться можно ли его есть. Этот гриб мог быть либо шампиньоном, либо бледной поганкой, самым страшным ядовитым грибом в наших местах. Я тормошу женщин еще раз, но им не до меня. Я сажусь рядом с ними на траву и съедаю весь гриб целиком. Странно, но никаких последствий не было.
Совсем вскоре после этого наступает страшный день, после которого вся моя жизнь переменилась, в лучшую или худшую сторону неизвестно, но переменилась совсем. День не задался с утра. На прогулке я порезал палец о сухую еловую ветку. Как-то странно, хотя детская кожа, понятно, очень нежная, но я просто провел по ветке рукой, пусть с небольшим нажимом. На указательном пальце появился глубокий надрез с рваными краями, очень болезненный. К вечеру у меня поднялась температура, причем настолько, что меня перевели в изолятор.
Тёмная комната с синей ночной лампой. Я закрываю глаза и вижу один и тот же сон: будто бы серые облака, только четче и рельефней, чем в жизни, но только не сверху, как обычно, и даже не снизу, а как бы сбоку. Такая серая стена из облаков. Мне страшно и я просыпаюсь. Успокаиваюсь, потихоньку засыпаю и вижу то же самое.
Ночью меня увезли в Москву. Я лежу на носилках и смотрю в потолок новенькой армейской санитарки. Рядом медсестра. Шофер говорит что-то ободряющее.
С этого дня кончился незапланированный мной в начале книги этап моей жизни, и неплохо было бы понять смысл этого этапа.
Я прожил первые пять лет своей жизни в уютном мирке маленького дворика в самом центре Москвы. Замкнутый стационарный мир, где я чувствовал себя уютно и спокойно. Центр жизни – родители, по большей части – мать. Остальное всё и остальные все предмет изучения и познания. Почему я так испугался, когда мать меня не признала после парикмахерской? Ничего удивительного – это же разрушение мира, вселенская катастрофа!
У нас были, конечно, и телевизор КВН и радиола, но я их не замечал, они мне были не нужны, гораздо интересней было смотреть в окно.
Можно считать меня того периода созерцателем жизни.
А что означала стена из облаков в изоляторе?
Самый главный вопрос, который хотелось бы прояснить для себя, тот, как и с чем мы приходим в этот мир, пока остается не разъясненным. Мне пока не удалось вспомнить себя не только до рождения, что, говорят, у некоторых получается, но и непосредственно после него – прояснить для себя вход в жизнь.
Но в 2008 годуя познал другую сторону жития – выход. Я неузнал это из книг, не поверил какой либо эзотерической теории, а познал на собственном опыте. Хотя до этого я читал об этом и слышал из разных источников, но не верил. В это невозможно поверить. Можно только познать самому.
А я это познал и доказал сам себе, что у человека есть душа, есть нечто, кроме физического тела, способное жить своей жизнью, отдельной, самостоятельно познавать и мыслить. Позже я расскажу об этом подробнее.
Мне могут сказать: «Если ты и так все знаешь, зачем же задаешь себе излишние вопросы и копаешься в своей жизни?». Отвечу. С одной стороны я очень любознательный человек, мне с детства это мешает жить, я хочу знать всё и как можно быстрее. А в данном случае у меня получилось, как с Платоновыми кругами познания. Если кто забыл, напомню эту притчу.
Ученики спрашивают у Сократа, почему он такой скромный, хотя так много знает. Он попросил учеников нарисовать небольшой круг и представить себе, что это их круг познаний. Потом попросил нарисовать концентрический круг его, сократовских познаний, как они его представляют. Ученики нарисовали большой круг. «А вот теперь, – говорит Сократ, – посмотрите на окружности – это границы с непознанным; видите теперь, как мало не знаете вы, и как много не знаю я?».
Когда я однажды окончательно ответил для себя на гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» – быть, и после смерти быть. Ну и что? А где быть и как? В каком из бесчисленных миров и в качестве кого? Платоновский круг расширился до пределов космических.
Но главное даже не это. Главное то, что с этого момента я особенно остро почувствовал свою неполноценность, усеченность своего сознания. Дело в том, что душа, переходя к физическому существованию, как бы подписывает договор о том, что забывает всё, что было раньше. Механизм этого забывания знаком всем и каждому по моменту утреннего просыпания.
Некоторые люди говорят, что никогда не видят снов, это неправда, они просто забывают свои сны мгновенно. Для большинства же людей это происходит с небольшим запаздыванием. Просыпаясь, они не хотят просыпаться – они только что видели что-то очень хорошее и очень важное, но с каждым мгновением «бодрствования» воспоминания об этом хорошем и важном улетучиваются, рассеиваются как дым. И через минуту всё, что было, уже кажется бессмысленным и забывается. Остается только легкая ностальгия. Разве не так?
То же самое происходит и при рождении. Это, конечно, нужно. Это даже необходимо. Без этого мы не сможем жить. Но обидно. Мы подобны путнику, изнывающему от жажды в пустыне, при этом таскающему с собой полную цистерну воды без малейшей возможности её открыть. Наша душа знает всё, но не говорит. Только иногда, когда нам грозит опасность, или в переломные моменты нашей жизни она дает нам маленькие подсказки в виде дэжавю или клочка соломки в то место, куда мы должны упасть. Но по этим фрагментикам ведь можно судить о целом!
Для того чтобы найти эти фрагментики мне придется подробно перетряхнуть и исследовать всю свою жизнь. На это уйдет очень много времени, но я оставил сомнения и решился окончательно. Работа большая и нелегкая, но, как выяснилось очень интересная.
Дай бог, чтоб это было интересно и вам.
Только, прошу меня извинить – стиль получается несколько рваный. По стилю изложения эти мои записки напоминают мне «мовизм» изобретенный Катаевым для книги «Алмазный мой венец». Рад бы изменить его, но не получается. Если я буду подробно останавливаться на каждом случае, то рискую попасть в положение Маргариты с Фридой на лестнице Воланда, а мне нужно охватить слишком большой отрезок времени и соответствующий объем информации.
И что это, всё-таки за стена из серых облаков?
Новая жизнь
Утром я проснулся в женской палате инфекционной больницы на Соколиной Горе. Я не помню, чтобы у меня болело горло, но диагноз поставили – фолликулярная ангина. Мне кололи какие-то уколы и все время поили пивными дрожжами, видимо из-за того, что я тогда был худеньким мальчиком. После этого я начал толстеть, что потом в школе принесло мне много неприятностей.
Родителей в корпус не пускали (инфекционка!), женщины приподнимали меня на уровень подоконника и показывали родителям в окно, параллельно клянясь им, что будут за мной смотреть и ухаживать.
Тогда в инфекционках держали долго. Пока я там лежал, родители переехали на Сокол. Из больницы я попал уже на новую квартиру. Дело в том, что ЦДКА к тому времени превратился в ЦДСА, а спортклуб отделился от него и уехал на Ленинградский проспект и стал самостоятельным ЦСКА, где отец стал работать начальником отдела кадров. В результате всех этих изменений мы переехали в освободившиеся две комнаты, рядом с ЦСКА.
Это тоже была коммуналка, по нынешним понятиям убожество, но сколько было у нас радости тогда! Я бегал по квартире и всем восхищался, особенно ванной. Там стоял газовый титан, дававший горячую воду. Комнат стало две. У нас с сестрой появилась своя детская комната. Удивительно то, что, сейчас вспоминая то время, я не помню, чтобы сестра мне чем либо мешала в М. Кисельном. Здесь же её сразу стало много. Но об этом потом, может быть.
В квартире жили еще две семьи. В комнатке слева жили мать с взрослой дочерью, замечательные люди, жаль, что рано съехали. В дальней комнате справа жил отставной пожарник с женой и тоже относительно взрослой дочерью. Пожарник получал вполне приличную пенсию, и его жена вела себя, как «комиссарша». Я её запомнил маленькой толстой в домашнем халате и с рыжими бигудями. Не могу не привести её имя – Неонила Александровна. Муж её вальяжно ходил от своей комнаты до кухни в синих армейских брюках на широких подтяжках и белой подрубашечной майке. На кухне он выкуривал папиросу «Казбек» и возвращался обратно. Выпивали спиртное только по праздникам. На свой день рожденья он пел: «В жизни раз бывает 48 лет».
Наш дом, вернее сказать – дома, потому что двор был как бы единым целым, строили пленные немцы. Вообще район Сокол – Октябрьское поле был военным. Особо большие и красивые дома называли генеральскими, хотя там жили вовсе не только генералы. Генералы жили и в нашем доме, хотя он далеко не числился генеральским.
Я лично не люблю Хрущева-Посохина не за то, что снесли Зарядье и часть Кремля, поставив там дурацкие стеклянные аквариумы. И не за то, что стали строить хрущебы, а за то, что они уничтожили систему московских дворов. Нельзя строить дома сами по себе, как прыщ на ровном месте. Если дом строится для людей, он должен иметь внутреннее пространство для жизни, так или иначе отгороженное от остального мира.
А у нас был прекрасный двор. Целый мир для ребенка. Друг мне нашелся сразу в квартире напротив, его звали Саша, отец его был военным дипломатом. Не могу не назвать вкусное имя его бабушки – Стефания Силиверстовна, старая дама со старорежимными замашками. Посредине двора был разбит прекрасный палисад с клумбой посередине и большими площадками для отдыха и детских игр. Там были скамеечки и песочницы, и качели, и зимняя горка с катком. Но это на нашей стороне двора – на другой было попроще. Мы туда и не ходили почти, там была пролетарская часть, с подъездными путями к Гастроному. Нам говорили, что там обитают хулиганы. Мы, дети, между собой называли этих обитателей дворняжками, стыдно, но из песни слова не выкинешь.
Порядок во дворе поддерживался почти идеальный, его обеспечивали дворники под руководством, что интересно не ЖЭКа, а участкового милиционера. Дворники жили в большом полуподвале, главный из них был похож на деда Сорокова, худой, смуглый, с висячими усами. Он был большой начальник для нас, детей. Вечером он шел из магазина, в арке выпивал четвертинку из горлышка и спускался к себе ужинать. Всё было чинно, благородно.
Всплески памяти
Иногда во двор заходили старьевщики, голосившие на одной ноте: «Старьё-ё берём!». Дворники, старьёвщики и банщики в Москве были по большей части татары. Еще бывали «Точить ножи, ножницы!» и армяне в гуталинной будке.
Иногда ездим на кладбище к бабушке, которую я живой не знал. Чтобы попасть туда, надо было с проспекта Мира перейти рынок, потом по длинному пешеходному мостику пройти над рельсами. На кладбище прохладно и тихо, пахнет масляной краской. Этот запах до сих пор ассоциируется у меня с кладбищем. Мать чистит могилку, а я брожу вокруг. Когда научился, стал читать эпитафии. Не забуду одну альтернативную надпись. На многих могилах тогда писали: «Мир праху твоему», а на одном кресте было неумелой рукой намалёвано: «Прах миру твоему»! Черт те что, конечно, но с материалистической точки зрения более логично. Однажды при проходе рынка мать меня потеряла, или я её. Вокруг меня собралась толпа. Я реву, меня жалеют, гладят по головке. Мать нашлась, все вернулось на круги своя.
Опять временное уничтожение вселенной.
Детский сад мой располагался в генеральском доме возле самого метро Сокол, на втором или третьем этаже. Из окон мы иногда видели, как пляшет возле колоколов пономарь Всесвятской церкви. Наши окна получались как раз на уровне колокольни. Во дворе мы гуляли по крыше какого-то большого одноэтажного строения, что-то типа гаража. Во время одной из таких прогулок над нами пролетели военные самолеты, видимо на репетицию парада. Летели низко, самолетов было очень много, рёв был ужасный, но получилось весело.
Детский сад здесь был рангом повыше, чем на Самотёке, но мне тут не нравилось. Судите сами: я совершенно не помню, чем нас кормили в старом детском саду, значит, кормили чем-то хорошим, вполне приемлемым, а здесь постоянно давали отвратительное блюдо под страшным названием «рагу». Крупно порезанные и плохо почищенные овощи, небрежно сваренные в одном котле. Особенно отвращали морковные шкурки с черными полосками. Но самым неприятным для меня было кипяченое молоко с застарелыми пенками. Эти пенки вызывали у меня омерзение, как будто сопли в стакане. Одна из тёток решила меня всё-таки заставить выпить эту дрянь. Эта эсесовка встала вплотную возле меня и сказала, что не уйдет пока я не выпью. Я начал пить, но как только пенки попали мне в рот, я выблевал весь обед прямо на неё.
От нашего дома до детского сада меня чаще всего водили пешком через Ленинградский парк (бывшее Всесвятское кладбище). Помню, подобрал я как-то по дороге старую пружину и, пока шли, накрутил её на палец. Палец опух – снимали пружину в медпункте с вазелином. Мать опоздала на работу. Но иногда мне везло, меня подвозил на ЗИМе сосед генерал вместе со своей внучкой, а моей детсадовской подружкой Иришкой.
Еще помню. Идем мы с матерью домой. Хороший солнечный вечер. Сразу из парка заходим в мясной магазин. Хороший магазин, большой, народу никого. Там вообще бывало мало народу из-за почти постоянной пустоты на прилавках, а хороший кусок мяса можно было купить только особым способом. Нужно было кивать и хитро подмигивать мяснику, тогда он доставал что-то из-под прилавка, сразу завертывал и говорил, сколько платить. Мать всё это проделала, и мы пошли в кассу. Мать получила сдачу «новыми» деньгами и показывала бумажки мне. Я радовался вместе с ней, хотя и не понимал разницы.
Кстати, анекдот про мясной магазин.
Покупатель спрашивает у продавца:
– У вас мяса нет?
Продавец:
– Разуй глаза! У нас рыбы нет! А мяса нет – напротив.
В те поры это было, конечно, преувеличением. Рыбы особенно было много разной и дешевой. И еще, почему-то в рыбных отделах огромными конусами всегда лежали коричневые маслины.
Что касается магазинов, то мне гораздо больше нравился Гастроном на углу нашего дома. Там очень вкусно пахло молоком и соком. Самое притягательное место – мокрый прилавок с перевернутыми конусами соковой наливайки. Три конуса – яблочный, виноградный и томатный. Для томатного – стаканчик с солью и ложечка. А еще молочный коктейль, но тот был не всегда, часто ломался миксер. В молочном отделе напротив покупали только масло, сыр и сметану, потому что молоко и кефир нам приносили домой. Утром нужно было выставить за дверь пустые бутылки. Через некоторое время – дзынь, звонок. Даешь деньги, забираешь молоко.
Однажды летом мы с сестрой остались дома одни. В холодильнике видимо было пусто, и мать оставила сестре денег, чтобы мы поели в столовой. Столовка была через улицу, на углу. Поели, а вечером дома я долго расхваливал котлеты с пюре и красным соусом. Мать обиделась.
Может показаться странным, но мне долго нравился запах общественных столовок и, мягко выражаясь, непритязательная еда в них.
Перед школой меня увезли на лето к дедушке с бабушкой в Тулу. До этого я был там и совсем маленьким с голой попой, и потом года в три (в широченных штанах, а ля Тарас Бульба я сфотографирован возле калитки). Но я этого всего не помнил и приехал туда как в первый раз.
Здесь, в отличие от Москвы, всё было просто и широко. Низенькие дома по улице открыли для меня широченное небо. Деревья мне не казались большими, но улица в моих глазах не уступала по простору московским проспектам. Я недавно побывал там, остановился возле дома. Асфальта как не было, так и нет, но встречная машина объехала бы меня с трудом – улица съёжилась. Дом тоже стал каким-то маленьким, хотя появилась вторая калитка, и теперь он разделен надвое.
В наше время забор был дощатый с крышечкой, заподлицо с домом. Благодаря тому, что соседский забор выдавался от нашего метров на пять, перед домом образовался небольшой палисад, где росли три американских клена. Сам дом кирпичный, оштукатуренный и побеленный, выглядывал на улицу тремя окошками с голубыми рамами. Ворот не было, хватало большой калитки, достаточной для того, чтобы в неё прошла корова. За калиткой вдоль дома шел мощеный кирпичом дворик. Сзади к дому примыкал сарай, за ним виднелись остатки копны сена от ликвидированной Хрущевым коровы. Приватные коровы тогда мешали строительству коммунизма. Рыжая корова Зорька ушла куда-то в «закрома родины», а запах молока и коровьего тепла остался на многие годы.
Входя со двора в дом, мы попадали в теплые сени, где запах молока и яблок смешивался с керосиновым перегаром от двух керосинок, на которых готовили еду. Здесь же стоял стол для будничной трапезы, справа от него был люк в подвал, а слева – дверь в основную часть дома. В доме слева была теплая кухня с печкой, бабушка там пекла пироги, иногда пряла шерсть для теплых носков; дядя Коля тут выкладывал горку табаку на столе и заряжал свои папиросы специальной машинкой. Напротив кухни, в маленькой комнате дядя Коля жил со своей женой и сыном Володей. Володя был старше меня года на два, тихий и странный, благодаря чему разница в возрасте не очень ощущалась.
Слева за печкой в темной комнатке спали дед с бабушкой. А дальше была зала (это слово в мужском роде никогда не произносилось). В левом углу этой залы жил Бог за белыми кружевными занавесками. Бог был веселый с рюмкой в руке / Гораздо позже я узнал, что это называется Спас в силах/и очень гармонировал с застольем в зале, когда приезжали родители, а так же со старинным буфетом со стёклами. Бабушка иногда убиралась в его хозяйстве, кроме неё к нему никто не подходил. Да и у неё с Богом отношения были своеобразные: когда я спрашивал, она говорила, что это человек, который ходит между людьми, расспрашивает об их заботах, жалеет их. И еще почему-то тут же вспоминается её выражение: «Не дай Бог брать – дай Бог давать».
Справа из залы за портьерой вход в маленькую комнату, где спал я и мой двоюродный брат Юрка, на год меня младше, которого тоже сдавали на лето бабушке.
За первое же лето в Туле я сильно одичал, по мнению родителей. Я здорово отвык от Москвы. Мы подъезжали к дому почему-то с задней стороны двора мимо помойки. Я высунулся в окно такси и обрадовано произнес: «Ура! Вот она наша помоечка!» Потом надо мной долго смеялись. Радость от приезда в Москву быстро прошла, здесь было гораздо скучнее, единственное, что взбадривало, это ожидаемый в скорости переход на новый этап жизни, в школу.
5. Школа
В первой главе я назвал этот период своей жизни серым не только по цвету школьной формы, а по главному назначению школы – выкрасить твою жизнь в унылый серый цвет, построить тебя и усреднить со всеми остальными. В принципе, взрослые это делают с детьми с самого начала детской жизни, но первоначально этим занимаются дилетанты – родители, а в школе за нас уже берутся профессионалы. В эти годы яркие жизненные моменты появляются не благодаря школе, а вопреки ей.
Долгое время воспоминания о школе вызывали во мне стойкое чувство омерзения, сейчас это прошло. Либо я перескочил какой-то порог добра и зла, либо за давностью лет, мне всё это стало безразлично. А, может быть, с годами я всё же выработал в себе отстраненность от событий? Как будто бы это всё происходило не со мной.
Стремление начать ходить в школу вполне естественно. Поступление в школу – это определенный этап взросления, от которого ждешь какого-то нового понимания жизни, нового её качества. Потом точно так же хочется поскорее окончить эту школу, окончить институт, вступить в партию (устаревшее), жениться, стать отцом, стать директором и вообще, самым главным. Но каждый раз наступление этого нового, казалось бы, этапа вызывает чувство разочарования. Никогда это не приносит счастья.
Я четко вижу себя 1 сентября 1962 года на подходе к школе. Серые брюки, серый пиджак и даже, серая беретка на голове. Правда, по случаю праздника – белая рубашечка. Перед школой тогда был большой пустырь и вообще, если идти сюда со стороны Новопесчаной улицы, так или иначе надо было преодолеть некоторое пространство с типично сельским пейзажем. За, выглядевшим как пруд, остатком взятой в трубы, реки Таракановки, были старые частные дома с приусадебными участками. Я думаю, еще раньше эти дома смыкались с поселком Сокол. Отсюда, большой угловой дом смотрелся океанским кораблем или островом города в деревне. Его нужно было миновать, и тогда открывался вид на нашу школу, белую, типовую, пятиэтажную.
Дорога у школы, также как и пустырь между парком и моим детсадом, была покрыта мелким черным шлаком. Как я сейчас понимаю, это были отходы с ТЭЦ, трубы которой с большими хвостами дыма видны были окрест отовсюду. Из-за этого дыма снег к середине зимы везде становился серым.
За белым заборчиком уже собрались ученики с родителями и с цветами. Совершался традиционный митинг, посвященный первому сентября и десятилетию школы. Меня поставили в колонну первого класса, который, слава богу, был один – 1 «а». В голове колонны стояла наша первая учительница Александра Юрьевна и держала за руку очень маленького мальчика – Костю, которого, в конце митинга, подхватил на руки длиннющий парень из одиннадцатого класса (это был последний выпуск одиннадцатилетки, остальные, и мы в том числе, учились десять лет). Косте дали в руки колокольчик. Он звенел им, сидя на шее парня, которого в дальнейшем мы звали «дядь, достань воробушка», и таким порядком въехал в двери школы. За ними подались и мы, горемыки.
Мы еще застали старые, настоящие парты с деревянными скамьями и откидывающейся маленькой столешницей, на которой следы старых надписей перочинными ножиками были закрыты многочисленными слоями краски. У нас у всех были пенальчики с карандашами и перьевыми ручками, к которым прилагалась специальная чистилка для перьев и чернильница непроливайка. Кстати, непроливайка она была только при условии очень аккуратного с ней обращения, но если, к примеру, огреть товарища портфелем по голове, то, находящаяся в нем чернильница вполне проливалась, поэтому тогдашние ученики, во всяком случае, лучшая их часть, ходили перепачканными в чернилах.
Социальный состав учеников нашей школы был разнородным, хотя доминировали дети военных, во-первых, потому что военных тогда вообще было много; во-вторых, наш край Москвы, между Соколом, Октябрьским полем и Беговой (Ходынка) был обильно заселен семьями офицеров.
Первые четыре года у меня были неплохие оценки. Где-то лежит даже почетная грамота за окончание начальной школы без троек. При всем при этом, констатирую, что учиться было совсем не интересно, что оценки ставились не за знания, а за прилежание, на которое в детском возрасте у меня еще хватало терпения. Вспомню здесь лишь о тех предметах, что к настоящему времени исчезли из употребления.
«Чистописание» – дисциплина мучительная, но необходимая. Необходимость, правда, у неё так же неясна, как у строевой подготовки в армии. Тетрадочки в косую линейку с обязательной розовой или голубой промокашкой и длинные ряды букв аааааа… ббббббб… и т. д. как солдаты в строю. Правда, солдаты, чаще всего бывали пьяными и качались в разные стороны.
«Ритмика». Актовый зал, блестящий, натертый мастикой до блеска паркет. И… раз, и… два, и… три… из третьей позиции с места. Мальчики-девочки, парочки вкруг… Единственное, что очень запомнилось и сильно мешало восприятию – сильный запах чеснока от учителя танцев. Позже на его место пришла тётушка без этого запаха, но у неё как-то не задалось.
Одновременно со школой я получил два дополнительных занятия: плавание в бассейне и музыку. Начнем с приятного:
Бассейн (ЦСКА естественно) – огромное, как мне казалось, здание с колоннами был частью комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте. В вечно полутемном вестибюле плавал смешанный сырой запах хлорки и соков из буфета. Вход в мужскую раздевалку был с правой стороны. Нужно было сложить свои вещи в шкафчик, пройти через душ, потом в плавках и вьетнамках ты появлялся собственно в бассейне со стороны тумбочек и вышек для ныряния. Забыл еще один обязательный предмет гардероба – тряпичная шапочка с завязками. Большой бассейн с зеленоватой водой и белыми полосами дорожек впечатлял. С обеих сторон от ванны уходили вверх трибуны.
Учили плавать нас в лягушатниках, расположенных с мелкой стороны бассейна. Вода в них была очень теплая, от неё всё время шел пар. Наша группа, человек в пятнадцать мальчиков и девочек по команде тренера по одному забиралась в лягушатник, и мы начали исполнять упражнение «поплавок», прижимая коленки к животу и буркая в воду. После поплавка мы по очереди перебирались через весь лягушатник, цепляясь руками за дно и пытаясь плыть. Приблизительно то же происходило и на втором занятии. Наш тренер солидный мужчина по фамилии Басов, как и все тренеры, был в белой униформе, имел светлые волосы с залысиной спереди и действительно мощный бас. На первых двух занятиях всё шло хорошо, но на третье для меня занятие тренер не явился, заболел или что? Нам дали другого, по фамилии Бородин. Он был в возрасте, но маленький и писклявый в сравнении с Басовым. Этот тренер походил на персонажа старого фильма и всё время повторял: «Забодай тебя комар». Для группы, собственно, это было не третье занятие, а пятое или шестое. Он посмотрел по графику и решил, что пора переводить группу в спортивный бассейн.
Группа построилась и гуськом идет к лесенке в большой бассейн. Я где-то в середине. Сказать, что я еще не умею плавать, я постеснялся. По очереди спускаемся в воду. Ужас! Во-первых, холодно (18 градусов), во-вторых, я же не умею плавать! Я цепляюсь за бортик и висю. Элегантной походкой в мягких тапочках подходит тренер.
– Ты что? забодай тя комар, в бортик вцепился, плыви давай!
И я поплыл.
Сначала родители платили за абонемент 2 руб. 40 коп. в месяц, потом, когда на очередной курсовке (такие маленькие соревнования) я уложился в норматив разряда, мне выдали пропуск, красную картонку с фотографией – я стал спортсмэном.
С бассейном у меня связано еще одно яркое воспоминание. Прежде чем перейти к нему, необходимо пояснить кое-что. Возникновению этого события способствовали два судьбоносных фактора. Дело в том, что ЦСКА, хоть и находился, вроде бы, рядом, но добираться до него было неудобно. Было два основных пути: либо как-то добраться пешком или на троллейбусе до Сокола и оттуда ехать на трамвае; либо второй путь – идти пешком через третью Песчаную и Ходынское поле. Второй путь был интересный, но долгий. Надо было войти на вторую территорию ЦСКА, где было тренировочное поле футболистов и легкоатлетов, гостиница, где тогда жила хоккейная команда, пройти через лесок, вдоль речки, потом выйти на аэродром (тогда там еще садились самолеты типа ИЛ-18). И так заборчиком… мимо вертолетной площадки и попадаешь на основную территорию с другой стороны.
Был третий путь – оптимальный, через «каркасы» и Чапаевский переулок. Каркасами у нас назывались развалины старого фундамента. Там после войны затеяли большое строительство, даже начали возводить стены из красного кирпича, но ошиблись с грунтами. Фундаменты стали трескаться, и строительство забросили на долгие годы. Так и остались «каркасы». Сейчас на этом месте ничтоже сумняшеся поставили высотку, ну-ну… Я бы в ней жить не хотел.
Путь хороший, слов нет, но был один нюанс. В том месте, где надо бы сойти с трамвая был очень длинный пролет между остановками. Одну остановку проехать мало, а две – много. Это противоречие разрешилось вторым судьбоносным фактором. В нашей школе возле буфета висела цветная агитка. На ней были красочно изображены те безобразия, которых ни в коем случае не следует делать школьнику. В частности, там два пионера с портфелями ехали на буфере трамвая. Я никогда, до этой картинки, не предполагал, что можно ездить столь вольготно, и у меня созрел план.
В очередной раз, выходя из бассейна, я устроился на заднем буфере трамвая и двинулся в сторону дома. Ехать было весело и довольно удобно, ноги стояли на плоском основании, держаться было за что. Проехав одну остановку, я соскочил, убедился, что это легко, забрался опять и приготовился к самой ответственной части плана. Трамвай должен был притормозить на повороте, в этот момент надо было спрыгнуть и пойти спокойно в сторону дома. Трамвай притормозил, но не так чтобы совсем как надо, скорость была великовата, однако я решил прыгать. И прыгнул… Совершенно неожиданно для меня, земля не приняла мои ноги ласково, а поддала по ним с большой силой и, в результате я дважды перевернувшись в воздухе, приземлился между рельсами совсем не тем местом, каким хотел. Я тогда еще не играл в хоккей и не умел правильно падать, но почему-то второй раз приземлился очень мягко, будто кто-то подхватил меня в воздухе и аккуратно положил на землю между рельсами. Мне было совсем не больно, ужас состоял в другом – я не взял с собой сумку. Моя розовая клеенчатая сумка с плавательными принадлежностями покачиваясь на крючке, за который я держался, пока ехал, уезжала вместе с трамваем. Катастрофа! Что я скажу дома? Что бы сделали вы? Я побежал за трамваем. Но трамвай, к сожалению, ездил быстрей, чем я бегал. Даже его стояние на остановке не помогло, народу, выходяще-входящего, было мало, и я не успел.
Что делать? Сажусь в следующий трамвай, размазывая по щекам слезы, забираюсь в кабину вагоновожатой, тётенька, дескать, помоги, не выдай. Излагаю правдивейшую историю о том, как злые мальчишки отобрали у меня сумку и по злобе повесили её на проходящий трамвай. Тётенька наддала, но догнать идущий впереди трамвай нам так и не удалось. Мы несколько раз видели висящую сумку, но мешали светофоры или еще что-нибудь.
Так я доехал до конечной. Это где-то за нынешней Войковской. Злополучный трамвай, бортовой номер которого я знал уже наизусть, стоял здесь же с открытыми дверями, но сумки на нем не было. Тётенька меня успокоила, сказав, что сумку наверняка сдали в диспетчерскую. Мне повезло, сумка действительно лежала на столе у диспетчера, но всё же, повезло мне не так, как хотелось. Рядом стояла еще одна вагоновожатая, которая встретила меня со словами: «Ага! Это тот самый пацан, что на подножке катался!». Не знаю, за что мне было стыднее, за то, что я проехал не так, как должен был, или за то, что я так безбожно врал «тётеньке», но мне было очень стыдно. Можно было и не ругать меня так, но меня ругали долго и нудно. Сумку отдали, но приклеили к ней записку с описанием моих преступлений.
Я доехал на трамвае обратно до Сокола и мимо своего бывшего детсада, парком поплелся домой. Ноги меня не несли в ту сторону, потому что клей оказался очень крепким, и я никак не мог отодрать эту проклятую записку. Однако, голь на выдумки хитра. Возле кинотеатра Ленинград, выявилась большая лужа. Я положил в неё сумку и стал ждать. Ждать пришлось долго, но окаянная записка все же размокла, куски клея до конца удалить не удалось, но бумаги не осталось и следа. Довольный выполненной работой я вприпрыжку, как это умеют делать только счастливые дети, поскакал в сторону дома. Слава богу, уже совсем рядом.
На этом бы и закончить рассказ, но возле дома меня ждало душевное потрясение ничуть не меньшее, чем все предыдущие вместе взятые. Возле дома я увидел свою мать и со спокойной душой поскакал в её сторону, постепенно замедляясь, потому что начал понимать, что что-то не так. Мать просто ревела белугой. Оказалось, что проболтался я больше пяти часов, и меня уже считали, если не погибшим, то уж точно пропавшим без вести. Увидев мать в таком состоянии, я тут же разрыдался в ответ. Мы так и ревели посреди улицы, пока соседка довела нас плачущих до квартиры. Вопрос о ругани меня и наказаниях как-то отпал сам собой. Вечером уже, когда все успокоились, я рассказал, как всё было на самом деле, за исключением некоторых нюансов.
Вторым дополнительным занятием была музыка. Родители купили пианино и поставили его слева от входа в большую комнату. Вместе с пианино у нас в доме появилась учительница музыки. Не помню имени, но отчество – Карповна. Она была и лицом похожа на рыбу из семейства карповых – на леща. Она все время носила черную гофрированную юбку, еще более подчеркивавшую её худобу. Садясь к инструменту, она картинно отбрасывала юбку, засвечивая при этом розовые удлиненные трусы и комбинацию. Сестра говорит, что окончила музыкальную школу, а я вот не сподобился. С моими короткими пальцами можно было и не начинать эту волынку. Это было мученьем для меня – выбивать из клавиш этого «Сурка» и что-то там еще. Я сопротивлялся, как мог. Вот типичный случай:
Я тыкаю в клавиши… мать сидит рядом со мной. Она в инструментальной музыке не бум-бум, хотя пела всегда хорошо. «… И мой сурок со мною» у меня получается хорошо, но потом сбой, на одном и том же месте. Мать начинает злиться, я начинаю шмыгать носом.
– Вытри нос и играй!
Я как бы не обращаю внимания и продолжаю тыкать пальцами клавиши, а течет уже не только из носа, но и из глаз.
– Где твой платок?
Я нервно выхватываю платок из кармана, и на белые клавиши пианино летят грязные окурки из кармана.
Далее без комментариев. Разве что по поводу окурков. Мы их распатронивали, делали самокрутки и играли в войну. Тогда почти все фильмы были про войну, даже если про любовь. А все настоящие герои отчаянно дымили самокрутками, особенно в трудные моменты.
Всплески памяти.
На середине пути от школы большая песочница. Мой товарищ Р научил меня падать в обморок. Я стою в песочнице (чтобы мягче было падать) глубоко вдыхаю воздух, а товарищ сзади, продев руки мне подмышки, крепко сжимает грудь. Тело моментально становится ватным, перед мысленным взором мелькают какие-то образы. Через несколько секунд просыпаешься на песке, встаешь и делаешь тоже самое с товарищем. Товарищ называл это упражнение – смерть на минутку.
Рассказал об этом чуде родителям – строго настрого запретили. Я был послушным мальчиком и соблюл запрет.
Недавно в Интернете я прочитал об этом способе внетелесных полетов. Не очень удивился тому, что этот способ известен автору статьи, удивительно другое – откуда мой товарищ узнал об этом?
В бассейне у меня был один странный случай. Он вспоминается как бы в полусне. Я прыгнул с тумбочки, намереваясь плыть по крайней левой дорожке, совершенно пустой в тот момент. Кто-то видимо занырнул с соседней дорожки на мою. Я этого не видел, только почувствовал удар во что-то не слишком жесткое, но прямо носом, и тут же отключился. Не смотря на отключку, я осознавал какую-то силу, поднявшую меня за плавки далеко вверх. Очухался я от холодной воды из-под крана, под которым держала меня чья-то сильная рука, Из носа текла кровь, но я оглянулся и увидел большого сильного человека в очках. Лицо его казалось очень знакомым. Он спросил меня, смогу ли я дальше обойтись самостоятельно. Я кивнул, и человек исчез. Тогда только я понял, кто это был. Это был ЮВ знаменитейший тогда спортсмен, чемпион мира по тяжелой атлетике.
В моей комнате старый письменный стол. Каждый год перебираю заветный ящик с особо ценными вещами: ножички, гильзы, ракушки, пуговицы и проч. С возрастом набор меняется. Что-то кажется уж совсем детским и выбрасывается. В этой куче у меня лежал револьверный патрон, заряженный. И однажды, ни с того ни с сего, я решил привести его в действие. Зажал патрон в тиски, направил пулю в стену и поднес горящую спичку к капсюлю. На меня затмение какое-то нашло. Спичка уже догорала, когда я понял всю глупость этого поступка. Я точно увидел, что будет дальше, бросил спичку и прикрыл патрон рукой. В этот момент патрон взорвался. Мою руку отбросило страшной силой. Сначала я побежал в ванну, подставил руку под холодную воду, чтобы остановить кровь, потом только вернулся в комнату посмотреть на последствия своей глупости. Тиски оказались пустыми. Пуля, оставив небольшую вмятину в стене, закатилась под диван. Остатков гильзы я не нашел, правда, три осколка остались у меня в правой руке, они и до сих пор там, куда им деваться, не растворились же.
6. Тула
А револьверный патрон я нашел у себя в огороде в Туле. Что касается всякого оружейного хлама, то в Туле этого барахла было хоть отбавляй. Однажды я купил обрез трехлинейки за три рубля. Наган с десятком запасных патронов стоил четверную, но это уже более взрослые дела. Мальчишками мы стреляли из поджигных пистолетов. Так и называли – «поджиг». В Москве такие игрушки делали из тонких медных трубок, в Туле же у нас были гораздо более широкие возможности. Кстати тула по-древнерусски означает колчан со стрелами. Видимо она была арсенальным городом очень задолго до Демидова. Я думаю, что речь идет о многих тысячах лет.
В качестве дров многим привозили с оружейного завода бракованные приклады. Проблем не было – подойдешь к куче дров и выбираешь себе что нужно. Но сначала нужно было найти ствол. За стволами мы ходили на городскую свалку, на 9 км Новомосковского шоссе, сейчас где-то рядом там кладбище, где похоронены мои дедушка с бабушкой и дядья. Отношение к выбрасыванию на помойку с разных заводов тогда было вполне свободное. Например, с радиозавода привозили полными грузовиками наушники, микрофоны и рулоны проводов. Мы опутали этими проводами все свои сады и переговаривались, не выходя из дома. Радио было интересно, но главное были стволы, их привозили редко, да и гоняли нас со свалки после того, как один парнишка подорвался на выброшенном снаряде. И всё равно, особых трудностей найти ствол от автомата Калашникова не представляло особого труда.
Кстати можно было собрать автомат или пистолет целиком, запчасти валялись здесь же. Это был брак, но исправляемый при желании. Качественные запчасти с завода выносили рабочие через речку. Привязывали их к лампочкам и бросали в воду, а потом вылавливали сачком подальше от завода. Нам это тогда было не нужно, наша задача была сделать поджиг. Из одного автоматного ствола можно было сделать два поджига. Отрезался кусок ствола, задняя часть заваривалась. В задней же части напильником и дрелью делалась прорезь. Ствол плотно прикручивался к ложе так, чтобы прорезь была с левой стороны, там ставилась скоба для спичек. Дальше всё просто, засыпаешь порох, запыживаешь газетой, кладешь соответствующего размера картечину, втыкаешь запальные спички и можно стрелять.
Однажды, помогая деду в огороде, я раскопал большую ценность. Я копал возле самого забора, и вдруг лопата хрустнула о что-то железное. Я вытащил ящичек с револьверными патронами. Где-то рядом с нашим домом проходила линия обороны, а с войны прошло не так уж много времени и, если хорошо поискать, можно было найти всё что угодно. Из неразорвавшихся снарядов мы выковыривали или вытапливали тол, находили снаряды редко в лесу, в явных же местах, к примеру, в полуразвалившихся дзотах, как это принято в Росси было до невозможности засрано. Колупаться там было противно.
Что-то из находок я отвёз в Москву, в школьный музей. В подвале школы был музей боевой славы. Ребята еще в пятидесятых годах ездили по лесам собирали старые каски, штыки. Было несколько винтовок, ППШ с подгнившими прикладами, помятый «Шмайсер» и вполне ремонтабельный пулемет Максим. Тогда власти к этому относились спокойно.
Но не в оружии дело, в Туле вообще мне было очень интересно. А, кроме того, это ж были каникулы. Признаком их наступления для меня были желтые цветочки акации во дворе, я любил их отрывать и сосать оттуда сладкий нектар.
Отъезд в Тулу выглядел следующим образом. Родители брали такси на стоянке возле нашего дома. Обшарпанная 21-я Волга увозила нас на Курский вокзал. Там мы садились в поезд дальнего следования Москва – Адлер, Москва – Батуми и т. п. Как только поезд трогался с места, немедленно все пассажиры выкладывали съестные припасы и начинали есть, как будто бы до этого момента у всех был великий пост. Припасы были стандартными: вареная курица в газете, крутые яйца и молоко в водочной бутылке, заткнутой той же газетой. Усатые кавказские проводники разносили чай.
На Московском вокзале в Туле мы опять садились в такси. По сравнению с этой машиной московский рыдван казался почти новым, но к дому подъезжали с шиком. Поцелуи, ахи-охи. На следующий день бабушка жарила котлеты с картошкой, доставала из погреба соленые огурцы, моченые яблоки, квашеную капусту в полувелках. Дед брился (пойду, говорит, поброюсь по такому случаю) и доставал графин с самогоном. Хотя чаще родители привозили с собой водку. В магазине покупалась бутылка кагора и вкусная газировка. Газировки тогда еще были настоящие, на натуральном сиропе. Дюшес пахнул грушей, а ситро яблоками. Котлеты у бабушки были просто замечательными, она как-то умела перемешать фарш и добавить чесночку «в припорцию». В общем, было весело. И Бог из угла со своей рюмкой поддерживал общее веселье.
Но настоящая жизнь начиналась, когда родители уезжали. Я вливался в общую компанию. Соседи, которые давеча сюсюкали с моими родителями, говорили: «Опять шпана московская приехала! Опять житья от него не будет». Почему? До сих пор не понимаю, что я им плохого сделал.
В основную компанию входили: Химик (кличка), Шуптик (фамилия, с которой и клички не надо), Хомяк (кличка по фамилии); мои двоюродные братья: Володя (кличка – Лавыга), и Юрка, без клички. У меня тоже клички не было, звали по имени. Остальные клички получили в школе №1, я же учился в Москве, а Юрка в центре Тулы, рядом с домом. Еще были: Арамис и Кыла (Коля) – сказочный персонаж, Квазимодо. Единственной девочкой первое время была моя сестра. Чем она занималась днем, не помню, а когда темнело, она приходила на скамейку играть в сидячие игры, колечко и проч.
Самым интересным был Саша Химик. Вечно облупленный на солнце нос картошкой, белесые волосы и хитрые глазки. Не знаю, за что больше его прозвали химиком, за хитрость глаз или бесконечную изобретательность. Например, он изобрел порох (в масштабах нашей улицы, конечно), нашел где-то рецепт. Мы накупили компонентов – серу в стеклянной банке с железной крышкой не помню где (не исключено, что ребята украли в школе), селитру покупали как удобрение на колхозном рынке, а древесный уголь терли сами. Порох использовался не только для стрельбы из поджигов, главное – мы делали ракеты (Енисей не перекрывали). Первой ступенью служила гильза десятого калибра, тогда еще такие встречались, второй, поменьше – двенадцатого, третьей, самой маленькой – шестнадцатого. Всё это обклеивалось картоном со стабилизаторами. Снизу и между ступенями вставлялись рулончики фотопленки, которая тогда делалась из нитроцеллюлозы и хорошо горела. Самое главное было составить правильную пороховую смесь, чтобы она горела достаточно быстро, но и не взрывалась. Всё равно взрывалась, дрянь такая. Это, конечно, была неудача, но смотреть, как взрываются на старте всё три ступени по очереди, было тоже весело.
У Сашкиного отца был привезенный с войны БМВ с коляской, а для Саши хранился маленький мотоцикл, тоже немецкий, довоенного производства, но кататься мы на нем стали несколько позже.
У Химика был младший брат – Даун, деревенский дурачок. Настоящее его имя было Сережа, но все его звали Фомой. Над ним смеялись, но не обижали.
Хомяк смотрелся идеальным туляком, примерно таким, какого сыграл Р. Быков в фильме «Служили два товарища». Маленький поджарый, обтянутый загорелой кожей, себе на уме и злобный, как хорёк, если его задеть за живое. Однажды моя мать вернулась из Франции и почему-то приехала почти сразу в Тулу. Она рассказывала нам о Париже и деловых встречах. Хомяк молча слушал и вдруг торжественно встал и на полном серьезе спросил:
– А как там рабочий класс живет?
Мать не нашлась что ответить.
Шуптика я помню больше лет в семнадцать. Он бросил школу, не окончив даже восьмилетки, работал грузчиком на какой-то базе и очень серьёзно выпивал. Он стал похожим на Шурика из Кавказской пленницы, когда тот отбирает рог у коровы. А в детстве, в очках на веревочке, он смотрелся классическим Знайкой, но я уже тогда понял, что внешность его обманчива.
Володя, сын дяди Коли, старше меня года на два. Он какой-то странный, выскакивает вперед, да я сейчас, дескать, покажу вам! и тут же стушуется и уходит в сторону. У меня такое впечатление, что его всегда тянули в разные стороны эти два чувства: минутная, поверхностная храбрость и глубинный страх, даже какая-то сильная жалость к себе. Однажды он резал хлеб на столе в сенях и острым ножом задел себя по пальцу. Порез был, конечно, глубокий, но он так сильно и долго кричал и бегал по дому, как будто отхватил себе всю руку.
Юрка, сын дяди Саши, наоборот, младше меня на год. Маленький, белобрысый, скрытный и хитрый. По настоящему дружил с ним только я. Компания его не любила и дразнила евреем, хотя евреев они никогда в жизни не видели, в нашей округе их просто не было. Но иногда я на него тоже здорово обижался. Дело в том, что я всегда был совой и спал часов до двенадцати дня, особенно после ночных посиделок на скамейке. Дед по этому поводу так говорил: «С вечера молодежь, а под утро не найдёшь». Юрка наоборот – жаворонок. Приходит вечером на скамейку и начинает клевать носом, тут же уходит спать, но чуть свет уже на ногах.
С одной стороны, это личное дело каждого, когда спать, когда вставать, но у нас была яблоня, белый налив. Эти яблоки вкусные только в самом соку – если чуть-чуть неспелое яблоко, оно жесткое и кислое, а, если пропустишь хоть день, становится мягким и не сочным, как переваренная картошка. В какой-то момент я стал замечать, что на яблоне несколько дней подряд нет ни одного подходящего яблока. Хотя и странно, но на нет и суда нет. Однако Юрка откуда-то доставал хорошие яблоки и ел в тухушку. Мы его выследили. Оказывается, он вставал утром и, пока мы спали, собирал все хорошие яблоки и прятал их в белый мешочек, потом доставал и ел. Я выкрал у него этот мешок и роздал все яблоки. С Юркой была истерика.
От наших нападок его защищала бабушка. Когда я его в очередной раз назвал жадюгой, она мне, помнится, возразила: «Сам-то дюже простый?» Слово простый с ударением на «о» вовсе не означает – простой. Перевести на московский язык его можно, лишь приблизительно как честный, бесхитростный, открытый. Провинциальные диалекты вообще во многом сочнее, ёмче, чем якобы правильный московский, правда, не без издержек. Родители меня каждый год ругали и поправляли недели две после моего возвращения из Тулы. По-тульски вместо слова очень нужно было говорить – дюже, вместо идти – итить, вместо «надо сделать» следовало сказать – надоть исделать, и т. д. Матерились на нашей улице мало. От бабушки я вообще ни одного сколько-нибудь грубого слова не слышал, когда уж совсем было плохо, она произносила нараспев ба-тю-ше-ки, а у деда самое страшное ругательство было «Ядрит твои коляски»! и уж в самом крайнем случае: «Пралик тя расшиби»!
В пасмурную погоду мы сидели дома и в зале играли в карты. Сначала в пьяницу, потом стали учиться в дурака. Именно Юрка откуда-то почерпнул карточный фокус, который мне пригодился потом в жизни и до сих пор приводит в изумление.
Фокусник дает своему визави карты, от пяти и больше. Тот тасует их и держит развернутыми в руке, рубашкой к фокуснику. Фокусник полностью отключает свои мысли или, по крайней мере, совершенно не думает о картах и слегка массирует себе переносицу. Визави называет одну из карт, имеющихся в его распоряжении. Фокусник тут же, не глядя, достает эту карту у него из рук. При небольшой даже практике, попадание почти стопроцентное.
Я потом пользовался этим способом, например, чтобы достать нужный билет на экзаменах в институте.
Володя Анискин стал Арамисом, когда мы играли в мушкетеров. В ближайшем от нас кинотеатре, где его мать работала буфетчицей, долго шел американский фильм «Три мушкетера». Нашего фильма тогда еще не было. Реакция на фильм была почти мгновенной. Вечером, после первого просмотра, мы наделали себе деревянных шпаг и начали «стражаться». На следующий день уже появились наволочки с дыркой, в качестве мушкетерских плащей и алюминиевые половники для эфесов. Д'Артаньяном или Атосом становился тот, кто первым затеял драку, визави де-факто назначался Рошфором. Но ВА всегда был Арамисом, он и по внешности и по характеру был на него похож.
Кыла был здорово старше нас всех, но он был инвалид. Родовая травма, наверно. У него были покалечены обе ноги и, к тому же, они были разной длины. Ходил он, подпрыгивая и волоча за собой длинную ногу, но выше пояса был очень силен. Лицом он был страшен, но характер имел добрый, если сильно не задевать его самолюбия. Однажды они подрались с Химиком. Это длилось долго и выглядело страшно, и кончилось только выстрелом из ружья в воздух.
Еще одного я забыл, Лёвика, но он появлялся редко. Он приходил издалека, из аккуратного кирпичного дома под шиферной крышей. У него были вьющиеся светлые волосы и, как я сейчас думаю, он был как раз настоящим евреем, хотя никто его так не называл и никак не дразнил.
Первым в доме просыпался дед. Он вставал еще по-темному и уходил на работу, подметать какой-то двор рядом со школой. Потом уходили на свой завод дядя Коля с тетей Марусей. Когда я вставал, если дед еще не вернулся с работы, то в доме было тихо и пусто, бабушка копалась в огороде или в сарае. Я выпивал кружку молока с хлебом или лепешкой и уходил на улицу, практически на весь день.
Когда собиралась компания, мы чаще всего уходили в поля. Это было недалеко. Нужно было пройти до параллельной улицы, миновать продовольственную палатку, потом спуститься еще ниже и всё, Тула кончилась. Правда, на этом последнем участке города было препятствие – гуси. Летом гусаки, защищая гусят, страшно шипели, выгибая длинные шеи, и больно щипались, если зазеваешься. Нужно было иметь с собой хворостину или палку. Однажды Химик взял с собой вместо хворостины мешок, (впрочем, он его таскал с собой довольно часто) и когда гусь, шипя, налетел на него, он быстро схватил его за шею и сунул в мешок. Наш постоянный обидчик был поджарен на костре и ритуально съеден на полянке у леса.
Сразу за последними домами города – лужок. Он и сейчас есть, только сейчас он заканчивается высокой насыпью дороги, а раньше ограничивался вонючим ручьем. Вонючим он был из-за проходившей здесь газовой трубы с насосной будкой. Эта будка, расстрелянная нами со всех сторон из поджигных пистолетов и прочего личного оружия, выглядела как Сталинградский форпост. Этот лужок был нашим любимым местом для запускания ракет и бумажных змеев, когда на нем не стоял цыганский табор или не отдыхали танкисты на своих выпачканных в грязи машинах после учений, но это бывало редко. Сейчас ручей исчез вместе с газовой будкой.
Кстати, о бумажных змеях. Дед нас научил их делать в буквальном смысле дедовским способом. Бумага и дранки клеились картошкой в мундире.
А тогда нужно было по газовой трубе перейти на другую сторону ручья, там уже начиналось настоящее русское поле. Вдоль еще одного ручья шла тропинка кГостеевскому лесу. Рядом с разваленным дзотом бил родник с очень вкусной водой. Там же рядом валялось старое помятое ведро для ловли сусликов. Справа от ручья было хлебное поле, и суслики рыли норы, прямо рядом с тропинкой. Сусличья нора прямая и строго вертикальная, туда входило около двух вёдер воды. Когда норка наполнялась до краёв, вода вдруг начинала бить в обратную сторону, и оттуда высовывался мокрый и озлобленный хозяин, который быстро попадал в мешок. Сусликов отлавливали по наущению школьных программ, как вредителей сельского хозяйства, но убивать их было жалко, и мы приносили их домой, сажали в клетки, кормили, они бежали из-под замка, потом наш котенок отлавливал их и съедал.
Всплески памяти
Подзаголовок я употребляю последний раз, потому что эти самые всплески памяти возникают всё время и сами лезут в повествование без всякого порядка. Я их по возможности буду отделять двойными пробелами или звездочками. Вот такими:
* * *
Мы идем из лесу. В мешке у Химика пойманные в лесу хорьки. На другой стороне ручья гостеевские (мальчишки из деревни Гостеевка), их много. Они что-то воинственно кричат. Мы ускоряем шаг, потом бежим. Я немного отстал. Слышу выстрел и свист пули над ухом. Мгновенно останавливаюсь. Подбежавшие ко мне гостеевские разговаривают со мной на удивление миролюбиво, спрашивают, что в мешке у нас. Хорьки, говорю. Остальных догнали и надавали по шее. Больше всех досталось Химику и Володьке. Зачем-то забрали половину хорьков.
Надо сказать, это было единственным нападением на нас за всё время, если не считать еще одного. Мы тогда уехали довольно далеко, за горохом. Велосипеды спрятали в лесу, а сами углубились в поле, увлеклись и прозевали появление объездчика. Он появился совсем близко на лохматом коне и с большим кнутом. Я добежал до лесу одним из первых, последние получили кнута по задней части. Но главный сюрприз нас ждал в лесу. Объездчик, прежде чем наехать на нас в поле, повыкручивал ниппеля из колес наших велосипедов. В сторону дома велосипеды ехали на нас. Вернулись домой мы уже к темноте, и пришлось докладывать, что случилось.
Грибов в лесу было мало. В основном мы собирали маслята в лиственничных посадках. Выглядело это так: подходим к посадке, занимаем каждый свою полосу и идем, собирая грибы (это метров триста-четыреста), потом идем в обратную сторону и опять собираем. Третий раз проползаем эту посадку на коленках. По одному и тому же месту! и всё равно находим.
В поле за свалкой было много шампиньонов, дед их очень любил. Мы с ним вдвоём ходили туда неоднократно. На лугах, где бывали коровы, всё лето росли ссачки – полевые опята, очень вкусные грибы. Так они называются, потому что растут по кривым синусоидам «как бык поссал».
Гораздо более увлекательным занятием была рыбалка. Покупных удочек у нас не было, покупались только леска и крючки. На удилища вырезались длинные сучья из орехового куста, снималась с них кора, потом за один конец этот прут привязывался к крыше сарая, на другой – закреплялся тяжелый груз. Через неделю удилище выпрямлялось и высыхало. Поплавком служил кусок винной пробки, обожженный и с воткнутой посередине спичкой.
У нас было три пруда с карасями: Гостеевский, Шахтерский и Барский. Гостеевский самый уютный лесной прудик, там можно было купаться и, естественно, кроме удочки можно было применить бредень. Собственно удочку там и забросить было почти не возможно – мешали кусты и деревья. Мы купались до посинения и пролезали с бреднем все камыши, но улов здесь был небольшой и караси маленькие, соответственно с размером пруда. Самые большие караси и почему-то белые были на шахтерском пруду и только на бредень. С удочкой лучше всего было посидеть на старом Барском пруду, между вековыми ивами. Там и утвердился наш основной рыбный промысел, но не на удочку, конечно. Глушить рыбу мы тоже пробовали, слава богу, было чем: от карбидных бомбочек до самодельных толовых шашек. Это было весело, но отдача незначительная. Гораздо добычливее было ставить верши. С одного верша брали этих карасей сотнями, но у меня до сих пор вызывает дрожь ощущение сильно заиленного дна со всякой режущей дрянью. За сорок с небольшим лет Советской власти дно барского пруда настолько загадилось, что входить туда можно было только в ботинках.
Рыбу бабушка жарила до хруста и заливала яйцами со сметаной – ну очень вкусно! Грибы и рыба были отнюдь не баловством. Люди тогда жили не голодно, но достаточно скромно. Картошка и прочие овощи были у нас свои. Своими были куры, яйца и соленое сало. Маленькие поросята бывали очень забавны, но перед тем, как стать салом, сначала становились угрюмыми зверями с дурным характером.
Помню клевачего петуха. Мы к нему привыкли, и он то ли считал нас своими, то ли боялся получить пинка или палки, но всё было спокойно, пока не появлялся дядя Саша. Заезжал он редко, но петух его как ждал. Он разбегался от сарая, взлетал и норовил едва вошедшего в калитку дядю клюнуть прямо в лоб. За что и поплатился – отрубили ему голову.
Он воевал еще минут пять и без всякой головы, пока не успокоился, уткнувшись в угол забора.
Дед, приходя с работы, приносил в своей сумке хлеб, дешевые сардельки и мясные субпродукты, особенно мне запомнились коровьи сердца. В третьем или четвертом классе после каникул у нас спросили в школе, что мы ели летом. Я ответил – сердца коровьи.
Сливочное масло нам приносили ворованное с молокозавода за полцены. Приходил один и тот же мрачный мужик, шептался с бабушкойв сенях, отдавал масло в буквальном смысле из-под полы, получал свои деньги и просветленный уходил. На наш прокорм родители оставляли какие-то деньги, но деду с бабушкой, всё равно, при их совместной пенсии в 48 рублей и дедовых 40 на полставки дворника приходилось серьёзно экономить. При этом всё же соседи, я знаю, жарили всё на комбижире, это даже не маргарин, а какое-то сырьё для изготовления хозяйственного мыла. У нас же никогда не пользовали даже маргарин.
Для масла и молока в колодце висело специальное ведро. Холодильника не было, зато был телевизор, привезенный из Москвы. Днем мы смотрели бесконечный венгерский детский сериал «Капитан Тенкеш». Это конечно, не Три мушкетера, но желание стражаться деревянными палками стимулировал. Молоко приносила соседка Бухина. Бухины были два брата, которым по инвалидности милостиво разрешили оставить коров. Два здоровенных мужика Егор и Николай (у одного не было руки, у другого ноги) имели не только коров, но и лошадей с телегами – они были ломовыми извозчиками и, не смотря на инвалидность, неплохо зарабатывали. Однажды Бухина жаловалась бабушке: ушла, говорит, к автобусу встречать гостей, а гуся на стол уже поставила, так муж, пока ждал, всего гуся в задумчивости съел. А гусь-то запеченный килограммов пять! Бабушка брезговала (гребовала) их молоком, но брала, потому что рядом коровы больше не у кого было. Она еще раз процеживала молоко, после того, как Бухина уйдет.
Мое выражение: «У бабушки лепёшки – нескончаемым потоком» мать помнила до конца жизни. Но, как раз вот в этот период, в связи с кукурузизацией полей, произошел длительный перерыв в потоке. Помню, у Шахтерского пруда одно поле засеяли кукурузой, она поднялась аж сантиметров на сорок по всему полю, и как-то миновала соседние поля чаша сия, в основном сеяли рожь и пшеницу, но в магазинах мука пропала напрочь. Бабушка пробовала размачивать в холодной воде серые макароны, но должного результата не получила и бросила это.
Бани у нас никогда не было. Все мылись в корыте в сенях (вообще-то, в сенцах). До этого в деревне все мылись в русских печках. Берешь с собой шайку и веник, залезаешь в протопленную печь, паришься и моешься. В Туле у нас не было русской печки, была голландка с плитой и духовкой.
Не было уже и конопли, которую раньше в деревнях выращивали в больших количествах в основном на постное масло, потому что подсолнечник сильно истощает землю.
Мы с Юркой сидим на нашем заборе у калитки. Напротив, через улицу, возле кучи силикатного кирпича сидят на лавочке мать Шуптика и наша соседка справа Афросиния Ивановна, в обиходе Фрося. Это именно она больше всех кричала, что я шпана московская; зажиточная дама (муж её работал шофером-крановщиком и имел левые). Мимо них проходит в легком подпитии Иван, отец Кылы. Фрося достаточно громко начинает его задирать, как не стыдно, дескать, каждый день пьяный. Он останавливается, возвращается к женщинам, что они говорят не слышно. Говорят недолго, через пару минут Иван берет кирпич из кучи, бьет Фросю по голове, бросает кирпич на место и уходит. Солидная дама Фрося сидит как скала, хотя кровь залила ей уже всё лицо. Шуптикова мамаша бегает вокруг неё как курица, взмахивая руками, потом вдруг убегает в дом, приносит пузырек зеленки и выливает всё содержимое пузырька прямо в пробитую голову. Скала даже не реагирует. Мы с Юркой продолжаем сидеть на заборе, и смотрим на всё это, раскрыв рот. Появляется машина скорой помощи и милиция.
Иван получил пять лет.
На печке потертая жестяная коробка с надписью: Ландринъ, Конфекты. В ней старые пуговицы, нитки, почерневшая советская трудовая медаль и чей-то георгиевский крест.
По нашей улице иногда проезжают на телегах старьевщики. На той же ноте, что и в Москве поют: «Старьё-ё-ё берём». Но тут немного интересней, они не платят деньги, а меняют тряпки на другое добро: детские игрушки и проч. Они, например, распространяли удивительную женскую деревенскую одежду, черные плюшевые жакеты и жилетки. Их носили деревенские женщины по всей России от Бреста до Владивостока, хотя ни в одном магазине их никогда не продавали. Загадка. Самым заманчивым для ребят в этом ящике Пандоры были оловянные или свинцовые пугачи, стрелявшие с грохотом и огнём глиняными пробками, но за них просили целый мешок тряпок, а где ж его было взять?
Ткани тогда еще были добротными. Пальто, например, носили почти всю жизнь, когда сукно начинало протираться, его несли к портному и перелицовывали. Нынешнее общество потребления не знает такого слова. Более тонкие ткани резались на треугольнички и шли на лоскутные одеяла или диванные подушки. У кого был домашний ткацкий станок, делали из тряпья дерюжки, симпатичнейшие половые коврики.
Основное дело на нашей улице для нас – это игра в чижика. Тогда еще вполне активно помнили русские игры. Мужики играли в лапту на поляне у Красного перекопа, а мы гоняли чижика на улице перед домом.
Родители мои иногда приезжали не просто привезти-забрать, а задерживались. Мы с ними как-то ездили в Ясную поляну. До сих пор хорошо зрительно помню и сам дом Толстого, и холмик на аллее. И бабушка с нами там была, потому что в стоячем кафе там я ел сардельку с горчицей, бабушка посмотрела и сказала: «Ты будешь пьяницей». Я спросил, почему, она ответила, потому что я люблю горчицу. Причем не пропойцей, не алкоголиком, а просто пьяницей? Как в воду смотрела. Впрочем, может быть, она сказала это в другой раз, но ассоциируется этот момент у меня с Ясной Поляной.
Ездили мы еще на материну родину, в Холмы-Кукуевку. Старые деревни, дома низенькие с земляным полом и земляной завалинкой. На крыше одного дома, прямо на князьке – гордый собою козёл. Пасека, мёд со свежим огурцом и зеленым луком. Отца тогда укусила собака, и ему делали укол в живот в вокзальном медпункте.
Едем с матерью из Тулы в Москву на южном поезде. С нами в купе старорежимно-интеллигентского вида женщина с ребенком. Она трет ребёнку репчатый лук с сахаром и заставляет есть для здоровья. Эта луковая кашица отвратительно воняет. Женщина говорит, что ездит теперь на Юг только поездом, потому что в последнюю поездку машиной они попали в аварию. Свесившееся из грузовика бревно попало в салон машины и убило её старшего сына. Мать ей сочувствует, а я думаю о том, что если б этот её старший сын был жив, ему бы тоже пришлось есть эту вонючую гадость – луковую кашу.
7. Лагеря
В эти годы я дважды успел побывать в пионерских лагерях. Первый раз в Лобаново на Красной Пахре.
Деревянные, свежевыкрашенные одноэтажные домики, умывальники и туалеты на улице. Полы цвета поноса. Иду по коридору, сандалии прилипают к полу и отрываются от него с хрустом. Везде пахнет свежей краской, как на кладбище. Умывальник в две линии метров по шесть под крышей. Тут запах всегда весёлый: водой, цветочным мылом и земляничной зубной пастой. Пасты всегда не хватает – мы её едим и мажем друг дружку по ночам. Клозет на четыре очка с выгребной ямой весь усыпан хлоркой. В стенке дырочка в женское отделение. Заглядываю. Две девочки из старшего отряда с пушком на лобках садятся писать. Одна из них, встав, закладывает в трусы вату. Удивительно и непонятно.
За мной приглядывает баянист, дядя Володя, приятель отца. В лагере скучно. В кружке Умелые руки что-то пытаюсь сделать из коровьего рога. Рог оказывается внутри пустой. Надолго меня не хватает. Сбегаем с приятелем из лагеря на речку. Ловим пескарей и еще каких-то рыб под камнями. Пускаем по воде речных устриц блинчиками. Вот это жизнь!
В лагере баня с шайками, как в Сандунах. На выходе вожатая трет пальцем наши лодыжки, если скатывается чернота, отправляет перемывать.
Второй раз я ездил в Евпаторию, в пионерлагерь Чайка. Сначала не заладилось. Мать переусердствовала. Она посадила меня для надежности с сестрой в один вагон. Это имело два, даже три отрицательных последствия. Во-первых, я оказался в этом вагоне не пришей к кобыле хвост, потому что сестра сразу слиняла по своим интересам, для остальных я был маленьким и в компанию не вхож. К вечеру от качки вагона и нервных переживаний у меня приключилась морская болезнь, меня рвало через каждые пятнадцать минут. От меня не отходил врач, меня поили марганцовкой и крепким чаем, ничего не помогало почти до утра. Потом я, наконец, заснул и проснулся, когда за окном уже был Сиваш.
Из всей дороги я только и запомнил что сивашскую вонь из окна и станцию со смешным названием Саки. Главная неприятность меня ждала в лагере. Когда меня сдали, в конце концов, в мой отряд, ребята, которые передружились уже в вагоне, смотрели на меня как баран на новые ворота. Но потихоньку всё урегулировалось.
* * *
В Москве. Школа однообразна и скучна, но тоже хватает запоминающихся событий.
Белый пароход. Большой и прекрасный. Однодневная поездка для всей школы. Ковры на крутых трапах, блестящие медные ручки. В буфетах ситро с бутербродами. Я обежал весь теплоход и, свесившись с фальшборта самой верхней палубы, плюю вниз в воду. От этого благородного занятия меня грубо отрывает директор школы и волочет к моему классу.
Музей народов востока. Недалеко от Курского вокзала. Солнце из окон. Экскурсовод что-то рассказывает, а я вперился в китайский костяной шарик, такой резной, многослойный и не могу от него отойти.
Театр, (совсем не Большой), спектакль «Аленький цветочек». Мягкие кресла, красный плюш и золото отделки. Оркестр в яме. Божественные звуки музыки.
Ёлка в Сокольниках, клоуны на ходулях. Хлопушки по 6 копеек в универмаге напротив дома.
Нас принимают в октябрята, позже в пионеры. Музей Ленина. Много флагов. Мавзолей. Чего-то тут не хватает. Вспомнил – не хватает еще одного мужика рядом.
Очень сильно болит нога. Отчего? никто не знает. Ходить не могу, в поликлинику меня возят на такси. Через неделю проходит само собой.
Учительница в классе полубог, но однажды нимб падает. Мы с Костей, которого я прямо сейчас уже начну называть Художником, приходим зачем-то домой к нашей учительнице Леонтьевне. Она не ждала нас – открыла дверь с половой тряпкой в руках, в грязном халате. Мы выходим от неё в смущении и разочаровании. Еще один миф развеялся.
1-ая ДАТ (детская автотрасса). Каменный барак с пристроенным гаражом на 3-ей Песчаной, возле входа на ЦСКА. Но для нас это храм автомобильной религии. Совсем старенькие уже Бергманы, муж и жена, организаторы этого святилища. Пахнет резиной и бензином, мосты, колеса, двигатель в разрезе (настоящий двигатель, разрезанный напополам). Здесь внутри теоретические занятия. В принципе, обыкновенная автошкола, но сюда берут детей с третьего класса. После теоретических занятий мы с Хариком вместо шапок надеваем шлемы с красной эмблемой заведения и красные же повязки. Счастливцы уже сели за руль четыреста седьмых Москвичей. Вечер, уже стемнело. Легкая метель. Мы стоим, регулируем движение. Счастливый миг, наконец-то, сажусь в машину, глажу руль, делаю всё, как положено. Первая передача, вторая… Рядом инструктор лет пятнадцати.
– Ну что ты пилишь на третьей передаче – врубай четвертую, и пошел!
В школу всех заставляют принести анализ кала. Мать кое-как сложила это моё добро в спичечный коробок, завязала в несколько пакетов. До конца учебного года мой черный дерматиновый портфельчик имеет легкий запах дерьма. В конце мая с огромным удовольствием выбрасываю его на помойку.
Сарай возле школы. Я сижу на большой куче старых книг и журналов. Моя задача здесь – взвесить принесенную другими учениками макулатуру и записать в тетрадку. Желающих сдавать мало, и я копаюсь в куче, смотрю книги. Вдруг, нахожу огромную ценность – Сборник русских сказок. На черном фоне обложки Иван царевич в красной одёже колошматит трехглавого змея, обложка, правда, надорвана, но это не страшно. Прячу книгу за пазуху, заодно прихватываю пособие по урологии и венерическим заболеваниям (с картинками).
Перед двадцатилетием победы, рядом с ЦДСА открывается музей Вооруженных сил. Пришли туда с отцом, (он участвовал в организации музея). Сам музей еще закрыт, но рядом с ним много пушек, танков и прочих боевых машин, даже бронепоезд на рельсах. Все машины еще открыты, не успели заварить люки. В бронепоезд не попасть, все ручки вымазаны толстым слоем солидола, в большинство танков тоже залезать не стоит – насрано.
Весна. На окнах в классе стоят банки с водой. Мы наломали веточек и поставили их в эти банки, теперь следим за тем, как появляются белёсые корешки. Когда становится совсем тепло, высаживаем свои веточки в землю.
Лет десять назад я проходил мимо нашей школы. Наши саженцы стали большими деревьями. Это, конечно не бог весть что, тополя, по большей части, но приятно чувствовать себя родителем этих деревьев. Кстати, совсем рядом с нашей школой жил выдающийся селекционер по фамилии Колесников. На месте его домика сейчас стоит довольно примитивный, но многоэтажный жилой дом. Сад от его дома спускался до самой воды остатков Таракановки. Весь сад был засажен разноцветными кустами сирени. Как он добивался такого разнообразия цветов? кто теперь знает. Именно из этого сада ушли саженцы в сквер перед Большим театром и много еще куда-то по Москве.
Но отношения с окружающими жителями у него были плохие. В мае шестьдесят третьего года мы с Куском и Художником зашли к нему попросить несколько веточек сирени, на последний звонок одиннадцатиклассников. Он вышел к нам с палкой в руке, гнусно ругался и обещал даже побить в случае чего. Разве можно так обращаться с детьми? Мы, естественно затаили злобу, но повода ему насолить не случилось, но и без нас кончил он плохо. Однажды к нему залезли ребята постарше наломать сирени для своих девушек. Он выскочил к ним с той же палкой в руке. Этой палкой его и убили.
Что касается книжек из макулатуры, то сейчас я иногда читаю сказки из этой книги своему внуку. Надорванная часть обложки оторвалась совсем, но пока я жив, я эту книгу буду хранить. С пособием по урологии получилось гораздо хуже. Рассматривать фотографии больных гениталий в какой-то степени было заманчиво для маленького мальчика, но уж очень это было гадко. Представьте себе, например, половой член, пораженный раковой опухолью или вывернутую наизнанку вагину с выделениями и признаками какой-нибудь экзотической болезни. Я принес эту книгу в школу и обменял на пачку американской жвачки. Кстати жвачки эти тогда были очень вкусными и мягкими. Они были с настоящим сахаром и прекрасным запахом натуральных фруктов. В школе продавали их особо одаренные ребята одну пластинку за рубль.
Сдал я эту книгу очень выгодно, но память свою продать невозможно! Эти гадкие фотографии так и стояли в моем воображении и, однажды я заметил у себя на петушке прыщик. Если б я не видел никогда той книги, всё это было бы ерундой, но я же её не только смотрел, но и читал кое-что. Я заволновался. На следующий день смотрю – не пропал. Пошел к зеркалу осматривать грудь – что-то вроде сыпи есть. Кто бы знал, как я испугался. Я решил, что всё, амбец, у меня бытовой сифилис. А что? очень даже запросто, попил газировки из автомата после сифилитика? Эти автоматы так тогда и назвали сифилизаторами. Несколько дней я был сам не свой, мучился и ходил безразличный ко всему. Иногда отвлекался, но тут же меня бросало в холодный пот, и вставал перед глазами портрет тетки с проваленным носом. Через несколько дней прыщик пропал, и жизнь опять повернулась ко мне своей приятной стороной.
* * *
В нашем классе новенькие – Миша и Гуля сводные братья (потом они разведутся и будут драться между собой, а потом снова соединятся). Живут они за линией кольцевой железной дороги, не больше полукилометра от школы, я иду туда с ними. Гуля пинает какой-то кулек тряпок, он скатывается от рельсов по насыпи. Из кулька вываливается мертвый новорожденный ребенок. Быстро уходим оттуда.
Я иду из магазина, несу домой пакет с сахарным песком. Начинается дождь, бумажный пакет размокает и разваливается у меня в руках прямо на ступеньках у подъезда. Дома отец говорит, что знает, почему наша улица называется ново-песчаной – потому что некоторые посыпают её сахарным песком.
У меня были постоянные обязанности: выносить помойное ведро и ходить в булочную. Во времена кукурузизации в магазинах пропал белый хлеб. То есть теоретически он был, но не совсем такой, к какому все привыкли. Этот хлеб был подешевле, но в него клали половину, а то и больше, муки кукурузной, он был жесткий и сырой, как будто не пропеченный и по цвету темнее настоящего. До этого я брал два батона белого по 13 копеек и половинку черного (8). Сейчас стал покупать один двойной батон за 20 копеек и ту же половинку. На это мне нужно было меньше тридцати копеек, но мать выдала мне дежурный рубль, на случай, если выбросят настоящий хлеб. Однажды пришел в булочную, народу подозрительно много и хлеб на прилавке белый, как настоящий. Я набрал полную сумку, принес домой, а хлеб тот же кукурузный, только совсем не пропеченный, от того и светлый. Облом-с.
Получили в домоуправлении карточки на лимоны. Стоим с матерью в длиннющей очереди в Продовольственном напротив. Выкупили килограмм пять, если не больше, очищенных лимонов. Зачем они нам? Ажиотаж!
В коридоре телефон, черный, старый, с цифрами и буквами. (Тогда в московских номерах первой шла буква, дальше пятизначный номер), Наш номер начинался с Д-7 и лишь одной цифрой отличался от номера телефона кинотеатра Дружба, располагавшегося в доме напротив. Звонок. Сосед, пожарник в майке с подтяжками берет трубку. На том конце провода тоненький детский голос:
– Это Дружба?
Сосед:
– Нет, вражда!
Детский голос, после некоторого замешательства:
– А какой у вас сегодня фильм?
Сосед:
– Баба Яга, седьмая серия!
Вешает трубку и довольный собой удаляется, думает, что удачно пошутил.
Отец приносит домой пневматическую винтовку. В ящик из-под посылки насыпаем песок и делаем мишень. Стреляю от окон к двери или из одной комнаты в другую.
Тир в Ленинградском парке. Беру три пули, стреляю. Долго стреляю. Своих пуль полный карман. Попадаю очень часто – дома натренировался. Меня начинают оттуда гонять.
Поляна в лесочке на ЦСКА. Я начал заниматься стрельбой из лука. Инструктаж мне дает Жилин, пятнадцатилетний капитан (пятнадцать лет в капитанах проходил). У меня дюралевый лук, колчан со стрелами через плечо. На правой руке перчатка на два пальца, на левой – защита из толстой кожи до локтя. Всё по-взрослому. Стреляю хорошо, но недолго. Тут все сами по себе. Пришел – стреляй, не пришел, ну и хрен с тобой. Обидно.
Тот же лесочек. Задняя сторона гостиницы. Свистим. Из окна первого этажа высовывается, один из лучших хоккейных защитников в мире. Мы ему пачку сигарет, он нам шикарную клюшку. Вот хоккеистами у нас занимаются – даже из гостиницы не выпускают! В хоккейную школу ЦСКА я не пошел сам, я никак не могу научиться поворачивать на скорости в правую сторону.
В том же лесочке, двое балбесов, гораздо старше нас, стреляют в нас из пневматической винтовки. Они думают, что это больно, но не смертельно. Пуля попадает мне в пряжку ремня. Я ужасаюсь гораздо позже, когда вдруг вспоминаю, как погиб начальник стрелкового манежа ЦСКА. Спортсмен чистил пневматический пистолет, проверил вроде бы – пули нет, и нажал на спуск. А пуля была, и она попала в живот начальнику тира. До госпиталя его не довезли. Умер в машине скорой.
Стрелковый манеж ЦСКА на Комсомольском проспекте. Соревнования. Мы с сестрой едим трубочки с кремом. Друзья отца Лев Матвеевич в военной форме, вечный второй на чемпионатах мира и олимпиадах по стрельбе из пистолета, и его жена Елена Михайловна с татарской фамилией начинающейся на букву Э. Если по ошибке написать букву Е, то получается неприлично производно от чисто мужского органа. Письма с такой ошибкой она выбрасывает не читая.
У них интеллигентски богатая квартира на нашей улице, в самом начале. Иногда бываем у них в гостях.
Сейчас многие называют ЦСКА конюшней, но понятия не имеют почему. Справка: Здание на Комсомольском – бывший конный манеж, иными словами – конюшня.
Миша, один сводных братьев, заманил меня в спортзал ЦСКА, устраиваться в секцию баскетбола. Я пошел от нечего делать. Всех кандидатов выпустили на площадку. Много мячей. Мешая друг дружке, пацаны хватают мячи, стучат ими об пол и кидают в кольца. Мне смешно: из Миши, маленького, щуплого баскетболист, как из меня японский император. За всем этим безобразием наблюдают Гомельский, Алачичан и еще несколько человек, первых двух я знаю в лицо. Вечером я проболтался об этой поездке отцу. На следующий день оказалось, что я зачислен, а Мишу, конечно, не взяли. Но и я ходить не стал.
Детский кинотеатр Дружба на первом этаже большого жилого дома (там сейчас кабак). Зимние каникулы. Мы на сцене, поем хором патриотические песни. За это можно остаться смотреть фильм бесплатно. Билет, правда, всего 10 копеек, но приятно. Солирует Илюша из нашего класса, розовощекийс татарской фамилией и тоже на букву Э, поет он плохо и, чисто по-еврейски, умышленно перевирает слова. После нас на сцену выходит маленький Костя-Художник. Длинный Лямбда ему аккомпанирует на баяне. Вместе они смотрятся как Чебурашка с крокодилом Геной. Зал в восторге.
Илюша Э живет в этом же доме, прямо над кинотеатром. Иногда он выходит на балкон и играет на скрипке. Играть не умеет. Слушать его – уши вянут.
Еще одна типичная еврейка по внешности, хотя и совсем не красивая, что не характерно, с черной косой и большим носом, но, на удивление совершенно без апломба, тихая и скромная, сидит в классе на одну парту впереди. Я сижу с Улей. Уля верещит, когда я её дергаю за светлые косички, но, в целом, мы живем мирно. Чуть сзади сидит Теря. Мы выясняем, чем это дурно пахнет, и совместно приходим к мнению, что виновата тихоня Аберг. Как единственный мужчина в компании, принятие мер беру на себя. Пишу записку: «Аберг, не перди на уроках!». Скандал! Мать вызвали в школу (я нашел эту свою записку в материнских бумагах уже после её смерти).
Особое место в воспоминаниях того времени занимают походы выходного дня с родителями.
Начинался выходной с того, что мы просыпались позже обычного и наперегонки с сестрой занимали место в родительской постели. Некоторое время смотрели по телевизору бодрую передачу «С добрым утром» или как там она называлась? вместо будничных физзарядки и Пионерской зорьки по радио. Выходной тогда был один в неделю – воскресенье. Субботу сделали нерабочей позже, и то, не для школьников.
Если на улице была зима, то после завтрака мы брали лыжи и всей семьей шли кататься в березовую рощу на Хорошевку. Названия, правда, уже тогда начали меняться на непонятные – кто такие Куусинен или Георгиу Деж никто не знал, но улицы называли их именами. В роще квартировалось какое-то войсковое подразделение, там, в бараке жил дядя Вася, (тот, который прошел всю войну Ванькой-взводным). Иногда садились в троллейбус и ехали до Серебряного бора, там было интересней, но очень много народу.
Летом поездки были разнообразнее. Могли, конечно, поехать в тот же Серебряный бор купаться и кататься на лодках, но чаще ездили дальше. Тогда наша зеленая линия метро была гораздо короче. Конечными были Сокол и Автозаводская. От Сокола мы ездили загородным автобусом в Архангельское, а от Автозаводской в Коломенское. Вокруг Коломенского городом и не пахло, тысячелетние дубы смотрелись естественно и на своем месте. Живы ли они еще?
Иногда бывали в ЦПКиО. Там где сейчас колесо обозрения, у пруда, был замечательный ресторанчик «Кавказ». По открытой площадке между столиками сновали старорежимные официанты в белых куртках с черными бабочками и полотенцами на согнутой левой руке. Они приносили вкусные кавказские блюда с острыми соусами, настоящее грузинское вино в мутных полулитровых бутылках и жидкий, но вкусный кофе с лимоном. Жалко было, когда это ресторан сгорел.
Сокольники. Мать заняла очередь в кафе, а меня попросила занять столик. Я соскучился сидеть один и иду помогать матери. Она забеспокоилась – столик же займут. Я говорю, не волнуйся мол, я там твою сумочку положил. Мать чуть было чувств не лишилась. Украдут! Сумочка, к счастью, оказалась на месте.
С её же сумкой был обратный случай на Комсомольском проспекте. Ей только что купили новую сумку черную, блестящую. Она довольная переложила туда всю мелочевку, а куда девать старую не понятно. Белесая такая сумка с потертыми боками. Мы оставили её в телефонной будке, на крючочке, под аппаратом, и спокойно идем в сторону метро Парк культуры. Минут через пять нас догоняет внимательный гражданин и возвращает «потерянную» сумку.
Совсем уж предел – из рук вон получилось с зеленым чемоданом. Родители провожают меня на Курский вокзал. Редчайший случай – не в такси, а в метро. В вагоне тесно. Из вещей у меня один чемодан, мать его держит у ног, потом берет в руку. Мы уже почти опаздываем на поезд. Надо выходить из вагона, подъехали к Курской. Отец говорит матери:
– Давай чемодан, я понесу.
Мать не отдает. Я, дескать, сама. Отец нервничает.
– Давай, говорю, чемодан!
Двери уже открылись. Мать чемодан не отдает. Отец вырывает у неё из рук чемодан, протискивается к дверям, и выходит из вагона. Дальше это выглядело так: я иду сзади, а передо мной идут отец с матерью, и обоих в руках зеленые чемоданы! Самое интересное, что женщина, у которой отец отобрал её чемодан, семенит сбоку и не знает, что делать дальше.
Чаще всего ездили на ВДНХ. Там можно было бродить целый день. И по павильонам пройтись и по ярмарке, и по закусочным разным. Там первыми появлялись новинки продовольственного фронта: хрустящая картошка, которая сейчас в ухудшенном варианте называется чипсами, молоко в треугольных пакетах и прочее. Очень интересно было побывать у коров, лошадей и др. в павильоне животноводство. У нас это называлось: «Пошли к свиньям!» с ударением на последнем слоге.
Мне больше всего нравилось в дальнем углу, за прудами. Там стояла строительная и сельскохозяйственная техника. Разные трактора со спецприспособлениями, свежевыкрашенные желтой краской. Из этой любви к технике однажды получился курьез. В присутствии массы взрослых, родителей, бабушки с дедом и дядьев за столом в Туле я рассказывал об увиденной там чудесной дождевальной установке. Говорю:
– … трактор посредине, а от него в обе стороны, – я растопырил руки для наглядности, – вот такие две здоровенных хуйни…
Далее была немая сцена из Ревизора.
8. Переходный период
Начиная с пятого класса, к каждому предмету приложили отдельного учителя. Я не хочу говорить о самих предметах, потому что уверен в их бесполезности и ненужности для детей(процентов на девяносто от общего объема). Главным в школе мне видится духовное общение учеников с учителями и учеников между собой, а поводы для такого общения можно было бы найти поинтересней, чем а-квадрат плюс бе-квадрат. Самое главное, что должно быть в школе выдвинуто на первый план – это личность учителя, его своеобразие, оригинальность мышления, любовь к ученикам. Увы, увы… об этом остается только мечтать.
Почему я выделил последние два года детства в отдельную большую главу? Не только потому, что новый этап в школе, с разными учителями по предмету, а потому что на детство здесь уже стали наслаиваться отдельные явления и моменты не очень присущие собственно детству. Еще несколько лет до того я не понимал значения некоторых слов, тех которые считаются неприличными. Потом узнал их значение, но все это как явление меня не интересовало всё еще, и вдруг… как будто прозреваешь, начинаешь замечать всё это совсем рядом, начинаешь замечать не только то, что это вдруг появилось, а что это было всегда, только где-товне поля зрения. Как в том анекдоте:
– Знаешь, сосед, мне кажется, что к моей жене ходит садовник.
– Как ты определил?
– Да в постели стал розовые лепестки находить.
– Да?… а мне кажется, что к моей железнодорожник ходит…
– Что? рельсу что ли под одеялом нашел?
– Да нет, прихожу вчера домой, а в постели железнодорожник!
Так же и в жизни… например, сколько раз я видел во ржи вытоптанные участочки с женскими трусами посредине. Один раз даже парочку застали лежащей в кустах. Мы на них чуть не наступили – они притворились спящими, мы посмотрели мельком и ушли поскорей – а вдруг мертвые? А теперь вдруг стало доходить, что это было на самом деле. Стало вдруг заметно, что у девчонок груди начали оттопыриваться, у себя кое-где волосики начали пробиваться, ну и т. п. Одни словом, в постели появился железнодорожник. Взрослая жизнь в этом возрасте воспринимается превратно, искаженно, но уже становится заметной. Появляется желание подражать взрослым, причем в тех областях, где не надо бы, например, пить спиртное, курить и т. п.
Однако постараюсь по порядку.
Почти все, вновь появившиеся учителя стали называть нас на «вы», особенно учитель математики Иван Лаврентьевич. Он вспоминается первым, видимо потому, что его было много. Каждый день в расписании обязательно был русский язык и какая-нибудь математика, или сразу две. Другие учителя периодически болели, а этот приходил всегда. Ровно через минуту после звонка, открывалась дверь, и появлялся он, грозный, как судия, серьёзный и прокуренный, в своем вечном темно-синем, с белой ниточкой, обильно посыпанном мелом и перхотью костюме.
А вот учительницу русского языка того периода совсем не помню, пустое место какое-то. Они или менялись часто, или это была Марина Ефимовна, которой лучше бы и не было вообще. Вспоминается только обида и несправедливость. Помню, в одном изложении я применил вульгаризм, написав, что на поверхности воды мелькнуло желтое пузо акулы, в оригинале было «желтое брюхо». На мой взгляд, оба варианта экспрессивны, может быть второй чуть меньше, а нейтральное же слово – живот даже не упоминалось, но мне это поставили в вину и засчитали отвратительной ошибкой, чуть ли не употреблением матерного слова. Или в другом случае, я написал аэроктивный самолет. Я не знал тогда, что такой самолет движется с помощью реактивной струи, я думал, что в авиации везде применяется приставка аэро, от латинского слова воздух, как например, в словах аэродром, аэронавтика и т. д. Согласен, это ошибка, но одна, а мне засчитали за одно это слово пять ошибок, и поставили двойку (три ошибки за лишние буквы «а», «э» и «о» и две ошибки за недостающие буквы «е» и «а»). Это как? До сих пор считаю, что так может поступить не учитель, а полный идиот. Впрочем, сейчас я понимаю и другое: видимо дураки в нашей жизни играют роль дорожных знаков, когда нужно на что-то обратить особое внимание и запомнить получше. Марина Ефимовна, в частности, со своей непроходимой глупостью, сыграла в моей жизни, да и в жизни остальных учеников, роль дерьма на пашне. Она мне подарила позже одно несказанное удовольствие на долгие годы, но об этом позже.
Очень симпатичной личностью была историчка, Янина Карловна, старая, толстая, добрая немка. Мы рисовали с ней военные карты разных сражений, видно немцам без этого нельзя, нужны им стратегии и диспозиции, но и нам с ней было очень интересно.
Анне Ивановне, географичке, не хватало только белого платочка на голову – типичная деревенская тетка. Грубиянка, но мы на неё не обижались, даже любили. Столь же грубоватым был физрук Виктор Иванович. Он объяснял как-то правила поведения на турнике. Говорил, что девочкам можно крутиться на турнике как угодно, а вот мальчикам нельзя – у них есть болевое место, сучок называется.
К сожалению так и не могу вспомнить, как звали химичку. Она тоже была то ли немка, то ли еврейка, но эсесовка жуткая. Такое было впечатление на её уроках мы не сидели за партами, а стояли в строю по стойке смирно и отзывались только по команде. Она была у нас один или два года, за это время замучила латынью и цитатами от портретов, висевших в кабинете химии. «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие!» «Нефть не топливо – топить можно и ассигнациями!» И тому подобное. При всем при этом, что-то она видимо заложила, потому что химию и в школе, и потом в институте я понимал неплохо.
Еще у нас был интересный рисовальщик. Маленький, толстенький, но со слишком высоко задранным носом. Он появился в середине года и первый урок начал с того, что объявил нам, что он не просто какой-то там учителишка рисования, а настоящий художник, известный своими работами. Он имел авторский барельеф на каком-то заметном здании в Москве и еще что-то. Полгода мы рисовали под его руководством кувшины, потом он пропал, запил, наверное. Ни имя, ни фамилия его не запомнились, но, благодаря ему, я твердо усвоил, что эллипс при любом эксцентриситете не имеет углов по краям.
Все эти преподаватели сменились потом, лишь только одна наша классная дама и одновремённо (как говорил Иван Лаврентьевич) учительница французского языка прошла с нами от пятого до десятого класса бессменно. О мертвых говорят или хорошо, или ничего, но всё-таки в дальнейшем я её буду называть аббревиатурой ОВ / ОВ – военный термин – отравляющее вещество; в быту – Ольга Владимировна/. Она рассказывала нам о Париже и том, как она стажировалась там, в Сорбонне, но слабо верилось, потому что типичный для неё словесный пассаж звучал примерно так:
– Как вы пишите? А? Это ж не буквы, это ероглихи!
Мне до сих пор снится иногда, что я пропустил много занятий по французскому языку и в школе меня поджидает ОВ со злобной ухмылкой. Мысль о том, что у меня есть институтский диплом и школа мне вроде бы и ни к чему, не помогает, и я просыпаюсь в холодном поту.
* * *
Мы идем классом в поход. Троллейбусом до платформы Ленинградская, потом электричкой до Опалихи. Надо пройти через поле, а в лесочке красивые места с костровищами. Ребята с сумками и котелками растянулись по узкой тропинке. ОВ с вечным своим львиным начесом крашеных в ядовито-желтый цвет волос, в ярко-красном пальто и туфлях на каблуках движется по тропинке, как корова по льду. Препятствие – ручей, шириной метра в полтора. Первая половина растянувшейся цепочки уже на той стороне. ОВ прыгать не решается. Некоторые, в том числе родители, предлагают ей руки помощи. Решилась, прыгнула. Недолет сантиметров десять. На поляне мы разводим большой костер, варим кашу и чай. ОВ чистит и сушит одежду.
Поход поскромнее в Снегири. Там стоит старый Т-34 и маленький музейчик. Кто-то из ребят показывает фотокарточку, на ней голая девушка с печальными глазами и растерянным видом, стоя на коленках, опирается на гитару. Я уже сталкивался с такими карточками в поездах – в купе врывается лохматый дядя то ли на самом деле глухонемой, то ли притворяется, бросает на стол пачку своей продукции с голыми девушками и исчезает. Через минуту возвращается, забирает карточки или деньги. Почему у девушки на карточке такой растерянный вид я понял позже, в 1972 году.
Я приехал с матерью проходить медкомиссию в пионерлагерь Чайка. С полкомиссии удаляюсь с возмущением – у меня хотели взять анализ кала непосредственно из попы. Мать часа полтора уговаривает меня (путевка уже взята), а я доказываю ей, что это возмутительно и неприлично. Уговорила.
У меня маленькая московская рогатка. В Туле у меня рогатка значительно мощнее – шариком от подшипника можно убить ворону или голубя, если попадешь, конечно. Московские рогатки из проволоки с резинкой от трусов или круглой резинкой от авиамоделей. Стрелять нужно тоже проволокой, согнутой в галочку. Самый эффектный выстрел по лампочке – приятнейший хлопок с легким дымком. Все горелые лампочки дома и на помойке уже кончились. Я захожу во второй подъезд (генеральский), потихоньку подымаюсь по лестнице и, о радость – лампочка без колпака. Почти не целясь, стреляю. Чпок. И тут же звук открываемой двери.
– Ага! Вот это кто лампочки всё время бьет!
Я кубарем скатываюсь с лестницы.
– Не убежишь! Я тебя видел, вот я родителям то…
В тот же день (бывают же черные дни!) играем с мальчишками в дворе. Кто-то придумал к тонким палкам прибить наконечники – гвозди, бросать и смотреть, как втыкаются. Втыкаются плохо, но между помойкой и домоуправлением нашлись мешки с цементом. Вот в них втыкаются замечательно. Еще и цемент пшикает, как будто взрывается. Было очень весело, пока не выбежал управдом, с физиономией гораздо более красной, чем обычно.
– Что ж вы делаете, обормоты! Мы на последние деньги цемент… Я вас всех переписал! Родители теперь заплатят… (мать, мать, мать) со штрафом!
Мы, естественно, брызнули в разные стороны, но остаток дня я провел в печали, ожидая появления дома представителя соседнего подъезда и управдома.
Я так и не дождался последствий. На следующий день поезд меня увозил в Евпаторию, в п/л Чайка. Я уже знал, куда еду. Ехал я со своим отрядом. С верхней полки спокойно смотрел в окно. Проехали Тулу, Орел, Курск. Ночью какие-то полустанки, похожие один на другой, а утром – совсем другая природа в дымке после ночного дождя и украинские мазанки под соломой.
В лагере в этот раз было уже гораздо веселее. От утренних линеек я отбодался быстро. Линейка (или утреннее построение для поднятия флага) проходила на центральной площади лагеря. Лагерь был большой, по сравнению с подмосковными лагерями даже огромный. Отряды строились многоконечной звездой. Наш отряд располагался далеко от середины и, что происходило в центре площади, не было видно. Зато я видел, как из строя периодически выпадают некоторые, особенно девочки. Я узнал, в чем дело, оказывается у них солнечный удар. На следующий день я легонько симульнул – присел на травку и получил освобождение на всю смену. Вместо линейки я потом бегал на море.
Это было просто чудесно. По утреннему безлюдному пляжу, никого не боясь, деловито бегали крабы. Крупные крабы были в цене, мы их не ели – готовить было негде, но из клешней получались шикарные застежки для пионерских галстуков. После ночных штормов на берег и кроме крабов выбрасывало много чего интересного, фигурные камешки, раковины, плевки засыхающих на солнце медуз. Однажды я подобрал черноморскую акулу – катрана.
Но самым чарующим было одно утро, когда я, выбравшись из зарослей акации на море, даже присел от неожиданности. Корабль! Хотя, казалось бы, чему удивляться? Корабли на море обычное дело. Но это был не просто корабль, это была мечта о флибустьерском дальнем синем море. Прямо на меня шел большой парусник с огромной шапкой белых парусов, слегка подкрашенных утренним солнцем в розовато-оранжевый цвет. Мне было радостно и страшно. Корабль подходил к берегу всё ближе, а я знал, что здесь очень длинная отмель. Однако, не дойдя до отмели (сколько-то там кабельтовых) красавец корабль вошел в крутой бойденвинд (или еще какой-нибудь винд, а может быть оверштаг), показал мне в полной красе свой левый борт и стал удаляться от берега. Я так и сидел на песке, глядя в море, пропустив вместе с линейкой и завтрак. Когда пришли ребята, корабль уже был белой точкой на горизонте.
В один из дней нас свезли в соседний совхоз собирать черешню. Этот день оставил два незабываемых впечатления: огромная, сочная желтая черешня, которая больше шла в рот, чем в ящик, а потом, ближе к вечеру, нескончаемая очередь в туалет.
Всё шло прекрасно, но мне не давал покоя дамоклов меч с цементом и лампочками. Я ждал гневного письма из дома. И наконец, почта пришла. Внутренне содрогаясь и трепеща, я шел получать корреспонденцию, но счастье и в этот раз улыбнулось мне, я получил ласковое письмо от матери с приложением клюквы в сахаре и чего-то еще. Ни управдом, ни сосед из второго подъезда не выполнили своих угроз.
В Москве я летом не задерживался, сразу отправлялся в Тулу.
В эти годы там началась эпопея с голубями. Юрка вдруг воспылал страстью к голубиной охоте и я вместе с ним. Мы построили во дворе голубятню, купили десяток копеечных чиграшей (это московское название, в Туле они назывались по другому), перевязали им крылья нитками и начали воспитывать. Когда, наконец, мы сочли, что наши пернатые подопечные почувствовали себя единым коллективом, а нашу городушку воспринимают, как дом родной, крылья им освободили и позволили летать, а позже и гонять стали.
Кто никогда не имел дело с голубями, не понимают причин азарта, а, на самом деле, эта забава сродни карточной игре. Юрка забирался на крышу и часами сидел там в дозоре. Иногда он орал оттуда:
– Чужой!!!
По этой команде я подымал нашу копеечную команду в воздух. Дальше было напряженное ожидание, вобьется чужой в стаю или нет, а потом сядет ли? Если не сядет, надо поднимать своих опять. Если сел, нужно, чтоб скинулся и зашел в голубятню. Для совсем упорных была пружинная рамка с сеткой.
Подсчет пульки совершался один-два раза в неделю на птичьем базаре.
Выяснилось, что голуби бывают трех основных видов, не считая диких: 1) черно-белые с длинным клювом и голыми ногами (цена им была от десяти до пятидесяти копеек); 2) цветные или чисто белые с коротким клювом и лохматыми ногами, турмана (их цена – от трех рублей и выше) и 3) прочие (почтовые, декоративные…), которые нас не интересовали.
Поймать чужого турмана было очень заманчиво. Ему можно было связать крылья и оставить себе – они очень красивы в полете, турманами их назвали за пристрастие к кувыркам в полете – но такой голубь не всегда попадал в пару, что было важно, и потом, если он сбежал от кого то, скорей всего сбежит и от тебя. Чаще всего чужих несли на базар.
Птичий базар собирался ранним утром возле городского рынка. Не смотря на свою любовь к утреннему сну, я с удовольствием подымался вместе с Юркой. Мы шли с голубиными корзинами по пустым старым улочкам с умытыми росой, прилепившимися друг к другу деревянными домиками. Совсем не слепящее еще низкое Солнце мелькало в листах деревьев. Незабвенная тихая радость летнего утра и предвкушения.
Как бы рано мы не выходили, никогда не приходили первыми – на базаре уже формировались ряды. Мы редко стояли на месте, интересней было ходить – других посмотреть и себя показать. У чужого иногда находился прежний хозяин, но никакой скидки ему не полагалось, хочешь вернуть – плати. Торговался, в основном, Юрка, я же был дюже простый. Спрашивающему о цене он говорил примерно так:
– Четыре с полтиной, как отдать… – при этом слегка задирал нос и раздувался от важности.
Что такое «как отдать»? Я не понимал и плохо понимаю до сих пор. Юрка попугайничал от других продавцов. Наверно это означало готовность скинуть полтинник в случае чего. Но для этого покупатель должен был найти дефект, а это не всем удавалось. На базаре были свои асы, но их уже знали и обычно голубей им в руки не давали – всю торговлю испортит. Однако попадались лохи или грузины.
Грузинами называли всех кавказцев, торговавших на рынке по большей части фруктами и вином. Самая выгодная сделка всё-таки, не смотря на бессеребрянничество и простоту, была моя. Мы тогда уже собирались домой. Юрка куда-то ушел, а я стоял, его ждал, с оставшимся в корзине щекастым голубком, которого не взяли и за гривенник. Подошли два грузина. Они бы, скорей всего, прошли мимо, но я неловко двинул корзину и зацепил одного из них. Он не обиделся, а заинтересовался, долго смотрел на жалкого голубка, потом уставился на меня и спросил:
– Зачем птичку мучаешь?
– Продаю…
Второй попытался его увести. Не смотря на утро, от них явственно попахивало вином. Этот оказался упрямым и не уходил.
– Сколько стоит этот птичка? – и достал из заднего кармана брюк пучок свернутых денег, размером с сигаретную пачку. Я столько денег вместе еще никогда не видел. Ну и обнаглел:
– Пять рублей, – говорю и, подумав, добавил, – как отдать!
Грузин, молча, вытащил из пачки синенькую и отдал мне. Я достал из корзины и передал ему голубя. Он высоко подбросил его в воздух и вальяжно удалился. Показуха – одно из самых слабых мест кавказцев.
Примерно в это же время на рынке обосновался зверинец. На зверей было жалко смотреть – они мучились на жаре в маленьких клетках на колесах. Но другого зверинца в Туле не было и народу здесь всё время толкалось много. У меня тогда появился примитивный фотоаппаратик «Весна». Мы всей компанией ходили фотографировать зверей, печатали по ночам на тонированную фотобумагу, потом приходили переснимать, хвастаясь, чьи снимки лучше. На самом деле непотребством были и снимки и сам зверинец. Медведя там поили водкой за счет посетителей, я так подозреваю, что не только медведя, горилла со слежавшейся рыжей шерстью задумчиво курила «Беломор», периодически предлагая затянуться смотрителю, в общем, полное непотребство или как теперь это называется полный поп-арт.
После очередной продажи голубей здесь же, возле рынка я попал в кино на только что вышедший фильм «Айболит-66». Сначала разочаровался, пока по экрану бродили и что-то пели клоуны, но остальное оказалось совершенно потрясающим. Я такого кино еще никогда не видел. Одного просмотра мне не хватило. Никто из приятелей моего восторга не разделял, и я ходил в кино один еще дней десять подряд, пока фильм не сняли с просмотра.
С Тульским рынком у меня связаны еще два воспоминания. Это было уже году в 68-м. Я немножко поторговал свининой в мясном ряду. Вообще-то торговал дед, а я немного помогал, пока ему надобилось отходить. Поскольку я торговал мясом единственный раз в жизни, этот прилавок живой картинкой стоит у меня перед глазами.
Игра во взрослую жизнь.
У меня образовался лишний рубль, и как серьезному взрослому человеку мне необходимо было его пропить. На рынке была грузинская винная палатка, маленькая, деревянная, похожая на шестигранную афишную тумбу. Там сидел усатый, слегка выбритый человек и наливал вино по двадцать копеек за стакан. Даю двугривенный – получаю стакан, пью. Честно говоря, я пил сухое вино первый раз в жизни и эффект получился примерно такой же, как с пивом в Сандуновской бане – мне не понравилось. Я сморщился и вернул пустой стакан.
– Что? Нэ хароши?
Я достал еще двугривенный и сказал, что возьму еще стакан, если он нальет хорошего. Грузин хлопнул по прилавку ладонью.
– Вай! Молодэц! Панимаешь! – и нацедил мне вина из какого-то дальнего краника.
– Это ж другое дело! – я соврал, конечно, особой разницы я не почувствовал.
– Падажди, дарагой, – в этот раз он совсем уж залез куда-то глубоко, так, что из-за прилавка была видна только его задница, – На дарагой… пей так, дэнег нэ надо!
Я накачался вином так, что возвращаться к деду уже было стыдно, и я ушел гулять и проветриваться.
Примерно в то же время я начал курить. Никакой внутренней потребности не было, но нужно же было выглядеть матёрым. Я купил пачку «Лайки». Были такие кислые, невкусные сигареты, но с фильтром. Я забрался в малину и закурил, стараясь глубоко затянуться. Было плохо и противно, но нужно же. Через неделю-другую привык.
Кстати, о свинине. Она появилась случайно, верней внепланово. Свиней обычно режут к Казанской или, как тогда говорили к Ноябрьским. Я в это времяв Москве учился в школе, к деду приезжал только летом и пару раз на зимние каникулы. А тут свинья загуляла.
У нас свиней любого возраста называли поросенками. В положенное время бабушка варила картошку в большом чугунке, резала её, прям нечищеной, в большую кастрюлю, добавляла туда все пищевые отходы, рыбий жир и кипяток. Некоторое время нужно было ждать, пока всё это остынет. Для проверки следовало опускать палец в кастрюлю до тех пор, когда можно будет терпеть. Вот это период был самым нервным, потому что поросенок всё это время визжал, как резаный, высовывая в щели розовый пятачок. Когда уже терпеть этот визг становилось невмоготу, поросячью еду признавали остывшей, несли в сарай и выливали в деревянную лохань. Операция по выпуску поросенка из закутка была не для слабонервных. Тут выпускающий понимал, что поросенок на самом деле огромная свинья, налегшая всем телом на дверь, чуть только не срывая запор. Нужно было дождаться пока она ослобонит дверь, быстро скинуть крючок и отскочить в сторону. Дверь распахивалась мгновенно, и огромная масса проносилась к своей лоханке, но уже без всяких визгов. Тут уже раздавалось только блаженное чавканье. После еды свинья добродушно ходила по сараю, тихо похрюкивая, и любила пообщаться, чтоб её почесали в разных местах, особенно за ушами. Уходила к себе в закуток неохотно, почти уж совсем засыпая.
И вот она загуляла. В один из дней, получив еду, вышла спокойно понюхала и ушла к себе в закут. Назавтра – тоже. Вызвали ветеринара, а вдруг заболела? Диагноз тот поставил простой – либо крыть, либо резать. Совещались все взрослые, и даже соседи. Видно подходящего борова не оказалось. Решили резать.
Убивать своих животных не просто, если не сказать хуже. Пригласили резаков. Главным резаком выступил отец Хомяка. Он принес с собой австрийский штык и долго точил его в сенцах. Больше одной стопки самогона не наточил. Резаки ушли в сарай, мы остались ждать. Первая попытка оказалась совсем не удачной. Свинья сбежала во двор и бегала там, громко вопя. В конце концов, нам всем пришлось её держать. Все было крайне неприятно и хлопотно. Когда свинья уже висела, привязанная за задние ноги к косяку сарайных ворот над тазом с кровью, резаки ели её опаленные уши и хвост. Говорили – традиция такая, но даже смотреть было противно. Выпили при этом еще две-три стопки и ушли.
Потом был очень вкусный холодец, вернее стюдень. Я тогда единственный раз в жизни ел великолепное русское блюдо. Берется свежий свиной желудок, промывается, как следует, туда кладется сырая гречка с кусочками сала и мяса, и специи. Желудок зашивается и кладется в горячую русскую печку или в печную духовку, как это имело место в нашем случае. И все это, холодец в том числе, с хреном, с хреном! Изумительно!
Дед тогда засолил в бочке сало, а мясо, то, что не продалось, съели сами.
* * *
Я стою возле забора, в саду, и вдруг теряю сознание. Почти сразу очнулся. Что это было?
Мотокросс на Красном Перекопе. Мотоциклы взлетают в ошметках грязи. Мы на велосипедах тут же играем в Арбекова. Тоже все в грязи.
В Туле активный аэроклуб. Почти все время в небе спортивные самолеты и планеры. Ан-2 бросает парашютистов. А с полигона оружейного завода всё время грохочут скорострельные зенитные пушки. Не по самолетам – просто испытания.
Возвращаемся из лесу через поле. Начинается сильный дождь. Под проводами молния бьет в столб прямо над моей головой.
На одном из прудов у кирпичного завода. Голые глинистые берега, но чистая вода бирюзового цвета. Мы с Химиком прыгаем с высокого обрыва в глубину не больше полутора метров. Лишь немного обдираем животы. Пытаемся научить Юрку плавать. Едва не утопили. Гоняется по берегу за нами и размахивает кулаками.
Раннее утро. Самый рассвет. Выходим с удочками на Упу ловить рыбу. Путь не близкий. Идем по ухабистому проселку. В восходящем солнце старая деревня. Вне времени. Зелеными клубами вековые ивы. Такие же точно деревни были сто, двести, триста и еще бог знает сколько лет назад.
На славной речке Упе не клюет, а мы рассчитывали варить уху. У нас никаких припасов, кроме хлеба и соли. Химик опять придумал, что делать. Сажаем на крючки кусочки травы и ловим в камышах лягушек. Из огромного количества лягушачьих лапок варим суп. Очень вкусно, похоже на курятину. На закуску едим турнепс с поля (коровья репа) – по цвету и запаху похоже на капустную кочерыжку.
Уже из Москвы едем с отцом на рыбалку в Солнечногорск (если он уже тогда так назывался, или тогда еще Подсолнечное?). На берегу Сенежа Дом офицеров курсов «Выстрел». Ночуем среди зеркал на мягких диванах артистической уборной. А утром в тумане выходим в лодке на озеро. Прямо через нос лодки перепрыгивает большая рыба. Возбуждаемся этим и спешим поскорей встать и начать ловить. Встаем возле камыша на якорь и забрасываем удочки. Мимо проплывают другие рыбаки. Слышим уважительный шепот.
– О… Смотри! На карпа встали.
– Ты понял, на кого мы тут встали? – говорит мне отец, когда те отъехали. Он тогда еще был таким же аховым рыбаком, как и я.
Не поймали мы в тот день ни хрена.
Последний раз я ездил в пионерский лагерь под названием Тельмановец. Располагался он где-то под Москвой и принадлежал фабрике им. Тельмана. Пристроила меня туда, понятно, мать то ли через министерство, то ли непосредственно. По блату меня поместили в первый отряд, хотя я был на год младше остальных. Скорей всего именно через министерство, потому что вместе со мной поехал симпатичный еврейчик Аркадий, родители которого трудились в Минлегпроме. Сначала мы с ним дружили, потом мне пришлось выть по-волчьи, называть его Абрамом и даже в какой-то мере глумиться. Стыдно до сих пор, но в подростковом возрасте сопротивляться среде невозможно. А среда оказалась настолько чужеродной, что тульская моя компания показалась мне оттуда салоном м-м Шерер.
Основным занятием в лагере была игра в секу (или сику, оно же «тридцать три»). Это (и многое другое) роднило этот пионерский лагерь с взрослыми лагерями, во множестве разбросанными по территории России. Играли в основном на сигареты, но и на деньги тоже. Я несколько раз снимал большой кон на «сваре». Однажды с выигрыша приобрели водки, и я браво выпил чекушку из горлышка и почти без закуски. Ох, и колобродил я весь вечер! Свое состояние тогда я могу сравнить только с сотрясением мозга, перенесенным в раннем детстве. Ночью, в палате, я, вернее мы, потому что орали все мои соседи по палате, жутко оскорбили соседнюю палату, где размещались самые старшие и уважаемые «пионеры», назвав их «соски говяжьи». Обвинили потом меня одного, скорей всего, потому что я был чужой. «И бысть сеча велика».
Выглядело это так. Проводился общелагерный большой прощальный костер. В качестве почетного гостя присутствовал бывший пионер, только что освободившийся из зоны. Чуть в стороне от костровой поляны на берегу небольшой речки он сидел на возвышении берега, как на троне и разводил народ по понятиям. Обиженные пожаловались на меня, и авторитет рассудил, что спор может решить только поединок.
Все расступились кружком, и против меня остался коренастый и довольно широкоплечий малый. Драка началась сумбурно. Я никогда не любил драться и, сначала, только защищался, пока во мне не проснулось какое-то бешенство. Нас разняли, когда я своего визави начал топить в ручье. Авторитетное жюри никак не могло определить, победил я своего противника или, все-таки ничья. Я думал, что разборка закончена и собирался уходить, но мне назначили еще одного…
Вот тут произошло, первый раз на моей памяти, необъяснимое событие. Я понял, что может быть выставлен и третий и, что меня рано или поздно добьют, я уже после первого дышал с трудом, а тут подходят свеженькие… мне казалось, что он идет ко мне слишком медленно и вальяжно, он был уже в плечах, чем предыдущий, но на голову выше меня. Удивительно, но всяческий страх пропал, и когда противник достаточно приблизился, я, вроде бы легко махнул кулаком. Кулак соскользнул со скулы на шею, я помню, подумал, что слабовато получилось, но длинный упал на задницу, потом вскочил и убежал из круга. Этот вроде бы слабый удар произвел на зрителей ошеломляющее впечатление. Никого, желающих со мной драться, больше не нашлось.
В ту ночь я второй раз ощутил на себе эффект резинового времени. Позже я расскажу об этом подробнее, как уже обещал, когда описывал свой героический прыжок с трамвая.
Оставшиеся несколько дней все, кроме друзей из палаты, заискивающе здоровались и старались обходить меня стороной. Аркадия я взял под свою защиту и он опять стал Аркадием, правда высказал на прощанье, что Аркадий и Абрам – это одно и то же.
Летом 68-го года я прожил не меньше недели в Киеве. Отец был там в командировке – организовывал СКДА (спартакиаду дружественных армий, Варшавского блока). Он тогда уже был главным инспектором по спорту в Сухопутных войсках. Мы жили с ним в лучшей гостинице Города, на площади Жовтнэвой рэволюции (ныне почему-то Майдан Нэзалежности). За всё время я провел вместе с отцом только полдня. Он тогда свозил меня на стрельбище в Кончу Заспу, пострелять из калаша очередями по падающей мишени. А так, он уезжал утром, пока я спал, а приходил уже поздно вечером.
Днем я болтался по Городу в своё удовольствие.
В гостинице жили солидные люди, иностранцы важно разгуливали по холлу, дымя настоящими гаванами, которые тогда они могли купить только в Союзе из-за американской блокады Кубы, или из-под полы по бешенным ценам (а у нас Корона стоила сорок копеек в любом киоске).
Я бродил по Крещатику в тени каштанов, на Бессарабке ел вареную кукурузу. Завтракал я возле ближайшего метро. Автомат за пятак наливал стакан молока, а соседний за ту же сумму выдавал булочку. На удивление, все продукты на Украине оказались дешевле, чем в России. За двадцать копеек еще в одном автомате (но уже ближе к вечеру) я выпивал стаканчик газированного вина. Настроение и без вина у меня было прекрасное, особенно веселили уличные надписи на украинском языке. Некоторые были понятны, например «идальня», понятно, хотя и слегка смешно, а вот сердитое слово «перукарня», тоже ассоциировалось с едой, что-то вроде пекарни (позднее оказалось парикмахерской). И уж совсем приятно было прочитать на вывеске: «Панчохи и шкарпэтки».
Сходил я в Лаврские «печеры». Не знаю как сейчас, но тогда пещеры, как пещеры, без какого-нибудь антуража плохо освещенные земляные ходы с маленькими нишами в стенах, в которых лежали тряпичные кульки. Я не сразу понял, что это мумии. Потом стал читать надписи в нишах: монах такой-то, летописец такой-то, какие-то чины церковной иерархии, в которых я никогда не разбирался и вдруг… Илья Муромец! Удивление, непонимание, даже растерянность. Сейчас уже, когда я на 99, 9% уверен, что, например, великий святой православной церкви Александр Невский вовсе не был христианином, мне понятно, что очень лестно хозяевам Лавры и всей РПЦ сделать в доску своим еще и былинного героя Илью Муромца, повесив этикетку на кого попало, но тогда это ввело меня в полную растерянность – маленькая мумия, в районе полутора метров ростом… и это былинный богатырь? Говорят, что мумии усыхают за многие века, но почему не усыхают кости динозавров за миллионы лет?
Но это всё мелочи. Киев, как город в смысле неодушевленно-материальном и в чисто человеческом мне очень понравился, и та поездка остается одним из лучших воспоминаний в моей жизни.
Осенью ездили с родителями в белее менее дальние поездки: в Суздаль, Константиново, на дачи к знакомым. Особое осеннее удовольствие – Октябрьская демонстрация. Сколько бы сейчас не говорили о душной атмосфере тоталитаризма, тогда было весело и на демонстрации люди ходили с удовольствием. С нашей стороны Москвы собирались возле стадиона Динамо. Оттуда колоннами шли на Красную площадь и дальше, через мост, до Новокузнецкой, где можно было спуститься в метро. На бульварчиках Ленинградского проспекта стояли временные фанерные туалеты, но на Белорусском была ловушка – мы с ребятами пили там подогретый легкоалкогольный вишневый напиток из квасной бочки, а дальше, на тогдашней улице Горького никаких туалетов уже не стояло.
Почему то мне не очень хочется рассказывать о сексуальных опытах. Дело даже не в том, что я испытываю какое-либо стеснение или стыдливость. Может быть в юности испытывал, но в том возрасте, в котором я нахожусь сейчас, все половые отправления кажутся простым и естественным делом, как поесть, попить или сходить в туалет. Я совершенно спокойно отношусь ко всякого рода половым отклонениям и извращениям – каждый по своему с ума сходит, личное дело каждого, но мне почему-то претит выпячивание некоторыми людьми своих сексуальных пристрастий. Ну, пидор ты (прошу прощения – гей) или там садомазохист или лесбиян, твоё дело, но зачем выставлять это напоказ? Зачем ходить в спецодежде и устраивать гейпарады? Это дело интимное и даже простые гетеросексуальные отношения не любят света.
Конечно, без этой составляющей описание жизни будет неполным и, хочу я или не хочу, а буду касаться этого вопроса, но, простите меня, физиологизмов я постараюсь избежать. Согласитесь, даже подсматривая сквозь замочную скважину, всех подробностей рассмотреть невозможно.
Россия – страна крайностей. У нас: то царь батюшка и крестимся все на каждую колокольню, то вдруг не верим ни во что и дружно плюем на иконы; то коммунизм и все запрещено, а то капитализм в самой дикой форме и воруйте ребята сколько хотите. В области народного образования, когда-то существовало мнение, что мальчиков нужно обучать отдельно от девочек, потом решили, что только вместе. Мое школьное учение проходило в крайней фазе этой совместности. Каждая парта должна была быть гетеросексуальной – только мальчик с девочкой.
Как раз в период полового созревания мне попалась соседка по парте. Назову её, к примеру, Марина. Странная была девочка. Прямо во время урока я мог запустить руку ей под юбку и даже дальше, она не давала какого-либо отпора, но и поощрений я не чувствовал, в ответ на мои действия она только странно улыбалась. Её пассивность только и удерживала меня от эскалации отношений.
Летом, несколько повысив свою сексуальную образованность, я решил, что всё теперь будет по-взрослому. Например, дежуря по классу после уроков, вставил в дверную ручку швабру и делай что хочешь! Да мало ли укромных уголков в школе? Однако первого сентября меня ждал облом – Марина переехала в другой район и в нашу школу, естественно, ходить перестала. Зато меня ждало другое, истинно любовное переживание… но обо всем по порядку.
Прямо перед школой в то лето закончилось строительство жилого дома. Благодаря этому наш класс пополнился на пять человек. Пришел странный пай-мальчик Мак, когда он раздевался перед физкультурой, выяснилось, что на нем чулки с лифчиком. Меня таким образом одевали в детский сад, а он так проходил до десятого класса (не в состоянии был противиться бабушкиному вкусу). Пришли Гомочка и Сучок, с последним мы серьёзно подружились, правда, после восьмилетки он ушел в техникум. И пришли две Галины, которые потом так и ходили парочкой. Одна из них зыркнула один раз в мою сторону и я пропал.
Я не знал, что любовь зараза,
Я не знал, что любовь чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.
Дальше я не буду называть её по имени. Называть я её буду – Скво.
С этих пор я стал немного чумовым, как будто на бычка надели седло. Я никогда, даже в разгар тинеджерства не был односторонне грубым. Я мог иметь в карманах кастет и финку и при этом общаться с людьми вполне вежливо и вполне искренно получать от этого общения удовольствие. Я мог в понедельник вечер провести в хулиганской компании, выпить портвейну и подраться, а на следующий день, во вторник, после школы в одиночку пешком дойти до Красной площади и бродить до закрытия по залам Исторического музея. Или по Третьяковке, по Пушкинскому музею.
Каким-то таинственным образом влюбленность связана с музыкой. Я уговорил родителей купить гитару и стал добросовестно учиться играть. Первым моим учителем был отец. Он научил меня играть несколько довоенных песен цыганским перебором. Гитары тогда продавались только семиструнные. Звучание было посредственным, но от неё так изумительно пахло клеем и лаком. Семиструнная гитара, особенно на цыганском строе звучит много приятнее стандартной шестиструнки, но когда я появился в обществе, со своим репертуаром, то оказался неактуален. Пришлось убирать седьмую струну и учиться играть по-новомодному: блям, блям, блям.
Параллельно музицирование тесно связывалось с магнитофоном. У нас дома был тогда магнитофон Яуза-5, двухскоростной, вполне современный. Родители записывали песни с новогодних и прочих «голубых огоньков», репризы Райкина, песни Робертино Лоренти.
Однажды я принес домой две пленки. Мне их дали переписать на один вечер. На одной кассете были записи с концертов Высоцкого, на другой – Битлз.
Высоцкий стал очень популярен после фильма Вертикаль. До этого просачивались отдельные песенки, но мы их слушали и даже пели, например, про «Опального стрелка», не зная автора, не выделяя из общего самиздата Галича, Клячкина и проч. Но после фильма пошел ажиотаж – из многих окон раздавался простуженный хрип, слов было не разобрать, но все слушали и балдели. Достать полную катушку с довольно качественной записью Владимира Семеновича было большой удачей.
Что касается Битлов, то они тоже были тогда в моде. На всех танцах народ остервенело трясся под «Кент бай ми лав». Мне лично эта бешенная песенка никогда не нравилась, хотя некоторые другие волновали, к примеру, «Ран фо ю лайф», «Хелп» или неспешные такие как «Гёл» или «Мишель». Все равно это было совсем не то, что Высоцкий, с которым я впервые узнал, что от слушания песни могут бежать мурашки по спине.
Одним словом нужно было срочно переписать две пленки, но для этого одного магнитофона мало! Пошел к соседу Саше, другу с младенчества. У них, при всем их богатстве, оказался единственный магнитофон, верней магнитола – здоровенный ящик в котором магнитофон прилагался к ламповому радиоприемнику. Самое плохое в этом электронном мастодонте оказалось то, что он имел единственную скорость – 19 м/мин. Запись на принесенных пленках была в два раза медленней. Можно было, конечно, воспроизвести на моем магнитофоне, а записать на большую скорость, но тогда понадобилось бы в два раза больше пленки, а где ж её было взять? Нашли соломоново решение: включили и то и другое на большой скорости и в течение примерно двух часов терпели полную какофонию типа «три бли-бли, бум-бум». Зато в результате получилась вполне приемлемая запись. Тем не менее, скорости, видимо совпали не совсем, и через год, другой я очень был удивлен, узнав, что Высоцкий и Битлз поют несколько медленнее и ниже по тону.
Что еще бывает постоянным сопровождением влюбленности? Ах, да – танцы.
С танцами у меня всю жизнь незадача. Тогда еще не было дурацкого слова «дискотека», сборища молодежи с законным правом полапаться под музыку назывались просто танцами, но красивые танцы уже уверенно уходили в прошлое. Буги-вуги, твисты и чарльстоны начала шестидесятых годов, которые еще отдаленно напоминали танец стали вытесняться совсем уж разнузданными африканскими ритмами. Как это ни прискорбно, но талантливейшая, замечательная группа Битлз революционизировала это безобразие и окончательно вытеснила русскую культуру танца и пения, по крайней мере, из молодежной среды.
Вакханалия африканской тряски во время мероприятия периодически сменялась медленным танцем (так называемый «медляк»), когда партнеры висли друг на дружке и бессистемно перемещались по залу, качаясь влево-вправо. Девушки одевались на танцы по-разному, а молодые люди имели дресскод. Обязательными были брюки-клеш / Широкий клеш болтался по земле и, чтобы материал не протирался, снизу пришивалась металлическая молния. А особо одаренные пришивали понизу маленькие лампочки, имея в кармане батарейку с кнопкой. В темном зале эффект был умопомрачительный. /, цветастая рубаха с длинным воротником и длинные волосы сзади. Пиджака могло не быть вообще. Никого уже не называли стилягами – этот дресскод в отличие от предыдущих коротеньких брюк-дудочек органично сочетался со стилем пролетарского андеграунда.
Кстати о стилягах, сейчас их пытаются романтизировать, изобразить эдакими святыми мучениками за веру. В то время их действительно ругали официальные источники, рисовались на них карикатуры и т. п. но это всё был зря потраченный порох – их и так не любили в народе. Били их вовсе не в милиции, а ребята на танцах или где-нибудь еще. Прежде всего, кто они были на самом деле? Мальчики-мажорчики с большими родительскими деньгами и некоторые дурачки победнее, пытавшиеся как-то соответствовать, но эти уж смотрелись совсем смешно. А главное: образ стиляги совершенно не соответствовал образу настоящего мужчины (девочек стиляг не существовало в природе). На танцы гораздо приличнее было появиться в телогрейке и кирзовых сапогах, чем в брюках дудочках.
Брюки-клеш у меня конечно были. Чтобы построить себе такие штаны, нужно было купить в магазине соответствующий материал и отнести его в ателье в доме напротив. Всё вместе обходилось в 25 рублей. Длинные волосы мне никогда не шли, но я пытался их отращивать. Приходя на танцы выпивал с ребятами положенное количество портвейна и болтался в толпе у сцены, но всё это мне не нравилось, и, несмотря на легкое опьянение, было перманентно стыдно.
Да, любовь, любовь…
А что вообще такое любовь? Из-за чего мы так мучаемся, особенно в юности?
Именно любви посвящены почти все стихи и романы. Тосты за любовь пьются стоя и до дна. Я уже говорил, что последнее время перестал уважать науку, но нельзя её не упомянуть, потому что тысячи и тысячи научных томов посвящены этому вопросу и все «за». Особенно доктор Фрейд. Философы, начиная с Платона, посвятили этому массу своего драгоценного времени. Христианство вообще проповедует любовь, как высшее благо, говорит, что сам Христос это любовь. Поэтому я прекрасно понимаю, что мне придется писать против ветра, но смолчать не могу.
Кто спорит – любовь действительно дарит нам, может быть, счастливейшие моменты в жизни, но ведь и самые горькие испытания тоже. Самые безумные поступки вплоть до гнусных убийств и самоубийств совершаются под воздействием именно этого яда. Там где любовь, обязательно рядом с ней ревность, страх потери, корысть и многое другое.
Главный недостаток всех исследований и разговоров о любви состоит в том, что никто обычно даже не пытается дать этой самой любви определения, дескать, все и так знают. Всем возрастам это знакомо и что в этом лишний раз колупаться, определяться в предмете. А здесь, как раз, собака-то и зарыта. Давайте попробуем определиться.
Во-первых: все называют любовь чувством, а это не совсем точно. Чувство голода, холода, чувство опасности, чувство сытости, наконец, эти все явления быстро проходящи. Согрелся – появилось чувство тепла, поел – чувство голода сменилось чувством сытости. Даже чувство глубокого удовлетворения, как выяснилось, не продолжительно. А любовь, однажды появившись, просто так не проходит. Она, безусловно, не вечна, но и избавиться от неё по собственному желанию невозможно. Её невозможно удовлетворить.
Предвижу в этом месте скабрезную усмешку некоторых, но, на мой взгляд, люди, которые считают, что любовь и оргазм одно и то же, достойны всяческого сожаления. Исходя из вышесказанного, любовь нельзя назвать чувством, я бы назвал её более общим словом – состояние. Состояние, понятие более продолжительное по времени, хотя и такое же неопределенное как по объему, так и по срокам. Пробуя приблизиться к определению любви, можем сказать, что это состояние приязни к некоему другому лицу. Правильно? Я не говорю, мужчины к женщине и наоборот, потому что любовь еще бывает гомосексуальная, материнская и наоборот сыновняя, братская, религиозная, да и мало ли еще разновидностей.
Во-вторых: есть ли какая-нибудь видимая причина возникновения любви? Я игнорирую причины физиологические, потому что не считаю любовь явлением физиологическим, тут нужно брать выше. Например, вы кого-то очень любите, боготворите просто и что? ваш предмет любви – это действительно самый лучший человек в мире? Нет же, это сама любовь делает его самым лучшим, гипертрофируя его достоинства и скрывая недостатки.
Хорошо еще если предмет любви действительно красив, добр, умен… э сеттера. Но бывает совсем не так, ой как бывает! И при этом, все окружающие с недоумением смотрят на то, как некто носится со своим предметом любви, как курица с яйцом, а предмет-то… «обыкновеннейший крокодил». Я думаю, никто не будет возражать, если я скажу, что причины возникновения любви или нет совсем, или она настолько завуалирована, что найти её совершенно не представляется возможным и нам следует считать любовь беспричинной.
В-третьих: одновременно с любовью всегда возникает нечто, чего никак нельзя считать её противоположностью – это ревность.
Противоположность любви – ненависть, она возникает, когда любовь заканчивается, как прозрение, вернее как месть за прозрение. А ревность живет вместе с любовью, как продолжение и дополнение её и не может быть не включена в определение самой любви.
Итак, попробуем сформулировать:
Любовь – это состояние человека, характеризующееся беспричинным чувством приязни к другому лицу, стремления к нему и всепрощения ему всех недостатков. Одновременно, это состояние агрессивности ко всем лицам и обстоятельствам, посягающим на предмет любви.
Вроде бы ничего не забыли?
Но, согласитесь, это больше походит на определение психической болезни. Тем не менее, разве не правда? Я старался быть как можно более объективным. Я не претендую на исчерпывающую формулировку, это просто рассуждения на тему о… Однако, так я рассуждаю сейчас, а тогда я искренне любил, сходил с ума и проч. А как могло быть иначе? Кто я тогда был? Прыщавый мальчишка, школьник с одними желаниями без особых возможностей.
Чего я, собственно ждал от неё, от неожиданно образовавшегося моего идеала? Что хотел получить? Самое интересное, что – ничего!
Чего мы все ждем от любви? Почему большинство людей никогда не удовлетворяется достигнутым? Приходит, предположим, некто с условным именем Ромео к своему вожделенному идеалу и говорит:
– Джульетта, я люблю тебя!!!
Какого продолжения он ждет?
– Ромео, я тебя тоже люблю!!!!!
И всё? Нет не всё. Дальше она должна броситься на шею любимому. Теперь всё? Нет, конечно – потом они идут в спальню, раздеваются и получают неземное удовольствие безумной страсти. Ну, вот теперь всё? Нет опять не всё – потом еще раз и еще и еще… Согласитесь, это вполне обычная мечта влюбленного мужчины или юноши. Он еще может себе представить, как они будут жить вместе, он ей будет дарить цветы, а она его будет ждать дома, стирать носки и готовить обед. Но, что же в этих мечтах неземного? Это обыкновеннейший прагматизм. Для стирки и готовки можно нанять домработницу. Всё остальное тоже продается и покупается.
Ну, хорошо пойдем с другой стороны, со стороны девушки. О чем мечтает она? Она видит себя в белом платье в окружении подруг с завистливыми минами, и при этом, она уходит от них вдаль, в розовый туман под ручку с красавцем… Потом, вдруг монтаж и она уже над колыбелькой бэби, потом еще одного, и еще. Но это такой же прагматизм. Ничуть не лучше.
Почему же, получив всё это, люди не удовлетворяются? А продолжают мечтать о чем-то еще несбыточном и неясном? Повторяют попытку еще и еще раз и опять впустую?
А потому что за этими прагматическими ожиданиями, на самом деле, стоит нечто еще, нечто другое и поистине неземное. Мне лично повезло и не повезло одновременно. Я не хотел от Скво ничего, ни поцелуев в постели, ни свежепостиранных носков. Я видел и чувствовал это самое нечто стоящее за прагматизмом, вернее выше его. И кроме этого нечто мне ничего было не нужно.
Что есть такое это нечто почти невозможно объяснить простыми человеческими словами. Это материнская нежность к еще не родившемуся ребенку. Это ожидание счастья. Это тепло Земли и музыка утренней зари в горах. Это сон. Это потерянный рай. Это возвращение домой из путешествия, длинною в жизнь!
Я, конечно, мог купить цветов, прийти к ней, встать на одно колено и объясниться в любви, но что было бы дальше? Собственно, два варианта:
«Пастух, я не люблю тебя».
Приди в мои объятья!
Но оба варианта разрушили бы мечту. Мне нельзя было говорить о любви. Мне оставалось только ждать и надеяться, что нечто произойдет само собой, что у неё вдруг откроются глаза, и она сама поймет, что в жизни существует Нечто и оно находится где-то рядом со мной.
Впрочем, к теме любви мы еще вернемся.
Тем более что я сейчас заведомо лукавлю в своей формулировке любви по поводу того, что любовь беспричинна, причина есть и я её знаю, но об этом позже.
9. Внетелесные путешествия
В конце каждой части этого правдивейшего повествования я решил еще раз вспоминать о необычных и непонятных происшествиях, изложенных мной.
Итак:
1. ВТП в детстве матери не подлежит никакому сомнению (напоминаю, что ВТП – это внетелесное переживание или путешествие). Это событие неоднократно упоминалось в нашей семье. Более того, пока мать была жива, это можно было вспоминать при первом же взгляде на неё – на щеке её всю жизнь оставалась метка, красное пятно на том месте, где её погрызли свиньи, пока она лежала мертвой.
2. Сон с облаками в изоляторе на даче детского сада. Он мне долго помнился и не давал покоя, лишь недавно я понял его смысл. И уж совсем на днях я прочитал в интернете, что это явление было не только у меня. Примерно в этом же возрасте – около пяти лет – это случается со многими, может быть, в несколько иной форме.
3. Мягкое падение на рельсы трамвая. В суете погони за своей сумкой я почти не обратил внимания на этот феномен, я осознал его несколько позже. Лет пять назад аналогичным образом я ушел от серьезной опасности на мотоцикле. Об этом я расскажу в соответствующей главе.
4. Карточный фокус в Туле. Это явление менее загадочное, по крайней мере, более привычное. Это сродни гипнозу и прочей телепатии.
5. ВТП с приятелем на песке. С тех пор я ни разу его не повторял, но явление это известно многим. Даже заложено основой сюжета нескольких фильмов.
6. Чудесный удар в пионерском лагере. Это явление сродни п. 3 и случалось со мной не менее пяти раз. Я об этом буду говорить дальше. А сейчас давайте поговорим о самом интересном явлении, что можно пережить на своем веку – о внетелесных путешествиях.
После ухода из жизни родителей я очень переживал и много думал о жизни и смерти. Тогда мне попалась американская книжка о воспоминаниях людей после клинической смерти. Автор описывает в ней рассказы своих пациентов в состоянии между жизнью и смертью и находит в них много общего между собой, особенно запоминается темный туннель с просветом впереди. Я никогда не видал этого туннеля, но всё остальное при ВТП похоже на описанное в книге.
Собственно, рассказ моей матери о том, как она умерла после удара о железяку в детстве, как её грызли свиньи, как её несли к дому собравшиеся люди, а она летела сверху над ними и смотрела на них, это как раз из цикла предсмертных переживаний. Но эти переживания мало чем отличаются от тех, что происходят во сне, в результате медитаций и других способов, не предполагающих приближения к смерти. Эти опыты поэтому называют не предсмертными переживаниями, а просто внетелесными, сокращенно – ВТП.
Первый раз я сам испытал ВТП в третьем классе, когда мы с приятелем баловались в детской песочнице, перекрывая по очереди друг другу дыхание руками сзади. Честно говоря, я так и не вспомнил, что я видел «там», хотя очень хорошо помню сам процесс.
Зато видения при обмороке от потери крови в памяти сохранились полностью. У меня было несколько таких случаев. Один из них произошел на донорском пункте районной поликлиники. Я о нем расскажу в своё время. Но, конечно, главные опыты мои по ВТП были уже осознанными осенью 2008 года и позже.
Как это происходит?
Нужно сесть в удобное кресло или лечь на кровать, полностью расслабиться и прекратить внутренний диалог. Большинству людей этого очень трудно достигнуть. Если не получается, то можно заменить внутреннюю болтовню повторением каких-либо необязательных и мало что значащих слов, например, можно повторять мантры: Оум манэ падмэ хум… оумманэ падмэ хум… и т. д.
Полностью расслабленное физическое тело вдруг становится очень твердым и даже, как бы хрупким, вроде камня или чугуна. Тут же появляется ощущение, что к телу подведен переменный ток с частотой в 20—30 герц от громко гудящего прямо в уши трансформатора. Даже больше звук походит на жужжание электросварки. Это сопровождается зрительным ощущением хаотического движения искр вокруг вас или чего-то похожего пламя.
После выхода все неприятные ощущения пропадают. Некоторые люди просто выходят вверх или в сторону и видят своё тело рядом с собой, но я почему-то сразу попадаю совсем в другие места.
Все люди каждый день проходят через это во сне и, благодаря отключению чувств, никаких неприятностей не испытывают. Поэтому просыпаться во сне гораздо проще и приятней. Единственное условие: нужно осознать себя спящим и абсолютно сознательно взять на себя контроль за происходящими событиями. Но это не так просто, у подавляющего большинства людей это не получается.
Самый простой способ выхода – медитация. При закрытых глазах нужно визуализировать экран телевизора или компьютера (кому что ближе), после того как на экране появится нужное вам изображение, нужно просто войти в экран.
Рассказывать о своих путешествиях «там», на мой взгляд, совершенно не интересно, хотя у Кастанеды и Роберта Монро получалось вроде неплохо. Некоторые другие тоже пробуют. Что касается меня, то единственное, что я хочу, могу и должен сделать, это поделиться с другими своими знаниями и выводами из этих знаний:
Я не открываю Америки, многие из разных источников слышали об этом. Уверяю Вас, что таким людям как Кастанеда, Монро, Л. Рампа, Вебстер, Рерих, Блаватская и даже Иоанн (автор Апокалипсиса) вполне можно верить. Все они наверняка видели то, о чем говорят.
Главное, в чем нужно отдавать себе отчет, когда читаешь такие рассказы, это то, что увиденное там, никогда нельзя считать абсолютом. Почему-то возникают искажения, связанные с личностным взглядом на вещи, один и тот же объект может выглядеть для одного растением, для другого – человеком, для третьего – монстром каким-нибудь. В изначальном же виде это лишь вихревые потоки энергии. Однако есть вещи для всех одинаковые и неоспоримые.
Что мы видим там? Где это всё находится? Это самые сложные вопросы.
У меня есть все основания полагать, что физический мир, в котором мы живем, вовсе не уникален, есть еще и другие, многие из которых похожи на наш, но есть и совсем иные. Например, один из миров, которые я видел, имеет постоянно красное небо без солнца и, не смотря на это, густо заселен и людьми, и животными, и растениями.
Местонахождение этих миров определить невозможно, такое впечатление, что все они здесь и сейчас.
Есть очень большие основания полагать, что наш физический мир искусственен. Во всяком случае, понятия массы, пространства и времени иллюзорны и действуют только в физическом мире.
У меня сложилось такое впечатление, что не только каждый выбирает место посещений, но и видит само это место через дополнительную призму индивидуального восприятия, как бы со своей колокольни. Один и тот же объект может выглядеть по-разному, в зависимости от того кто его наблюдает. Это зависит, на мой взгляд, прежде всего, от эгрегоров: от национальности, религиозности, партийности и т. п. К тому же, это всё вообще, очень странно и трудно поддается описанию в цифровом формате.
Чаще всего я попадаю в места похожие на Москву пятидесятых годов. Я уже сказал здесь про Покровские ворота. Однажды я встретился со своими покойными родителями на Ленинградском проспекте, рядом с Аэропортом. Место легко узнаваемое, но ни одного нового строения там не было, а вся широкая проезжая часть заросла травой, сейчас эта трава пропала, а раньше, хотя бы в шестидесятых годах она доминировала во всех деревнях – мелкая, густая и очень пахучая ромашка. По протоптанным в траве тропинкам бродили куры и гуси. Родители выглядели лет на 30—35.
Еще раз повторюсь, что это видимо, мое личное восприятие, в реальности это вряд ли выглядит именно так, и вообще, имеет какое-либо значение. Прежде всего потому, что мой личный антураж, я могу менять там по желанию мгновенно. Можно раздеться или переодеться во что-нибудь особенное, например, в военную форму, а можно и вообще убрать тело. По желанию можно создать что угодно – дом, стол, накрыть этот стол скатертью, поставить на него любые угощения; есть, пить курить и проч. Ощущения те же, даже выше, уровень реальности выше.
Как-то я решил привлечь к своим знаниям жену. Я встретился с ней на её родине – в Барнауле (во всяком случае, город был очень похож на него, на улицу рядом с городским парком). Кстати, в тот раз я впервые раздвоился, я учил её плавать и был с ней под водой, но одновременно наблюдал за происходящим с берега. Фантастическое ощущение.
Я спрашивал несколько раз у жены, понимает ли она, что это не сон и осознает ли происходящее. Там она всё понимала, но утром так ничего и не смогла вспомнить.
Никто из ученых так до сих пор и не ответил на вопрос о том, что же такое сон? и зачем он нужен не только людям, но и животным, собственно, всему живому. Почему мы легче можем прожить без еды, чем без сна?
Они представляют нам человека как некую химическую машину, поглощающую разные химические вещества из пищи, из воздуха, а потом выбрасывающую отходы производства. В эту картину сон никак не вписывается. Это не отдых для тела. Согласитесь, мы иногда просыпаемся более усталыми, чем ложились. Бывает такое.
Есть мнение, что некоторая часть человека во время сна, оставляя тело в постели, уходит куда-то по своим делам, а телу ставит посмотреть фильм под названием «сон». Однако иногда происходят сбои. Кроме сна удается подглядеть и еще кое-что.
Цитирую сам себя:
Некоторые люди говорят, что никогда не видят снов, это неправда, они просто забывают свои сны мгновенно. Для большинства же людей это происходит с небольшим запаздыванием. Просыпаясь, они не хотят просыпаться – они только что видели что-то очень хорошее и очень важное, но с каждым мгновением «бодрствования» воспоминания об этом хорошем и важном улетучиваются, рассеиваются как дым. И через минуту всё, что было, уже кажется бессмысленным и забывается. Остается только легкая ностальгия. Разве не так?
Часть вторая
1. Прогулка по Волге
Поездка по Волге – безусловно самое яркое мое воспоминание того периода времени. Поэтому извините, но изложу её подробно.
Это была не просто увеселительная поездка для школьников, таких тогда было мало, нужно было, чтобы любое мероприятие имело идеологическую и воспитательную окраску. Наше мероприятие имело эту окраску по высшему баллу и называлась «По ленинским местам Поволжья». Это всё равно, что для христианина побывать у гроба господня или мусульманину совершить хадж в Мекку. В программу входило посещение родины вождя мирового пролетариата города Ульяновска (быв. Симбирск) и Казани, где он учился в университете.
Чем наследил Ильич в Куйбышеве (быв. и ныне Самара) я не знаю, но конечным пунктом на Волге был этот город.
Я не помню, сколько по времени заняла эта поездка, но она перевернула мой взгляд на родную страну с головы на ноги или, может, наоборот. Живя постоянно в Москве, что в то время, что сейчас, трудно понять, как и чем живет вся остальная огромная страна. Россия. Мне еще повезло – я периодически живал в Туле, это хоть как-то прибавляло кругозора.
Эту страну мало понимать, её надо чувствовать душой, растворяться в ней, как растворяешься иногда в Природе, ею надо дышать, её нужно пить по маленькому глоточку, как густой, благородный коньяк или ледяную родниковую воду в жаркий день; а Москва это что? мудрствование одно, да фанаберия. Никчемушная гордыня, одним словом. Кроме того, не надо забывать специфику времени. Тогда официальная историческая правда была еще более ограничена, чем сейчас. Сейчас нас уверяют, что мы слезли с деревьев под руководством Рюрика и кое-каких церковных деятелей, тогда просиявших, но это все-таки, худо-бедно, тысяча лет с лишком. А в советские времена счет шел всего лишь на десятки. Еще живы были свидетели того момента, когда пришел Ильич, повесил везде свои лампочки и выпустил нас из клеток.
Группа собралась не очень большая, человек двадцать. Руководили этим безобразием два учителя: Тимофей Иванович (небольшого росточка трудовик и завхоз, мордвин, суетливый, с постоянно красной физиономией) и физкультурница Галина Ивановна, скромная, добрая женщина. Из ребят помню только четверых: Скво со своей вечной подругой Галей себя, конечно и своего младшего друга Мартышку, хоккеиста из детской школы Динамо. (Я тогда был влюблен, и видел ты одну только Скво, хорошо еще несколько человек запечатлелись. Рискую предположить, что была еще Уля. и значит вместе с ней и Теря).
Как мы выезжали из Москвы и что делали в поезде, в памяти не отложилось, но вот привокзальная площадь города Казани стоит перед глазами, как будто это было вчера. Пока Тимофей Иванович названивал из автомата по каким-то инстанциям насчет нашего размещения, мы бродили по небольшой привокзальной площади, медленно погружаясь в другой мир. Это действительно был другой мир.
Несмотря на детскую нетребовательность к удобствам, я не мог не заметить, приезжая каждое лето в Тулу, что всё вокруг как-то попроще, победнее, даже может не беднее, а неказистей что ли. Отделка домов, выбор товаров в магазинах, да и вообще, вся обстановка.
Здесь в Казани этого было просто невозможно не заметить. Сначала бросился в глаза трамвай тридцатых, если не раньше, годов выпуска, с неавтоматическими, открытыми настежь и не закрывающимися даже на ходу дверями. Он подъехал, покачиваясь на неровных рельсах, издавая скрип и скрежет. Какие-то люди вышли (некоторые, даже не дожидаясь остановки) другие вошли, нисколько ничему не удивляясь, и трамвай уехал.
Я тогда еще не знал, что в СССР существуют разные категории обеспечения городов, что существуют города первого, второго и ниже сортов, но признаки такого деления я стал замечать еще в Туле. Тем не менее, в Туле ходили новенькие чешские трамваи, какие в Москве-то еще не везде попадались.
Удивление, которое я испытал от вида древнего трамвая заставило меня повнимательней оглядеться по сторонам. Первое, что стало очевидным, это какая-то невероятная грязь везде и запущенность. По сравнению с этим Казанский вокзал, самый грязный в Москве, казался бы идеалом чистоты и порядка. Рядом с нами обнаружился Ильич, на низеньком постаменте, непривычно маленький, с типично татарскими чертами лица, свеже выкрашенный золотистой краской прямо по облупившейся старой, он печально указывал на убогое здание вокзала. Узнать его можно было только по этому характерному жесту и традиционной кепке.
Собственно образ Казани у меня остался в памяти несколько урывчатый и очень неуютный, неприглядный даже. Видимо Судьба решила показать мне изнанку жизни. Помню, что на следующем старинном трамвае мы уехали на место своего временного жительства. Этим местом оказалась школа, расположенная в очень старом кирпичном здании. Школа была не просто пустая, что по летнему времени вполне понятно, но настолько пустая, что в тех классах, которые были нам доступны, почему-то не было ни одной парты. Спали мы на полу, на каких-то матрасах, все в одной комнате.
По вечерам играли в темноте в разные словесные игры типа «Я садовником родился…» или «На золотом крыльце». Когда Тимофей Иванович заставлял уже нас спать, начинались молчаливые игры, ну, например, всезадирали коленки и клали ногу на ногу, потом по хлопку синхронно ноги меняли местами. Вполне безобидно, но бедного Тимофея Ивановича это так выводило из себя, что один раз он запустил в нас свою папку с бумагами и деньгами, с которой он везде ходил и даже, отходя ко сну, держал рядом с собой.
В каждом городе, как выяснилось, мы должны были посещать промышленные предприятия. В Казани даже это выбрали самое жуткое: льнокомбинат и валяльно-войлочную фабрику, самым ужасным и тем запомнившимся там был валяльный цех. Если бы не грохот крайне несовременного вида машин, само помещение похоже было бы на большую турецкую баню. Из густого пара, почти по колено в воде, выныривали потные люди со всклоченными волосами, из одежды на них были: резиновые сапоги, синие семейные трусы и резиновые фартуки. Они хватали какие-то свертки шерсти и уносили их куда-то обратно в клубы пара. Это очень напоминало картинку из учебника истории об ужасах жизни рабочих при проклятом царизме.
Когда хочется пустить людям пыль в глаза, даже маленьким людям, школьникам, желательно продумывать все мелочи, иначе эффект окажется совершенно обратным. Так видимо и получилось в этой поездке. Собственно ленинских мест в Казани, то ли на фоне остального убожества, то ли ввиду незначительности самих этих «мест», я почти совсем не запомнил. Слабенько проявляется в памяти только вид аудитории в университете, где выделена была скамья, на которой юный Ульянов якобы слушал лекции. И собственно, всё.
* * *
Проспект рядом с Казанским кремлем. Через дорогу переходят прилично выпившие мужчина и женщина. На середине пути с мужчины падают брюки, и он остается в грязных кальсонах, женщина пытается поднять брюки на место, но её попытки тщетны, неуступчивая деталь туалета опять падает вокруг ног джентльмена. Вышеозначенный джентльмен начинает ругать леди за неумелость в таком, вроде бы, простом деле, та отвечает ему тем же. Однако, продолжается это недолго, осознав патовость ситуации, они нежно берутся под руку и завершают переход главной улицы города мелкими шажками, волоча брюки по мостовой.
Мы с Мартышкой в парке казанского Динамо (ныне Акбарс). Подходит татарка в возрасте. За руку ведет девочку.
– Возьмите девочку.
– ???
– Денег немного дайте и берите, – она расстегивает девочке кофту, – смотрите у неё уже сисечки есть. Ну, возьмите!
Удивительно мне, что я не помню, кто во что был одет, за исключением скажем, грязных кальсон того мужика, зеленых халатов с тюбетейками на татарских аксакалах и пр. из ряда вон выходящего. Не помню, в чем мы таскали свои вещи, скорей всего в рюкзаках. Не помню что мы ели три раза в день. Значит, все было в каких-то средних рамках. Вряд ли Тимофей Иванович тратил лишнего на еду, а не запомнилось – видимо ели нормально.
Уехали мы из Казани водным путем. У меня всегда хранилась память о первой моей теплоходной прогулке, случившейся лет за шесть до этого. Ковры на крутых лестницах, медные поручни и ручки, чистота на палубах и запах пластика в коридорах, смешанный со сладковатым привкусом теплоходной гари.
Кстати, если уж я это вспомнил, мне с детства нравился запах бензинового и дизельного перегара. Кисловатый бензиновый и сладковатый солярочный. Потом это, правда, прошло. То ли двигатели стали другие, то ли сам я… Наверное, и то и другое. Во всяком случае, при одном и том же топливе запах из выхлопной трубы очевидно разный. Могу привести два крайних случая. У венгерского автобуса «Икарус» лежачий двигатель и из его выхлопной трубы всегда, даже когда я был еще вполне юным, запах казался мне тошнотворным, а вот из огромной трубы теплохода, из большущих цилиндров судовой машины запах просто сладкий, манящий и волнующий, Даже сейчас, когда я стал эколого– и метеозависимым мне он продолжает нравиться.
Так вот, я заранее предвкушал радость поездки на теплоходе, но экономный Тимофей Иванович, эту радость немного обломал. Он купил самые дешевые билеты, и наш лайнер оказался, скорей всего, самым старым в пароходстве. Никакого запаха пластика не было и в помине, стены в помещениях было грубо окрашены, где темно-зеленой, где грязно-коричневой краской. Ковров в такой обстановке не полагается. Но это еще не самое интересное, самым интересным оказалось то, что наши посадочные места были в трюме, ниже ватерлинии.
Трюм представлял собой довольно просторное помещение, разделенное перегородками с жесткими спальными полками. Это выглядело так, как если бы несколько общих железнодорожных вагонов поставить рядом и убрать стенки. Точно такие же жесткие деревянные полки, но с достаточно широкими проходами. Не знаю, как чувствовали себя наши руководители в такой более чем спартанской обстановке, но нам испортить настроение это обстоятельство не могло. Всю дневную часть продолжающегося путешествия мы провели на палубе. Белые буруны, расходящиеся в стороны от носа корабля, чайки за кормой и Река, изумительная по красоте Волга. Крутой высокий берег справа и пологий уходящий в азиатскую даль левый берег.
Наш пароходик плыл долго. Он приставал ко всем пристаням, насколько я помню, все они или, во всяком случае, большинство, располагались на правом берегу. Возле каждой пристанина пароходе начиналась неспешная суета. Капитан со своего мостика, беззлобно ругался на матросов, которые, изображая бурную деятельность и, в свою очередь, ругаясь на пассажиров, слишком рано приготовившихся сходить и мешавших им, не торопясь, бросали-ловили канаты, подтягивали, наматывали и, наконец, опускали трап. Через некоторое время всё повторялось в обратном порядке. Мимо нас, гремя музыкой, проходили нарядные туристические теплоходы, с которых веселая публика махала нам руками. Вряд ли эти веселые и пьяные люди нам завидовали, а зря – они не увидели и десятой доли, того, что могли. Именно те короткие остановки заставили меня не то чтобы разувериться, но всё же несколько изменить свое отношение к нашему социалистическому государству и его пропагандистской машине.
Что такое пристань на Волге? Я уже давно там не был, но раньше это были либо плавучие дебаркадеры, одновременно служащие и пристанью и вокзалом с кассой, либо стационарные деревянные мостки с вокзал-сараемна суше, несколько в стороне. Рядом с пристанью обычно имелась немощёная площадка, от которой вверх вилась тропинка или деревянная лесенка к деревне, расположившейся на самом верху. Практически на всех пристанях толпился народ, не только провожающие-встречающие, но и просто зеваки, пришедшие посмотреть на пароходы. В основном это были женщины, часто с детьми. Вид вот этих женщин, стоящих в сторонке, переговаривающихся между собой и грызущих семечки у меня до сих пор перед глазами. Женщины, как женщины, обычные во всем, кроме одежды. Если бы я их видел на одной остановке, я бы решил, что в этой деревне проходят съемки какого-нибудь исторического фильма, но они были почти везде, у каждой пристани и, чем ближе к вечеру, тем многочисленней. Одеты они были в цветастые сарафаны и белые домотканые рубахи, на головах были не кокошники, а цветные платки, хотя повязанные вроде кокошника, но главное – обувь. Большинство этих женщин были обуты в лапти. В лапти!!!
Я долго стоял на палубе и, когда уже почти стемнело, не сразу понял необычность пейзажа. Необычность была в облике деревень – они не были освещены, лишь кое-где в окнах виднелся слабый свет. До меня очень не сразу дошла мысль о том, что лампочка Ильича за пятьдесят два года советской власти не дошла еще до этих деревень его родной Ульяновской губернии. У меня, жителя Москвы, убежденного в мощи советского строя и родной нам всем коммунистической партии, не укладывалось в голове, что где бы то ни было в нашей стране, люди могли еще сидеть по вечерам при лучине и ходить в лаптях.
Впрочем, я моментально обо всем забыл, спустившись в трюм, где меня ждало ничуть не меньшее, а учитывая возраст, гораздо большее переживание. Я не помню, почему так вышло, в трюме вовсе не было тесно, кроме нас там располагалась небольшая группа цыган, человек пятнадцать-двадцать с детьми и какая-то еще публика. Цыганки, против обыкновения, не приставали ни к кому со своим гаданием, то ли им было не до этого, то ли вид публики, включая нас, не производил впечатления кредитоспособности. Во всяком случае, память мне показывает тихий и полупустой трюм. Но почему-то мы улеглись по двое на полку? Из озорства? Не мог же Тимофей Иванович, при всех его способностях экономиста, взять нам по одному билету на двоих. Не знаю. Но улеглись мы по двое на полку и, причем обязательно, чтоб мальчик с девочкой! Вот ведь в чем дело! И я, не смотря на свою задержку на палубе, не опоздал, успел вовремя и улегся с тем, верней с той с кем хотел.
Что в этом такого? Ничего особенного, если не учитывать первую любовь и юношеский романтизм, но, даже если учитывать? Что может быть посредине большого и хорошо освещенного помещения, в окружении нескольких десятков людей? Ничего. Ничего и не было, но почему-то эта ночь в трюме до сих пор вспоминается мне и, как недавно выяснилось, не только мне.
Жаль, что эта ночь быстро кончилась. Верней, кончилась не ночь, а наше пребывание на пароходике. Еще не рассвело, когда мы прибыли в Ульяновск.
Первый раз за всё путешествие мы увидели новенькое вполне современное здание речного вокзала. Правда, никакого сервиса, буфетов там и проч. не наблюдалось, и вообще, там никого не было. Мы решили продолжать ночевать в большом зале вокзала. Вокзал оказался настолько современным, что там не нашлось даже привычных всем, хоть и жестких, трехместных скамеечек. Их заменяли пластиковые полустулья, верней полукресла, эдакая впуклость на ножках. Если бы это были стулья, то можно было бы составить три стула рядом и лечь. Это менее удобно, чем на скамеечке, стулья разъезжаются при неловком движении, но всё же устроиться можно, а с этими полукреслами такой операции не проделаешь – мешает улечься боковая поверхность, якобы заменяющая подлокотники. Я так думаю, что эту конструкцию придумал человек очень вредный с одной мыслью и целью: «Вот хрен вы поспите у нас на вокзале! Нам и без вас забот хватает».
Я всё-таки устроился кое-как на двух этих впуклостях и заснул, и проспал часа три, о чем потом часа полтора-два жалел, потому что не мог разогнуть шею от боли в оной. Так и ходил, голову на бок. Кроме боли присутствовало еще и некоторое удивление – города не было! Со стороны реки было всё в порядке, солидно и основательно, а с другой стороны, где должен был быть город, родной город великого вождя, был луг, уходящий куда-то вверх, грунтовая дорога и с десяток козьих извилистых тропок. Кстати, эти самые козы спускались медленно сверху вместе с коровками, мирно щипля травку.
Город оказался на самом верху. Обычный, зачуханый, деревянный русский городок. Тогда готовились к столетию Самого. В следующем, 1970 году и должны были строить что-то грандиозное в ознаменование, так сказать, но у меня это что-то не отложилось. Единственное воспоминание, оставшееся об Ульяновске – суперновый тогда армейский джип УАЗ-469. Я не только посмотрел и посидел в нем, но даже чуть-чуть прокатился. Это случилось во время экскурсии на Ульяновский автомобильный завод. Нас водили по цехам, где тогда на конвейере шли «козлики» – ГАЗ-69к сегодняшнему дню давно уже снятые с производства и «буханки», к сожалению выпускающиеся до сих пор в первозданном виде. Конечно, было интересно посмотреть автомобильный конвейер в действии, не знаю как нашим девчонкам, но мне было очень интересно, но самое интересное ждало в экспериментальном цехе: новый армейский джип, он стоял на яме с открытым верхом красивый, как крокодил в брачную пору. Я тогда еще обратил внимание, что военные машины напоминают хищников. Я спросил разрешения у экскурсовода (рабочих возле машины не было, скорей всего мы попали в обед), экскурсовод не возражала, и я забрался в машину.
Я уже сказал, что машина стояла на смотровой яме, но «ямы» эти бывают или с заглублением для механика, или с возвышением для машины. Эта яма была второго типа – довольно широкий подиум с покрытием из рифленой стали. На мой взгляд, совершенно естественно, что, еще толком не осмотревшись в кабине с полуразобранным щитком приборов, я уже выжал сцепление и дернул ручку переключения передач. И не менее естественно, машина плавно покатилась, развивая скорость на спуске, назад, где стояла ничего не подозревавшая экскурсия. Тормоза, естественно не работали, но, слава богу, всё обошлось. Я успел-таки включить вторую, или даже первую передачу и отпустить сцепление. Машина, прокатившись уже по ровному полу метра три, остановилась. К моему счастью или сожалению никто даже ничего не заметил.
В следующий город мы добирались уже вполне достойно, на большом теплоходе. И город оказался большой и более чем достойный. Единственным темным пятном стал общественный туалет на центральной площади.
За всю жизнь мне запомнилось не так уж много общественных сортиров. Первый – на Трубной площади, вовнутрь я не заходил ни разу, но видимо, такая уж сила первых детских впечатлений: сейчас на том же месте построили новое здание метро, однако, мне оно все равно видится общественным сортиром. Самый лучший образец этого заведения я видел в Ирландии, в аэропорту. Язык не поворачивается назвать это чудо коммунального хозяйства сортиром, даже туалетом нехорошо. Это была приведенная в идеальный порядок Сандуновская баня, если не музей изящной скульптуры из фаянса.
Запомнился сортир в Хабаровском аэропорту, где в качестве пересадки на Сахалин мы просидели не меньше суток, и воленс-ноленс приходилось этим безобразием пользоваться. Это была длинная кишка с кафельными стенами, длинной метров десять – шириной не более двух. С правой стороны располагались унитазы турецкого типа без кабинок, даже без каких-либо перегородок, а слева, по кафельной стене стекали струйки воды, писсуаров не было, писать нужно было прямо на стенку. На счет ширины помещения я, скорей всего погорячился – не было там двух метров, потому что брызги от писателей слева легко долетали до мыслителей справа. Ну, и конечно запах…
Но Хабаровский запах не шел ни в какое сравнение с запахом Куйбышевским. Здесь, видно, что-то случилось с канализацией и одновременно с вентиляцией, одним словом, вонь стояла густая и совершенно не возможная. Я, вообще, наверное, туда бы не пошел, но ситуация приближалась к критической – мы вышли из кинотеатра, где смотрели только что вышедшую на экраны комедию Гайдая «Бриллиантовая рука». Этот фильм и сейчас еще смотрится прекрасно, а тогда просто «обоссаться было можно», и я, помню, забежал в этот ужас, не дыша, сделал свое небольшое дело и бегом обратно. А посредине этого зловония в полумраке стояли три мужика и смаковали бутылочное пиво, и даже чем-то закусывали, но это, благодаря скорости передвижения, я не очень отчетливо помню.
Еще одно выпуклое воспоминание той поездки связано с посещением города Жигулевска или Тольятти, где тогда активно строился автозавод, к нашему, кстати, большому разочарованию, потому что заранее всё представлялось совсем иначе. Мы рассчитывали угоститься жигулевским пивом прямо из источника в патриархальном городке, а попали на огромную стройплощадку. Но основное мое воспоминание связано не с этим и ни с Куйбышевской ГЭС, которую мы там посетили, а с Жигулевскими горами. Горы эти, до смешного низкие, чуть не оставили меня калекой.
Некоторые ситуации в жизни удивительным образом повторяются. Перепросматривая свою жизнь, я сейчас обращаю внимание на это. В частности, случай в Жигулевске потом, в усиленном варианте, повторился на Кавказе, на серьёзной скале.
Но это было позже, а в тот раз, вроде бы, не было ничего страшного. Какой леший меня понес влезать на эту гору? Снизу она казалась простенькой, но, в какой-то момент, я повис, зацепившись всем чем только можно за грунт (руками, ногами, животом, подбородком и т. д.), потому что вдруг понял, что если я сейчас сорвусь, то мало не покажется. У альпинистов существует понятие «есть куда падать». В данном случае, у меня было, куда падать – метров так пятнадцать-двадцать. Мало? но это выше, чем крыша пятиэтажного дома! Снизу расстояние, наверное, выглядело смешным и действительно, снизу смеялись мои товарищи… мне было страшно и обидно одновременно.
Завершили культурную программу поездки посещением Куйбышевского ГПЗ, если не ошибаюсь №4. То ли сам завод был хорош, то ли экскурсовод знал своё дело, но впечатление осталось очень приятное (я до сих пор горд за отечественную подшипниковую промышленность) и более того, вся технология производства образно и ярко запечатлелась в памяти. Это, правда, сыграло со мной злую шутку в институте, на экзамене по Деталям машин, но об этом потом, если я до этого доберусь.
Обратная дорога почти ничем не запомнилась, кроме дурацкого названия города «Новокуйбышев». Ну ладно бы еще Новая Самара, взамен переименованной.
2. Неполное среднее
С осени в школе маразм и скука. От скуки в какой-то день все мальчишки нашего класса договорились прийти в галстуках. Причина была в том, что пионерские галстуки и школьная форма остались в прошлом и нас все ругали за паршивый внешний вид, а тут все пришли в отцовских галстуках, кто с узлом, кто с резиночкой. Эффект получился сногсшибательный, девочки были в трансе, учителя забывали закрывать рот. Некоторые личности из других классов над нами смеялись, но мы выдержали форс и укоренились в своём намерении, так и проходили в галстуках до окончания школы. Я, к тому же, стал носить отцовские шляпы.
Галстуки ума, конечно, не прибавили. Глупостей творилось немало. Например, классический случай с Иваном Лаврентьевичем. Несмотря на страстно оттопыренные ноздри чувственного еврейского носа, он, в обычном своем состоянии, пребывал в завидном спокойствии. Совершенно индеферентно он ставил двойки или пятерки в начале урока и потом, также спокойно переходил к объяснениям нового. Но иногда он срывался.
Я не отношусь к людям, которым математика мать родная. У каждого свои способности. Я, например, в алгебре по сей день ни бум-бум. Но на удивление, всегда любил геометрию. Иван Лаврентьевич терпеливо выводил мне по алгебре тройки вместо двоек, а по геометрии ставил четверки вместо пятерок. Но был у нас в классе такой Юра Г (в дальнейшем Ёж), при выслушивании которого наш математик терял самообладание. Ёжик не выглядел шибко тупым, вполне нормальный парень, папа, правда, генерал, ну и что? Ну, не дается человеку математика, что кипятиться то? А Иван Лаврентьевич доходил аж до брызга слюной.
В один прекрасный день мы проделали такую штуку: сняли с гвоздя портрет Ильича и просто поставили его сверху на классную доску, ничем незакреплённым. И начался урок. Иван Лаврентьевич появляется в дверях в своем постоянном синем с белой ниточкой костюме, слегка посыпанный перхотью и мелом, с большими треугольниками под мышкой и с не менее постоянным жутким запахом Беломора. Уж до чего мы сами приходили в класс прокуренными.
В школе было несколько мест для курения учеников, нелегальных, разумеется. Самым характерным в этом отношении был мужской туалет на четвертом этаже, там набивалось курильщиков столько, что стояли спина к спине. Можно было, в принципе и не курить – вместо воздуха был почти чистый дым. Некурящие, в том числе и учителя, во время перемен сюда не ходили. Нас, конечно, гоняли оттуда, но лениво, раз в три дня, примерно. Заходил кто-нибудь из учителей впредбанник и громко произносил магические слова: ага, дескать, попались! Вся публика после этого, молча и не гася сигарет дефилировала на лестницу к чердаку, где обстановка была примерно такой же. Грязь, дым, потолок в черных пятнах от прилипших спичек.
Кстати сейчас такого безобразия уже нет ни в школах, ни в подъездах. Культуры не прибавилось, просто строители перестали пользоваться меловой побелкой. Для того чтобы повесить спичку, нужно было плюнуть на стенку и задним концом спички накрутить липкий меловой шарик, потом поджечь спичку и бросить в потолок. Спичка прилипает головкой вниз и, догорая, создает на белом потолке черное пятно сантиметров пять в диаметре. Безобразие! А надписи на стенах? от самых простых, трехбуквенных, до изрядно развернутых, иногда в стихах. В дверях было приглашение к творчеству: «Пусть стены этого сортира украсят юмор и сатира!», внутри: «Покурил – оставь бычок, не бросай его в толчок!» Лично мое воображение поразила одна надпись, настолько, что я её помню до ныне в полной графике. Представьте себе надпись, выполненную красивым художественным шрифтом: «Приходи, Маруся с гусем, по****ся и закусим».
Иван Лаврентьевич каждую перемену курил в учительской, у окна. Видимо, такова была особенность его физиологии – когда он входил в класс, казалось, дым еще продолжал идти из его ноздрей. В тот раз, он как всегда, оставил деревянные треугольники на подставке доски и, не спеша, прошел к столу, сел и раскрыл журнал. Yes!!!
– Ёжицкий, к доске.
Вообще-то, ударение в фамилии правильно было ставить на первом «и», но Иван Лаврентьевич всегда коверкал его фамилию, делая ударение на первом слоге. Он всегда, в начале урока вызывал к доске трех учеников, так же было и в этот раз, но можно было не сомневаться, что Ёж останется последним. Так и случилось. О подставленном портрете знали несколько человек, Ёж в это число не входил. Он стоял у доски и что-то мямлил, не подозревая, чем это для него сегодня закончится. Иван Лаврентьевич уже несколько раз гневно посмотрел на него, пока еще не вставая с места. Но вот он встал, идет к доске.
– Ёжицкий!!! Это же… … … пустое место!!! – он всегда так говорил, и в том месте, где стоят точки, он громко стучал по доске костяшками своих жестких пальцев, он поступил так же и в этот раз.
Портрет покачнулся, но не упал бы, если бы в этот раз Иван Лаврентьевич не поставил точку, вернее восклицательный знак, уже всем кулаком. Ильич даже подпрыгнул, после чего плашмя опустился на голову учителю.
Безобразие? Да, безобразие, но что было, то было. Кстати, никаких политических последствий этот инцидент не имел. Нас сейчас пытаются убедить в том, что в СССР, при той проклятой политической системе за такие штучки с портретом главного Вождя могли и посадить. Враньё. До 53 года, может быть, не знаю, но с шестидесятых и позже? Смешно. Впрочем, одно последствие имело место – Иван Лаврентьевич перестал стучать по доске.
К тому же периоду времени относится среднемассовое вступление нашего класса в комсомол. Раз в месяц отбирались из нас как бы самые достойные, учили устав и еще что-то, ехали в райком, там их принимали или отказывали временно. Тоскливое мероприятие, как и вся Всесоюзная организация молодежи. Единственное, что твердо запомнилось, это сам Ленинградский райком ВЛКСМ, который я тогда посетил первый и последний раз. Живя в Советском Союзе, мы считали, что имеем на шее мощную бюрократию, не догадываясь, что при «свободе и демократии» чиновников будет в десятки раз больше. Сейчас, какая-нибудь сраная регистрационная палата, извиняюсь, вся в мраморе – не подходи! А тогда только партийные здания, как временно исполняющие обязанности храмов, отделывались достаточно дорого, а все остальные были гораздо проще. Но некоторые присутственные места являли собой вид просто таки неприличный. Как выяснилось, к таким заведениям относились и райкомы комсомола: давно не крашеные стены, старая поломанная мебель, даже лампочки не везде. Гаже тогда могло быть только в милиции.
Какие-то три невзрачных личности разного пола с громкими комсомольскими должностями долго мурыжили нас, выпытывая сведения про режимы в Конго и Боливии, а так же про ордена ВЛКСМ. Потом приняли. Мы получили комсомольские билеты – иметь личный документ тоже было определенным этапом в жизни.
Паспорт давали, по-моему, в шестнадцать лет. Тогда он был темно-зеленого цвета, размерами поменьше нынешнего, но толще, потому что в нем проставлялось еще и место работы.
Восьмой год обучения в нашем, в целом довольно приличном классе, напоминает мне какую-то вакханалию. Причина, как я понимаю, была в том, что некоторым переросткам, по мнению РОНО, нужно было закончить своё обучение, получить хотя бы свидетельство о восьмилетнем образовании. У нас появились товарищи на несколько лет старше и, мягко выражаясь, со странностями. Не буду вспоминать всех, но не могу не заметить, что в восьмом классе с нами за партами сидели, в частности, проститутка и алкоголик.
Женя Гусенский, добрейшей души человек с вытянутым крупным поповским даже, пожалуй, монашеским лицом и широко раскрытыми на жизнь удивленными глазами. У него был один недостаток, с точки зрения медицины, он был окончательным хроническим алкоголиком. Он приходил утром в школу, имея в портфеле пару бутылок портвейна, причем, ничего плохого он в этом не видел. Не знаю, где он брал этот портвейн или деньги на него, но факт остается фактом. Выпивать в одиночку скучно, поэтому Женя с удовольствием делился. Однажды на уроке анатомии мы смотрели какой-то учебный фильм и в темноте кинокласса, на задней парте, мы упились с Женей до положения риз, закурили и давали похабные комментарии к происходящему на экране. Инициатива, скорей всего была моя, т. к. Женя, напиваясь к концу учебного дня, становился от этого только добрей и восторженней.
С кем поведешься от того и наберешься. Не знаю, кто от кого набирался, но в те поры, я вел себя безобразно: драки и всякого рода хулиганства стали обычным делом. Как раз тогда у меня появилась кличка Батя. Я видимо здорово надоел и родителям, и в школе, поэтому после окончания восьмилетки родители решили отправить меня в Суворовское училище с надеждой на то, что воинская дисциплина сделает меня человеком.
Никакого выпускного вечера по поводу окончания восьми классов не было. Были экзамены, потом нам в полуторжественной обстановке вручили свидетельства о неполном среднем образовании. Чтобы хоть как-то почувствовать праздник мы с Сучком отправились в Серебряный Бор. На последние деньги купили бутылку вина, взяли напрокат лодку и сняли девочек. Скорее, правда, это они нас сняли. Они учились в одном из театральных учебных заведений. Одна из них была серой мышкой, вторая – командирша. Эта командирша, сидя на корме, распределяла обязанности: кому и где сидеть, кому что делать. Самое удивительное, что мы все слушались. Она заставила меня в одиночку выпить всё вино и когда решила, что я уже полностью избавился от комплексов, допустила до себя. Если бы мне за день до этого сказали, что я ради того, чтоб подержаться за сиську, могу кинуть друга, я бы не поверил, но факт есть факт. Физиология, однако.
Суворовские училища в то время стали готовить военных переводчиков, а в Москве преподавали только английский язык, поэтому, с моим французским можно было учиться или в Ленинграде, или в Киеве. Я попал в Киев. Директор школы дал мне прекрасную характеристику, которая не очень вязалась с тройкой по поведению в аттестате. Директор был добрым человеком, но, давая мне характеристику, безусловно, рассчитывал помочь мне поступить в училище с тем, чтобы я больше не возвращался в школу. Хотя, при самом акте передачи этой бумаги, он сказал, что ждет меня обратно и примет безоговорочно. Не знаю как директор, но большинство учителей не были рады моему возвращению.
3. Киевское СВУ
Я уже немного знал Киев, и бульвар Леси Украинки нашел без посторонней помощи. СВУ располагалось в здании бывшего кадетского корпуса, в красивом желто-белом здании, постройки 19-го века. Я предъявил направление, доложился, как положено, по стойке смирно и получил себе койко-место в казарме. В ранние годы всё кажется большим, но в данном случае, даже без учета юношеского расширения глаз, казарменный зал выглядел слишком большим для спального помещения. Однако абитуриентов набралось столь много, что, в конце концов, стало тесно, особенно ночью, от звуков и запахов.
Довольно быстро организовалась своя компания. Четвертый интернационал: киевский еврей, хохол из Сумской деревни, молдаванин и трое русских, включая меня. Все были очень колоритными личностями. Хохол худой с большими, грустными карими глазами, с аромантейшим украинским выговором (собственно, говорил он по-украински, но вполне понятно для нас), с только еще пробивающимися, но уже висящими вниз усиками, он выглядел живым Хомой Брутом из гоголевского Вия.
Молдаванин был суровым, но добрым парнем, в свои четырнадцать лет настолько зарастал черным волосом, что бриться ему было желательно по два раза на день. Из русских один был культуристом, он иногда задирал рубашку и показывал пляски живота. Он посмеивался над своими умственными способностями, считая, что для армии его мозгов вполне достаточно. Второй – Леша, мягкий, добрый, очень надежный товарищ, всегда готовый помочь чем угодно, но перспектив у него в армии не было никаких. Его тайну знал только я. Медкомиссия пропустила его в училище случайно. На самом деле он был гермафродит.
Кроме основной, абитуриентской компании была еще одна, в которую нас втащил Игорь, киевский еврейчик, не сказать, чтобы толстый, но совсем не отличавшийся сухостью, интеллигентно шпанистый, он всё время хотел казаться старше и опытней, чем был на самом деле. Я с ним излазил половину Киева и он познакомил нас с ребятами из духового оркестра, у которых мы потом часто пропадали в свободное время. Это был обычный военный духовой оркестр с худыми трубачами и толстыми барабанщиками. Чем оркестр был связан с училищем? не знаю. Большинство музыкантов были сверхсрочниками лет тридцати-сорока, но были и солдаты срочной службы и даже воспитанники (что-то типа сынов полка), с одним из которых Игорь водил дружбу.
Что касается меня самого, то я был москвичом, что уже само по себе привлекает многих. Хотя чаще это приносит неприятности, особенно в армии. Я в этом убедился на первом же построении.
Толстый розовощекий подполковник, делавший перекличку, дошел до моей фамилии и ажно изменился в лице.
– … москвич???Три шага из строя, шагом марш!
Я вышел, как положено, строевым шагом и повернулся лицом к товарищам. Прежде чем вернуться на свое место, я выслушал целую лекцию о вреде москвичей делу воспитания достойной смены офицерского состава вооруженных сил. Он бы назвал меня и всех, кого он подразумевал в одной компании со мной не москвичами, а москалями, но перед строем не решился. Я узнал о том, что один единственный москвич, затесавшийся в прежние годы в училище, обучил всех курсантов выпивать, курить и играть в преферанс. Подполковник поклялся перед строем, что не допустит моего поступления в училище, и предложил сразу ехать домой, однако, милостиво разрешил вернуться в строй, где Игорь мне тут же занудил в ухо про дискриминацию интеллигенции, особенно по пятой графе.
Я не боялся подполковника, но на первом же экзамене убедился в его серьезных намерениях. Экзамен был по математике. В качестве преамбулы преподаватель сначала по-русски, потом по-украински (путая слова) объявил, что мы имеем право писать на любом языке, а именно на украинском, русском или французском (это была шутка такая, потому что цифры всё равно арабские), выдал листочки с печатями и пожелал удачи. Математика никогда не была моим коньком, но примеры были легкие, и я был уверен, что будет четверка, ну уж трояк – это самое малое.
На следующий день обнаруживаю в списке против своей фамилии – «2». Иными словами, можно собирать вещи. Но не зря Александр Иванович, директор нашей школы, был уверен в том, что я останусь в Киеве. У меня был туз в рукаве.
Я позвонил в Москву, отцу. Я имел право одного звонка, как сейчас говорят в телепередачах. Но звонил-то я в Главное политуправление сухопутных войск! Воспользовался бы я этим правом, если бы не было по отношению ко мне откровенного хамства? не знаю. Я честно рассказал отцу про ситуацию и про подполковника с его москвофобией. Отец велел мне возвращаться в училище и продолжать сдавать экзамены. Выйдя с переговорного пункта, я еще погулял по городу и только к вечеру вернулся в училище. В экзаменационных списках против моей фамилии уже стояла пятерка. Попавшийся мне навстречу подполковник, увидев меня, стал не розовощеким, а откровенно красномордым. Он прошипел что-то мне на ухо, но открытых придирок с его стороны я больше не имел.
После очередного экзамена мы с Игорем пошли гулять по городу, с расчетом зацепить девчонок. По пути к нам привязался пьяненький мужичок. Я больше молчал – интересно было послушать двух хвастливых петухов: у одного по пьянке язык развязался не в ту сторону, а второй от природы без этого не может.
Концовка этой встречи осталась для меня знаковой на всю оставшуюся жизнь. Однако, по порядку. Сначала они спорили о том, кто лучше знает Киев, потом о чем-то еще. Когда добрались до женского вопроса, мой приятель заявил, что мы сейчас как раз идем к шикарным девочкам, и единственное, чего нам не хватает это десятка презервативов, никак не меньше. Его пьяненький оппонент заявил, что у него этого добра хоть отбавляй, пошли за мной, дескать, сейчас отсыплю.
Мы пришли в один из переулков возле Крещатика. Наш благодетель скрылся в дверях коммуналки, заверив, что через минуту вынесет нам то, что нужно. И пропал. Мы понимали глупость ситуации, но просто взять и уйти было, вроде как, неудобно. В конце концов, мы позвонили в квартиру. Еще через какое-то время смущенная женщина в халате и фартуке вынесла нам что-то завернутое в газету, извинилась и сказала, что её муж лег спать и велел нам передать «вот это». Смущенные не меньше неё, мы быстро ретировались, и только уже на Крещатике, сев на скамеечку, развернули переданный нам сверток.
Там ничего не было – это была свернутая многократно газета «Вечерний Киев». Мы долго смеялись. С тех пор я иногда, попадая в подобные ситуации, а они случаются со всеми: многие люди обещают золотые горы, а выполнить не в состояние даже… в таких случаях я просто говорю: «Вечерний Киев». Люди не понимают, но это ничего, главное я понимаю.
Из нашей компании в училище не поступил никто, кроме меня. После окончания вступительных экзаменов, абитуриенты разъехались, в казармах стало тихо. Остались тихие, скромные мальчики в черной форме с красными лампасами, всё время сидевшие, уткнувшись в книжки. Радости от поступления у меня не было совсем. Черное с красным в цветах кадетской формы навевало какие-то похоронные ассоциации. На улице всё время шел дождь. Музыкантский взвод дул в свои трубы, но это уже не радовало.
Человек строит планы на жизнь, чего-то хочет, чего-то нет, к чему-то стремиться всем сердцем, всем своим существом, но судьба все равно поступает по-своему. Я, например, с удовольствием служил бы в армии, всю жизнь. Я несколько раз в дальнейшем делал попытки остаться в кадрах МО, но, видно, не судьба. Хотя из суворовского училища, надо быть честным, я ушел с удовольствием. Это произошло неожиданно. Я сидел в аудитории с развернутой книжкой, как и все, и делал вид, что читаю. Вошел капитан Туманов и пригласил меня с собой. Мы с ним были одни в офицерской комнате, он долго говорил, при этом пряча глаза. Я сразу понял, в чем дело и откуда ноги растут. Суть дела была в том, что мне назначили дополнительную медкомиссию. Капитан Туманов был очень хорошим человеком, и мне в этот момент было его жалко. Он очень корректно, почти незаметно, но все же оправдывался передо мной, курсантом.
Дальше все произошло быстро. Пожилой хирург быстро разглядел у меня сколиоз какой-то степени и признал негодным к строевой службе. Диагноз в дальнейшем ни разу не подтвердился, тем более на военно-медицинских комиссиях, но тогда я ни с кем не спорил и ни на кого не обижался – мне хотелось домой. Не помню, почему я еще несколько дней проторчал в Киеве. Меня уже сняли с довольствия, и мне все время хотелось есть. Но то, что я помню об этих днях, подтверждает известное мнение о божественном промысле, в частности о манне небесной. Бог не дает человеку остаться без самого необходимого.
В один из этих дней я сидел на скамеечке под каштанами Крещатика, когда вдруг на бульваре появились цыганки. Публику вокруг как ветром сдуло. Остались только я и маленький, нервный мужчина лет 35—40. Я демонстративно вывернул карманы, и ко мне тут же потеряли всякий интерес, а вот его третировали долго, но он им так ничего и не дал. Уже уходя, цыганки громко бранили мужчину за жадность и обещали ему всего самого наихудшего. Отделавшись от цыганок, мужчина пересел ко мне поближе и начал оправдываться. Он очень хотел показать мне, что он никакой не жмот, а все это дело принципа. В доказательство он покормил меня вкусным обедом и даже дал с собой немного денег.
Правда, это был мой последний обед в Киеве, еще пару дней я перебивался с хлеба на квас. Когда я, в конце концов, добрался до вокзала, в кармане у меня было двадцать копеек одной монетой. Вокзал был частично закрыт в связи с эпидемией холеры, и к кассе можно было подойти совершенно свободно, без всякой очереди. Я выложил в окошко свое воинское требование, по нему мне был положен билет, не смотря ни на какую холеру.
Поезда шли полупустыми, мест было сколько угодно, и кассирша предложила мне доплатить три рубля и ехать в купе. Я гордо отказался. Тогда мне было предложено за полтора рубля получить плацкарту. Даже если бы я имел эти деньги, какой толк мне был в плацкарте, нужен был бы еще рубль за белье в вагоне. Получив, наконец, маленькую картоночку с дыркой (билет в общий вагон), и узнав, что до поезда еще более трех часов, я пошел тратить деньги.
Трезвый расчет подсказывал, что нужно оставить пять копеек на метро, но я не послушался голоса разума и истратил все деньги сразу. Купил за пять копеек пирожок, на 14 коп. пачку папирос «Север», называемых в простоте гвоздиками, чтобы заглушить приступ голода, который неизбежно возникнет после съедания одинокого маленького пирожка, а на последнюю копейку гульнул стаканом газировки. Время до поезда прошло быстро – в курилке собрался кружок анекдотчиков. Сначала, правда, нас было двое, потом потихоньку дошло человек до двадцати. Даже милиция подходила, привлеченная громким хохотом.
Анекдоты раньше были веселые, не то что ныне. В наше время меня больше всего тревожит отсутствие хороших анекдотов – не к добру это.
Анекдоты в кампании начинались с какой-нибудь ерунды. Кто-то, например, говорит:
– Ну, что ты всё споришь? Слышал про спорщиков? Один другому говорит: «Спорим, я себя за глаз укушу? десять рублей ставлю». Согласились. Он стеклянный глаз достал и укусил – выиграл и тут же предлагает опять уже на сто рублей, что второй глаз укусит. Опять согласились. Он достал изо рта вставную челюсть и за другой глаз укусил.
Все смеются, а кто-то еще говорит:
– Про спорщиков лучше есть. Прокурор вызвал одного к себе и говорит, что посадит его за нетрудовые доходы. С чего, дескать, живете? А гражданин отвечает, спорю, мол, пари заключаю. Ну-ка, говорит прокурор, заключи со мной пари! Пожалуйста, отвечает, поспорим, к примеру, что у вас завтра на заднице прыщ вскочит. Замазали. Приходит гражданин на следующий день, а прокурор уже руки потирает, проспорил говорит, нету прыща! А покажите, говорит гражданин. Прокурор снял штаны – показывает. Что-то темно у вас, пойдемте к окну. Пойдем. Действительно нету. Получите говорит, товарищ прокурор, ваш выигрыш. Вот и врете гражданин, что живете на деньги от споров, вы же проигрываете. Почему? Видите вон толпа под окном. Я с ними с каждым поспорил, что прокурор голую жопу в окно покажет.
Хохот уже пуще. Кто-то по ассоциации вспоминает:
– А про Васю Клячкина слышали? Вызывает Брежнев к себе чекистов и говорит, завелся якобы, какой-то Вася Клячкин, которого все знают и любят, говорят, больше меня уже известен. Те соглашаются, да, мол, известная личность. Пригласили самого, спрашивают, в чем секрет. Да просто, говорит, всех знаю, со всеми в хороших отношениях. Может, ты и папу Римского знаешь? спрашивают. Знаю, отвечает. Повезли его в Рим для проверки, дали в сопровождение агента. Выходит папа на балкон, Вася ему навстречу. Целуются, радуются встрече. Внизу толпа тоже радуется. Вдруг Вася видит – агент в обморок упал. Бежит вниз, что такое случилось? А агент ему: да вот, говорит, итальянец у меня спросил, а с кем это там Вася Клячкин целуется?
Опять хохот. Да нет, говорит еще один, это же про Васильиваныча. И пошла серия про Чапаева.
– Приходит Фурманов к Петьке. Отгадай говорит загадку: что такое без окон, без дверей, полна горница людей? Жопа, отвечает. Да нет же, Петька, это огурец. А что такое: Два конца, два кольца, посередине гвоздик? Жопа, говорит Петька. Дурак ты, Петька, ножницы это, и ушел. Идет Петька к Василь Иванычу. Василь Иваныч, говорит, отгадай загадку: Без окон, без дверей – полна жопа огурцов, что такое? «Фигня какая-то, Петька». Вот и я думаю – фигня, а Фурманов говорит – ножницы.
Потом про чукчей, а еще потом десяток еврейских анекдотов пока кто-то не скажет, что вы всё про евреев, да про евреев, что других что ли нет? Есть, говорят:
– Идут по степи два негра – Абрам и Сара.
Ха. Ха. Ха.
В вагоне я забрался на третью полку, грузовую, положил себе под голову рюкзак и быстро заснул. Мне снилось что-то про еду, утром в полусне я слышал голос:
– Ну, съешь!. съешь хоть кусочек!
Окончательно проснувшись, я глянул вниз. Там необъятных размеров женщина пыталась кормить ребенка лет пяти.
– Ну, не хочешь курочку, съешь хоть помидорчика… смотри який гарный!
В этот момент я с ужасом увидел, что слюна моя свесилась вниз. Еще бы сантиметр и женщине попало бы за шиворот, но, слава богу, пронесло, спас воротник халата. Я скрылся на своей полке и попытался опять заснуть. Но какой тут сон? К тому же в полупустом рюкзаке мне что-то очень мешало. Решив избавиться от досадной помехи, я открыл рюкзак и… о, чудо! То, что мне так мешало, оказалось банкой сгущенки! Откуда она там могла взяться? до сих пор не понимаю. Я быстро проделал ножом две дырки и припал к питательному источнику. И что удивительно? Я смог высосать не больше половины банки. Наелся!
Мы уже подъезжали к Москве. Я спустился вниз. Курочка была предложена и мне (не пропадать же добру). Я отказался, но милостиво принял пятак на метро. И что? Есть бог?
4. Возвращение блудного сына
Как я уже говорил, учителя не очень обрадовались моему возвращению в школу, даже Директор не смог скрыть своего, мягко выражаясь, удивления. И напрасно. Обстановка в классе сильно изменилась. Изменились и мы. Во-первых, исчезли все раздолбаи-переростки. Некоторые вполне приличные ребята ушли в техникумы: мой приятель Сучок, Богомол и еще кто-то. Появились новенькие, в частности, ставшие почти сразу моими друзьями Саша Шика и Сережа С (в дальнейшем СС, как он назвал себя на татуировке). Очень разные, почти диаметрально. Непонятно, почему они попали к нам – жили оба достаточно далеко, на Аэропорте.
Шика всегда был интеллектуальным маргиналом или наоборот, маргинальным интеллектуалом. Он удивительным образом катализировал в нас стремление к учебе. Я с ним пересел на первую парту и стал принимать активнейшее участие в занятиях. Шика по внешнему виду всегда был колоритен, коренастый, розовощекий, с плотными черными кудрями носил сильно потертый школьный пиджак с каким-то граффити на спине, там же расписывались все, кому не лень.
СС же был с виду тихий, аккуратный, культурный мальчик, очень красивый, можно сказать, благородных кровей, при этом большой сообразительностью в науках никогда не отличался. Папа его был ответственным работником ЦК КПСС. Учителя перед ним лебезили, и ему многое сходило с рук. Шика сейчас, по-моему, спился окончательно, а СС, должно быть, спасли от этого родственники. Он работает где-то в крупном бизнесе, маскируется под трудоголика и на встречи не является.
С начала девятого класса у нас организовалась постоянная компашка, определявшая всё «общественное мнение». Кроме Шики и СС в неё входили из ребят: Художник, Сережа (сейчас он полковник ГРУ с платиновой пластинкой вместо куска черепа) веселый, взрывной армянин, дальше я его буду называть Ара, что по-армянски означает – парень / Анекдот: Грузин говорит: «Мэня зовут Вано – по-русски будет Ваня»; Армянин говорит: «А я Акоп – по-русски „траншея“ будет»/; Ёж, ну и я, конечно.
Из девчонок: Скво / На индейском наречии – женщина. /и Галя, две Гали ходили вместе, под ручку, Уля – её грудь притягивала взгляд, не зависимо от воли, жаль, что этого богатства не было в первом классе, когда мы с ней сидели за одной партой и красавица Теря. На самом деле, они обе были Лиды и тоже ходили под ручку. А также Тюша, Гаврюшаи Гречанка.
Мы часто собирались по вечерам в большой беседке рядом со школой, пели под гитару или просто разговаривали. Выпивка бывала далеко не каждый раз. Девчонки не выпивали почти совсем. Иногда к нам присоединялись: Гомочка, Комик (он резко изменился после смерти отца – ушел в себя, поэтому я называю его комиком не только по первым буквам фамилии), Ёлкин, Харик, Блуд и др. А так же из параллельного класса: Хохол, Комар (царство ему небесное, он погиб молодым), Шибай и другие ребята плюс-минус год.
Да, мы стали другими. Поменялись и учителя. Лично мне больше всего нравилась Наталья Яковлевна, она преподавала русскую литературу (19-й век). И предмет сам по себе хорош, но и она держалась на уровне. Она носила полустрогие женские костюмы с пиджаком и миди-юбкой, волосы её были собраны в пучок, и всё это к удивлению не делало её мымрой. Всё впечатление исправляло её открытое приятное лицо и лучистые глаза. Кроме своего предмета, она направляла наши вкусы и в других областях культуры, например, водила нас в кино, когда еще никто не знал, что появившийся только что фильм на самом деле перл. Так, мы одними из первых посмотрели «Доживем до понедельника» и одними из немногих «Обыкновенный фашизм».
С Натальей Яковлевной у меня, правда, однажды случился скандал. Я не помню, что я такого сделал, но она накричала на меня во время урока, потребовала дневник и попросила удалиться из класса. Может быть, у неё были неприятности, кто-то обидел её до этого или со здоровьем что-то, но даже взрослому, опытному человеку трудно распознать такие вещи, а я был школьником. Я встал и, проходя мимо учительского стола, не глядя, швырнул дневник. Это окончательно вывело бедную Наталью Яковлевну из себя. Она убежала из класса сама.
Потом начались разборки. Меня отлучили от школы (к сожалению, не больше, чем на день), назначили расширенный педсовет с участием всего нашего класса. Я пришел уже во второй половине дня, немного опоздав на мероприятие. Роль прокурора исполняла ОВ, наша классная дама. Она долго рассказывала, какой я плохой и как я докатился до такой жизни. Я стоял рядом с ней и смотрел в окно. Она обращалась, в основном, к аудитории, а не ко мне, но её явно раздражало, что она не может привлечь моего внимания, и она предприняла последнюю попытку, сказав, что я настолько плох, что даже опоздал на педсовет:
ОВ: Такое серьезное дело! А? Ты должен был ночь не спать!…
Я: Вот всю ночь и ворочался, а под утро заснул… и вот… проспал.
Смеялись все, даже ОВ. Концовка обвинительной речи получилась скомканной. Предоставили слово ученикам. Хоть бы кто меня поругал – совсем наоборот. В воздухе образовалась неясная, но явно ощутимая неловкость.
Тогда встала Наталья Яковлевна, подошла ко мне и извинилась, сказала, что была не права и проч. Мне оставалось лишь сделать то же самое. Мы оба чуть было не плакали.
Такие вот прекрасные моменты бывают в жизни.
Любимой учительницей Шики стала Светлана Евгеньевна (подпольная кличка – Тётя Света), учительница математики. Она пришла в школу вместе с Шикой, первого сентября, сразу из института. Молодая шикарная блондинка совершенно не гармонировала с математикой. Она носила сильно декольтированные кофточки и клешеныеюбки. Когда она поворачивалась к доске, её юбка совершала доворот градусов на сорок пять-шестьдесят, потом плавно возвращалась на место, щекоча, наверно, её точеные ножки. При этом, она еще встряхивала своими золотыми кудряшками. В классе стояла тишина, только девчонки перешептывались. Вот с этого времени Шика и полюбил первую парту, верней, первый стол, потому что парт к тому времени уже не было. Как только Тётя Света садилась на своё место, Шика вперивался в неё глазами и плавно начинал смещаться вперед, почти утыкаясь носом в разрез её грудей.
Пробыла у нас Тётя Света недолго. То ли от Шикиных взглядов, то ли от чего другого, у неё быстро начал расти живот, и к Новому году она ушла в декрет.
Пришел новый математик Роман Иванович Колосков. Милейшая личность. Не многих своих учителей я вспоминаю с такой теплотой, но внешность у него была пречуднейшая. Есть мнение о внешности – как будто бы в зародышевом состоянии мы проходим предыдущие этапы развития.
Человеческий эмбрион похож то на рыбу, то еще на кого-то, но есть люди, у которых предыдущая животная жизнь просто сквозит во внешнем облике. Готов поклясться, что Роман Иванович долго был сурком или сусликом. Когда он увлекался объяснением урока, он складывал по-сурочьи руки на груди, задирал свою лысую голову и блаженно улыбался, выставляя на всеобщее обозрение два больших передних зуба. При этом он был совершенно косым, поэтому, чтобы рассмотреть что-либо повнимательней, он смешно поворачивал голову в сторону и глядел одним глазом. Милейший человек, одним словом.
У Романа Ивановича было еще одно огромное достоинство – до нас он никогда не работал в школе. Он пришел к нам из какого-то техникума и относился к учащимся на удивление уважительно и даже старомодно. Единственный был момент неприятный, связанный с ним. Он написал учебник по дифференциальному исчислению и отдал его на рецензию профессору МГУ, через его сына Колю (Профессора), учившегося в нашем классе и вот, я случайно застал сценку, когда Коля возвращал РИ его рукопись. Коля, видимо, перенимая манеры отца, небрежно говорил о недостатках книги, а Роман Иванович униженно и просительно смотрел на маленького тощего Колю, лепеча какие-то оправдания.
Впрочем, не все, кто пришел в школу со стороны, хороши. Например, физичка наша пришла из какого военного НИИ, по-моему, с Алмаза, но лучше б не приходила. Она не была плохой, она была просто никакая. Это, конечно, не редкость, «никаких» учителей было много, но, что интересно? сразу три нерядовых учителя у меня были по самому нелюбимому мною предмету, по математике, и лишь одна Наталья Яковлевна по литературе.
Первое января 1971 года мне запомнилось. Это очень редко бывает, потому что запоминаются хорошо только события, выходящие из ряда вон, а праздники с их застольями, как и будни, в основном, похожи один на другой.
В тот день я вышел из дома, когда уже начинало темнеть. Меня попросил прийти к нему Мартышка, с которым мы путешествовали по Волге. Тогда мы с ним часто общались, играя в хоккей в дворовой команде. Я лично играл очень мало, хотя и получил за этот сезон золотую медаль. Вообще, это была не игра, а халтура, хорошо, если на игру собиралась одна пятерка и пара человек запасных. Играли на дрянных открытых площадках. Защитные приспособления мы одевали полностью, а форма была у кого какая. Но у нас был кукиш в кармане – в команде были два действительно хороших хоккеиста. Это были Лютик из параллельного класса и Мартышка на класс младше.
Лютик тренировался в ЦСКА, был крупным, мощным игроком, он летал по площадке как боевая машина, противник его как огня боялся, особенно после того, как на одной из игр он покалечил вратаря. Он собственно был не виноват, но у Быстрова, так же как и у Тарасова, большое внимание уделялось силовой подготовке. Щелчок у Лютика был убийственный. У меня этот момент до сих пор перед глазами. Лютик получил пас, размахнулся и ударил низом от синей линии. Вратарь противника неловко выставил клюшку вперед. Шайба от клюшки влетела ему под маску. Парень упал без движения. Когда мы подъехали, на льду уже появился ручеек крови. Вратаря унесли, а зубы его остались на льду рядом с шайбой.
Мартышка играл совершенно по-другому. Его игра не была красивой. Он сам был маленький ростом, кривоногий и на год младше. Он играл за свой год в Динамо. Отдавать ему пас не хотелось – после этого можно было попрощаться с шайбой, он наклонялся ко льду, как будто хотел шайбу схватить еще и зубами и начинал пробираться в сторону чужих ворот, не обращая внимание на защитников, и что более печально – на партнеров. И что самое удивительное, часто ему удавалось прорваться и даже забить.
Вот этот самый Мартышка и позвал меня к себе. Он жил в желтой хрущебе у Песчаной площади вдвоем с матерью, которая в данный момент была на работе. Она работала метрдотелем в гостинице Россия. Собственно, это обстоятельство я выяснил, уже придя к нему и усевшись на кухне. Мартышка выставил на стол две бутылки польского меда – это был такой двадцатиградусный, очень вкусный напиток из натурального меда. Это было богато, но объяснимо.
На столе уже стояла большая хохломская плошка, накрытая полотенцем. Мартышка подолбил об стол черствой калорийной булочкой и сказал, что это вся закуска. Он просил меня по дороге зайти в магазин, но все уже было закрыто, и я пришел с пустыми руками. Впрочем, мне он подвинул плошку, сняв с неё полотенце, но сам есть это отказался, потому что он, дескать, этого уже видеть не может. В плошке оказалось килограмма полтора черной икры! Вот это уже было более чем удивительно. Я потребовал объяснений и тут то и узнал, где трудится его мать.
Мы поделили булочку пополам, выпили весь мед. Я с большим удовольствием съел не менее килограмма икры.
Вот, собственно и всё. Ничем больше этот день не был примечателен. Но я его запомнил, и еще несколько лет после этого дня вид или запах икры вызывал у меня рвотную реакцию. По-моему, в том же году или чуть позже вышел фильм «Белое солнце пустыни». Когда Луспекаев морщится там перед плошкой с икрой, весь зал катался от смеха, а мне было совсем не смешно. Я его понимал!
* * *
Родители всегда воспринимают своих детей невинными созданиями. Нимб херувимчика из детской кроватки витает над ребенком в глазах матери до седых волос отпрыска. Это я сейчас про крайне характерный случай, про СС или Бугая, как сам он себя называл. Этот Бугай телесно был довольно хлипким, для драки он не годился совершенно, но был голливудским красавчиком (девки липли на него, как мухи на…), и черти в нем водились о-го-го какие. Он курил, как и все мы почти, любил крепко выпить и, мягко выражаясь, похулиганить, а все шишки за его проделки вешали на остальных, чаще всего, на меня. Я не обижаюсь, просто констатирую факт.
Он был единственным ребенком ответ работника ЦК. Жили они в тогда еще не очень богатой квартире дома (правда, с консьержками в подъездах) у Аэропорта, на седьмом этаже. Мы довольно часто бывали у него после уроков, естественно, при полном отсутствии родителей. Главной достопримечательностью квартиры был огромных размеров серый кот. Это было очень ленивое, но сильное создание.
Был такой случай: СС-отец находился дома один, расхаживая по квартире в связи с разными государственными надобностями. Кот, сидевший в это время на шкафу, внимательно наблюдал за, проплывающей мимо него периодически, макушкой и когда эта штука приблизилась на достаточное расстояния, треснул по ней лапой. Папа с катушек, скандал! Ответственный работник ЦК полчаса провалялся в собственной квартире без сознания, став жертвой собственного кота.
Однажды, мы этого кота подпоили и тот в погоне за птичкой, сидевшей на подоконнике открытого настежь окна, не рассчитал свои силы. В прыжке он лишь слегка царапнул когтями по жестяному фартуку водослива и улетел. Седьмой этаж! Внизу какие-то колючие кусты. Мы с СС так и не смогли различить там останков кота. Решили не спускаться на улицу, а сразу приступить к тризне, и уже выпили по одной, не чокаясь, когда позвонили в дверь. Это были то ли соседи, то ли консьержка… с котом, точнее кот прибежал сам и орал на лестнице. На нем не было ни царапины. Пришлось пить за его здоровье.
Тот самый, типичный случай, о котором я хотел рассказать был в другой раз. Подряд два скандала за день многовато. Сидели мы вдвоем с СС на той же кухне, в той же позиции. Цзынь-цзынь. Входит девица в каком-то непотребном одеянии. «Сережа! Вот я и пришла!». Её мелодраматический порыв никак не соответствовал её внешнему виду. На какой помойке он её добыл? Я не мог этого произнести вслух, но подумал. Мне казалось, он её выгонит, нет. Он раздел её в прихожей и посадил рядом. Без пальто и шапки просияла её довольно милая мордашка с иссиня-черными волосами, но что-то в ней было неопределимо грязное. Она скромно сидела на краешке стула, но, выпив, немного осмелела. Я всегда был брезглив и, поэтому почти сразу собрался уходить, и лучше бы проявил настойчивость, но СС меня задержал.
Через некоторое время, он стал снимать с гостьи, оставшиеся на ней, обноски. Не буду врать, фигура у неё оказалась ослепительной, но, судя по маленьким крепким сисечкам и острым ключицам, торчащим из-под волны черных волос, ей было никак не больше тринадцати лет. Она прикрыла грудь локтями и всё повторяла: «Сережа, Сережа», а Сережа пьяно хихикал.
Зрелище стало невыразимо противным, я встал и пошел к двери. Я успел уже надеть пальто, когда раздался еще один звонок в дверь. Потом еще один и еще… потом стук и крики. Вернулась с работы СС-мама. Положение реально стало хуже губернаторского, (как ревизор? как ревизор?). СС, по-моему, дискутировал с мамой через дверь. Обещал открыть, но не так сразу. СС-мама была довольно хрупкой женщиной, но, что не сделает человек в состоянии крайнего возбуждения – она разбежалась и плечом высадила дверь вместе с коробкой.
Уйти незамеченным мне не удалось. Огласки эта история не получила, но для семейства СС после этого я стал фигурой нон грата. А причем тут я?
Я, конечно, тоже не был пай-мальчиком. Приведу три случая, пришедшие на ум:
Первое пари.
Я на спор прошел карнизу дома, что рядом со школой. Дом был длинный, не меньше восьми подъездов. Плоская крыша, металлический парапет. А за парапетом плоский карниз, или как он там называется? а дальше пустота. Девять этажей.
Ходить за парапетом было не очень страшно. Страшно было возле лифтовых камер – их плоские стены выходили за парапет, делая карниз совсем узким. Эти места нужно было пройти боком, прижимаясь спиной к кирпичной стене и глядя в пустоту под ногами. Восемь подъездов – восемь лифтовых камер. Я даже не помню, на что был спор. Скорей всего – на бутылку портвейна. Ерунда, даже по тем доходам. Я не собирался покрасоваться перед кем-нибудь – дело было вечером, было почти темно, и меня не видели снизу.
Но я прошел.
Второе пари.
Совсем без героического налета. Даже стыдно излагать на бумаге. Но из песни слова не выкинешь, если уж взялся рассказывать…
Между Планетной улицей и стадионом Динамо была пивнушка. Вообще, пивных в Москве было не так уж и много, сказать по правде, почти совсем не было. Самая лучшая, на мой взгляд, находилась на углу Пушкинской и Столешникова, в подвальчике. Там всегда стояла очередь на ступеньках и выше, в сторону Моссовета. Впрочем, очереди были везде: на Абельмановке, у КПЗ (киевский пивной зал), на Новом Арбате. Та пивная, о которой речь, разрядом была на порядок ниже. Собирались там слушатели академии им. Жуковского, местные жители и динамовские болельщики.
Язык мой – враг мой. В приватном, казалось бы, разговоре я произнес такую реплику: «Насрать мне на ваше Динамо», забыв, где я нахожусь. Но мне напомнили, и я мог бы иметь очень бледный вид, если бы не выкрутился неожиданным, даже для самого себя, образом:
Я: А вот поспорим, что мне действительно насрать? В натуре?
Они: А докажи!
И что я сделал? Вышел на футбольное поле, на самую середину, огляделся (слава богу, по всей арене не было ни одного человека, кроме моих зрителей), снял штаны и… вот!
Самое поразительное, что какой-то непрошенный свидетель все же нашелся, потому что на следующий же день моя сестра спросила у меня, как я докатился до такой жизни.
Стыдно, но что поделаешь? Было.
Третий случай.
Здесь не было никакого пари. Просто, мы с Художником зашли в один подъезд на Алабяна и распили там бутылку портвейна. Нехорошо? Допустим, но, что нам было делать? Совсем не пить? А если хочется чуть-чуть приложиться? Не много, не для пьянки, а веселья для. А где это можно было сделать? Гораздо позже в Москве появились рюмочные, но в те поры их еще не было.
В пивных, даже самых хороших, обстановка была мерзопакостная. К тому же, отстояв длинную очередь, разве можно было взять одну кружку? Нет. Были кафе, но там подавали только сухое вино, если так можно было назвать эту бутылочную кислятину. Были редкие кафе, где отпускали коньяк, например Хиросима, возле мясного. Но разве бюджет школьника мог выдержать коньяк с общепитовской наценкой. Про рестораны я вообще молчу. И куда нам было податься? в подъезд и только в подъезд. Сначала, правда, в магазин.
Стоим мы, значит, между вторым и третьим этажами, никого не трогаем, тихо беседуем. Выходит из квартиры второго этажа мужичок. Сам мелкий, а физиономия глумливая и подлая. И объявляет нам, что мы, дескать, попались, и что сейчас нас будут бить. Если бы он попросил нас покинуть подъезд, мы бы тут же ушли, молча и по-прежнему никого не трогая, а тут мы, естественно тоже схамили. Мужичок, повторяя: «Ну, всё… ну, всё…» бросился вниз по лестнице, мы за ним.
Дальше всё происходило в «резиновом времени». При обостренном чувстве опасности время для человека ненадолго меняется. Не сказать, чтобы оно замедлялось, но уж и ни в коем случае не удлиняется, оно становится импульсивным и как будто действительно резиновым, то растянется, то сожмется, и в промежутках между этими фазами, можно успеть сделать очень многое. Тогда это со мной было в первый раз. Во всяком случае, первый раз я это заметил / я вспомнил про случай в пионерском лагере несколько позже /.
Мужичок быстро позвонил в обе квартиры первого этажа, и, почти сразу, в дверях этих квартир появились два здоровенных мужика, напомнивших мне тульских ломовых извозчиков Егора и Николая, только с целыми руками и ногами. На растянутом импульсе времени мы проскользнули мимо них к двери на улицу. На сжимании выскочили во дворик. Потом, когда время опять стало растягиваться, я мучительно медленно обернулся и увидел бегущего ко мне мужичка со второго этажа. Я почти без усилий, инстинктивно бросил кулак в сторону его гнусной физиономии. И здесь произошло еще одно удивительное с точки зрения физики событие. Я думаю, что импульс силы увеличивается пропорционально растяжению времени. Мой небрежный удар получился настолько сильным, что мужичок завис в воздухе в горизонтальном положении в полутора метрах над землей, потом упал и закатился под скамеечку.
С этого момента время вошло в свой нормальный ритм. Мы с Художником влились в поток пешеходов и двинулись в сторону метро. Выскочившие было из подъезда, мешая друг другу, два здоровяка, удивленно остановились в дверях. Во-первых, они потеряли из виду «предводителя»;во-вторых, они были в тренировочных штанах, в майках и в тапочках, а была весна, и еще лежал мокрый снег. Мы спокойно удалились.
Справедливости ради, нужно сказать, что Художник вовсе не всегда был таким тихим, как в тот раз. Однажды, мы были с ним в Большом театре. Билеты туда достать было не просто, поэтому нас не смутила ложа пятого яруса. И как выяснилось зря, из этой ложи, был виден только маленький кусочек сцены, всё остальное загораживала огромная люстра.
Нужно быть большим любителем оперы, чтобы не заскучать и получить удовольствие. Мы таковыми не оказались и заскучали. Костя был поэт, но не меломан. К тому же, как сказал сатирик, «у нас с собой было». Я помню томную Костину физиономию, когда на сцене, верней на том кусочке, который был виден с пятого яруса, сидят Баттерфляй и, чуть сзади, её служанка Судзуки и поют что-то заунывно-грустное. Так же томно и грустно Художник произносит: «На полу сидят две суки и одна из них Судзуки». Он думал, что отсюда, с пятого яруса, его голос не будет слышен внизу. Услышали!
Тоже стыдно, но меньше, чем за Динамо.
5. Резиновое время
Я описал в своих воспоминаниях не менее пяти случаев, когда время явственно меняло для меня скорость своего течения. Это было, когда я ребенком прыгнул с трамвая, было в драках и в автомобильных авариях, особенно явственно проявилось, когда я прыгнул с мотоцикла на большой скорости. Позже я расскажу об этом случае.
Может быть, тут тоже ничего необычного нет? Может быть, это тоже досужее воображение, игра воспаленного мозга?
Вопиющая необычность этих явлений стала очевидной для меня лишь после того, как я испытал и прочувствовал ВТП. До этого все эти случаи если и не казались мелкими, то уж, во всяком случае, не переполняли чашу внутреннего недоверия к окружающему, казались исключениями из правил, как это говорят, только подтверждающими сами правила. А после этого, вылезли самостоятельно и стали железнодорожниками из того анекдота.
Еще раз сформулирую необычность описанных мной случаев в общем виде.
1. В зависимости от необходимости в одних случаях (в драках) сила удара моего кулака увеличивалась в N раз, производя оглушающее действие на противника, в других – при прыжках с трамвая и мотоцикла сила удара о землю уменьшалась до самых минимальных значений и позволяла мне мягко приземлиться.
2. Во всех случаях я явственно чувствовал изменения скорости времени.
Казалось бы, это не так уж и необычно. Можно объяснить с точки зрения современной науки. Приведу объяснения из лекции по физике на уровне средней школы:
В специальной теории относительности рассматриваются только инерциальные системы отсчета, т. е. такие, в которых выполняется закон инерции и скорость света в вакууме является универсальной постоянной.
Постулаты теории относительности
Первый постулат: законы физики имеют одинаковую форму во всех инерциальных системах отсчета. Это обобщение принципа относительности Ньютона на законы не только механики, но и всех других областей физики, носит название принципа относительности Эйнштейна.
Второй постулат: свет распространяется в вакууме с определенной скоростью c, не зависящей от скорости источника или наблюдателя. Согласно специальной теории относительности (СТО) скорость света в вакууме является абсолютной величиной, а такие абсолютные с точки зрения классической механики Ньютона понятия, как длина и время, стали относительными.
Релятивистский закон сложения скоростей: если в неподвижной системе отсчета скорость тела и скорость движущейся системы отсчета направлены по одной прямой, то:
где u – скорость движения тела в движущейся системе отсчета; v – скорость движущейся системы K относительно неподвижной системы K; u– скорость тела относительно неподвижной системы отсчета K(рис. 1).
Релятивистское замедление времени
Если t0 – интервал времени между двумя событиями, происходящими в одной и той же пространственной точке, неподвижной относительно системы K', а t – интервал времени между этими же событиями в системе K, то
где c – скорость света в вакууме. Время t0, отсчитываемое по часам, покоящимся относительно данного тела, называется собственным временем. Оно всегда меньше времени, измеренного по движущимся часам: t0 < t.
Релятивистское сокращение длины
Если l0 – длина расположенного вдоль оси x стержня в системе K, относительно которой он покоится, а l – длина этого стержня в системе K, относительно которой он движется вдоль оси x со скоростью v, то:
Поперечные размеры движущегося стержня не изменяются. Линейный размер стержня l0 в той системе отсчета, где он покоится, называется собственной длиной. Эта длина максимальна: l0 > l.
К этому еще можно добавить, что знаменитую формулу Эйнштейна, известную всем как E=mc2, правильней писать в дифференциальной форме:
dE = dmc2
Тем, кто немного знаком с математикой, из этого очевидно, что в некоторых условиях, переменной и относительной становится не только время и пространство (длина в контексте отрывка), но и масса одного и того же тела. Вот так вот, вроде бы, всё можно рассчитать и объяснить, но есть два огромных «но»:
Давайте забудем о том, что вся теория относительности висит на весьма сомнительных постулатах (приведены в отрывке), будем считать её абсолютно верной, но:
1. Действительна-то она только на скоростях близких к скорости света! Применить её можно либо на мифических фотонных космических кораблях, либо на элементарных частицах в микромире.
2. Законов инерции теория не отменяет, это прямо указано в преамбуле отрывка. Школьные учителя объясняют это на некорректном, но наглядном примере. Если космонавт в невесомости ударится об стенку со сколько-нибудь значительной скоростью, он получит преогромную шишку, потому что, хоть он и не весит ничего, а сила инерции остается прежней.
А я-то оба раза приземлился очень мягко и не только шишек не имел, но даже зачатков боли не почувствовал. И это еще не всё. Для того, чтобы скакнуть от мотоцикла, прямо с сиденья на десять метров в сторону нужна большая сила, а значит нужно замедление времени, правильно? Ведь импульс силы обратно пропорционален квадрату времени, а что нужно для того, чтобы мягко приземлиться? Совершенно наоборот – время должно ускориться до невозможности, чтобы уменьшить массу почти до нуля! И всё это сразу, в одном флаконе.
И самое главное даже не в этом, а в том, что любые формулы применимы ко всей системе целиком, будь то космический корабль или молекула этилового спирта, где не может один атом подчиняться только законам Ньютона, а другой только правилу Буравчика, хотя это и самая пьяная молекула в мире. А со мной что получается? Время-то и всё остальное, соответственно, меняется только для меня и только на тот момент, когда это необходимо!
Что это, если не чудо, в обыденном понимании? И совершенно не имеет значения, сделал это я сам, какими-то, непонятными самому себе, экстремальными возможностями, или кто-то другой, наблюдающий за мной со стороны.
Вспомнил, кстати, анекдот на эту тему. Не могу не поделиться:
Поспорили христианин с иудеем, у кого религия чудесней. Христианин рассказал историю про Николая чудотворца:
– Представляешь, – говорит, – Помолились люди Богу и случилось чудо. На всем океане буря и шторм, а вокруг корабля тишь да гладь. Все спаслись.
– Это что, – отвечает иудей, – Вот со мной был случай! Иду я по Хайфе, недалеко от порта, суббота, делать ничего нельзя и вдруг вижу – бумажка в десять шекелей валяется! Как быть? Нагибаться нельзя – шабат! Взмолился я, помоги Всевышний! Он меня услыхал и тут же совершил чудо. Не поверишь! По всему городу суббота, а прямо вокруг меня – пятница! Нагнулся спокойно, поднял бумажку и пошел. А ты говоришь…
6. Похороны детства
Помню очень веселый вечер, закончившийся очень печально. Мы тогда своей развеселой компанией с девчонками ходили в сад Эрмитаж. В театр Миниатюр. Домой шли пешком, хотя это и не так близко (пять остановок на метро, плюс вся Новопесчаная улица). Вернулся я домой, как говорится, усталый, но веселый.
Войдя в квартиру, я сразу почувствовал неладное и действительно, пока я снимал ботинки, сестра, подошла ко мне с каким-то странным, удивленным и то ли серьёзным, то ли восхищенным лицом и торжественно сообщила, что умерла бабушка.
Теперь я понимаю, что это выражение лица не было бесчувственным, оно было бессознательным выражением непонимания и неприятия смерти и, в то же время некоторого любопытства. Кстати, я думаю, столь же глупое лицо было у меня самого, когда мы на следующий день входили уже в тульский дом. На лице у меня была улыбка встречи с любимыми родственниками, когда я открыл дверь и увидел деда. Но дед, вроде бы и не видя меня, прошел мимо и обнялся с матерью. Они громко зарыдали, а я остался один посреди сеней, не зная, что мне дальше делать. Представляю, как менялось в это время моё лицо.
В доме уже собрались родственники, в том числе и достаточно дальние, которых я не знал или не обращал на них внимания раньше. Особенно мне тогда запомнилась материна крёстная. Я и сейчас не знаю, как её зовут, все называли её просто Крёстная. Она и на этих и на последующих похоронах была очень активна. Ей тогда уже было за девяносто, но это была шустрая маленькая богомолка (я её всегда видел только в черном). Она всех знала и за всех молила Бога. Меня она называла «Андрик». Очень она расстроилась, узнав, что я не крещеный: как же так, говорит, грех то… а я, дескать, каждый раз на тебя за здравие подаю, как за крещеную душу. Потом выяснилось, что грех не велик и, что его легко отмаливать по ходу, даже если продолжать просить за меня и дальше. Она совершенно успокоилась и даже повеселела. Похороны для неё, вообще были делом привычным. Она привела двух монашек, которые всю ночь читали над усопшей.
Рано утром, еще по-темному, вынесли гроб и повезли в церковь. Для меня всегда церковные обычаи казались, мягко выражаясь странными. И в тот раз я очень удивился, что служба, начавшаяся в восемь утра, называлась обедней. Служба длилась долго. В какой-то момент мы с дедом вышли по малой нужде. Стояли рядом. Дед писал кровью – на белом снегу осталось ярко-красное пятно. Дело в том, что у деда был рак мочевого пузыря и всего за неделю до этого он вернулся из Обнинска, где ему делали облучение опухоли. Мы потихоньку готовились к смерти деда, но умерла бабушка, совершенно неожиданно. Она легла в больницу подлечить больное колено и вдруг умерла, врачи сказали – тромб.
Это были мои первые похороны близкого человека. Всё происходило в легком тумане, частью из-за того, что, как и все, я периодически пил водку. Тульский завод тогда выпускал очень поганый напиток. На помин мы купили ящик или больше водки в бутылках с этикеткой под бересту и названием Российская. Такое впечатление, что воду для этой водки брали из болота. Считается, что поминки дают облегчение, но тот раз я этого не заметил. Дядя Саша под действием алкоголя сидел на кухне мрачный и говорил гадости, например, он сообщил, что в мертвом теле жизни нет и потому оно называется – труп. Он повторил это несколько раз, и от этого было противно. Как можно назвать тело умершей матери трупом? До сих пор не понимаю.
Больше всех напился сосед напротив – старик Хомяков. В какой-то момент он заснул за столом и опрокинулся назад вместе со стулом. От удара об пол из его карманов выпали пирожки и котлеты, стибренные им со стола.
Мой дед был очень грустным, но пытался храбриться. Он говорил, что летом будет вставать рано и ходить за грибами, и что его грибы никто не успеет собрать. До грибов он не дожил. Он умер той же весной. Умер в той же больнице и тоже от оторвавшегося тромба. Можно сказать, что ему повезло – он миновал мучительную раковую агонию. Смерть от тромба мгновенна.
С похоронами все повторилось почти один в один. Когда дед лежал в открытом гробу в церкви, подошла старушка, покачала головой и сказала: «Надо же… какой хороший человек умер». Я стоял рядом с гробом и думал о том же. Лицо деда в гробу почти не изменилось, а если и изменилось чуть-чуть, то в лучшую сторону. На опыте предыдущих похорон, я был уверен, что изменения должны быть значительно большими.
Вместе с дедом умер существенный пласт моей прежней жизни. Жизненные изменения, и без того наметившиеся естественным своим порядком, стали необратимыми. В Тулу после этого я заезжал только на похороны дядьев, которые последовали скоро, через год-два, и еще несколько раз, в основном проездом.
Мать с дядьями быстро продали дом. Тысяч за семь-восемь. Во всяком случае, материной доли хватило на то, чтобы внести первый взнос в кооператив и уже осенью мы переехали в новую квартиру в Бескудниково. Из вещей взяли на память кое-что из посуды и бабушкину икону. Вот собственно и всё. По-настоящему, остается с нами только память.
7. Борьба за мир
Есенин по поводу этого возраста сказал: «Мы все в эти годы любили, а значит любили и нас». На нас в то время просто нападали девочки из классов помладше. Мы иногда гуляли с ними в березовой роще.
Где-то рядом, возле нынешнего метро Полежаевская была у меня девочка, эта была не из младших классов, она училась где-то в медучилище. Помню, мы с ней чем-то развлекались в её комнате и вдруг… приходят родители. И ничего, я ушел уже поздно вечером, так и не увидев их.
Там девочки, тут девочки. Вы спросите, а как же первая любовь? Та самая Скво? Это может показаться несколько противоречивым, но я продолжал её любить, так же преданно и чисто.
В старших классах у нас был предмет – начальная военная подготовка. Вел этот предмет Черный полковник, вообще-то отставной капраз, но тогда в связи с событиями в Греции по телевидению клеймили позором черных полковников, а наш носил черный морской мундир, ну и прицепилось к нему. Это был добрейшей души человек, и мы на его занятиях прекрасно проводили время, разбирая АКээМы и бросая учебные гранаты. Он же вел во всех классах обязательный курс ГО. Время было суровое – ядерной войны ждали со дня на день. У нас в стране, правда, никогда к этому не относились так серьёзно, как в стане наиболее вероятного противника. У нас пели песенки:
Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
Все мы боремся за мир.
Между девятым и десятым классами, летом Черный полковник привез нас в Таманскую дивизию на недельные сборы. Первое, что запомнилось в казарме это совершенно неповторимый и до невозможности устойчивый, смешанный с чем-то сладким, запах прелых портянок.
Это была образцовая гвардейская дивизия. Нас поселили в трехэтажной казарме со спальным помещением раза в три меньше, чем в Суворовском училище. Под окнами было хорошее футбольное поле и плац. Черный полковник, которого мы к тому времени повысили в чине и стали называть Канарисом, жил с нами, но был только наблюдателем, для непосредственного командования нам выделили двух курсантов: один командовал взводом красных (класс «а»), второй взводом синих (наш класс «б»). В каких-то полях мы окапывались, а потом штурмовали укрепления вражеского взвода. Курсанты при этом забрасывали нас взрывпакетами. Весело было.
В Таманской дивизии в то время был кавалерийский полк, для нужд батального киноискусства. Ничего интересного в кавполку мы не видели. Лошади стояли в конюшнях, а солдаты, в основном киргизы, тупо ходили строевым шагом по плацу и отдавали честь столбам. Для нужд того же искусства один танковый полк был частично укомплектован Тридцатьчетверками военных времен и немецкими Тиграми.
* * *
Мы в танковом парке. Солдаты драят танки, офицеры кучкой в сторонке. Нам позволяют полазить по одному из танков Т-55, находящемуся в ремонте и, якобы совсем не функциональному. Делайте, дескать, что хотите. Я сначала забираюсь на место командира и кручу башней, потом выбираюсь на броню и сползаю на только что освободившееся место водителя. Наш Черный полковник, он же адмирал Канарис, с дежурным по парку офицером сидят у танка, почти под гусеницами и курят.
Испытываю какое-то непонятное, но явственное удовольствие. Я всегда любил танки и берусь за рычаги с приятным трепетом, пусть даже танк не функционален. Приборный щиток висит на проводах, чтобы он не мешался, ставлю его на место. Пытаюсь закрыть люк, но это у меня не получается, голова мешает – видно механик-водитель здесь слишком мелкий – сиденье отрегулировано под него. Бог с ним с люком. Всё здесь понятно: сцепление, тормоз газ, переключение передач чудное, но тоже понятное. Нажимаю кнопку выключателя массы, стрелки на приборах дергаются и встают на место. Ого!
Я забываю про Канариса и вообще, про всех, жму на сцепление, стартер и газ. Танк задрожал и окутался сизым дымом. Пацаны попрыгали с брони в разные стороны, Канариса с дежурным офицером из-под гусениц как ветром сдуло. Проехал я совсем немного – мотор заглох. Как только машина остановилась, ко мне бросились со всех сторон. Понимаю, что будут бить, ныряю под сиденье и захлопываю люк. Не открывая люка, объясняю дежурному, что нечего было называть танк сломанным и разрешать делать что угодно. Простили меня моментально и даже объяснили, что нужно было немного прогреть мотор и выровнять какое-то давление – тогда бы не заглох.
Все время пребывания в дивизии мы целыми днями ходили с оружием, приэтом автоматы были совсем не учебные. В последний день на полигоне мы стреляли из своих автоматов по стандартным мишеням. Трехсотметровое пулеметное гнедо я положил сразу, а вот на двести метров бегущую – никак. Чувствую, попадаю, а она не падает. Встаю, докладываю – у вас де мишень сломана, нам, временным тут разрешались всякие вольности. Мне говорят, что стрелять нужно уметь. Докладываю вторично, что я участвовал в Спартакиаде дружественных армий в Киеве (привирая совсем немного – в зачет я не стрелял).
Дежурный офицер хулиганит, бьет двумя длинными очередями по моей мишени, стоя, от бедра. Вторая очередь явно цепляет мишень, но она остается стоять. Мне дают полный магазин патронов, раз уж такой Ворошиловский стрелок. Я ложусь на линии огня, даю несколько коротких очередей – мишень стоит. Тогда я сильно вбиваю магазин в бруствер и нажимаю спуск. Длиннющая очередь раскалывает мишень пополам, от плеча до плеча.
После этого случая Канарис назначил меня заведующим школьным тиром.
В то лето мы вдвоем с матерью отдыхали на турбазе Боровое. Это недалеко от Ногинска. Мне было хорошо с первого дня, а мать смотрю, загрустила. Я давай расспрашивать – она чуть не плача за завтраком призналась мне, что её поселили в плохой комнате, непонятно с кем, спать не дают.
Я втихаря сходил, позвонил отцу. На обед мать пришла довольная и немного удивленная – за ней пришли, перенесли вещи в новый корпус, соседка замечательная и т. д. и т. п. А ничего удивительного, начальник турбазы был приятелем отца по Ленинграду. Регистраторша же этого не знала, ей никто не сказал. Турбаза вообще была замечательная, я там бывал неоднократно и до и после того. Она располагалась в сосновом бору, посредине которого было изумительно чистое озеро. Дно можно было рассмотреть на глубине не меньше десяти метров. На озере в тот год жил лебедь Борька, кусавший женщин, катавшихся в лодках, за ноги и за юбки. К мужчинам он был равнодушен.
Но мне сидеть с матерью на базе было не с руки – я ходил в походы. Я могу сказать, почему в СССР такой популярностью пользовался туризм – негде было заниматься «этим самым». Квартирный вопрос был слишком напряженным, гостиниц было мало и селили только по паспорту и только в чужом городе. Квартира уехавших куда-нибудь друзей? Хлопотно все это было. А тут палатка, спальный мешок, гитара, красота. Подмыться если что, правда, только в речке, но уж тут не до комфорта – не графья, перебиться можно.
В пешем походе я наметил себе одну круглолицую девушку, всего Окуджаву и Визбора наизусть знала, настоящее «Солнышко лесное», но она попала под инструктора. Зря я четыре дня потерял. В лодочном походе повезло больше. То ли инструктор был не так привлекателен, то ли выбор больше. В походе мы с курсантом подводником по имени Рустэм подружились с двумя медичками из Минска.
Мы шесть дней плавали на тяжелых четырехвесельных Ялах по речке Шерне. У меня в лодке сидел ребенок с мамочкой, поэтому греб я все время в одиночку. Шерна речка неширокая, кое-где со своеобразными перекатами. Пока плыли вверх, я, конечно, уставал здорово, но усталость компенсировалась красотой природы и ночными купаниями с девочками. Если б еще не водка, по крайней мере, не в таких количествах, было бы совсем правильно. Однажды я под утро уже забрался в свою палатку спать. Укладываюсь в спальник и никак толком не получается, и так и сяк. Так и промучился до подъема. Оказалось, что проспал я всю ночь в рюкзаке.
И еще в этих походах мне жутко надоела тушенка. В магазинах тогда её было не достать, её выбрасывали иногда в испачканных густым машинным маслом железных банках. Она поступала в торговлю из спецзапасов на случай войны, когда уже заканчивался срок хранения. Этикетки выдавались отдельно. Народ расхватывал на ура. А здесь же турбаза министерства обороны – снабжение с армейских складов. Ну, и в походе, естественно: на первое с тушенка с водой, на второе тушенка без воды, на третье вода без тушенки.
8. Метаморфозы
Первый раз за долгие годы первого сентября я с удовольствием пришел в школу. Выпускной класс. Все собрались нарядные. Шика пришел в шикарных белых джинсах. Он съездил в стройотряд УДНа (как он туда попал не понятно) заработал денег и принарядился. На удивление дружно всем классом мы гульнули до позднего вечера.
В сентябре была прекрасная теплая погода. В один из этих солнечных дней мы хоронили географичку Анну Ивановну, ту самую грубую, но добрую. Учебу в тот день отменили, и почти вся школа собралась проститься. На Головинское кладбище поехали не все, но старшеклассники были нужны, чтобы нести гроб и вообще помогать, особенно я, как знаток похоронного обряда. Я еще возле школы начал давать советы, кому и где стоять, что делать, а на кладбище Директор совсем передал руководство в мои руки. Во время похорон многие вполне серьезные и ответственные люди становятся беспомощными и наивными, все спрашивают: «А как по обряду-то полагается?» – будто имеет какое либо значение, как понесут венки и кто где будет стоять. Всё уже, человек ушел и надо зарыть его тело.
Вечером мы с СС и Художником как-то сами собой оказались в школе. Я так понимаю, главное рассуждение наше было: «… Денег нет, а выпить надо». На наше удивление Директор школы нас встретил, как родных, нисколько не смущаясь тем, что мы вроде, как бы ученики. Нас посадили за общий поминальный стол, СС сказал речь от имени учеников, хотя, как я теперь только понял, он покойницы даже не знал – география у нас закончилась в восьмом классе, а он пришел в девятый.
Тризна проходила в школьной столовой, водки, по русскому обычаю, было много. Женщины долго не засиживались, расходились по домам, остались самые выдержанные. Физкультурник, Владимир Иванович всё подносил откуда-то бутылки, разговор пошел совсем задушевный, но всей водки мы так и не одолели.
Дома у меня естественно не поощрялась выпивка да и курение тоже. У меня были спецсредства против запахов, типа мускатного ореха и проч. Но в тот раз это вряд ли помогло, но, скорей всего и дома похороны считались уважительной причиной. Я хорошо помню, с каким трудом я утром добрался до школы. Перспектива просидеть в таком состоянии полдня в душном классе была невыносимой, но долг заставлял. В дверях столовой томился физкультурник. Он меня не пропустил дальше. Со знанием дела он провел реанимационные мероприятия со мной и СС, но сначала мы зашли к Директору – оказалось, вчера забыли закрепить табличку на могиле. После реанимации нас откомандировали с этой табличкой на кладбище.
Почему мы добрались на Головинку только к вечеру одному богу теперь известно. Но в том, что мы были уже совсем трезвые, могу ручаться. Солнце уже садилось, до закрытия кладбища оставалось полчаса или чуть больше, народу уже почти совсем не было. На могиле мы, как положено, закрепили табличку, пристроили получше фотографию и присели покурить перед обратной дорогой. И тут произошло нечто, что до сих пор приводит меня в изумление и недоумение.
Я никогда не верил в вампиров и сейчас не верю, однако даже сейчас не могу с уверенностью определить, что это было, верней, кто это был. Он подошел незаметно, просто тень от низкого уже солнца легла на могилу и скамеечку, где мы сидели. Сначала я подумал, что это смотритель кладбища. Человек с маленькой и какой-то сморщенной головой почти коричневого цвета лица, в длинном, до пят, колоколообразном линялом плаще стоял и молча смотрел на нас. Мы сказали ему, что уже уходим. Он, по-прежнему молча, улыбнулся, и при этой улыбке, на его нижнюю губу выползли два длинных желтых клыка. Глаза тоже засветились желтушным оттенком.
Что вполне естественно – нас сдуло с кладбища. Уходя (или убегая?) мы всё время оглядываясь, видели, что это чудище оставалось на том же месте. Картинка эта до сих пор встает у меня перед глазами, вызывая непонятную оторопь, но прокомментировать этот случай я никак не могу.
В десятом классе мы остались без Натальи Яковлевны, у неё тоже оказался рак, как и у географички, она потом прожила недолго. Это была для меня самая большая потеря в учительском составе. Вместо неё к нам опять вернулась Марина Ефимовна, о которой в первой части книги я высказал несколько нелестных слов, что она якобы играла роль дерьма на пашне.
Большинство людей у нас не понимают и не любят классическую литературу именно из-за таких вот учителей. Вся её речь состояла из дешевых штампов. «Свинцовые мерзости жизни» у неё постепенно переплавлялись «в горниле революции». Однажды она задала нам сочинение на свободную тему. Нужно было написать рецензию на любую книгу вне программы. Я тогда прочитал в журнале Москва «Бомбу для председателя» Ю. Семенова и быстренько написал рецензию. Разбор сочинений в классе она начала именно с меня.
– Вы посмотрите, что он (я) написал! Я же предупреждала, что нужно брать серьезные книги и чтобы никто не брался рецензировать всякое «чтиво». А это что? Детектив какой-то! Тройка… с натяжкой.
Она не догадывалась по простоте душевной, что книга Семенова «Семнадцать мгновений весны», на продолжение которой я написал рецензию, уже тогда была почти классикой. Оно и понятно – фильм-то еще не вышел. Но, все же, что-то её зацепило в моем сочинении. После урока она подошла ко мне в коридоре и попросила дать почитать это самое «чтиво».
Ну не нравился я ей (надо отметить, вполне взаимно). Кстати, я обещался в первой части рассказать, почему её дерьмо всё же легло на пашню. Это случилось на выпускном экзамене.
На экзамене по литературе мне нужна была пятерка, потому что эта сколопендра поставила мне годовую тройку, а иметь в аттестате тройку по литературе было стыдно. Если б на экзамене я получил пять баллов, то суммарно получилась бы четверка. Принимала экзамен комиссия РОНО. Первый вопрос я ответил безукоризненно. Мой ответ на второй вопрос комиссии тоже явно понравился. Читаю название третьего: «Женские образы в романе Толстого „Война и мир“.» Встает эта злыдня и с милой улыбкой объявляет членам комиссии:
– Я думаю – достаточно. Женские образы он знает лучше нас с вами.
Я ушел из аудитории победителем. Однако, я рано радовался. Когда объявляли результаты и мне зачитали четверку, я чуть было не бросился в драку – Директор остановил, объяснил, что в жизни бывает всякое и даже он сейчас бессилен.
Спросите, что ж тут хорошего в этом эпизоде? Скажу. Всю оставшуюся жизнь я отвечаю для себя на этот самый третий вопрос билета! Я перечитываю «Войну и мир» не реже, чем раз в год. Можете посчитать, сколько раз я его перечитал? Про женские образы в этом романе я мог бы написать диссертацию и не одну. Но главное, при каждом прочтении я получаю несказанное удовольствие. В сравнении с этим, что такое тройка в аттестате? Тьфу на неё и всё.
* * *
Интересный случай был однажды на уроке химии. Химичка у нас была женщина, мягко выражаясь, своеобразная. Она одевалась старомодно, но с большой претензией. Накладывала на лицо полкило штукатурки и все время поглядывала в зеркало. Она очень завидовала девчонкам. Особенно она привязалась к некоей Гражданке, самой, кстати, некрасивой девчонке в классе.
– Вот ей, Гражданке, можно приходить в школу после бессонной… не побоюсь сказать любовной! ночи, а мне нельзя? Я еще тоже молодая (ей было около пятидесяти), и еще имею право!
И однажды она пришла! Её урок был первым. Звонок уже давно прозвенел, а её все нет и нет, мы уж собирались расходиться, но тут она влетела, как вихрь. Буркнула, чтоб мы рассаживались по местам и скрылась в подсобке снимать пальто (лабораторные подсобки были положены в кабинетах химии и физики).
Когда она оттуда вышла, класс онемел, но не все прочувствовали ситуацию до тех пор, пока она, продолжая что-то говорить по теме урока, не вышла из-за кафедры в класс. От хохота не смогли сдержаться даже самые прилежные ученики. Химичка посмотрелась в зеркало, но там ничего предосудительного не увидела. Оно и понятно – лицо было в порядке, замазано на совесть. Одна из девчонок встала и шепнула ей на ухо и, тогда только она посмотрела вниз – она в спешке забыла одеть юбку.
Я её понимал. Мне тоже тогда приходилось мало спать и спешить в школу. Осенью этого года мы переехали на новую квартиру в Бескудниково. Переходить за полгода до окончания в новую школу никак не хотелось, и я стал ездить на перекладных – с автобуса на троллейбус, около полутора часов в один конец. Но зато у меня теперь появилась своя комната. Мне вообще никогда не нравился этот район, зато у нас теперь была отдельная четырехкомнатная квартира.
Моей комнаты было всего девять метров, в ней стоял мой старенький письменный стол и кресло-кровать, но это была своя комната, «такой простор, такая воля». В первый же год в этой комнате произошла непонятка. Я проснулся среди ночи с ощущением, что кто-то стоит рядом со мной. Открыв глаза, я увидел странную женскую фигуру, которая тут же завертелась веретеном, стала таять в воздухе и исчезла. Я долго не мог заснуть от страха. Но сейчас, в отличие от случая с вампиром я знаю, что это было.
Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к этим делам. Например, моя сестра потом не смогла жить в нашей новой квартире, ей виделись постоянно какие-то чужие люди, приходящие, уходящие. Она говорила, что под нашим домом работает какой-то военный завод. Мы относили эти её разговоры к нервному расстройству после её развода с мужем. Но всё оказалось не так просто.
Где-то уже в начале двухтысячных годов, когда в силу специфики моей работы, мне приходилось довольно часто искать рамками подземные воды и коммуникации, я принес эти рамки в квартиру и был поражен очень странным эффектом. Кто умеет пользоваться рамками, знает, что они поворачиваются на 90 градусов при изменении якобы магнитных полей, то есть, когда проходишь над подземным ручьём или под электрическими проводами. Когда стоишь на месте, рамки фиксируются в том или другом положении. А здесь в квартире рамка крутится постоянно, и причём очень быстро, хоть стой, хоть иди. Это очень странно.
И еще одно. Никакого подземного военного завода у нас, конечно, нет, но несколько лет назад, я ночевал в Москве и поздно ночью вышел во двор погулять с собакой. В Москве много разных шумов и обычно не обращаешь на них внимания, но в этот раз я совершенно отчетливо слышал характерный шум работающего механического завода: звон металла, грохот работающих станков, перебранку рабочих. Раньше можно было не обратить на этот шум никакого внимания, рядом были действующие предприятия. Ночью, в конце концов, слышно далеко, но сейчас! Какие подземные заводы? ни одного обычного действующего предприятия в округе не осталось, откуда этот звук?! Загадка! И не одна.
Однако я отвлекся.
* * *
Я в подвале школы, в тире, с моим помощником Ёлкиным только что закончил занятия по стрельбе с малышами (третий или четвертый класс). Развлекаемся. Он ставит на полочку над мишенями стреляные гильзы от малокалиберного пистолета, а я их тут же сбиваю выстрелами из пневматической винтовки. Если будет стоять больше трех гильз, мы поменяемся ролями, но поменяться ему никак не удается, я выбиваю гильзы у него почти из пальцев.
Мы на Алабяна, дома у Ары. Его мама навертела нам в лаваш кусочки мяса с зеленью. Непривычно, но вкусно.
Вечер встречи выпускников. Мы, как выпускной класс – хозяева, с красными повязками. На лестнице Ара, очень маленький по сравнению с огромным бывшим выпускником в солидном сером костюме, стоящим чуть ниже. Бывший выпускник хамит. Ара делает крысиное лицо и в прыжке сверху бьет его куда-то в середину лица. Большой серый мешок катится вниз через два пролета.
Весна. Выходим с Художником с Новопесчаной на Ленинградку. В кулинарийке кафе Сокол берем большой пакет вареных раков и пиво. Еще совсем грязно, но уже тепло. Блаженствуем на спинке скамейки в Чапаевском. На обратном пути видим рядом с кафе Сокол страшную аварию – таксист въехал на остановку троллейбуса и сбил восемь человек. Прижатая бампером к стене дома старушка еще жива, хрипит, ноги её перебиты и загнуты вперед.
Мы в белых халатах всего человек пятнадцать, в небольшом цехе с дымящимися паяльниками над жгутами проводов. Художник читает стихи:
Служил Гаврила на заводе.
Гаврила делал У Пэ Тэ.
УПТ – это усилители постоянного тока, которые мы собирали два года (один день в неделю), в качестве производственного обучения на каком-то заводе у Сокола.
Там же около метро. Богатая квартира, вся уставлена дорогой старинной мебелью, увешана коврами. Свободного места мало, слева у стены фигура фавна в бронзе, над моей головой картина «Мальчик с лютней», вариант, подлинник. Напротив меня приятнейшая дама со старорежимными манерами. Я под её кивки повторяю французские неправильные глаголы. Мать наняла мне репетитора, чтобы уесть ОВ. Я хожу сюда нерегулярно, хотя деньги от матери сдаю полностью. Такие квартиры похожи одна на другую, дома попроще более оригинальны, хотя мебель там у всех одинаковая. Тогда я был равнодушен к интерьерам, а теперь, вспоминая, я называю такие квартиры «квартирами победителей», потому что всё это вывезено из Германии в 1945 году. Русская старая мебель сгорела в печках в революцию.
Теплый майский день. Последний звонок, Парк культуры. Только что построенные американские горки. Визг девчонок. Пикник во «Временах года».
Выпускной вечер. Директор в актовом зале раздает аттестаты. На четвертом этаже в коридоре большой стол с закусками и шампанским. Водка у нас припрятана в смывных бачках в туалете. Все знают про водку, но делают вид, что её не существует. Уже в разгар гулянки подошел Директор говорить тост и просит ему налить «чего-нибудь». Я еще зол на него за экзамен по литературе и наливаю ему лимонад.
Всё. Свобода!
И всё же, слово Директор я пишу с большой буквы из огромного уважения к этому человеку.
9. Учеба пополам с работой
Свобода оказалась не такой уж привлекательной, надо же было что-то делать. С Хохлом из параллельного класса мы договорились поступать в Станкин. Почему в Станкин? Потому что ближе него к моему дому была только Тимирязевская сельхозакадемия, но это уж был перебор по моим тогдашним представлениям.
Первым экзаменом, как всегда оказалась самая моя нелюбимая письменная математика, и опять я получил двойку, а Хохол вообще не пришел.
/Анекдот: Доктор: «Ну, как вам понравилась виагра?» Пациент: «Замечательно! Семь раз кончил!». Доктор: «А ваша дама?» Пациент: «А она вообще…не пришла». /
Тогда я решил вместе с Шикой пойти на военкоматовские курсы шоферов, отслужить и поступать в УДН. Уж очень аппетитно он рассказывал про этот ВУЗ после прошлогоднего стройотряда (соотечественников туда брали только после армии).
Мои планы разрушил отец. Он сильно завел меня, говоря, что я просто слабак и не в состоянии поступить куда-либо. В результате крупного разговора мы с ним поспорили на мотоцикл. Это была, конечно, уловка со стороны родителей, но я все принял за чистую монету. На другой день мать выслушала мой рассказ о споре с отцом, как будто бы не в курсе дела, и предложила поступить на вечерний в свой институт, в Текстильный.
Сначала я ни в какую – женская профессия. Потом, когда узнал, что все экзамены устные согласился. На самом деле мне было всё равно, хоть в Рыбный.
Время экзаменов на дневное отделение я пропустил, а для поступления на вечерний было одно препятствие. Тогда на вечерние отделения можно было поступать, только имея постоянную работу. К счастью, тогда это была не большая проблема. Мать устроила меня работать по специальности на опытно-техническую фабрику лаборантом испытателем.
Недавно я в своем архиве нашел свой первый пропуск на работу. С потертых корочек на меня смотрит очень удивленный мальчик. Помните, я обещал рассказать тайну глупой порнушки из поездов дальнего следования? Так вот, когда я пришел получать фотографии для этого пропуска в фотоателье на Бескудниковском бульваре, первый вариант я забраковал и переснялся. Опять вид у меня получился глуповато удивленный и тогда я понял, в чем дело. Фотограф в ателье, как и те распространители порнушки в поездах, был глухонемой. Перед съемкой он жестами и мычаньем пытается объяснить вам как сесть и правильно держать голову, вы почти безрезультатно пытаетесь понять эту пантомиму, и в ваших глазах в момент снимка остается недоумение и немой вопрос: «Что тебе от меня надо, сукин сын?».
На экзаменах в институт я получил две пятерки и две четверки. Этого было больше чем достаточно для поступления. Я далеко не сразу, а только через много лет понял, что экзаменаторы были ко мне особенно снисходительны. Если б мои дети в свое время захотели бы учиться в нашей альма-матер, они поступили бы также легко, как я. И никаких взяток для этого не надо, просто у нас поощряется преемственность поколений. Тем более что мою мать хорошо знали в Промышленности и меня сейчас знают не хуже, хотя и Промышленности уже никакой нет. Одна тень отца Гамлета. Тем не менее, я никогда не пожалел о том, что поступил сюда учиться. Это оказалась очень интересная профессия и хорошее общеинженерное образование.
Отец выполнил условие пари – купил мне, правда, не мотоцикл, а мотороллер, но это не имело значения. Сбылась мечта идиота! Через полгода я эту мечту обменял на дубленый полушубок, потому что, на мой взгляд, ездить по Москве на мотороллере, нужно быть, если не совсем идиотом, то хотя бы легко помешанным.
Я начал работать и учиться. Это оказалось нелегко. Четыре дня в неделю я уезжал из дома часов в семь утра и возвращался около одиннадцати. В среду занятий в институте не было, а суббота и воскресенье – рай земной, правда, курсовой по начерталке… Начерталку у нас вела и читала замечательная женщина – Милицца Дмитриевна. Добрая толстушка с всклоченными волосами, она выходила читать лекцию в черт знает в каком старом костюме, один из чулков на её ногах обязательно сползал, но она была настолько мила, что ей прощался и её вид, и предвзятость к её предмету.
В один из дней, помню, я вышел из метро и не спеша шел по тихой Донской улице к институту. Даже в пивной палатке было пусто, я заказал кружку. По случаю мороза пиво подогревали – добавляли из чайника кипящего. Спрашиваю у палаточницы:
– Где очередь-то? Почему так тихо?
– Так, хоккей же!
Быстро допиваю пиво и бегом в институт. Первая пара – начерталка. Сажусь на галерке аудитории и включаю приемник. Милицца Дмитриевна что-то рисует на доске, а мне не до неё – матч СССР-Канада, первая игра в Москве. В приемнике голос Озерова: «Харламов отдает Михайлову… Эх! Хендерсон успевает… нет, не успевает. Петров… опять Харламов, Гол!!!».
– Гол!!! – это уже я кричу, а не Озеров.
Милицца Дмитриевна быстро поворачивается в мою сторону.
– Кто забил?
– Наши… два один – ведут!
– Вы, молодой человек, сообщайте счет, когда опять забьют, а мы тут потихонечку проекции разберем.
После занятий еду в метро. Даже для кольцевой линии слишком много народу. Уже почти ночь – в это время обычно гораздо меньше. В вагон заваливаются огромные, шикарно одетые иностранцы и прижимают меня к борту, т. е. к межвагонной двери. Глазам своим не верю – меня прижал Хендерсон, рядом Фил Эспозито, остальных не могу разглядеть за их могучими плечами. Они вышли вместе со мной на Новослободской фотографировать витражи, почти вся канадская команда. Их ненавидели во время игры – болели за своих, а здесь их приветствовали, им улыбались. Если бы я знал тогда, что именно Хендерсон забьет решающую шайбу в серии… я бы… ничего, конечно, не сделал бы.
Всё тогда было проще, настоящие звезды не очень звездились. Здесь на Новослободской я часто встречал Голубкину, на эскалаторе вверх – на работу в ЦТСА, Татьяну Шмыгу, наоборот – вниз, скромненькую, в очках. И кого только здесь нельзя было встретить? Москва, Москва, где твоя слава?
Лаборантом я проработал недолго, меня перевели в мужской коллектив – техником КБ. Сразу после этого праздновали юбилей моего шефа и научного руководителя по симптоматической фамилии Неудачин. Одновременно с пятидесятилетним юбилеем праздновалось его, наконец-то, окончание института. Он учился, тоже на вечернем, лет двадцать пять. Специально для этого празднества приехал директор головного НИИ Сидоров, я его помнил по нашему новоселью в Бескудниково, он тогда стучал такт вилкой по тарелке и тарелку разбил. Не могла не приехать и моя мать – она тогда работала его заместителем по науке.
Меня, как самого молодого в КБ послали на склад с накладной. Уже на улице, возле склада я прочитал: «Выдать подателю сего спирт технический (питьевой) в объеме 2000 мл для протирки аппаратуры». Неудачин разбавил спирт брусничной водой, закуску приготовили женщины из лаборатории.
Неудачин при моем содействии разрабатывал глобальную научную тему: «Снижение электростатических зарядов на сновальных машинах и ткацких станках». Я тогда уже начал потихоньку разочаровываться в науке, благодаря своему руководителю. Неудачин однажды отвел меня в сторону, чтобы никто не подслушал и шепотом сказал.
– Есть три официальных способа снятия электростатических зарядов, – и перечислил их, – А я изобрел четвертый способ – когерерный!
– ???
– Изобретатель радио Попов определял приближение грозы когерером. Это такая колба с металлическим порошком и двумя электродами. Чем ближе гроза, тем больше слипается порошок. Сопротивление падает, и стрелка вольтметра ползет вверх. Мы сделаем много когереров и решим всю проблему!
У меня тогда не было высшего образования и, потому видимо, не хватило аргументов объяснить ему разницу между приборами регистрирующими и исполнительными.
Вечером я спросил у матери, как таких дураков назначают научными руководителями? Она мне ответила, что я еще многого не понимаю в жизни и, наверное, была права.
На ткацкой фабрике я расставлял по станкам эти когереры. Мне было стыдно за очевидную глупость этого занятия, но никто, кроме меня этой глупости не замечал. Молоденькие лимитчицы-ткачихи даже радовались моему появлению. Они, как по команде наклонялись вниз и что-то якобы там поправляли. Они носили коротенькие синие халатики без трусов. При таких маневрах одновременно светились их голые попы и хитрые мордочки снизу. Впрочем, я ни разу не воспользовался их простотой – у меня тогда была постоянная девушка, верней не совсем девушка – замужняя девушка.
Если кто помнит предыдущую главу, спросит, а как же первая любовь? А никак. С глаз долой – из сердца вон.
Если б было всё так просто в жизни! Взял и забыл. Нет же, она вынудила меня на объяснение в начале того года. Я пришел к ней домой, на колени не вставал, объяснился, как мог, выслушал краткую лекцию о том, какой я хороший друг и т. п. развернулся и ушел. Ушел, то я ушел, а заноза в сердце продолжала сидеть.
После очередной корпоративной пьянки на работе, скорей всего по случаю Нового года я попал в очередную непонятку. Идя домой, я вдруг решил, что я в Туле. Симптомы вроде не похожи на белую горячку, но сродни. Я прорывался через проходную какого-то завода и говорил, что у меня здесь дядя умер.
В Туле, действительно, перед этим умер дядя Саша. Он когда-то спрашивал у моего отца: «Борис, и как ты можешь жить после этого инфаркта? Не выпить, как следует, ни покурить, ни поработать. Я бы помер лучше!» Свое обещание он исполнил. Его забрали с завода на скорой с инфарктом. Отвезли в больницу. На следующий день утром он почувствовал себя хорошо, встал и пошел в туалет. Он успел закурить в коридоре, но тут же упал, и умер.
Дядя Коля тоже умер примерно в тоже время. Я уже не помню, кто раньше. Древняя Крестная говорила матери на поминках: «Эх, Марусь, за два года всю твою семью на кладбище снесли, эх, эх». Еще неизвестно, сколько бы народу эта милая бабулька похоронила, если б сама не попала под автобус по пути в церковь.
Так что повод у меня был для смещения восприятия не только от пьянки. Я еще чудил какое-то время на улицах, делал глупости всякие. Но интересно, как я вышел из этого состояния. Обратное смещение произошло на Курском вокзале, куда я должен был бы вернуться из Тулы. Там я поспал в зале ожидания, потом проснулся, удостоверился, что я в Москве, сел в метро и поехал домой. До самого утра я был в полной уверенности, что побывал в Туле, и только на следующий день, проанализировав временные рамки, я понял, что этого не могло быть. Прямо-таки «С легким паром» наоборот.
10. Учеба осталась одна
1973 год я начал достаточно беззаботно, хотя перспективы были весьма туманные. Во-первых, в этом году меня должны были призвать в армию… как сказала Чурикова в «Мюнхгаузене»: первого вполне достаточно.
В те годы армия была гораздо приличней, чем сейчас, но идти в армию солдатом, мало кому хотелось. За редким исключением. Например, сосед Сучка, Толя Попа. При первой попытке военкомата призвать его в ряды, он сказал психиатру медкомиссии, что боится птиц. Тот не понял и спрашивает:
– Орлов, ястребов?
– Нет, – отвечает, – голубей, воробьев, – с головой у него было, действительно, не в порядке.
Отправили Толика в Кащенко на обследование. Через месяц он получил белый билет, чем остался, в принципе, доволен, но, по прошествии полугода, опять явился в военкомат, заявив, что хочет служить. За прошедшие полгода он стал обращать внимание, что над ним посмеиваются, не берут кое-куда на работу и т. п. В военкомате ему объяснили, что вооруженным силам он тоже не нужен. И что же сделал Толя? Он написал письмо министру обороны. А тогда письма не оставались без ответа и его опять упекли в сумасшедший дом, уже месяца на три, и держали до тех пор, пока не объяснили более доходчиво, что, если он еще раз только приблизится к военкомату…
Но это крайний случай, а вот Художник тоже мог спокойно не ходить в армию, без всяких ограничений в правах – он имел тогда рост 149 см, а для призыва нужно было, как минимум 150, и что? Он встал на цыпочки. Служил после этого в Польше командиром танка и до сих пор не жалеет. Кстати, в армии он прибавил в росте сантиметров десять если не больше.
Если бы я окончил военные шоферские курсы, тогда ладно, а так я в солдаты не хотел, но особо не запаривался этим, авось образуется. И образовалось. В начале марта удалось перебраться на дневное отделение.
В Москве, тогда еще не такой загаженной, чувствовался запах весны. Текли ручьи.
Мне, конечно же, мать помогла, (через Октябрьский райком КПСС). Секретарь парткома института взял с меня клятву, что я буду хорошо учиться, и отправил сразу к декану механико-технологического факультета. Деканом у нас был Борзунов, не малого роста мужчина, с бывшими рыжими, перешедшими в седину, сильно выступающими вперед бровями. Я думал, что мне придется объясняться, и уже начал было что-то мямлить, но декан, даже не глядя на меня, сразу прервал:
– А… пришел? В какую группу тебя зачислить?
К такой постановке вопроса я был совершенно не готов и только сейчас вспомнил, что специальностей много: прядение, ткачество, трикотаж… мне, признаться, в тот момент было до лампочки. Я решил, что постоянство всегда было положительным качеством и сказал, что хочу заниматься, как и на вечернем, материаловедением. Декан поднял на меня глаза, пошевелил бровями и спросил:
– Ты что? инвалид?
– Почему?
Он не удостоил меня ответом, копаясь в списках групп, и, также не глядя, предложил:
– Производство нетканых текстильных материалов устраивает?
Я ответил согласием и тут же был зачислен в группу № 7 т.
С переходом на дневное отделение, для меня началась действительно другая жизнь. Учеба, и вообще, жизнь института из второстепенной линии превратилась в главную.
Когда я пришел на лекции, моя фамилия уже была в журнале у старосты группы, которого я в дальнейшем буду называть Угол. Я оказался здесь не единственным новеньким. За несколько дней до меня в группу пришел Марк, с которым почти сразу мы стали друзьями. Так же сразу, я подружился с Артюшей, он был из другой группы нашего потока.
Настоящее его имя – Артуш, высокий худой, добрый армянин, для того чтобы разговаривать с нами ему, как жирафу, приходилось наклоняться.
Поток состоял из шести групп. Лекционные аудитории почти полностью заполнялись. Особенно я любил вторую аудиторию, самую старую, там еще училась моя мать, и еще раньше читались лекции, когда наш институт был факультетом МВТУ.
Во второй аудитории я впервые увидал, свою будущую жену. Увидев её первый же раз, я почувствовал некоторую тревогу. Её слегка бандитский, по крайней мере, залихватский, вид совсем не гармонировал с добрым и немного печальным выражением глубоких карих глаз. Меня тянуло к ней, но я не подходил, в основном потому, что за ней всё время таскались хамский Нос и очкастый Мур.
Благодаря нашему с Марком приходу, процент мужского пола в нашей группе стал самым высоким на факультете. Нас было аж шесть человек. На химико-технологическом, правда, ребят было еще меньше. К примеру, параллельная группа (с нашей кафедры), в отличие от нашей 7-т, называлась 7-х. Над ними смеялись: «Какие же вы семь ха, когда у вас только один ха и тот женатый». Единственный «ха» у них был староста – Начальник, мало того что он был уже женат, у него уже были две дочки, близняшки.
Марк до армии успел закончить на вечернем первый курс, и у него были зачеты по всем предметам, а мне пришлось досдавать математику и физику за первый семестр. Мало того – пропустив первый семестр, я не понимал, что говорит лектор по курсу второго. Но догнал, совместился. Правда, на экзамене по физике я выглядел бледно.
У меня была почти всеобъемлющая шпаргалка, хоть и маленького размера. Благодаря малому формату шпоры, не поместилась на странице формула нормального распределения Гаусса. Это был один из двух случаев, когда не сработала моя система вытаскивания хороших билетов, о которой я писал раньше (хотя, как знать? может как раз и сработала), эта формула попалась мне третьим вопросом. Наш замечательный профессор Кудрявцев, (один из разработчиков водородной бомбы), не особо внимательно выслушал первые два вопроса и заинтересовался мной, только когда я стал блеять про то, что я зрительно помню эту формулу, что она такая четырехэтажная под квадратным корнем… Он посмотрел на меня с явным интересом и сказал:
– Молодец! Другой бы достал шпору, перерисовал бы, а ты… Молодец! Нарисуй мне закон в графическом виде – получишь – «5».
Если бы я немножко владел математикой, я бы, конечно, нарисовал график, который, как любая функция y=Vх, имеет форму висящего колокола, но тогда я этого не знал. И даже поощренный профессором и уверенный в том, что срисованные мной со шпоры, первые два вопроса теперь вне подозрений, я ничего не смог надумать, получил свою четверку и ушел. Кстати, четверка была очень нужна – чтобы получать стипендию, нужно было сдать сессию без троек. Хотя, одну тройку, по-моему, можно было иметь.
Как выяснилось позже, профессор Кудрявцев на первом экзамене составлял себе мнение о студентах, и потом непременно придерживался этого мнения. На следующих курсах я получал у него четверки не зависимо от ответов, это, правда, не всегда было хорошо.
Последний экзамен (по ядерной физике и квантовой механике) тянулся очень долго. В аудитории было жарко и душно. Я долго сидел, ждал своей очереди. Измучился уже весь, но тут мне пришло озарение по поводу третьего (опять) вопроса. Мне показалось, что дело с изотопами не так просто, как нам излагают. Я изобразил эти свои соображения на бумаге.
Когда подошла моя очередь, профессор стал принимать сразу по двое, чтобы ускориться, и первые два вопроса опять он меня не слушал, занимаясь с другим. Тут я обнаглел и решил изложить своё мнение по изотопам, так, чтобы меня услышали. На удивление, профессор Кудрявцев бросил все дела и стал меня слушать. Я говорил минут пятнадцать, может больше, при этом извел еще несколько чистых листов бумаги под рисунки.
Потом говорил профессор, самое удивительное и лестное для меня то, что в основном он со мной согласился. Потом мы с ним обсудили последние номера журнала «Наука и жизнь», который в те поры был очень интересным, потом еще что-то. Я видел, что, ждущие своей очереди, мои однокашники готовы уже меня съесть с потрохами. Наконец, профессор, взял мою зачетку с намерением поставить мне высший балл, открыл её на соответствующей странице, и мы оба с ним одновременно увидели заранее произведенную им запись – «хорошо». Профессор смутился и предложил мне зайти через день исправить оценку. На что я, не вдаваясь в подробности, смиренно возразил ему, что, ради справедливости, исправлять оценку не следует, что на предыдущем экзамене я больше тройки не стоил, и в среднем всё в порядке. Мы разошлись с ним вполне довольные друг другом.
Начались мои первые студенческие каникулы. Правда, с каникулами оказалось всё не так просто, оказалось, что всесоюзное движение ССО дело не совсем добровольное. Как выяснилось, существует третий добровольно-принудительный «трудовой семестр». Я и мой друг Марк оказались не готовы к такому повороту событий. По-хорошему, надо было либо устроиться в интересный стройотряд, куда-нибудь далеко, где платят хорошие деньги, либо откосить совсем от этого дела, обложившись медицинскими справками. И то, и другое делать было уже поздно, и мы оказались прижатыми к стенке. С первокурсника что возьмешь?
Мы получили в комитете комсомола путевку на Бескудниковский завод ЖБИ. Это было совсем не интересно, хотя и совсем рядом с моим домом.
Во-первых, нас поставили в разные смены, во-вторых, на самую, мягко выражаясь, непрестижную работу.
В арматурном цехе, где я варил арматурную сетку из толстой проволоки, работали в основном химики, т. е. расконвоированные заключенные. Слово «химик», обозначающее в первом значении человека определенной профессии и образования, часто требует пояснений, потому что если сказать человеку: «Ну, ту химик!», – это будет означать, что он жульничает, т. е. химичит. Во времена Менделеева вообще говорили: «Химик-механик, жулик-карманник».
Почему-то работал на этом ЖБИ я всё время ночью.
Мы с Марком опять явились в комитет и потребовали признать первый опыт недействительным. Совершенно не обидевшись на наш афронт, нас направили в другое место – на Профсоюзную улицу, рыть траншею. Там строилось новое общежитие для нашего института, траншея, видимо имела отношение к этой стройке. Там мы трудились неделю или две. К лопате у меня всегда было не очень дружеское отношение, и я сразу захватил отбойный молоток. Через несколько дней, я уже научился уверенно им работать и заодно занял место машиниста компрессора.
Жизнь налаживалась, работа особо не тяготила, но кончилась она сама собой. Своим отбойным молотком я долбил только асфальт и поверхностный слой. На глубине использовался универсальный русский инструмент – лом. Я хорошо помню тот момент, когда один из парней размахнулся и ударил ломом куда-то в дно канавы. Сам он полетел в мою сторону, лом в другую, а на том месте, куда он ударил, образовалась трескучая голубая вспышка. Слава богу, все остались живы. Я так понимаю, мы обесточили пол-улицы и, на время разборок нас удалили с места производства работ вместе с техникой.
Когда мы вновь явились в комитет ВЛКСМ, нас не стали больше никуда направлять, выдали справки и отпустили с богом. После этого, с чувством выполненного долга, я с сестрой отправился на Кавказ.
11. Настоящие горы
Путевки нам купил отец. В МО СССР было много хороших мест отдыха. То место, куда мы попали, мне кажется, было одним из лучших. Отдых был разделен на три равные части, по неделе каждая. Первая неделя проходила на турбазе «Красная поляна», где, кстати, тогда уже была дача министра обороны, а сейчас там дачи… не буду говорить чьи, а то еще привлекут. Вторая неделя проходила (в буквальном смысле) в горном походе к побережью. И последняя неделя – на море, в пансионате «Кудепста». Прекрасно! Я до сих пор не понимаю, как можно целый месяц просидеть или пролежать на пляже, на одном месте, и еще считать это отдыхом.
В Адлерском аэропорту нас ждал ПАЗик, небольшой автобус с водителем греком. Сейчас в Красную Поляну идет неплохая дорога, но тогда… многие после этой дороги восстанавливали здоровье до самого отъезда. В тот раз я впервые летел самолетом и уже схватил дозу адреналина. По дороге к турбазе добавка оказалась больше на порядок. Я сидел в автобусе сзади справа и, когда мы выехали на серпантин, ощущение было такое, что я лечу над пропастью, казалось, вот-вот и мы туда свалимся, особенно, когда появлялись встречные машины, с которыми, вроде бы разъехаться было невозможно. Общее плохое настроение усугубил валявшийся внизу вверх колесами сгоревший грузовик.
Острая красота гор, перемешавшись с мерзким страхом, создавала гремучую смесь восприятия действительности, терпеть которую долго не было никакой возможности. Наш грек и другие, встречные, местные водители, казалось, ехали недопустимо быстро, но дорога не кончалась, эта мука тянулась и тянулась. Мы ехали часа полтора, которые показались вечностью.
Выходили из автобуса, особенно женщины, винтом. Но отошли быстро. От гремучей смеси осталась только красота. Сейчас эта турбаза некоторым показалась бы совковой и некомильфотной, но тогда у нас было впечатление, что мы попали в рай. Уютные номера, с балконами, под которыми изредка проплывали облака, хорошая столовая, крытый бассейн и главное… бесподобно красивые горы.
Вновь прибывших, в том числе и нас, сразу зачислили в походную группу, чтобы привыкали друг к другу. Группа вместе ходила в столовую, проходила какие-то инструктажи и прочие мероприятия, имела своё время в бассейне. Из группы я запомнил двух курсантов и двух толстушек, за которыми они ухлестывали в чисто армейском стиле, одного приятного полковника, противного майора, спасшего потом в горах мне жизнь. Была у нас рыхлая и добрая девушка Ольга, еще генеральская дочка с матерью, которые ходили только вдвоем с высоко поднятыми носами и в стороне от остальных, недостойных по своему положению столь высоких особ. Была у нас группа немцев, офицеров дружественной армии ГДР с женами.
Особое место в группе занял один капитан первого ранга. Он приехал на Жигулях из своего Североморска, что по тем временам мне уже казалось подвигом. Это был настоящий флотский капраз, боевой мужик, но был у него один недостаток – зеркальная болезнь. Большой живот сам по себе уже доставляет неудобства, но есть и дополнительные, одно из которых – невозможность увидеть свои половые органы без помощи зеркала, поэтому такую ситуацию некоторые называют зеркальной болезнью.
Перед самым походом вся группа плавала в бассейне. Капраз опоздал и решил появиться с шиком. У них на флоте шиком считалось встать на руках у края бассейна и войти в воду кувырком из этого положения. Он прошелся через всё помещение на самое заметное место, сделал стойку на руках и достаточно элегантно вошел в воду. Всё было бы действительно шикарно, если бы капраз не забыл надеть плавки. Ему самому из-за живота ничего не было видно, да и остальным видно было только сзади, но когда он встал на руки, и живот вместе со всем остальным свесился вниз… это было зрелище! Капраз всё понял, войдя в воду. Он быстро выскочил из воды и скрылся в раздевалке. Больше мы его не видели – пока мы заканчивали моцион, одевались и выходили из бассейна, он собрался, сел в свою машину и уехал.
В Красной Поляне я впервые понял вкус вина. На турбазе не было сухого закона, но купить водки было негде. Не помню, кто у нас оказался специалистом по домашним винам, но в первый же день мы подались в поселок, имея при себе желтый от осадка графин из номера. Красная Поляна тогда была совсем не похожа на нынешний «Беверли-хилз». Это был очень скромный поселок с примкнувшей к нему чуть ли не палаточной профсоюзной турбазой. В центре поселка была немощеная площадка с маленьким базарчиком в виде небольших деревянных прилавков с тесовой крышей. За пустыми прилавками сидели неприветливые южные женщины в темных одеждах. На вопрос, нет ли у них вина, они хором закричали, что нет и знать никто не знает, что такое вино.
Мы пошли дальше. У одной из калиток стояла женщина русского вида, в белом платочке. Услышав про вино, она сразу пропустила нас во двор и усадила за стол под большим деревом. Через минуту она выставила на стол прохладный кувшин и стаканы. Мы попробовали по полстаканчика. Вино показалось мне изумительным, но наш спец поморщился и попросил принести другое. Просьба была исполнена моментально. Это вино для меня было столь же прекрасным.
Не знаю, что было причиной моего восхищения этим вином. В Москве всегда были дорогие марочные вина, иногда я выпивал этих вин понемножку, но они мне никогда не нравились, казались никчемной кислятиной, а здесь то ли обстановка свободы, то ли горный пейзаж и воздух сыграли какую-то роль, но эта прокисшая Изабелла показалась мне неземным напитком. Мы выпили еще по стакану, наполнили свой графин, расплатились и, слегка отяжелев, подались мимо базарчика к своей турбазе.
Увидев у нас графин с вином женщины за прилавками недовольно загуркали. Одна из них, худая женщина в черном платке, с орлиным носом. Вышла вперед.
– Где брали вино?
– Вон в том доме.
– Где? У этой… (пип)… ну-ка, дай попробовать!
Дали. Это нужно было видеть! Она отлила из графина во взявшийся откуда-то стаканчик и брезгливо поднесла его ко рту. Еще не успев налить вино в рот, уже извергла его оттуда через сжатые губы, как будто на белье под утюг.
– Тьфу! Уксус! Отрава! Она их отравить хочет! – она обращалась, естественно, не к нам, а к своим подругам, а потом только к нам: – Попробуйте это!
На прилавке появилось вино. Мы по очереди приложились к стаканчику. Вино было совсем другим, но действительно более благородным и вкусным. Однако вылить вино из графина, не смотря на настойчивые предложения, мы отказались. Для нас нашли трехлитровую банку с крышкой.
Принесенное вино мы выпили после ужина. Вино из графина было слаще, чем из банки, и действительно немного отдавало уксусом, но мы не вылили не капли. Опыты по изучению вина мы продолжали до самого исхода с турбазы, да и в походе тоже.
Организованные походы с турбаз всегда делаются по установленным маршрутам со стоянками в отведенных местах, а на Кавказе эти стоянки еще и оборудуются специально – такая оборудованная стоянка называется приют. Эти приюты хорошо известны не только туристам, но и местным жителям. Выходишь утром умыться на речку, а там уже сидит такой усатый в папахе. Рядом с ним бочонок с краником, оборудованный лямками, как рюкзак. Сидит и молчит, косит под не знающего русский язык.
Русский они все знали, а молчали, потому что стыдно за паршивое вино. Чего только туда не добавляли, чтобы с ног валило: и карбид, и табак, и бог его знает еще что, вроде сушеного куриного помета. Даешь этому немому двадцать копеек, он наливает стакан и подает. А сидит он под алычой, потому что это паршивое вино надо закусывать.
Впрочем, здесь же в горах, на первом приюте я попробовал самое лучшее вино в своей жизни. Получилось так: у кого-то из группы, по-моему, у полковника, был день рожденья. В тот день дежурными по кухне были немцы. Мы были в большом разочаровании утром, когда немки подали нам бутерброды – хлеб был нарезан по пять миллиметров толщиной и что-то там по нему размазано, русскому желудку это до смешного мало, но вечером они реабилитировались. Полковник выставил водку, немцы подали что-то вкусное, по крайней мере, не из тушенки.
С нами вместе гулял и приютчик Юра, средних лет грек, черный, курчавый и малоразговорчивый. Каким-то образом выяснилось, что у этого Юры здесь, на приюте зарыто какое-то особенное вино. Как я тогда узнал, вино бывает трех основных фракций: сначала, из чистого сока первого отжима (для себя); второго отжима с водой (на продажу); третьего отжима на воде для чачи. Вот это вино, которое было зарыто где-то здесь, было мало того, что для себя, но еще и какого-то очень удачного года и вообще…
Полковник весь вечер спаивал и колол приютчика и уже совсем поздно расколол. Нашли лопаты. Копали в темноте. Мы все получили по кружке этого нектара. Я сейчас уже старый и за свою жизнь перепробовал много напитков, включая очень дорогие коллекционные вина, но вкусней того вина не пробовал. Было такое ощущение, что не пьешь вино из кружки, а дышишь им, вдыхаешь что-то несказанно приятное.
С этим же приютом у меня связано одно из самых неприятных событий в жизни. И опять, как в автобусе на горной дороге, липкий, мерзкий страх сочетался с ослепительной красотой. Оставляя вещи на приютах, мы совершали пешие прогулки налегке. Нашу группу вели два инструктора, муж и жена, хотя они больше были похожи на брата с сестрой, одинаково рыжие с конопушками и малохольные. На второй день похода рыжий предложил самым смелым сходить посмотреть горное озеро. Пошли с ним только мужчины, человек семь-восемь, в том числе и я. В тот день повторилось то, что я ощутил уже однажды на Жигулевских горах, только уже гораздо сильнее.
Мы медленно поднимались вверх часа два-три. Было утомительно, но интересно, например, хотя бы то, что в одном месте я увидел торчащую прямо из скалы окаменевшую челюсть динозавра, вполне скрасило бы физические затраты. Однако совсем недалеко от цели нашей прогулки оказалось серьёзное препятствие. Нужно было преодолеть метров десять отвесной стены – не карабкаться вверх, а просто пройти горизонтально, по уступам. Обойти эту скалу было не возможно, а за ней начинался более или менее пологий подъем к тому самому озеру.
Инструктор прошел первым. Я шел в середине, четвертым или пятым. Мы не имели с собой ни веревок, ни крюков. Если вдуматься, инструктор не имел никакого права вести нас на скалу без страховки, но думать-то было некому, нам на отдыхе думать ни к чему, а инструктору, наверное, это было не свойственно по жизни. Ходить по карнизу дома в своё время было не менее опасно, и я не боялся. Смело пошел по скале, но на самой середине понял, что начал движение не с той ноги. Дело в том, что правая нога моя встала на крохотный уступ, и подтянуть к ней левую не было никакой возможности – слишком был мал уступчик, а следующий выступ оказался слишком далеко, если протянуть к нему левую ногу, можно было сорваться. По идее, надо было вернуться назад и начать всё с начала, но я задумался и сделал непростительную вещь – посмотрел вниз! А внизу я увидел метров двести отвесной скалы и кусочек альпийского луга, усыпанный острыми камнями, остатками прежних камнепадов. Сейчас сорвется нога и всё – алес капут!
Парализованный страхом я вжался в стену и понял, что обратно вернуться уже не смогу, и вообще, не смогу оторвать от скалы ни ногу, ни руку. Страх в таких случаях ужасная вещь, я чувствовал, как от страха слабеют руки и начинают дрожать ноги, и ничего не мог с собой поделать. Если бы я был один, я бы наверняка разбился, силы покидали меня очень быстро. Хорошо, что в этот раз мои спутники быстро поняли, что со мной происходит, и помогли. Тот самый скверный майорчик заступил на скалу ниже меня и рукой прижал к скале мою левую ногу. Правой ногой я легко дотянулся до следующего уступа, и через секунду уже ушел из опасной зоны.
Опасность миновала, но страх остался. Это уже было на уровне психической болезни. Находясь в безопасности, на достаточно пологом склоне, я не мог смотреть вниз. Я не мог встать на ноги и пойти вверх, как это сделали все остальные. Я отполз в сторону, в заросли рододендронов и, цепляясь за их ветки, полез к вершине. Я поднял в этих кустах тучи насекомых, которые с дыханием попадали мне в рот и в ноздри, отплевывался, чихал, но выйти на чистое место не решался. Прямо из кустов я выбрался, вернее выпал, на край красивейшего горного плато.
Я не знаю, стоило ли ради этого рисковать жизнью, но потратить день и силы на подъем сюда стоило! Открывшееся передо мной зрелище было настолько красиво, что я даже забыл на время про свой страх. Употребленное мной слово «плато» предполагает нечто плоское, на самом деле это плато было похоже на вогнутую линзу, сплошь покрытую благородно поблескивавшей темно-зеленой травой с равномерно распределенными по ней пятнами черных тюльпанов, а в центре линзы такое же черное, как тюльпаны и таинственное расположилось озеро.
Я некоторое время так и лежал, ногами в кустах, не в силах оторвать взгляда от озера. Потом стал оглядываться по сторонам и, рядом с собой, прямо перед носом увидел то, что меня повергло уже в полный восторг. Я увидел, сильно контрастирующие с этим черно-зеленым пространством, светлые звездочки нежных, каких-то неземных, цветов. Какой-то голос во мне произнес: «Эдельвейсы». Я никогда не видел эдельвейсов не до того, ни после, и, тем не менее, я тогда сразу понял, что это они. При таком пышном названии ожидаешь чего-то большого, мясистого, а они оказались слабыми и беззащитными. Они росли небольшой группой, их было не больше пяти.
И тут я совершил еще одну большую ошибку. Вместо того, чтобы молча присоединиться к остальной компании, я решил поделиться радостью и позвал остальных полюбоваться эдельвейсами. Первым подошел майорчик, я его с начала знакомства невзлюбил, потому что, мало того, что он имел какую-то мелкую обезьянью внешность, он еще всё время ехидничал, фыркал и плоско шутил. Он тут же сорвал все цветы. Этого человека, каких-то полчаса до этого спасшего мне жизнь, я готов был разорвать на куски, но даже этим ничего уже исправить было не возможно.
Потом мы купались в озере. Все были распаренными и мокрыми от пота. Разделись догола, женщин рядом не было, и нырнули почти одновременно. Едва войдя в воду, я бросился обратно. Я до этого никогда не думал, что вода может быть такой холодной. Это был жидкий лед. Выбравшись из воды, я увидел всех стоящими на берегу и дрожащими от холода. Смотреть на эту компанию было до невозможности смешно. Я от смеха даже согрелся сразу. Соль была в том, что некоторые мужчины слишком ревниво относятся к размерам некоторых членов своего тела, раздеваясь, еще пройдется гоголем, смотрите, дескать – маленькое дерево в сук растет. А тут все стояли, сжавшись от холода, с детородными членами размером не больше наперстка.
Спуск к приюту был для меня ужасен. Спускались мы уже другой дорогой, но опять вернулся мой страх. Даже небольшой перепад, метра в три, вызывал у меня высотобоязнь, а вся обратная дорога была таким перепадом. Это была невыразимая мука. Через пару дней эта болезнь у меня прошла. Но как раз тогда я убедился, что в этом отношении не уникален. В тот день мы ходили в самшитовую рощу, расположенную метрах в десяти над бурлящей рекой, и наша рыхлая девушка Оля поскользнулась на камне и немножко съехала на попе в сторону речки. Она не повредила себе ничего, но дальше идти сама не смогла. Только я один, по её глазам понял, что с ней произошло, и весь день водил её под ручку.
Когда мы вернулись в свой лагерь, майорчик очень важный, начал приставать ко всем женщинам подряд, крича, что принес им подарок, что принес такую ценность, что все подряд должны целовать его за это. Кого-то он заинтересовал, кто-то сделал вид, что заинтригован и, наконец, с большой помпой майорчик достал свое сокровище, лежащее в кепке. И в очередной раз оказался в смешном положении: то, что он достал было похоже на клочок пожухлого сена – эдельвейсы, как выяснилось, в неволе не живут и даже не хранятся.
День возвращения из похода, точнее не возвращения, а выхода к морю, я тоже никогда не забуду. Суть в том, что по маршрутному плану группа должна выйти к морю пешком, но 99, 9% групп едут туда от второго приюта на автобусе. Все об этом знают, но делают вид, что это не так, потому что за прохождение официальных маршрутов присваивались спортивные разряды, как минимум, выдавались значки «Турист СССР». А в данном случае, на лицо была явная халтура.
В последний вечер похода инструкторы предложили якобы свежую мысль, совершить последний переход в облегченном режиме. Предложение было встречено на ура, а я вот взял и отказался. Я вообще-то человек компанейский, но иногда бываю упертым. Неожиданно, меня поддержал один из курсантов, как позже выяснилось, курсанты пропили все деньги под алычой, и за автобус им нечем было платить. Они могли взять денег взаймы, потом, вернув долг в Кудепсте, куда уже перевезли из Красной Поляны наши вещи, но гордость? Гордость!
Даже если бы я был один такой нахальный, мне бы отказать не смогли, а тут нас оказалось трое. Только занимался рассвет, когда мы, бросив рюкзаки в общую кучу, вышли из лагеря. Нас вел инструктор, его жена осталась сопровождать остальных. Маршрут был привязан к руслу речки Кудепсты. Тропа еле виднелась, особенно в рассветном полумраке, из чего можно было сделать смелый вывод, что ходят здесь очень редко.
За этот день нам пришлось восемнадцать раз форсировать речку бродами. Это была не широкая, но очень быстрая речка с каменным дном, типичная горная речка. Правда, за несколько дней до этого мы видели её опасный нрав. Мы тогда купались рядом с пресловутой алычой. Кроме пьяной алычи, там была еще одна достопримечательность – небольшой водопад с омутом под ним, купаться там было очень весело. Как всегда, увлекшись игрой с водопадом, мы не сразу услышали странный звук. Звук был неприятный, страшный. Слава богу, мы вовремя выскочили из воды. Сверху накатывал вал высотой метра два. Он быстро прошел мимо и наша Кудепста превратилась в широкую мутную реку с обломками сучьев и еще какими-то хаботьями. Нам потом объяснили, что где-то высоко в горах прошла гроза. Над нами же не было ни облачка и никаких признаков непогоды.
Я еще раз убедился в легкомысленности нашего инструктора. Разлейся река еще раз, пришлось бы или лезть по скалам в поисках козьих троп, или сидеть ждать погоды, а мы опять пошли с пустыми руками. Всё-таки кое-чему инструктор нас научил, как то: с наименьшими потерями ходить вверх-вниз и никогда не снимать ботинок при форсировании горных речек. Ботинки, при наличии толстого шерстяного носка на ходу быстро высыхали сами, без всякого выливания воды из них, а в воде жесткая подошва альпийского ботинка не давала калечить ноги о скользкие камни.
Сама судьба, наверное, или ангел-хранитель заставляют иногда проявлять настойчивость. Рассвет из окна автобуса, даже в горах выглядит несколько иначе, чем с пешей тропы. Из окна автобуса весь Кавказ выглядит как курортный вертеп (в изначальном значении этого слова /т. е. кукольный театр/), а мы в тот день увидели его из кулис, с изнанки. Увидели домишки селян, не избалованных отдыхающими постояльцами, коровники и их обитателей с длиннющими рогами, табачные и кукурузные поля. Увидели нутро Кавказа, постепенно, лишь по мере приближения к морю, приобретающее облик курортной показухи.
Мы вышли к морю часам к десяти утра. И тут я еще раз плюнул в сторону инструктора – в рюкзаке остались плавки, полотенце и проч. а идти в пансионат нельзя, спалим группу. Там же готовят торжественную встречу, оркестр, призовой компот и т. п. В прокисших и грязных штормовках мы вышли на дикий пляж. Дикий пляж отличается от пляжа домашнего тем, что там нет тени. / Анекдот. Посетитель ресторана: «Есть ли у вас дикая утка?». Официант: «Нет, но специально для вас мы можем разозлить домашнюю». /
Народу, правда, тоже было не много, поэтому мы спокойно разделись до семейных трусов и бросились в море. Конечно, окунуться в море очень хотелось. Я уже две недели находился возле моря и только теперь в него нырнул, но всему есть пределы. Ждать автобусов с нашими туристами пришлось не менее четырех часов. Сидеть всё это время в море было невозможно, торчать на прибрежной гальке в штормовке – жарко и муторно. Хотя первые два часа я загорал, потом стало ясно, что это перебор, но деваться-то было некуда.
И вот, наконец, пришел автобус, мне выдали рюкзак и гитару – нужно было на входе исполнить обязательную, сочиненную в походе песню. Я долбил по гитаре, все пели, потом пили компот. У меня где-то была фотография этого момента, фотография черно-белая, но даже на ней видно, как покраснела у меня вся кожа. Курсанты остались более или менее бодрыми, а я сгорел очень сильно. Вечером вся молодежь нашей группы выпивала-закусывала по поводу завершения похода, а я не мог ни пить, ни есть, я лежал рядом со столом голый, чуть живой, и девочки периодически мазали меня сметаной.
Остальные события этой поездки не очень интересны.
12. Картошка
Первого сентября я явился в институт учиться и, как выяснилось, зря. Весь наш курс откомандировали ликвидировать стихийное бедствие. Московскую и прилежащие к ней области поразил неслыханный урожай картошки. Буквально на следующий день я уже был в Озёрском районе Московской области, в деревне Протасовка. Деревня была небольшая – дворов сорок-пятьдесят. Жили там, в основном, старики, но, при этом посредине деревни имелась общественная столовая, а немного на отшибе приличных размеров клуб.
Девочек наших поселили в клубе, там уже были приготовлены для них раскладушки, расставленные по всему танцевальному залу. Мужскую составляющую нашего отделения усилили группой энергетиков, у них в группе, по-моему, девчонок вообще не водилось. Вместе с энергетиками нас получилось человек сорок против примерно восьмидесяти девчонок. Для нашего института соотношение более чем демократическое. Следили за нашей дисциплиной несколько преподавателей, из которых мне запомнился только один, мужчина средних лет в плаще и шляпе, которому тут же по приезду присвоили кличку Филиппок.
Ребят всех распределили по квартирам в деревенские дома. Я попал одним из десяти постояльцев к одинокой бабушке в небольшой домик напротив столовой. Здесь были ребята из нашей группы и еще несколько человек: один человек из города Гусь Хрустальный, его отчислили из института уже на втором курсе, после чего он окончательно исчез из поля зрения; Поп, этот продержался на год дольше; Стяпанов – я не могу написать его фамилию правильно, потому что он такой и есть.
Он пришел в текстильный институт после того, как его отчислили из авиационного училища. Как-то мы с ним сидели вечером на завалинке, и он мне признался, что изначально пошел в летчики, потому что у него не хватает мозгов для чего-то серьезного, «а раз не хватает мозгов нужно рисковать жизнью». У него было лицо херувимчика типа Баскова, только еще более скуластое и глупое. Еще с нами жили два женатика и оба с двойнями – это Начальник, будущий начальник управления нашего министерства, а тогда староста группы 7-х и Набат, один из энергетиков.
Приехали на место мы уже по-темному. Бабушка, к которой нас поселили, была, мягко выражаясь, недовольна таким поворотом событий, но управляющий немного её успокоил, выдав аванс наличными. А нам выдали по большому пустому мешку, объяснив, что это есть тюфяк, который следует набить соломой и спать на нем. В темноте мы подались к какому-то стогу, наковыряли соломы и кое-как улеглись. Расположились мы все в зале (женского рода) на полу. А на следующий день случилось ЧП.
У нас в первые дни еще были деньги. В качестве новоселья, мы приобрели в сельпо ящик червивки, был такой крепкий плодово-ягодный напиток ценою в один рубль две копейки за бутылку. Поставили этот ящик посредине залы, сами расселись вокруг оного. В качестве закуски бабушка принесла нам корзину палых яблок. Всё было очень весело, мы болтали о всякой ерунде, глотали червивку, грызли яблоки и бросали огрызки в раскрытое окно, но, в один прекрасный момент в окне появилось улыбающееся лицо бабушки, которая хотела что-то сказать нам. И надо же было в этот момент кому-то из нас бросить в окно огрызок. Что тут началось?
Марк вместе с Попом тут же смылись, объяснив потом, что главное, чему их научила служба в армии, это вовремя делать ноги. Но это их не спасло. Не спас этот демарш от постоя и бабушку. Ей, конечно, было обидно получить огрызком в лоб из собственного окна, но шум она подняла, чтобы нас переселили от неё куда-нибудь. Не вышло. А нас, всех бабушкиных постояльцев, на следующий день повели на суд. Нам объяснили, что за такие дела надо исключать из института, комсомола и чего-то там еще, но мы-то понимали, что сразу десять человек ниоткуда не исключат, а выявить зачинщика не получится. Так и вышло. Нам назначили штрафные работы в славном армейском стиле – чистку сортиров.
С этим уже совсем получилась комедия. Единственный общественный сортирв деревне был около клуба, где жили девчонки. Три наличных очка на восемьдесят девчонок и без того маловато, а тут еще мы в завтрак, обед и ужин приходим, садимся рядом с сортиром, закуриваем, при этом один из нас (по очереди) помахивает метелкой. А на работу в поле потом идем все вместе. Когда спрашивается им дела делать?
Девчонки терпели это безобразие дня два, а потом устроили преподавателям обструкцию. От чистки сортиров нас освободили, а ничего другого наказательного придумать не смогли.
Последствия употребления червивки на одном этом не закончились. У нас вдруг стали болеть животы и, прямо с поля приходилось бегать в лесок. Когда последствия этого бегания стали уже слишком заметными, выяснилось, что дерьмо у всех противоестественного синевато-серого цвета. Причины эпидемии видимо были в красителях этого псевдовина. Но слух успел разнестись, и был нанесен первый удар по совхозным поварихам.
Вообще, первую неделю всё было как-то некузяво. Шли дожди. Комбайны вязли на первой же борозде. Пробовали копать вручную, в первый же день переломали все черенки у лопат и вил. Пустили трактора с копалками, они проходили поле, но картошка после них была в липкой грязи, её было трудно отличить от комьев земли, а ту, что всё же выискивали, бросали в мешки вместе с грязью. Но рабочие вопросы нас не волновали, это было не наше дело. Нас волновала по большей части столовая. Утром нам давали некую жидкую размазню с чаем, в обед полупустые щи и картошку на воде, в ужин кашу с волоконцами мяса. Целый день откровенно хотелось жрать. Дошло почти до забастовки. Во всяком случае, было собрание, и управляющий испугался.
После собрания в нашем питании осуществилась революция. Поварихами поставили наших девчонок. Каждый день с фермы мы стали брать по две фляги молока. Каждую неделю, если не чаще для нас резали корову. Хлеб и бакалею брали в магазине. Овощи привозили из соседнего отделения, а картошку мы брали с поля столько, сколько захотим.
Началась сытая вольготная жизнь. Выглядело это так: утром, в качестве завтрака, я к каше не притрагивался – брал кусок хлеба, на кухне зачерпывал кружкой сливки из-под крышки фляги и до обеда доживал, даже не задумываясь о еде. Я не знаю, что в обед доставалось девчонкам, но у меня в щах всегда лежал большой мосёл с мясом поверху и мозгом внутри, во втором блюде тоже мяса было больше, чем картошки, ну а про ужин уж говорить нечего. Мы могли есть хоть до утра. У нас теперь были свои поварихи, что при таких обстоятельствах архинужно и архиважно. Меня, например, закармливала на убой рыженькая Тома, Набата – Рая, ну, и т. д.
* * *
Работал я теперь, в основном, на сортировке, рядом с деревней. Сортировочный стол приводился в движение дизелем, который заводил утром флегматичный мужик с вечной папиросиной во рту. Горючее он заливал в бак из старого помятого ведра, предварительно закурив, чиркая спичкой прям над ведром. Вечером он глушил мотор и уходил, а в течение дня, т. е. все остальное рабочее время, курил молча. Но в один из дней он был слегка навеселе и разговорился:
– Девок-то много у вас!
– Хватает…
– Да… Вы ребята молодые, в яйцах дети пищат… вам щас только жрать да ябать! – больше он не произнес ни слова, но ведь как ёмко и по делу!
Однако работать приходилось тоже не мало. На сортировке мы перебрасывали по двадцать тонн на каждого ежедневно, но сил хватало и погулять.
У кого-то из химиков на дне рождения я по случайности отмочил штуку. Мы с Марком опоздали, но пришли веселые после вкусного ужина. Гитару с собой прихватили. Девчонки на ужин не ходили и с одним Начальником сидели у костра уже не меньше часа – нам предложили штрафную. Марк выпил и передал кружку мне, а сам уже начал наигрывать на гитаре что-то томное.
Открытой бутылки водки не оказалось, распечатали новую и мне сказали, наливая, остановишь мол, когда хватит. Я молчу, но пытаюсь заглянуть в кружку. В мерцающем свете костра кружка видна хорошо, а внутри неё кромешный мрак – ничего не видать. Девчонка смеется и льет, а я улыбаюсь и молчу. Когда бутылка, булькнув последний раз, осталась пустой, я встал, сказал коротенький тост за именинницу, женщин и любовь к ним, шутовски оттопырив мизинчик, выпил до дна. Выпить-то я выпил, но думаю, спою пару песен и упаду где-нибудь под кустом. Мне, конечно больше не наливали и вообще, смотрели на меня подозрительно. На удивление, я не чудил, глупых речей не говорил, весь вечер чувствовал себя прекрасно и лишь слегка навеселе.
Однажды, возвращаясь ночью из стожков, я увидел большую свинью, ковырявшуюся в картофельных очистках. Ночь была ясная, с небольшим морозцем, ярко светила Луна. Я взял кол, стоявший у забора, размахнулся… зачем мне это было надо? Молодой, глупый, еще немного возбужденный после свиданки. Кол оказался трухлявым и от удара о свиную задницу переломился. Свинья обернулась, и в лунном свете блеснули огромные клыки. Только в эту секунду я догадался, что домашние свиньи ночью спят в своих хлевах и по улицам не гуляют. Не знаю, кто из нас больше испугался, во всяком случае, кабан исчез мгновенно, как будто не было его здесь, а у меня руки начали трястись, когда я уже был за своим забором и закрыл за собой калитку.
Виноват в этом был хитрожопый Поп. Его основная работа состояла в том, чтобы утром взять из конюшни телегу с лошадью и, в течение дня, подвозить продукты и проч. в том числе отвозить отходы, но этот ленивый тип манкировал, и отходы бросали прямо рядом со столовой. Один раз он слинял совсем, сказавшись больным. Лошадь взял на себя Марк.
Я тогда вышел из столовой после сытного обеда. Марк грузил в телегу какие-то пустые мешки. Прокатиться после обеда, хоть бы даже и в телеге – милое дело, а Марк нисколько и не возражал, передал мне вожжи и кнут, дескать, съезди в магазин за хлебом, а я пока пообедаю. С нашим удовольствием! Пока я взгромождался на место кучера, он исчез.
Дальше всё пошло не так просто, как я представлял себе. Марк, так же как и я, ездить на гужевом транспорте не умел и, подавая к столовой, зацепился телегой за столб. Сколько я не понукал жеребца, тот только косил на меня глазом, как на дурака. Как выйти из этого положения, хоть и не сразу, но я понял. Я слез с телеги и вручную спихнул коня назад, объехал столб и спокойно поехал дальше. Конь казался на удивление послушным, мы с ним прекрасно добрались до магазина. Почти до магазина, потому что у магазина была развилка: направо, к магазину, а налево – к конюшне. Мой жеребец, не сбавляя хода, повернул налево, сколько бы ни тянул я правую вожжу.
Но я его обманул! Я сначала отпустил вожжи, потом потянул влево, и, бодро продефилировав мимо конюшни, мы опять свернули к магазину. Но и конь оказался не дурак – пройдя на рысях мимо магазина, он опять свернул к конюшне. Эту операцию мы с ним повторили раза три. Причем однажды мне удалось остановить упрямого жеребца перед развилкой.
Я был убежден, что с животными нужно обращаться исключительно лаской и убеждением, поэтому я подошел к наглой морде, погладил между ушей и ласково так рассказал, что нужно делать. Не помогло. И неизвестно, сколько бы мне пришлось еще кататься между магазином и конюшней, если б из кустов не вылез помятый со сна конюх, увидев которого жеребец встал, как вкопанный. Конюх обратился ко мне с законным вопросом: «А чой-то вы тут катаетесь?».
В магазин, говорю, надо, да вот… Это, говорит, дело простое, наклонился, поднял валявшуюся у дороги оглоблю и с развесистым громким матом врезал коню по крупу. Мой мучитель бодро доставил меня к магазину, остановился, как раз где надо было, и чуть ли не раскланялся.
Оглобля пролежала у меня в телеге до вечера, но пользоваться ею больше не пришлось, в спорных случаях достаточно было громко выругаться.
К концу сентября нас должны были заменить четверокурсники, однако что-то не заладилось, и мы задержались до середины октября. На это никто не рассчитывал – все остались без денег. Дошло до того, что мы ходили по местам бывшей славы собирать бутылки, чтобы купить сигарет. Единственный, кто был спокоен в этом отношении – это Начальник. Он до института служил солдатом на Кубе и пристрастился там к «Упману» из сигарных обрезков. Первое время мы пытались у него стрелять сигареты, но ни к чему хорошему это не привело – курить их в затяжку было не возможно, глаза на лоб вылезали, а пыхать как сигарой было не интересно, потому что бумага придавала им махорочный запах. Начальников запас расходовался только им самим, и ему хватило до конца.
В конце концов, картошка кончилась. Управляющий нашим отделением получил орден. А нам выдали рублей по сорок, вместе с премиальными, остальное вычли за питание и проч. Мы не обижались – в Москве еще ждала стипендия.
13. Альма-матер
О студенческих приключениях можно рассказывать бесконечно долго. Никакого книжного объема не хватит. Постараюсь выбрать самое характерное по разделам:
Собственно учеба
Учеба давалась мне всегда легко, не зависимо от сложности и ориентации предметов на физику и лирику. То ли это любознательное свойство моего характера, то ли что-то другое, не знаю. Исключения составляют лишь школьная алгебра и всякого рода электротехника. Про алгебру я уже говорил раньше, а по поводу электротехники объяснюсь.
Любую науку можно легко изучать, лишь владея главными, основополагающими постулатами. Самое главное определиться с предметом. Что изучает данная наука? В частности электротехника изучает электрический ток в разных его проявлениях. Далее нужно определить методы исследования. В большинстве случаев – это математический анализ статистических наблюдений. После этого надо освоить терминологию и всё пойдет как по маслу. Но в нашем случае (с электротехникой) сбой возникает на первом же постулате. У любого профессора электротехники спросите, что такое электрический ток. Скорей всего он сразу скажет, что вы невежда и надо было как следует учиться в школе. Другой может пуститься в пространные объяснения с применением заковыристых терминов, но закончит тем же. Если этот профессор ваш друг, у меня такой друг был, царство ему небесное, он скажет:
– Отвали, а?…наливай лучше!
А почему они так себя ведут? Потому что никто из них не знает, что такое электрический ток. В школе нам плетут про какие-то электрончики, которые побежали куда-то по проводнику. Да не бегут электрончики по проводнику, и, по большому счету, в проводнике, даже под очень высоким напряжением, никакого тока нет – он, этот ток, какое-то непонятное поле вокруг проводника. А причем тут тогда проводник? А почему свойства проводника влияют на параметры проходящего через него тока? Никто этого не знает. Вся электротехника это закон Ома и набор статистических данных по его частным случаям. Мы знаем, что если взять вот это и включить вот сюда, то будет это. А если изменить вот то, то измениться и это с точностью до седьмого знака после запятой. Мы знаем ЧТО будет, не зная ПОЧЕМУ!
Но я лично не могу изучать ЧТО, не зная ПОЧЕМУ.
Тем не менее, по электротехнике у меня в дипломе стоит четверка. Экзамен по ней я вытянул еле-еле на тройку, но!
Но преподаватель, верней преподавательница, которая вела у нас практические занятия, поставила «текущую» пятерку и профессор не смог поставить мне меньше четверки.
Я никогда не был Аполлоном, и никогда не пользовался сногсшибательным успехом у женщин, но иногда, отдельные представительницы прекрасного пола влюблялись в меня, ни с того, ни с сего. Так было и на этот раз. Она приглашала меня к доске на каждом занятии, смотрела на меня влажными большими глазами и просто слушала мой голос. Вместо схемы подключения асинхронного двигателя я мог, к примеру, рассказывать о том, какой прекрасный запах имеют старые трамваи и лифты, не смотря на то, что звук их оставляет желать лучшего, и получал за это пятерку в текучку.
Мне она тоже нравилась, на мой взгляд, это была очень красивая молодая женщина, почти идеальных пропорций, и я готов был ей ответить взаимностью, но она была на голову выше меня и несколько шире, повторяю при полностью выдержанных идеальных пропорциях. Я просто боялся её, боялся стать Моськой. Любовь не состоялась, но пятерка осталась и сыграла свою роль.
Еще одна пятерка в текучке у меня была по политэкономии. Но тут случай совершенно другой. Семинары по политэкономии у нас были сразу после обеда в новом корпусе, он тогда только открылся после строительства. Там же открыли новую столовую. Я всегда уважал и ценил нашего ректора, но здесь у него вышел прокол. Где набрали поваров для этой столовой? Студенты в массовом порядке сходили только на открытие, потом разбрелись по старым надежным местам.
Ситуация: они готовят, а никто не идет есть. Начались меры. Сначала перекрыли удобные выходы за территорию – народ опаздывал с обеда, но в эту столовую не шел. Стали продавать абонементы на месяц с профсоюзной скидкой по совершенно бросовым, демпинговым ценам – не надо. Я пару раз сходил, попробовал по чужому абонементу. Это есть было не возможно. Мало того, что приготовлено бездарно, но еда, кроме того, еще имела запах свежей штукатурки.
Я стал ходить обедать в Нескучный сад. Возле Зеленого театра была стекляшка, где на рубль можно было взять кружку пива с сосисками или две кружки пива и вареное яйцо с хлебом. Второй вариант был особенно хорош, если Угол приносил с собой воблу. Он отрывал ей голову и чисто по-волжски разламывал повдоль, а потом только чистил. Получались все кусочки отдельно: спинки, ребрышки и икра. Да с пивом! Мечта поэта!
Вы спросите: причем здесь политэкономия? Пожалуйста. Дело в том, что выпить пивка мы успевали, а по… потрепаться, уже было некогда, нужно было спешить на занятия. Минут пятнадцать ходьбы в горку. Поэтому весь потенциал задушевного «разговора за кружечкой» выливался на преподавателя политэкономии.
Так называемые общественно-политические предметы всем были бы хороши, если б не конспекты «первоисточников». Написал вот сейчас это слово, и стало тошно. Под очень уж размытым словом первоисточники подразумевался вполне конкретный список письменных работ «основоположников» марксизма-ленинизма. В коммунизме, сколько бы сейчас не ругали его, было много хорошего и жилось людям, вопреки потугам нынешних масс-медиа всячески очернить то время, во многом лучше, чем сейчас. Всё было бы хорошо, если б не эти основоположники со своими отвратительными первоисточниками, которые главный коммунистический поп Иосиф Виссарионович превратил в догматы веры.
Примерно раз в месяц мы должны были прочитывать и конспектировать одну работу из списка. Читать эту белиберду про непонятные рабкрины и злобных Каутских было невозможно, поэтому каждый решал вопрос по-своему. Чаще всего переписывали из уже кем-то законспектированного. Это было как со старыми, многократно переписанными магнитофонными лентами – разобрать было уже почти невозможно, отдельные слова в предложениях были изменены настолько, что смысл фразы терялся совершенно, но мало кто это замечал, даже преподаватели.
Дальше всех в этом отношении пошел Угол. Он был отличником и первое время писал конспекты добросовестно, но у него был настолько плохой (сильно угловатый)почерк, что преподаватели, не разбирая написанного, все же ставили ему зачет. Но однажды он попался. Уже на пятом курсе, когда тетрадь с конспектами должна быть полна до краев мудростью основоположников, преподаватель посетовал на плохой почерк и попросил Угла прочитать.
– Вы свой почерк разбираете, надеюсь.
Угол потерпел полное фиаско – не смог прочитать ни одной строчки и выдумать ничего не смог, потому что не читал никогда.
Я на определенном этапе решил этот вопрос за счет Скво. Я увидел у неё тетрадь, заполненную ровным более чем понятным почерком – она училась в пединституте. Это было сокровище. Я ошибался, что мне от Скво ничего не надо. Мне нужна была эта тетрадь. И я её взял. Чем это закончилось, я расскажу в другом разделе. Про любовь.
Военная кафедра
Не всем понятно, зачем нужна военная кафедра в Текстильном институте? Ну, во-первых, она готовила две очень нужных вооруженным силам специальности: начальник вещевой службы полка и военпред на предприятиях легкой промышленности. Во-вторых: вся страна тогда была военной, нас весь мир боялся. Военные были привилегированным кланом и уважаемым, если не брать в зачёт глупых стишков вроде: «Как надену портупею, всё тупею и тупею». Такие стишки придумывали штатские пиджаки и шпаки, для которых армия казалась кошмарным сном, а я же вырос в этой среде. Мне она была родной и понятной.
Всех преподавателей с кафедры я вспоминаю с большим удовольствием, хотя попадались разные. Один, например, был трепло пустое. Как-то девчонки нам показывают на него, говорят, смотри – космонавт пошел. Он действительно ходил в форме летного состава, если не космонавт, то уж командир ракетоносца точно. Оказывается он подсел к ним в кафе намедни и наплел про себя с три короба. Мы им, конечно, открыли глаза, что это у нас главный специалист по кальсонам и портянкам.
В то же время главные тыловые предметы у нас вёл сам генерал-лейтенант или даже генерал-полковник Куркин, только что оставивший должность командующего Тылом страны. Это именно он, по-моему, устроил нам экскурсию в музей военной одежды.
Это был полуофициальный музейчик, расположенный на территории военных складов. Доступ туда был, естественно, очень ограниченный, только для своих. Там в нескольких комнатах на манекенах висели мундиры разных родов войск, начиная с петровских времен. Перлом экспозиции считался подлинный мундир генералиссимуса, который Сталин надевал на себя несколько раз, но носить постоянно так и не стал.
Самым интересным из преподавателей был подполковник Дуб (фамилия условная). Боевой офицер, фронтовик. Вместо разбора Берлинской операции на занятиях по тактике он больше рассказывал о том, как наши славяне под Берлином немецких девок трахали и кто чего увозил оттуда домой в соответствии со званием и должностью. Или коронка:
– Объясняю! После подачи команды «Вспышка справа» или слева нужно упасть на землю головой в сторону, противоположную от ядерного взрыва. Это понятно?
– А зачем так-то, товарищ подполковник? – спрашивается нарочно, зная, что тот хохмить будет. И точно, бас подполковника медленно, но громко произносит:
– А чтоб видно было, куда яйца полетят!
Кстати, о тактике. Хорошо запомнились мне карты-трехверстки в районе немецкого города Оснабрюка разрисованные синими и красными стрелками. Бедный город Оснабрюк, я на военке и потом на офицерских курсах брал его штурмом не менее пяти раз силами мотострелкового полка или отдельного батальона.
Занятия на кафедре продолжались в течение целого дня. У девчонок и белобилетников получалась пятидневная учебная неделя, а у нас шести. С утра мы переодевались в странную военную форму, строились. Всё по уставу. Только представляясь, вместо военного звания нужно было говорить:
– Студент такой-то.
Интересный эффект возникал при одевании этой формы, как будто в ней бацилла какая была. И за собой и за другими я замечал в этой форме изменения в сторону резкого огрубления и хамоватости. Офицерская форма наоборот, как-то подтягивает, дисциплинирует, а тут… ну, например, садимся в автобус, ехать на стрельбище, в этой самой форме и в бушлатах. И вдруг.
– Гы-ы, смотри – девки, – (девок он не видал? в текстильном учится). Другой уже высовывается из окна.
– Эй подружки, возьмите мой х… в игрушки, – и все хором поддерживают: – Поиграйте, а потом отдайте, ха-ха-ха.
Бред.
Был у нас на потоке один студент азербайджанец Автандил. Кто-то из родственников ему внушил, что на военной кафедре нужно заниматься похуже, а то в армию заберут. И он усердно выполнял этот наказ. В тире он стрелялпо чужим мишеням или в потолок, или в пол. Трогался в строю непременно с правой ноги. Но от этого мы его сами отучили, потому что его хитрые маневры выливались в наши мучения. Мы ему не раз объясняли пагубность его поведения, но он был непреклонен, на военке валял дурака, хотя по гражданским предметам вполне справлялся.
Однажды подполковник Дуб получил от него листок с контрольной работой. Посмотрел, сильно покраснел и сначала не мог выговорить слова, потом все-таки разразился басовыми раскатами:
– Это что? Это что, я вас спрашиваю? Это писал студент московского ВУЗа? У меня в полку были узбеки неграмотные, киргизы из горных кишлаков… я такого не видал ни разу! Кто это написал? Вон отсюда!
Автандила отчислили из института после четвертого курса за двойку по военной подготовке. И он попал в армию солдатом. Любовь и уважение к родственникам – хорошее дело, но во всем нужно знать меру.
Иностранцы
В нашем институте было тогда достаточно много иностранцев. Армяне, азербайджанцы, таджики тогда еще иностранцами не числились. Иностранцами были кубинцы, венгры, вьетнамцы и проч. Первые годы моей учебы на стене химического корпуса еще виднелись иероглифы, оставленные китайцами, уезжавшими на культурную революцию. Жаль, что никто не мог прочитать, ругательства это или наоборот.
Самыми хорошими друзьями были кубинцы – веселые, добрые ребята разного цвета кожи. С их подачи я до сих пор могу облаять кого-нибудь по-испански. Все иностранцы косили на экзаменах под плохое знание русского языка, не всегда, но часто это им сходило с рук.
Жальче всех было вьетнамцев – маленькие, худенькие, особенно девочки – ножки с палец толщиной. Как они выживали вообще, было непонятно. Они получали стипендию, как и мы – сорок рублей в месяц и половину этой суммы отправляли в фонд обороны Вьетнама. Тогда там шла война. На оставшиеся деньги они варили рис и жарили ржавую бочковую селедку по семьдесят копеек за кило. Запах стоял в общежитии, хоть святых выноси.
Негров почему-то было мало, не то что в соседнем УДН-е им. Лумумбы. Там, кстати, был один негр-альбинос, страшное было зрелище, доложу я вам. В видах политкорректности, обязан оговориться, что не считаю слово «негр» ругательством, /Niger – по латыни – черный/ более того просто даже не знаю чем его заменить. Афро-русский? Не правда. Ну, предположим О Фориль Мунтан у нас был афро-кубинец, а остальные кто? Афро-африканцы?
Из афро-африканцев я лучше всех знал Хайли Силасия. Он был соседом Угла по комнате в новом общежитии. Если кому-то показалось знакомым это имя, подтверждаю, да, это был родной племянник последнего императора Эфиопии Хайли Силасия Первого. Представляете? С Углом в комнате спит принц Эфиопии, потомок самого Магомета.
Вообще-то к нам в институт он попал не сразу. Сначала он приехал учиться в МАДИ, но там он здорово запил и однажды с криком «Ты меня уважаешь?» заставил одного вьетнамца выпить полный стакан водки – тому стало плохо, еле откачали. Скандал кое-как замяли и сплавили принца с глаз долой к нам в институт. Но принц был настоящий. Однажды мы пришли с Углом к нему в комнату и наблюдаем картину. Сидит наш Силасий по-турецки на кровати, а на полу в таких же позах вновь прибывшие в Россию верноподданные и, склонив головы, молчат, выражают всемерное уважение. Угол дал им пять минут на завершение церемонии, пока мы курили на лестнице. Потом заходим в комнату – принц в уединении. Угол ему:
– Силасий, сгоняй в магазин, а?
– А что? Деньги есть? Я быстро!
Справедливости ради, надо сказать, что его венценосного дядю к тому времени уже свергли с престола.
Неудачные экзамены
Надо сказать, что к чести своей, я не имел за все время обучения ни одного «хвоста» и почти всегда получал стипендию. Кроме одного семестра. Я не помню, по какому предмету получил первую тройку, но лимит в этой сессии уже был исчерпан, нужно было на последнем иметь не меньше четверки. Последним экзаменом мы сдавали Детали машин.
Предмет я знал относительно неплохо, и был уверен в себе. К профессору я относился хорошо, даже с некоторой симпатией. Это был старенький человек небольшого роста, с животиком и лицом, напоминавшим мне моего деда. Мой дед был добрейшим существом и, согласитесь, естественно, что я не мог не переносить часть его доброты на внешне похожего человека. Как выяснилось позже, я это делал напрасно. Такая внешность хороша для простого человека – крестьянина, слесаря, дворника, чуть похуже – для среднего звена. Но люди с такой внешностью, попадающие на роли профессоров, банкиров или, скажем, кинорежиссеров, как подсказывает мой жизненный опыт, крайне неприятны.
Это происходит потому, что общей суммы умственных и душевных качеств, соответствующей этой внешности, вполне достаточно для скромных ролей и совсем недостаточно для публично интеллектуального человека. Недостающий объем заполняется снобизмом или, в более понятном варианте, «чувством собственной важности». В результате человек начинает выглядеть непроходимо глупым, но совсем не замечает этого. В частности, наш профессор в докторской диссертации вывел длиннющую, очень неудобную и весьма сомнительной нужности формулу для расчета модулей зубчатых передач. Ну, вывел и вывел, бог бы с ней, если бы почти на каждой лекции он вдруг, ни к селу, ни к городу, не начинал говорить о том, какой большой вклад в науку сделал любой человек открывший Формулу. Имелись в виду такие личности, как Ньютон, Эйнштейн и наш проф. Никонов.
На прием экзамена он пришел в марлевой маске, чтоб не дай бог не заразиться от нас чем-нибудь. Я не говорю, заразиться от студентов, потому что в его группе риска находились и два его ассистента, собственно и принимавшие экзамен. Сам сидел в сторонке, на безопасном расстоянии. Билет я взял очень хороший для себя – я знал все три вопроса, особенно тот, который про подшипники. Мало того, что я проштудировал конспекты лекций (чужие, правда), просмотрел учебники, я еще и был когда-то на подшипниковом заводе в Самаре, видел там все этапы их производства.
Я заливался соловьем, отвечая на этот вопрос. Ассистенты мне сказали: нет, брат, слабо ты это дело знаешь. Как? Кто из студентов мог этот вопрос знать лучше? А мне ничего не объясняют – тройка, мол, и вали отсюда. Но мне нельзя тройку! Я стал апеллировать к профессору. Тот из своего угла сообщил, что не может навязывать своего мнения ассистентам по таким мелочам. Он скорей всего даже не слушал до этого. Я стал настаивать, но мне было отказано. Тогда я встал и пошел к профессору. Он вскочил со своего стула и стал отступать от меня, соблюдая дистанцию, но не сдаваясь.
Пока мы с ним маневрировали по аудитории, ассистенты уже внесли тройку мне в зачетку. Если до этого момента я был более чем корректен и даже с просительными нотками в голосе, то после этого я высказал им все, что я думаю о них самих и об их предмете. И в завершение, улучив момент максимальной близости к профессору, я чихнул на него, совершенно не прикрываясь руками, чем поверг его в шок и окончательно закрыл себе доступ к пересдаче и соответственно к стипендии.
Несправедливость – вот что мучает больше всего не только меня, но и подавляющее большинство людей. Не буду говорить за весь мир, но население России к несправедливости очень чувствительно. Причем, наш народ не выбегает сразу с красными флагами, как это делают, например, во Франции, он накапливает в себе обиду до тех пор, пока она сама не вырвется на свободу. И тогда всё становится на внешний взгляд «бессмысленным и беспощадным», но это только на внешний взгляд. Несправедливость – вот причина всех прошлых и будущих революций в России.
Аналогичный случай произошел у меня на экзамене по философии. Я всегда любил философию, пусть даже марксистско-ленинскую. Пришел я её сдавать с удовольствием. Я немного опоздал, экзамен уже начался, остатки группы, не вошедшие в стартовый состав, сидели в коридоре, скучали. Из экзаменационной аудитории выходит… нет, он не был профессором – то ли доцент, то ли даже старший преподаватель по фамилии Мокроусов. Он вынес десяток галстуков и попросил Ленку (назову её Купчихой) навязать узлов, сам он не умел. Он сразу ушел обратно, девчонки вроде бы взялись за дело, но у них ничего не получилось, никто тоже не умел этого делать.
Я забрал у них галстуки. Купчиха держала зеркало, а я завязал весь десяток у себя на шее модным тогда двойным узлом. Галстуки аккуратно сложили обратно в коробку, но заносить в аудиторию не решились – выйдет, сам заберет. Я почти сразу после этого зашел, взял билет и, почти не готовясь, сел отвечать. Хорошие билеты я доставал почти всегда, за очень редким исключением, применяя тульский карточный фокус, о котором я уже рассказывал.
Мокроусов, тщедушной комплекции мужчина лет пятидесяти, в потертом костюме, без галстука принимал по два студента сразу. Когда я к нему подсел, он внимательно слушал расфуфыренную длинноногую девицу, назовем её, к примеру, Жанна. Кстати, эта Жанна на Деталях машин назвала подшипник шпонкой да и о прочих науках имела весьма приблизительное представление. Она положила ногу на ногу почти совсем упразднив и без того предельно короткую юбку.
Вообще-то, девчонки на экзамены надевали длинные юбки – под этими юбками были шпаргалки, но здесь был не тот случай. Старший преподаватель сластолюбиво переводил взгляд из-под юбки Жанны на её грудь и обратно, кивал в такт той ахинее, которую она несла и, при каждом кивке гладил её верхнюю коленку, с каждым разом всё смелее и выше. С моей стороны нетактично было прерывать эту эротическую идиллию и я сидел молча, пока на меня не обратили внимания. Он расстался с Жанной с явным сожалением, поставил ей пятерку и проводил до дверей, потом только всерьез занялся мной, выслушал, не прерывая, и говорит:
– Хорошо, – и ставит в зачетку, тоже «хорошо».
То есть, как это хорошо? Этой беспробудной дуре, хоть и с длинными ногами – «отлично», а мне «хорошо»? Спорить было бесполезно, четверка уже стояла в зачетке. Я, молча встал, вышел в коридор, взял коробку с галстуками и развязал все узлы. Девчонки, еще не заходившие на экзамен, попытались отбить у меня коробку, но я шикнул на них и посоветовал спросить у Жанны, как этому козлу сдавать философию.
Примерно через месяц после описанных событий, в институт приехала комиссия по общественным наукам из МГК или даже ЦК КПСС. Мокроусов был уволен за несоответствие занимаемой должности.
Удачные экзамены
Удачных экзаменов у меня было много, благодаря моей фортуне и некоторым другим факторам, вроде карточных фокусов. Расскажу только один случай:
В развитие знаний по электротехнике у нас читались еще курсы Промышленной электроники и Автоматики. Там я уже был совершенно «не в зуб ногой». Идти сдавать автоматику, мне было всё равно, что китайский язык. Но деваться некуда – сдавать надо. Преподаватели догадывались, что нашему факультету эти предметы, в общем-то, ни к чему и разрешали на экзамене пользоваться конспектами лекций и любой литературой, учебниками, справочниками. Только на это и была надежда, я набрал с собой полбиблиотеки. Экзамен проходил в лаборатории их кафедры 30 апреля. Не помню, почему так рано. Одним из вопросов мне попал магнитный пускатель. Я добросовестно перерисовал схему из учебника. Остальные вопросы кратко законспектировал из имеющихся книг и пошел отвечать. Преподаватель просмотрел мои конспекты, покивал головой и говорит:
– Всё правильно… а теперь расскажите, как работает магнитный пускатель?
Единственное, что я мог сказать по этому поводу:
– Примерно так же, как трансформатор – У-у-у-у.
Я этого, естественно, не сказал, но сделал вид, что вот еще чуть-чуть, сейчас немножко и скажу. В этот момент врывается еще один препод из боковой двери и громко шепчет на ухо моему экзаменатору:
– Ну, ты что тут сидишь? уже по второй налили!
Сейчас уже многие не помнят и нужно объяснить. Во всех, уважающих себя организациях Советского Союза 30-го апреля, 6-го ноября и 31-го декабря проводились, как теперь говорят, корпоративы. Я уже не помню, как это тогда называлось, но это было обязательнейшее мероприятие. Перед обедом женщины строгали салаты, а мужики бежали за водкой. Не явиться на мероприятие было равносильно тому, что ты затаил злобу на весь коллектив.
– Я щас… – сказал мой экзаменатор и исчез.
Пока его не было, в одном из учебников я отыскал принцип работы пускателей – оказалось совсем не сложно. Через, действительно, совсем немного времени я начал рассказывать изрядно повеселевшему преподавателю принцип работы магнитного пускателя, но довести дело до конца не успел. Из той же боковой двери появилась нарядная дама со взбитой прической. Она склонилась к столу, внеся в суровую атмосферу экзамена запах духов, винного перегара и зеленого луку, думая, что никто её маневра не видит, ущипнула моего экзаменатора за бок, чуть повыше брючного ремня, взяла его за руку и, так и не сказав ни слова, увела. Тоже молча, жестами уводимый показал мне, что он всего на минутку.
Второй интервал получился длиннее первого. Экзаменатор вернулся уже не через боковую дверь, а через главную. Стараясь держаться непринужденно, он подошел, сел за стол, улыбнулся мне как старому знакомому и поздоровался:
– Здрась-сте. Итак? – поняв мое удивление, он собрался и продолжил, – Расскажите пожалуйста принцип работы… э… магнитного пускателя.
– Так я же… вроде бы…
– Ах, да, да, да… Превосходно, отлично! Просто отлично! – тоже самое он размашисто написал в моей зачетке, пожал мне руку и закончил наше знакомство так, – Поздравляю вас с наступающим праздником…Первое мая! – немного подумал и добавил, – и с Днем Победы!
Чем закончилась эта вакханалия для остальных ребят из группы, я не помню.
Каникулы
Каникулы – это волшебное слово. В остальное время, кроме сессий я особенно тоже не напрягался, но каникулы, есть каникулы. Я пару раз еще съездил на военные турбазы. Отец в ту пору купил катер со стоянкой на Икшинском водохранилище. Первое время возня с мотором и катание очень увлекали, потом надоело. Из серьезных каникулярных поездок не могу не рассказать о двух: про Сахалин и Прибалтику.
В конце второго курса мы с Марком, наученные горьким опытом предыдущего трудового семестра начали рекогносцировку заранее. Разведданные показали, что формируется большой отряд на Сахалин и маленький – на Курильские острова. Чтобы попасть в списки, нужно было заручиться поддержкой в комитете комсомола. Близких знакомых там ни у Марка, ни у меня не было.
Может быть, это была особенность нашего института, но все комитетчики, кого я знал, были редким дерьмом, и общаться с ними не было никакого желания. А тут – надо, что поделаешь? Артюша нас привел, к одному, взяли бутылку, тот поморщился, конечно, но принял и даже посидел с нами минут пятнадцать. Он объяснил нам сиволапым, что для того, чтобы попасть в отряд нужно чем-нибудь отличиться, в крайнем случае, нужно уметь петь, плясать или играть музыку, а выявлять все это будут в специально организованном походе. На следующий день мы были в списках походников.
Все походники были предупреждены, что водки – ни-ни. Выпить у костра и даже схоронившись в палатке – святое дело, но поехать на Дальний Восток хотелось сильнее, поэтому не взяли с собой ни капли. В походе я показал свою сноровку в установке палаток и разжигании костров. Марк взял гитару и мы с ним, как дураки трезвые, развлекали народ песнями Высоцкого и комсомольско-молодежным репертуаром. А комитетчики все напились почти до бесчувствия, но нас с Марком записали в агитбригаду сахалинского отряда.
До Хабаровска летели на уже тогда несовременном, но прекрасном ТУ-114, всё добропорядочно, культурно, вежливые стюардессы, спальные места в середина салона. Долетели замечательно, а в Хабаровске вышла задержка – Сахалин не принимал из-за глубокой облачности. Прекрасный в целом город Хабаровск (если не считать туалета в аэропорту) осточертел нам хуже горькой редьки. Мы уже истрепали все карты, когда к нам подошел летчик в форме, лихой и с черными усиками.
– Студенты?
– Да.
– Вместо груза полетите?
– Полетим!
– Возьму не больше двадцати человек.
Мы быстренько согласовали с командованием (у нас были командир, комиссар и еще какие-то раздолбаи с начальственными лычками на куртках, всё вместе это называлось «штаб»), а всего народу около восьмидесяти человек. Нас обозвали квартирьерами и благословили. Летчик со стюардом вывели нас на летное поле. У забора в ряд стояли не менее десятка самолетов никаких не грузовых, а вполне пассажирских АН-24, идем вдоль этого строя. Пилот со стюардом беседуют.
– На этом полетим?
– Нет, там унитаз сломан.
– Вот этот хороший.
– На нем приборы дурят. Нет… Во! Вот этот самый раз.
Забираемся в самолет, рассаживаемся. Летчик, не закрывая кабины, начинает заводить моторы. Корпус машины дрожит. Мне, через иллюминатор видно, как закрутился правый пропеллер. Минут через десять всё стихло, летчик вышел из кабины.
– Выгружайтесь!
– Что такое?
– Левый мотор не работает. Быстро вон в тот!
Бегом перегружаемся в соседний самолет. Начинается дождь. В этот раз завелись быстро, моторы ровно гудят. Я сижу на первом сидении, прям за пилотом. Он переговаривается с диспетчерами.
– Мариночка! Целую тебя в обе румяные щечки.
– Слышу тебя, обормот.
– Дай взлет. Я на Сахалин, рейс… – и дальше цифры.
– Ты що, с гузду зьихав? Дождь такой! Грозовой фро…
После щелчка тумблера голос диспетчера пропадает.
– Всем пристегнуться! И никаких хождений мне.
Машина срывается с места, быстро выруливает на стартовую точку. Моторы ревут. Рывок. Колеса выбивают лужи со взлетной полосы. Нос резко забирает вверх. Впереди маленький просвет в облаках, через него мы и уходим в чистое небо.
– Мариночка! Это опять я.
– Взлетел-таки, паразит!
– Будешь ругаться, вечером не зайду за тобой.
– Куда ты денешься… Возьми левее…коридор… – ну, и так далее.
Когда вышли на курс, пилот пришел к нам в салон играть в карты. Полет был скучным – моторы нудели на одной ноте иногда переходящей в зуд. У-у-у-у, з-з-з-з, у-у-у-у-у, з-з-з-з. Под крылом облака закончились, и все два часа видно было только тайгу, нарезанную блестящими полосками рек. Над самым проливом стали опять сгущаться тучи. Остров пропал. Через некоторое время в тучах появился прогал, в который было видно сушу и какие-то строения на ней. Самолет дрогнул от выпущенных шасси. Но наш пилот садиться не спешил, летал кругами.
– Вы смотрели фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика»? – это пилот, обернувшись к нам, кричит, – Если не смотрели, сейчас увидите. Пристегнуться всем!
Самолет опрокинулся на левое крыло и заскользил боком к просвету в облаках. Я еще толком не успел испугаться, когда фюзеляж крутанулся в другую сторону. Меня вдавило в сиденье. У меня было впечатление, что перегрузка еще не кончилась, когда мы плюхнулись на взлетно-посадочную полосу.
– Всё, ребятки, можно сушить штаны, приехали.
На удивление здесь внизу дождя не было, аэропорта тоже. Был диспетчерский пункт, рядом с которым тарахтел старенький автобус. На этом автобусе нас привезли в мрачный поселок, состоящий из нескольких бараков, один из которых должен был стать нашим домом на два месяца.
На ночлег мы разместились в одной комнате. Душновато, но не так промозгло. Я проснулся на самом рассвете от холода, странного звука и осознания постоянного неудобства. Я понял, что уже неоднократно пытаюсь закрыть одеялом то голову, то ноги, при этом незакрытая часть как-то странно болит. Окончательно проснувшись, я увидел удивительный потолок. В своей середине он был белый, а ближе к краям темнел, в углах становясь совсем черным. Проснулся не только я – с разных сторон слышалась мрачная ругань. Один уже встал совсем – маленький грузин, спавший в углу, около окна. Он уже оделся и обулся, и направлялся к двери.
– Что за хрень такая? Что это так гудит?
– Спать невозможно, мать… мать… мать…
Грузин только взявшись за ручку двери, заговорил:
– Ребята, это комары… это я виноват. Ночью душно стало… ну, я окно и открыл.
И исчез за дверью подлец во избежание суда Линча.
С момента приземления на остров, стало понятно, почему цари ссылали сюда неугодных. Всё здесь было какое-то унылое и диспетчерская вышка, и эти бараки, и серый песок вокруг, и чахлые, низенькие хвойные деревца, которые, как потом выяснилось, назывались кедрачом. Поражало еще отсутствие людей. Со вчерашнего дня мы видели только двоих – шофера автобуса и тетку, открывшую нам барак. Поселок выглядел совершенно пустым. Такое было впечатление, что мы на необитаемом острове. До прибытия основной группы нам делать было нечего, и мы пошли разведывать местность. Дороги здесь на севере Сахалина все были грунтовые. Влево от сквозной аэропортовской дороги ответвлялась более узкая, уходившая в заросли кедрача. По ней мы и решили прогуляться.
Выглянуло солнышко, настроение улучшилось, даже комары от солнца попрятались куда-то. Через полкилометра нам открылось чудесное большое озеро с изумительно чистой водой. Мы дружно разделись догола и бросились в воду. В холодной воде долго находиться не было возможности, а на солнце было достаточно тепло, тем более, если поиграть в догонялки и пробросаться горячим песком. Мы настолько увлеклись игрой, что не заметили, как на берег вышли женщины с бельем для полоскания. Это было настолько внезапно, настолько мы не ожидали увидеть на этом диком острове людей вообще, а тем более молодых женщин, что мы даже не прикрылись руками, просто остановились, и смотрели на них, открыв рот. Очевидно, наше присутствие тут, да еще в полном неглиже, было также полной неожиданностью для вновь подошедших дам. Они тоже замерли на месте, потом завопили дурным голосом:
– Дикари-и-и-и-и.
– Дикари. А-а-а-а-а.
И бросились бежать со всех ног, теряя белье из своих тазиков.
Вот тебе и необитаемый остров.
Чем-то похожий, хотя и противоположный по смыслу, случай произошел примерно через месяц после этого. Мы с приятелем зашли в магазин в Охе купить выпивки, в нарушение сухого закона, который был у нас там установлен. Из выпивки там был питьевой спирт в пол-литровых бутылках с синими этикетками, двадцатиградусное вино «Гранат» в трехлитровых банках и шампанское вполне обычное, как в Москве, которое разбиралось за три дня после прихода парома с материка. Магазин был еще закрыт на обед, и рядом с входом стояло еще несколько человек. Мы решили подождать здесь же. С нами разговорился бомжеватого вида мужичок (там это называется «бич») и, явно чувствуя вопрос нетактичным, все же спросил:
– Вы, ребят, наверное, с периферии?
Мы оба задумались и не нашлись, что ответить. Да, одеты мы были грязновато, прямо со стройки. Наша студенческая форма уже порядком пообтрепалась, видок аховый, но всё же? Город Оха на севере острова даже для Сахалина является окраиной, в сравнении, скажем, с Южно-Сахалинском. Т. е. это периферия даже для Сахалинской области, так откуда же мы тогда могли приехать? Из Лондона? Или совсем уж с Луны?
Вот так и начинаешь понимать, что всё в жизни относительно.
Работа там была такая же бардачная, как и по всей стране. Усугублялось это тем, что нами затыкали дырки, где совсем уж никто не хотел работать и тем, что командир со своим «штабом» были, мягко выражаясь, дураки. С самого начала я попал на строительство тепличного комплекса. Там, к моменту нашего прибытия, на площади примерно триста на триста метров стояли металлические каркасы теплиц на бетонных фундаментах. Несколько раньше выяснилось, что фундаменты нужно было засыпать песком и на этот песок выложить бетонные плиты. Ни бульдозер, ни кран туда попасть не могут – каркас мешает. Всё… стройка встала. Но тут приехали дурачки студенты, получили в руки лопаты и перебросали песок на 150 метров к центру теплиц, а потом двухсоткилограммовые плиты на ломах вчетвером туда же. А расценки, как у подъемного крана и бульдозера! Поневоле запьешь, когда это безобразие по 12 часов в день, плюс дорога, и без выходных.
Правда, один выходной у нас получился. В тот день Оху посетил царь Сахалинской области – первый секретарь обкома «товаришчь» Озеров. Чтобы не запылить его машину, ни один грузовик на дороги не выпустили.
Второй объект у меня был интересней. Мы бетонировали нефтеналивные баки, построенные тут японцами сразу после 1905 года. Работа здесь казалась менее бессмысленной, тем более, что мастер постоянно подкармливал нас очень вкусной сушеной корюшкой.
Кстати, о еде. Поварихи были наши, девчонки из нашей группы Купчиха и Свинина, но это не помогало так, как на картошке в Протасовке на втором курсе. Продукты были из рук вон. Крупа, тушенка. Молоко, яйца и картошка только в виде порошка. От цинги спасались привезенным с собой в огромном количестве чесноком. Сигареты нам выдавали каждый день по пачке слегка подпорченной плесенью «Звездочки». До этого я эти пачки с мотоциклистом на фоне большой красной звезды видел только в фильмах про войну – эти сигареты прекратили выпускать еще в 1948 году. Самое удивительное, что в магазинах не было рыбы. Океан – вот он! Один раз, впрочем, мы отдуплились. Открылся магазин в нашем поселке, (продавщицу выпустили из-под следствия). Она открыла бочку пряной селедки. Мы её ели, прямо не чистя, просто резали на куски и ели. Но радость оказалась не долгой, продавщицу сразу арестовали опять.
Меня все время удивляет, почему у нас в стране запрещают ловить горбушу и вообще, красную рыбу. Вы видели, как она идет на нерест? Маленькие речки буквально кипят рыбой, а ловить её нельзя под страхом крупного штрафа или даже ареста. Но почему? Все равно эта рыба погибнет и икры столько не нужно. Почему нельзя ловить? Когда в телевизоре в очередной раз показывают, что поймали злостных браконьеров, мне жалко этих браконьеров и противно думать о государстве.
В тот год вышел скандал. Рыбнадзор получил в распоряжение вертолет. Они повесили под вертолетом на тросу большой крюк и стали этим крюком собирать сети по рекам. Народу надоело терять сети. Особенно разозлись танкисты одной из частей. На одной из речек они поставили по берегам два танка, связали их толстенным тросом, якобы тянут один из них. Притопили трос, сидят курят и ждут. Летит вертолет рыбнадзора с крюком. Танкисты-то думали всего лишь оторвать крюк, а вышло по-другому, трос крюка оказался не менее прочным, чем у танкистов, и вертолет весь плюхнулся в реку. Поминай, как звали изобретательных надзорщиков. Разборки так ничем и не кончились – несчастный случай.
Кстати, о несчастных случаях. Месяца через полтора беспросветной работы мы возмутились, вплоть до забастовки, что стоило ли лететь на край света, чтобы толком даже не посмотреть остров. Командир струсил и договорился с местным начальством. Нам выделили вертолет, чтобы провезти по красивым местам. Пока чего-то ждали, на этом вертолете наш отрядный доктор вылетел по вызову к какому-то больному. Пролетел метров пять, после чего вертолет рухнул. Доктор сломал ногу, а у вертолета отвалился хвост. Так что красивых мест Сахалина я так и не увидел.
На день рождения в августе я получил посылку из дома. У нас тогда был тайфун, и эта срочная авиа-посылка провалялась где-то в Хабаровске или в Ванино не менее двух недель. Я тогда уже работал на аэродроме, мы строили новую ВПП.
Аэродром вообще-то из-за сильного ветра был закрыт, но были исключения. На старую грунтовку во время тайфуна садились только полярники с красными хвостами. Смотреть на эти посадки было откровенно страшно. Эти самолеты приближались к ВПП по какой-то замысловатой кривой, с линией крыльев, наклоненной к горизонту градусов на тридцать. Когда уже казалось, вот-вот одно крыло заденет за землю, самолет резко выравнивался и падал вниз. Они несколько раз подпрыгивали на колесах. У летчиков это называлось «дать козла». Это уже был не «козёл», а целый мамонт, но ни один самолет не разбился.
Посылку мы открывали вдвоем с Татарином. Фанерная крышка отвалилась и из ящика вылезла, раздуваясь, зеленая подушка длинноволокнистой плесени. С плесенью справились быстро – её источником оказалась полукопченая колбаса. Мы её, конечно, выбросили? Нет! мы её съели тут же, даже не жарили, оставив половину ребятам. И те вечером съели по кусочку. И ничего нам от этого не было. А какой аромат разнесся по бараку, когда мы закурили паршивенькие, по московским меркам, сигареты «Пегас». Фантастика!
Приехав в Москву, мы получили по 800 рублей (еще 400 у нас вычли за перелет и питание). По тем временам это были большие деньги. Можно было бы считать себя вполне счастливыми, если б не знать, что ребята с Курил привезли по полторы тысячи при восьмичасовом рабочем дне с выходными и без сухого закона.
Вторая памятная поездка в Прибалтику состоялась случайно. Нас с Марком пригласила в Эстонию моя будущая жена. Планировалось и отдохнуть и подзаработать денег. Мы с будущей женой еще тогда совсем не были близки, но она мне всегда нравилась, и я хотел поехать, однако, когда я узнал, что организовывает это мероприятие Нос, всё желание у меня пропало. Тем не менее, идея-то осталась. В результате мать в министерстве договорилась, что нас устроят в Латвии, и мы с Марком вдвоем поехали просто отдыхать.
Мы прибыли в Ригу очень дополнительным поездом в пять часов утра. Для того чтобы устроиться в гостиницу, нужно было позвонить сначала в местное министерство ответственному человеку, а министерства, как известно, начинают работать не раньше девяти. Пришлось нам голодным и усталым, бросив вещи в камере хранения, плестись в город, осматривать Ветс-Ригу.
Почти сразу мы поняли, почему Прибалтика считалась в Союзе внутренней заграницей. Совсем рядом с вокзалом мы наткнулись на уютнейший кабачок, спокойно работающий в такую рань. По старой каменной лестнице мы спустились в полуподвал и получили по рюмке цитрусовой водки, по кружке прекрасного холодного пива, горячую глазунью с беконом и очень вкусный, пахучий кофе. В Москве это было невозможно ни в разгар дня, ни вечером, ни, тем более вот так, ранним утром. Я думаю не надо говорить о том, что нам очень понравилась старая Рига, которую мы пошли осматривать ужесовсем в другом настроении.
Латвийский министр определил нас в гостиницу Юрмала. Всё-таки ж середина лета и мы у самого моря. Естественно, первым делом мы пошли купаться. Мы разделись до плавок, бросили свои вещи под соснами и не спеша подались к воде. Вид респектабельных людей бомондно гуляющих вдоль берега в летних пальто и головных уборах мог бы нас остановить, но не остановил, мы зашли в воду.
Вода оказалась несоленой и очень холодной, встречный ветер обдавал нас брызгами, но мы упорно шли вперед по колено в воде. Метров через пятьдесят, когда глубина достигла примерно метра, мы быстро окунулись и побежали обратно. Бег под холодным ветром с брызгами совершенно не согревал. Мне давно не было так холодно. Хорошо, что по пути к морю, мы зашли в магазин и взяли бутылку. Пара глотков из горлышка всё той же цитрусовой вернули меня к жизни.
Выйдя из гостиницы уже поздно вечером, мы обнаружили, что на первом этаже расположен ночной ресторан. Мы тут же направились к его стеклянным дверям. Это была экзотика. Солидный швейцар в дверях, молча перекрыл нам дорогу. Мы начали что-то объяснять, трясти карточками гостиницы, но тот только качал головой, нет мол, и всё. Руссо-туристо нам объяснили, что без галстуков сюда нельзя. Мы поднялись в номер, надели пиджаки и галстуки, но этот русофоб опять нас не пропустил. Второе препятствие оказалось проще – нужно было взять билеты здесь же, в двух шагах от швейцара.
Наконец, мы оказались внутри. Это был большой скучный зал со столиками и площадкой для танцев. В соответствии с купленным билетом, нам выдали по коктейлю и по нескольку маленьких бутербродов. Кухня по случаю ночного времени оказалась закрытой. Публика состояла по большей части из москвичей. Марк остался гулять с какими-то своими старыми знакомыми, встреченными тут же, а я, выпив свой коктейль, ушел спать.
На следующий день в Риге мы сходили в настоящий, хороший латвийский ресторан. Соблюли дресскод, купили билеты, поулыбались швейцару и метрдотелю. Нас провели в очень уютный зальчик, посадили за столик. Мы пили московскую водку и кофе с рижским бальзамом, очень вкусно поели. Обслуживание было выше всяких похвал. Правда я немного испугался, когда возле только что вставленной мной в рот сигареты вдруг, откуда ни возьмись, появилась горящая спичка. Но к этому не долго привыкнуть.
Да, на всей остальной территории Союза этого не было. Трудно было представить себе такое обслуживание в Москве, а тем более в Туле или Крыжополе. А здесь была внутренняя заграница. И дело даже не в тихом ресторанчике с приличной публикой тихо наслаждающейся уютом и внимательным к себе отношением, дело в общем отношении к жизни и окружающим тебя людям. Когда в 1988 году в Москве появились кооперативные кафе, они были такими же уютными, как этот рижский ресторанчик, но просуществовали недолго. Довольно быстро они стали точно такими же, как обрыдшие всем ресторанус-советикус. Что? Рестораторы у нас такие дурные? Нет, спрос рождает предложение. У нас ходят в ресторан не для того, чтобы отдохнуть под тихую музыку, а чтоб гульнуть «на широкую ногу», а какая разница после второй бутылки, что у тебя стоит на столе? И как можно официанту культурно обслужить вдребезги пьяного человека? И это во всём. Почему на фоне щемяще прекрасной русской природы везде попадаются брошенные котлованы и стихийные помойки? Почему все дороги в колдобинах? Почему правительства наши, какому бы очередному «-изму» они не поклонялись, никогда не думают о людях? Это всё явления одного порядка, но… Нет ответа! Только находясь далеко от родины, начинаешь понимать, что Россию невозможно просто любить или не любить, её можно только любить и ненавидеть одновременно.
Туристическую программу мы выполнили достаточно быстро. Послушали Баха в Домском соборе, покатались на катере по Даугаве и Рижскому взморью, глубокомысленно насупившись, походили по берегу моря и дорожкам Юрмалы. Делать стало нечего и, через несколько дней, мы на поезде перебрались в Лиепаю. На внутренних линиях Латвии поезда тогда еще тянули паровозы. Электрички были очень старые. В Москве ходили новенькие электрички, кстати, рижского завода, но они всегда безбожно опаздывали или уходили раньше времени. А здесь по поездам и электричкам можно было проверять часы.
Лиепая – не очень большой, но промышленный и портовый город. Там нас встретил директор крупного текстильного комбината. Мы ходили за ним по цехам как Коровьев с Бегемотом. Два раздолбая студента, непонятно в какой одежде, однако, ноблесс оближ, мы же представители Союзного министерства – начальство. Мы одобрительно кивали на всё, но я лично, чувствовал себя неловко, до тех пор, пока нам не выдали ключи от квартиры и не отпустили с богом.
Квартира эта была предназначена для командировочных, таких хотя бы, как мы, и для проведения корпоративных вечеринок. Мы сразу договорились с Марком, что я готовлю еду, а он моет посуду. На удивление быстро он согласился. Примерно на третий день, когда вся кухня была уже завалена грязной посудой, я возмутился, пора, мол, и честь знать. На мой афронт ни сколько не смутившийся Марк, молча распахнул передо мной посудный шкаф. Чистой посуды там оказалась еще гора.
– Еще ж не кончилась! И потом, мы же на отдыхе.
Я не нашелся, чем возразить.
В Лиепае мы нашли способ купаться. Нужно было лечь в дюнах, в ложбинку между двумя барханами песка, где не было ветра, и греться. Потом быстро искупаться и вернуться на горячий песок. Но в основном мы там развлекались рыбалкой.
Прямо от нашего дома в море уходил мол, на котором целыми днями сидели рыбаки. Мы купили удочки и тоже сели, но дело не шло. На хлеб рыба клевать не желала, червяков не было. То есть, вообще не было! Мы на такси ездили на ферму к коровникам и там ничего не нашли. Ну, просто, как в анекдоте, «только песок и говно». А скрытные прибалты, при нашем приближении, насаживали что-то на крючки, прямо в сумке, и быстро забрасывали в воду.
Повезло случайно. Какой-то малый недалеко от нас закатал штаны, спустился с мола в море и что-то выкопал прямо из-под воды. Мы заметили, куда он спрятал лопату, и повторили его действия. На второй или третьей лопате я обнаружил у себя в руке бледного плоского морского червяка. Ну! Это ж стало совсем другое дело! Стали регулярно попадаться речные окуни, плотва, но в то же время чисто морская камбала и др.
Однажды мы заболтались с одним аборигеном и не заметили, что уже начало темнеть. Собрались уходить. Я потянул из воды удочку. В сумерках было видно плохо, но видно, что за крючком тянется длинный хвост каких-то водорослей и тины. Эта дрянь оказалась довольно тяжелой. Когда я стал снимать её с крючка, она вдруг резво обмоталась мне вокруг левой руки. Я чуть было не упал в воду – это был угорь. Очень вкусный оказался угорь!
Не помню, почему мы уезжали очень спешно, опаздывая на поезд. Я не успел отдать ключи от квартиры на комбинат. Пришлось потом высылать их из Москвы бандеролью с извинениями.
Друзья и отдых без отрыва от учебы
Основная учеба всегда наступала в сессию. В течение же основного семестра всё было проще. Лекции я посещал более менее регулярно, но каких либо серьезных физических или умственных затрат это не требовало. После занятий ехать домой частенько не хотелось. Чаще всего шли в Парк пить пиво. Тогда в Парке в нескольких точках продавали настоящее чешское разливное – Праздрой, Гамбринус, Старопрамен и др. Самой близкой точкой были «Кирпичики». Вообще-то, это называлось «кафе Керамика», но его так никто не называл. Это была открытая пивнушка возле пруда и хороша была только в теплое время года.
Главной точкой был Пльзеньский пивной бар. Здесь кроме пива можно было взять очень вкусные чешские шпикачки и другую еду, в том числе креветки, которых тогда в магазинах не было. Пиво, конечно, разбавляли, но однажды мы очень удачно попали. Вот это было пиво! Парк тогда проверял ОБХСС. Пятак, положенный на пену в кружку тонул, но три копейки лежали не меньше пяти минут.
/ Анекдот: Золотая рыбка: «Ну, какое желание тебе выполнить?» Рыболов: «Не знаю… у меня вроде бы, всё есть». Золотая рыбка: «Машина… квартира… дача?»;Рыболов: «Да есть у меня всё… хотя постой, сделай так, чтобы эти гады посетители на мою пивную палатку не ссали!». /
Очереди в пивных стояли километровые, поэтому подойти и взять одну кружечку было невозможно – брали по пять, а то и по десять.
Частенько после пива требовалось продолжение банкета. Выглядело это так: по карманам собирается вся мелочь с троих, с четверых, сколько желающих есть. Кое-как набирается на бутылку красного. Через магазин идем в общежитие. Первым делом заглядываем к девочкам – у них всегда есть закуска. Если не смогли оторвать их от черчения курсовых или иных нужных занятий, идем к кому-нибудь из ребят. Например, начинаем у Угла с Хайли Силасием. Быстро выпиваем принесенную бутылку, жрать нечего, просто так молоть воду в ступе тоже скучно. Наступает второй этап. Все уже забыли, что недавно считали мелочь и клялись, что больше нету. Достаются бумажные деньги. Повторяется поход в магазин, но уже более солидно.
На последнем этапе, когда уже магазины закрыты, идем к армянам на пятый этаж, берём коньяк. В институте была большая армянская диаспора, у них никогда не истощались запасы коньяка, причем, не московского разлива, а настоящего, оттуда. Это было дорого, но на последнем этапе это уже не имело значения.
* * *
Мы сидим в 107 комнате. Хозяева здесь Поп, Жук и еще один парень. Забрели сюда случайно, Марк завел – они с Попом в приятельских отношениях. Жук – здоровенный дурной малый, очень похож на классического дурачка из мультфильма, такие же огромные плечи с маленькой головкой, нос картошкой и мягкая шапочка на один бок. Первая уже выпита, деньги собраны, Жук сминает их в руке, надевает свой дурацкий колпачок и выпрыгивает через окно, благо первый этаж. Через пять минут он уже за столом, от окна до магазина совсем рядом. Привычка лазить в окно ему один раз чуть не стоила жизни, когда он переехал в новое общежитие, на седьмой этаж. Вот так же побежал в магазин. Еле успели поймать, хорошо куртка оказалась крепкой.
Кстати, Поп приехал в институт из Средней Азии. Он регулярно получал на почте посылки с анашой или марихуаной, как её называют в Америке. Простые почтовые посылки, фанерные ящики, обшитые тканью и заляпанные сургучными печатями. Полный ящик травки. Он её продавал, угощал желающих, но я не помню, чтобы кто-нибудь из наших пристрастился к наркотикам. Рекламы, такой как сейчас, по телевидению тогда не было.
Сидим у девчонок, ждем, пока они нарежут салаты. Выпивку уже приготовили. Это две бутылки дешевой водки, одна бутылка пунша и бутылка портвейна. Всё это слито в одну кастрюлю, потому что пить по отдельности эти напитки невозможно, а вместе они создают просто королевский купаж, а завтрашняя головная боль сейчас никого не волнует. Пьется эта смесь изумительно, её разливают по стаканам половником и… впрочем, до этого еще не дошло.
Сидим за столом и тихо беседуем, девчонки слишком деловые в приготовлениях, их лучше не трогать. Угол уткнулся в какой-то журнал и читает, он прочитывает всё, на чем есть буквы до тех пор, пока не позовут всех к столу. Вот тут он бросает свое чтиво и тут же начинает есть и пить. Через некоторое время я его уношу в его комнату, по пути дав очистить желудок в туалете. Иногда он успевает это сделать в коридоре.
Мы тогда не знали, оказывается, на последних курсах он почти ничего не ел, не смотря на свою повышенную стипендию в 55 рублей. Я подозреваю, что он потерял или проиграл нашу групповую стипендию за какой-нибудь месяц, а потом выплачивал. Он, как староста, выдавал стипендию всей группе.
Хорошо сидим с девчонками. Заходит Гарик, кудрявенький еврейчик из Воронежа, подсаживается за стол, шутит. Девчонки недовольно шушукаются – Гарик пришел в тренировочных. Не в тех плотных тренировочных, как сейчас носят бандиты повсеместно, а в тонких х/б, какие сейчас носят вместо кальсон. Одна из девчонок приглашает его танцевать, трется об него всеми местами и вдруг отскакивает в сторону, и кто-то в этот момент включает свет. Гарик стоит посредине комнаты с оттопыренными спереди штанами, как будто он прикрыл это место зонтиком. Ха-ха-ха.
Наш завкафедрой, старый заслуженный профессор с мировым именем ушел на пенсию. На его место встала молодая, тогда ей было лет сорок, Валентина Ивановна. Представление нового начальства было нестандартным. В одной из комнат общежития собрались преподаватели и мы, две старших группы студентов. Сначала немного стеснялись друг друга, но алкоголь всех уравнял, дальше всё было, как обычно.
Однажды я проснулся, как Степа Лиходеев. Долго не мог определиться, где я нахожусь, или, как раньше говорили «идея?». Понял – это комната Угла с Силасием. Силасия нет, Угол на месте и еще несколько человек на полу. Я встаю и ищу, чего бы попить. Пустые бутылки есть, пустые тарелки на столе, но ни питья, ни еды. Шаром покати. Заглядываю в шкаф. На самом видном месте открытый брикет мастики для полов со следами человеческих зубов по краям. Полазил по карманам – денег ни копейки.
Это был уже не первый день моего бичевания в общаге. Напиться была не проблема из-под крана, а вот с едой надо было что-то делать. Жрать хотелось – сил нет. Я обошел всех знакомых девчонок на этаже. Смог добыть пачку лапши, несколько кусков засохшего хлеба, луковицу и маленький кусочек маргарина. Мы поджарили лук на огромной сковороде, вывалили туда сварившуюся лапшу и перемешали. Ели ложками из общей сковородки. Это был едва ли не самый вкусный завтрак в моей жизни.
Кроме общежития, был еще вариант зайти к кому-нибудь домой. Ближе всех к институту жил Марк, и довольно часто мы с ним вдвоем, брали бутылочку и заходили к нему. Чаще всего нам составляла компанию только их зловредная собачка Джуля, смесь Хина с Пекинесом. Но иногда засиживались, и приходила мама, которая сразу создавала в квартире неповторимый уют провинциального еврейского дома.
Однажды мы с Марком поехали к его армейскому другу, который жил в стареньком доме возле Зубовской площади с молодой женой. Друг выставил на стол два или три «огнетушителя», так тогда называли бормотуху, разлитую в бутылки из-под шампанского, назвать эту жидкость вином, язык не поворачивается. Весьма умилительно было смотреть, как воркуют эти два голубка-молодожена. Надо сказать, армейский друг был далеко не красавец, но его молодая жена…просто страх божеский, да еще и с прыщами по всему лицу. Но, как говорится, любовь зла… плюс московская квартира от тестя с тещей.
Не помню, зачем мы с ними потом куда-то поехали на трамвае. И тут случилось второе в моей жизни помешательство. Должен объяснить, что действие ядовитого напитка в тот день усугублялось тем, что это произошло сразу после окончания длинной и тяжелой зимней сессии. Более того, в тот день, когда мне позвонил Марк, я валялся дома и читал сумасшедшие рассказы А. Грина и, уезжая, оставил (еще совершенно трезвый) не менее сумасшедшую записку, перепугавшую родителей.
Когда мы вышли из трамвая и армейский друг куда-то отошел, я вдруг осознал, что Москва захвачена врагом и, что нужно прятаться и организовывать сопротивление. Всё это я тут же высказал молодой жене армейского друга. Она, конечно, опешила, но постаралась не подать виду.
– Сейчас, муж вернётся… и пойдём… – пролепетала она.
– Какой муж! Он убит, надо срочно уходить!
Даже если предположить, что я был совсем пьяный и совсем сумасшедший, я бы не смог в этой даме видеть предмет сексуальных притязаний, но она решила именно это. Я не очень отчетливо помню дальнейшее развитие событий, но Марк, видимо, мне поверил. Во всяком случае, мы еще долго с ним вдвоем бродили по каким-то проулкам, стараясь не встретиться с оккупационными войсками, а потом не могли сориентироваться, где мы находимся и как отсюда выбраться.
Может сложиться такое впечатление, как будто бы я в студенческие годы только и делал, что пьянствовал, но это не так. Хотя, должен признать, что в кино или в театрах я бывал редко, в музеи тоже перестал ходить. Всё это мне заменяли книги. Основное свободное время я проводил на диване с книгой. Хоть читать лежа и вредно.
В те поры отец пристрастился к собиранию библиотеки, у него была возможность покупать хорошие книги и подписываться на собрания сочинений. А я читал всё подряд, включая газеты и журналы. Самое интересное находилось либо в толстых журналах, либо в самиздате. В это самое время я в первый раз прочитал самиздатовскую копию «Мастера и Маргариты».
Сейчас я очень придирчив в выборе литературы, но всё равно, читаю каждый день, иногда целыми днями. Самым лучшим времяпрепровождением для меня всегда было чтение и дружеская беседа. А самые лучшие условия для дружеской беседы – за столом, после рюмочки, другой, третьей. Дело не в самой выпивке, а доверительной обстановке, которая наступает в результате этого действия. Даже в отношениях с женщинами мне всегда был более ценен не сам акт любви, а скорее ласка и теплота душевных отношений, хотя, что греха таить, по молодости часто доминирует страсть и именно физическая составляющая.
Любовь
На самом деле, любой человек очень одинок в этой жизни. Ему очень нужно иметь возможность поделиться с кем-то своими печалями и радостями и при этом не быть осмеянным. Человеку нужно, чтобы его понимали. Но этого нет! За исключением, если только раннего детства, когда маленький человек еще безгранично верит родителям. И то. У кого в памяти не хранится обида на непонимание со стороны взрослых? А лет после 13-14-ти взаимопонимание с родителями приходит в кризисное состояние, даже можно сказать больше, кризис достигает своей нижней точки. Непонимание становится антагонизмом. Несколько позже положение потихонечку исправляется, но, не смотря на вполне реальные и искренние проявления родительско-сыновней любви, никогда не достигает нужного обеим сторонам уровня взаимного доверия.
Что делать?
Искать! Искать того, кто нас поймет. Что мы и делаем всю жизнь более или менее успешно. В результате, кто-то из найденных остается в виде друзей-подруг или любовниц-любовников, но большинство остаются легким воспоминанием, простой ступенькой длинной лестницы жизни.
К тому же, никак нельзя сбрасывать со счётов еще два фактора – это физиологическую потребность и… то самое нечто, манящую и неуловимую прелесть любви.
Что касается первой любви, то я всегда чувствовал, что не судьба мне со Скво сойтись более тесно. Я всё время чувствовал между нами стеклянную перегородку. И еще какую-то отталкивающую силу, заставлявшую меня говорить не то, что нужно, делать что-то невпопад, при полном осознании неправильности своих действий. И при полном знании того, что на самом деле нужно говорить и делать. Скво я видел последний раз курсе на третьем. Я ведь потерял её тетрадку с конспектами первоисточников. До сих пор не понимаю, как это могло случиться. Судьба. При той последней встрече я наговорил ей опять каких-то гадостей, стоя на кухне у неё дома и даже, зачем-то снял с шеи и выбросил в окно свой галстук. Мы с ней увиделись после этого только лет через двадцать.
Выбор девчонок в текстильном институте огромен, но только неопытный в этом деле человек может подумать, что это хорошо. Затеять сколько-либо открытые отношения с одной особью из сплоченного женского коллектива невозможно, все остальные тут же начинают вставлять палки в колеса, и это еще мягко сказано.
Впрочем, жениться можно, но это можно сделать только один раз, а этого, во-первых, мало; во-вторых, это совсем не входило в мои планы. Из своей группы я попробовал пообщаться только с Купчихой. Я её так назвал потому, что у неё в Москве жила бабушка в небольшом доме на Пятницкой. В доме с конюшнями и лабазами, когда-то принадлежавшем их семье. Этот дом я описал в рассказе «Фиолетовый треугольник». Чуть позже я этот рассказ, наверное, приведу здесь полностью.
Купчиха сама как-то подошла ко мне на занятиях и сказала, что я ей приснился, и мы с ней в этом сне такое вытворяли… в общем, намек был довольно прозрачный. Но сколько я с собой не боролся, я не мог относиться к ней больше, чем к хорошему товарищу, да и не судьба тоже. В качестве примера приведу один из эпизодов.
На Сахалине нам, казалось бы, никто не мешал. Из одногруппниц здесь была только флегматичная Свинина, а ей было совершенно всё равно. Но где? Извечный квартирный вопрос. В бараках мы жили человек по пять в одной комнате. Лучше всего было общаться в столовой, но там всё время кто-то был и мешал. Одним солнечным теплым вечером мы с Купчихой отправились на озеро. Взявшись за руки, мы очень романтично шли, мило беседуя, и уже почти дошли до цели, когда поняли, что нас сильно донимают комары. Я сломил две веточки кедрача, и мы стали отмахиваться, но, подойдя к озеру, поняли, что ни о какой романтике речи быть не может. Нас просто съедят.
Обратно мы уже бежали. Оглянувшись назад, в контровом свете заката я увидел плотный темный туннель из этих тварей от озера и до нас. Подбежав к поселку, мы притормозили и плавно продефилировали мимо волейбольной площадки, потом быстро вбежали в столовую и закрыли за собой дверь. Там сидела Свинина со своим парнем. Вчетвером мы смотрели в окна, на то, как волейболисты сначала просто отмахивались от комаров, потом занервничали и окончательно разбежались по баракам.
Купчиха на четвертом курсе вышла замуж за Чумадана. Чумадан был хороший парень из нашей группы, но какой-то несчастливый. Он в детском саду упал со стула и повредил себе живот и, с тех пор, ему чуть ли не каждый год резали кишки. И вообще, хоть он был веселым парнем, но чуть что, он вешал голову: «Ну, вот, опять…». Учился он с трудом, каждый день ездил в институт из Пушкино на электричке и возил с собой баночки с протертой пищей.
Свадьба у них гулялась в Павловском Посаде. Присутствовала почти вся наша группа. Что такое свадьба? Это торжественное начало официальных сексуальных отношений между главными действующими лицами. Гости пьют-гуляют, становясь всё пьянее и развязнее, и все постоянно помнят о том, куда сейчас пойдут молодые, и что там будут делать. Это заводит гостей едва ли не больше, чем жениха с невестой. Я нисколько не был исключением из общего правила. Памятуя, что из своей группы никого ни-ни, я выбрал молодую учительницу. Она приехала вместо мужа, Чумаданового друга, бывшего в тот день на дежурстве. Всегда считается, что с замужними дело иметь, не всегда проще, но гораздо безопасней, тем более, с учительницей младших классов. И что вы думаете – я подхватил птичью болезнь! Не то два пера, не то три.
Чаще всего мы с Марком ударяли по химичкам. Соседний факультет, это уже совсем другое дело. Оттуда можно было вытаскивать по одной даме, не стесняясь реакцией остального прайда. Однажды, это было 23-го февраля, мы праздновали это событие в комнате двух химичек. Девушку Марка звали Тома, а у моей было «редкое имя» Надя. Они нам повесили на грудь медали, сделанные своими руками с надписью «За победу над сердцами». И даже после этого у меня не пропало ощущение, что это тупик какой-то.
Самое удивительное для меня было то, как я прекратил отношения с Надей. Мы пошли на каток. Тогда в Парке зимой заливали почти все дорожки льдом. Билет в раздевалку стоил не дорого, но мы заходили со стороны Нескучного сада, там билеты не продавались. Мы надевали коньки где-нибудь на скамеечке, а потом возили ботинки с собой в сумке через плечо. Казалось бы, велика беда? – человек не умеет кататься на коньках. Некоторые даже плавать не умеют, но на любовь это чаще всего не влияет. Но Надя настолько не умела кататься на коньках, что просто слов не было. Её движения были настолько неловки и несовместимы с такого рода деятельностью, что после катка я уехал домой и никогда больше с ней не встречался.
На самом деле все девчонки были хорошие, и в стогу в Протасовке, и на турбазе в Боровом, и остальные. Я им очень благодарен всем и храню о них самые лучшие воспоминания, но всё это было не судьба, пока меня не накрыло настоящей любовью.
Вместе с большой компанией ребят и девчонок я в тот день пошел в кинотеатр Ударник. Я не помню, какой фильм мы в тот день смотрели. В Ударнике тогда шло много хороших фильмов. Там вообще было злачное место на все вкусы. Кинотеатр, конечно, был хорош сам по себе. В Москве тогда немного было кинотеатров такого класса. Самыми престижными, хоть и излишне официозными были Россия и Октябрь, но два кинотеатра – это Мир и Ударник, били их по всем статьям, прежде всего репертуаром.
Здесь могли проходить какие-то внеплановые фестивали французских или американских фильмов (французские тогда были лучше) или, например, неделя фильмов Тарковского, о котором много говорили, но видеть его фильмов не видели. В Ударнике, в самом низу, в подвале был прекрасный буфет. Я не говорю про бутерброды и салатики – в то время, когда почти везде в стране было два известных сорта пива: «пиво есть» и «пива нет», здесь был ассортимент из пяти-шести наименований, минимум. В стране уже никто не помнил, что такое Портер в витых бутылках, а здесь он был, или светлая в маленьких бутылочках «Нашамарка» Бадаевского завода.
Да и это еще не всё. Почему я говорю, что отдых был на все вкусы? Напротив, через канал, за мостом стоял плавучий ресторанчик с цыганами, сокращенно «Поплавок». Он периодически сгорал дотла. Максимум через неделю привозили новый, и всё начиналось сначала. Но это для тех, у кого были деньги. У кого денег было мало, мог прекрасно отдохнуть в чебуречной, на углу. Да, там были заплеванные и грязные полы, да, там была паршивая публика, но! Но там был вполне съедобный портвейн, пиво и прекраснейшие чебуреки по 17 копеек за штуку.
Но всё это лирика. Почему в тот день мы вышли из кино одни, вдвоем, без остальной компании? я не помню. Но мы с ней вдвоем вышли на совершенно пустую набережную и непонятно по какому единому порыву, вдруг бросились в объятья друг к другу. Сбылись мои мечты о внезапном порыве любви. Это было сумасшествие просто! Это было то самое Нечто, которое невозможно высказать словами. Я не знаю, сколько времени мы целовались в уступчике, над темной водой канала, потом бродили по улицам… и, что вообще, дальше было в этот день, я не помню. Всё затмил тот ослепительный первый момент прозрения, не умственного, как обычно, а глубинного душевного прозрения, ослепившего нас обоих, по крайней мере, на этот вечер.
Потом, конечно, были сомнения: «То ли это? так ли это?» Особенно, когда я в очередной раз уехал на Украину. Окончательно всё разрешилось для меня по возвращении в Москву.
Мне, видно, судьба возвращаться в Москву с Украины голодным и без денег. Мы возвращались с практики из Луцка вчетвером. Я, Марк, Угол и Васёк. На последние деньги в Луцке, мы купили килограмм кровяной колбасы, копеек по тридцать за кило, хлеба и самой дешевой водки (или горилки «бис её разберэ»). У нас оставались деньги на чай, но то, что нужно брать постель тоже за деньги, мы напрочь упустили из виду. Проводница стояла на своем:
– В плацкартном вагоне не положено ездить без белья! Шас бригадира покличу!
Уж совсем за последние два рубля мы пошли на компромисс с бригадиром. Мы взяли два комплекта белья на четверых. Уже в спокойной обстановке мы выпили по стакану водки и поели кровяной колбасы с хлебом, после чего у меня начался кошмар на весь вечер, который я не забуду, наверное никогда. Я никогда не знал до этого, что такое аллергия, верней знал теоретически, помнил, что в августе у меня слегка чешутся глаза от какой-то цветочной пыльцы, но, что от аллергии можно сыграть в ящик? или что-то вроде того? Это я бы счел перебором.
Я начал задыхаться в купе и вышел подышать в тамбур. Было такое впечатление, что мне на грудь надели стальной обруч и сжимают его всё сильнее и сильнее. В Киеве я вышел на перрон. На морозном воздухе, вроде бы, стало легче. Когда поезд снова тронулся, ребята ушли в вагон, а я остался в тамбуре. И почти сразу упал, потеряв сознание.
Не знаю, сколько времени я пролежал на грязном полу, но, после этого, стальной обруч стал постепенно разжиматься. Я ушел в вагон и лег на своё место, хотя еще долго не мог заснуть, даже когда все остальные угомонились. Главным виновником моей неожиданной болезни, видимо, был тетрациклин, который я принял накануне. Но непосредственно спровоцировала приступ, несомненно, эта дрянная водка, и я зарекся на будущее когда-либо пить в дороге.
Утром я проснулся совершенно здоровым и свежим, как будто никаких приступов и не было. В Москве ярко блестело солнце, и деревья все были покрыты инеем от сильного мороза. Денег в кармане решительно не было ни копейки, даже пятака на метро, и я решил ехать не домой, а в общежитие. Туда можно было добраться без пересадок на одном троллейбусе, где платить не обязательно.
В троллейбусе я здорово замерз и, выйдя из него, поспешал скорей добраться в тепло. Но когда я свернул с улицы Стасовой направо, сразу же, увидел Её. Она шла мне навстречу под ручку с какой-то пожилой женщиной. Она тоже сразу увидела меня, и с ней стало происходить что-то непонятное. Она вдруг остановилась и, неизвестно зачем, стала поправлять шапку, сняла и снова надела перчатки, потом вдруг быстро пошла вперед и опять остановилась.
Её спутница осталась стоять в стороне в полной растерянности. Для меня мороз как-то внезапно кончился, мне стало тепло и даже немного жарко. Мы стояли уже рядом и не знали, что дальше делать. Из всего окружающего я видел только её огромные глаза, где были и радость, и любовь, и всё, что, казалось бы, мог желать человек.
А снаружи был сплошной сумбур. Она познакомила меня с пожилой женщиной, оказавшейся её матерью, проездом на курорт, заехавшей к дочери. Но это всё я осознал уже позже, а сейчас для меня не существовало вокруг никого и ничего, кроме её глаз и нашего с ней непонятного слияния прямо здесь на застывшей от мороза улице. Это опять пришло то самое Нечто, мгновение безумия, за которое можно отдать без сожаления всю остальную жизнь.
Сумбур этот продолжался всю зиму и весну, во всяком случае, до самой свадьбы. Ребята в общежитии относились к нам, как к тихо помешанным. Как еще можно относиться к людям, которые после простого вопроса, например, что взять в магазине на ужин? смотрят сквозь тебя куда-то в пространство и молчат? Кто-то улыбался на это по-доброму, а кто-то злился.
Рядом жила её подруга, симпатичная хохлушка, с молодым мужем, которому она каждый вечер давила прыщи на спине. Вот она очень злилась. Теперь я понимаю почему, но тогда я просто не обращал на них обоих никакого внимания.
Я уже говорил, что женитьба тогда никоим образом не входила в мои планы, но когда я пытался себе представить, как после защиты диплома мы расстаемся и она уезжает в свой Барнаул, а я остаюсь в Москве у меня случался нервный тик. Это было совершенно невозможно даже вообразить! И девятого марта мы подали заявление в Загс.
Это был теплый, солнечный, вполне весенний день. Снег растаял еще далеко не весь. Твердой почерневшей массой он лежал почти на уровне сиденья скамейки, на спинке которой мы долго сидели, не решаясь войти, как будто нам предстояло сделать что-то постыдное. Мы сидели и смотрели на ручейки у наших ног, бликовавшие в весеннем, как будто слегка зашторенном солнце. В какой-то момент всё же решились и вошли в полумрак с казенным запахом.
Внутри, действительно, нам обоим было неловко. Служительница Загса фальшиво-торжественным голосом долго повествовала нам о том, что такое брак и семья и еще что-то пошлое и глупое, как нам казалось, и уж совсем озадачила меня предложением выдать ей документы жениха. Зачем мне было носить с собой чьи-то документы? Что это я теперь «жених» до меня дошло далеко не сразу.
Вышли мы оттуда счастливые и довольные. Только что не заскакали по лужам, как дети. Нам стало легко и просто после того, как сбросили с себя груз неприятной и тяжелой работы в Загсе. По пути мы зашли в Диетку на Ленинском, взяли шампанского, курицу и немножко вкусностей в отделе кулинарии. Там, например, бывал очень вкусный развесной паштет, который мы оба любили.
В это время все студенты были на занятиях, и в общежитии было пусто и тихо. Сначала мы сходили на кухню в конец коридора, залили курицу водой в большой кастрюле, посолили и поставили на огонь, потом вернулись в комнату, закрылись на ключ и занялись тем, чем, собственно, и должны заниматься влюбленные в свободное время.
Я не помню, кто из нас первым вспомнил про курицу, но, в любом случае, было уже поздно. Легко одетые мы вдвоем побежали на кухню, но еще в нашем конце коридора по дыму и запаху стало ясно, что курица горит ясным огнем. Алюминиевая кастрюля расплавилась и стала тазиком, но верхнюю часть курицы, после ряда противопожарных мероприятий, удалось отстоять, и мы отметили нашу помолвку вполне достойно.
Работа и деньги
Когда я пересчитал в руках первую получку уже в должности инженера, я понял, что студентом на последних курсах получал больше. Первый инженерский оклад у меня был – сто рублей. Отсюда вычитали подоходный налог, налог за бездетность (был тогда такой хамский налог), надо еще было заплатить взносы в профсоюз и комсомол. На руки получалось не больше семидесяти пяти. А студентом я получал чистыми сорок рублей стипендии, еще столько же по НИСу, плюс зарплата с производственной практики, уборки картошки, стройотрядовские деньги и, к тому же, периодически возникали какие-нибудь левые заработки. Причем, взносы в общественные организации со студентов брали чисто символически. В профсоюз, например, Купчиха собирала с нас копеек по двадцать в месяц.
Разгружать вагоны на овощную базу я ни разу не ходил, в аварийных случаях я мог поесть дома, а ребята из общаги ходили. Это был самый простой способ получить деньги сразу за выполненную работу.
Несколько раз я ходил на ремонт квартир. Это было гораздо выгодней и легче.
Дело в том, что у Марка одно время появился как бы отчим. Прямо из самого короткого анекдота: «Еврей – дворник». Он работал маляром в ЖЭКе. Правда, работал по основным заявкам за него его напарник Костя, а он разыскивал выгодные наряды левака на после работы. Это был Лев в своем деле.
Мы с Марком, например, могли поработать в ЖЭКе, пока опытные товарищи срубят длинный рубль. В этом случае, за паршивую покраску дверей в стареньком подъезде мы могли получить приличные деньги.
Один раз мы работали у одной солидной тети. Она только что вышла из тюрьмы. Милиция разворотила ей все стены и полы в поисках клада, но ничего не нашла – отпустили за недоказанностью. Дама платила по-царски. За одну повешенную на стенку бра, я получил от неё 25 рублей. В дальнейшей жизни я, бывало, получал много больше, но нужно было работать головой, а иногда и рисковать ею же, при этом до сих пор нормы оплаты этой дамы поражают моё воображение – четвертак за двадцать минут грязной работы – это сильно. Сколько же Лев получил с неё за весь ремонт?
Что такое НИС? Дословно, научно-исследовательский сектор. Это была законная возможность подзаработать, как преподавателям, так и студентам. У преподавателей и аспирантов планка была выше, но для студентов максимум – 40 рублей. Это были неплохие деньги, если ежемесячно. Первый раз я узнал, что такое возможно и получил свою порцию денег, когда мы демонтировали оборудование на фабрике в Сокольниках и устанавливали его на кафедре. Но это была работа грубая и тяжелая физически.
Лиха беда – начало. Дальше пошло проще. Раз в неделю, вместо занятий, я ездил на Бережковскую набережную, в патентную библиотеку. Так называемый патентный поиск нужен был по всем работам кафедры, и я его какое-то время осуществлял. Перебирать картотеки патентов многим кажется занятием скучным, но при достаточном уровне воображения, можно получить большое удовольствие от одних только названий с краткими описаниями.
Что только не патентуется? Уму не постижимо. Одних только способов наклейки задников к домашним тапочкам сотни три, не меньше. От одних только названий некоторых патентов я не мог удержаться и смеялся в голос, пугая работников библиотеки и не в меру серьёзных посетителей.
Еще одна нескончаемая работа по НИСу проходила в «хитром домике». Так называлось одноэтажное зданьице во дворе института. Там располагалась огромная ЭВМ «Минск-32» и две маленьких армянских машинки «Наири-К». Тогда пользоваться вычислительной техникой было неудобно, громоздко и с сомнительным результатом. Проще было на счётах махануть. К тому же, преподавателям лень было изучать основы программирования, но это требовалось высшими инстанциями в целях прогресса. К любой научной работе нужно было приложить хотя бы перфоленточку с Наири, тогда она приобретала совсем другой вес. А сделать это было совсем не сложно, и мы делали.
Производственные практики начались с третьего курса. О первой практике у меня осталась памятная запись в трудовой книжке: «принят на работу трепальщицей приготовительного цеха». В мужском роде, почему-то эта профессия не воспринималась, хотя работа довольно тяжелая. Огромными ножницами, какими сейчас спасатели вскрывают автомобили после аварии, я распаковывал 150 килограммовую кипу шерсти. И потом забрасывал эту шерсть на приемный конвейер трепального агрегата.
Это я еще хорошо устроился, потому что фабрика была дэжавю из Казани – валяльно-войлочное производство. Те же голые люди в резиновых фартуках и сапогах, выныривающие из клубов пара. «Показать бы детворе, как трудились при царе». Запись в трудовой книжке сделала сердобольная начальница отдела кадров, мы все там получили стаж работы на вредном производстве. Кроме стажа я получил зарплату и несколько килограммов ярко белой австралийской тонкорунной шерсти на свитер и т. п. Пряжу делала вручную бабушка Васька Трубачева, бывшего на агрегате моим сменщиком. Это было в Москве, последующие практики проходили на Украине. В Ровно и в Луцке.
Первый путь в Ровно был для меня ужасен. В поезде я сходил в туалет по малой нужде и, в результате этого нехитрого действия, получил целую гамму физических и нравственных мук. Физической составляющей была жгучая боль в самом чувствительном месте тела, а с нравственной было сложнее. Во-первых, это сейчас гонорея лечится одной таблеткой антибиотика, а тогда это была проблема. Во-вторых, совершенно неоднозначен был источник этой дряни (на самом деле, источником была та самая учительница со свадьбы). Одним словом, все пьянствовали и веселились, а я скрытно страдал.
После первого же трудового дня на фабрике, я взял больничный, верней меня упекли в больницу на Зеленую улицу. Приемная венеролога в диспансере напоминала кабинет следователя Гестапо или НКВД. Скромная молодая женщина, вдруг изменилась в лице, когда я сообщил причину прихода, наставила мне в глаза сильную настольную лампу и начала орать:
– Где? С кем? Отвечать, когда спрашивают!
– Что про всех говорить?
– Называть всех! Говори быстро!
После того, как я назвал вымышленное имя, она как-то сразу успокоилась и выписала мне направление в стационар (шкирно-вэнэричный). Может, это было и не совсем так, но что-то в этом духе. Процесс излечения дурной болезни выглядел тоже, как исправительная мера. Мне сделали не меньше двадцати уколов пенициллина через каждые три часа, в том числе и ночью. Задница стала сплошным синяком с обеих сторон, но я, всё же, благодарен судьбе за это приключение. Нигде я не смог бы так узнать подспудную, скрытую от непосвященных жизнь города, как в этой не совсем приличной лечебнице.
Соседом по койке у меня был очень талантливый художник. При мне он цветными мелками сделал портрет желтушного деда из нашей палаты.
Этот художник дома жил редко, он всё время лечился то в психушке от алкоголизма, то здесь, на Зеленой от венерических букетов. Обе руки и горло у него были изрезаны бритвой при попытках суицида. Он показывал мне альбомы со своими работами, где большинство составляли зарисовки его видений в белой горячке, но сейчас он был трезвым, спокойным и милым человеком. Портрет деда был изумительно хорош, точен и очень правдив, но в нем было столько неизбывной тоски и отвращения к этой жизни, что я понял – он никогда не станет членом союза художников и вряд ли доживет до естественной кончины.
В соседней палате обитали расконвоированные на время болезни местные блатные. Знакомство тоже пригодилось позже для решения одной проблемы.
Тут лечил грибок на ногах один украинский националист, очень сожалевший о неправильной, с его точки зрения, национальной политике Гитлера. Мы, говорит, их встречали с хлебом-солью, с цветами, а они… Меня он называл москалем и старался при мне говорить только на «ридной мове». Однажды, он объявил, что устал тут с нами и пойдет погулять «на виздух». Я до этого нарочно не употреблял при нем украинские слова, но тут не выдержал и говорю:
– Я так разумию, що «виздух» на мови – «повитр». Чи ни?
Сначала народ задискутировал, но потом до всех дошла комичность ситуации, что москаль учит националиста, как правильно говорить по-украински. Блатные потом его так и звали «Виздух».
– Ей, Виздух, тебя на процедуры зовут.
Институтские ребята приходили меня проведать. Почти каждый день мы с ними играли в карты во дворике больницы под тенистыми деревцами Зеленой улицы. На территории росли огромные деревья с грецкими орехами, шелковица и каштаны.
Луцк, древний славянский город, понравился мне гораздо меньше, чем Ровно, потому что я там был только зимой. Он мне показался каким-то голым.
В Ровно последний раз я приехал тоже зимой и почему-то в поезде я ехал один. То есть буквально в купе никого не было до самой ночи, пока я не заснул. Я почему-то не люблю нижних полок и спал на верхней. Проснулся на рассвете от какого-то мрачного предчувствия или нервной обстановки что ли. Взглянул вниз. Там за столиком сидел совершенно незнакомый мне человек, видно подсевший ночью. Он строго посмотрел на меня и заговорил так, будто мы еще с вечера с ним о чем-то договаривались:
– Ну и сколько же можно спать?
– А что?
– Як що? Горилка стынэ.
– Да я вроде… мне еще на работу…
– Никаких вроде и никаких работ. Даю тебе на всё про всё три минуты. На работу ему… Усим працюваты трэба…
На столе стояла нестандартная бутыль, на хохлацкий манер нарезанное сало, порезанный уже круглый хлеб, зеленый лук с белыми головками (это зимой-то?) и два стакана вагонного чая в подстаканниках. То, что чай стынет мужика не волновало. Я с прошлого раза (когда мне стало плохо, и я упал в тамбуре) зарекся пить в поезде, но… слаб человек, отказать ему я не смог. Уж очень колоритен и приятен был мужик, да и сервировка стола располагала.
Сейчас если я выпью самогона под сало с луком, то либо помру сразу, либо неделю буду болеть, а тогда ничего, даже в радость было. В радость то в радость, но как я из поезда выходил, я не помню и никогда не помнил, не только сейчас. Я помню только, что подъехал к фабрике на такси. Почему-то очень злой на меня таксист выкинул меня из машины прямо в сугроб головой.
Кое-как выбравшись из сугроба и вытащив оттуда свою сумку я, пьяный-пьяный, а понял, что мне амбец, неприятности гарантированы по самые уши. Прямо ко мне шла комендантша общежития, одинокая злобная женщина лет пятидесяти. У нас с ней еще перед моим прошлым отъездом были стычки, а сейчас я попал по полной программе, пойдет сейчас звонить директору фабрики и т. д и т. п. Я попытался встать на ноги и не смог. Ну и хрен с ним, думаю, пропадай всё… но тут произошло чудо. Подойдя ко мне, довольно ласковым голосом она нараспев произнесла:
– Милай… где ж ты так нализался-то?
– В поезде… – говорю.
– Ну, пойдем, пойдем домой. Шапку-то, погоди… шапку-то из снега достану.
Она практически на руках отнесла меня в мою комнату, раздела и уложила спать. Чуть позже принесла большую кружку горячего чаю и тазик, на всякий случай. Единственный раз в жизни я столкнулся с таким феноменом, при общей непонятной даже озлобленности на весь белый свет, комендантша почему-то любила пьяных. Мне потом сказали, что мой случай с ней не единичный.
Диплом и распределение
На пятом курсе мы учились, собственно, только один семестр. Перед Новым годом сдали госэкзамены, а после него была подготовка дипломного проекта и преддипломная практика.
Новый год праздновали в общежитии, в комнате моей будущей жены. За столом сидело человек семь-восемь. По радио уже начали бить куранты, а пробка всё никак не хотела вылезать из бутылки. Шампанское было никак не французским и даже не нашим, то ли венгерское, то ли болгарское. Но я, всё же, успел, где-то на седьмом ударе – открыл. Разлил по стаканам и до двенадцатого удара все успели даже выскочить в коридор, где уже яблоку негде было упасть. Мы все что-то кричали и плясали под студенческую песню Тухманова, которая тогда была в самой моде. Когда закончилась музыка, я подал народу дурной пример – допив вино, я разбил стакан об пол. Все, как с ума посходили, начали колотить не только стаканы, но и бутылки. Когда я под утро уже вышел в туалет, на этаже была полная тишина. Я шел по коридору в одних трусах и в ботинках под аккомпанемент звонко хрустящего под моими ногами стекла толщиной сантиметров в пять.
Всю зиму и часть весны я мотался на Украину и обратно. Кроме Ровно и Луцка я однажды заскочил во Львов, познакомиться со вновь обретенными родственниками. Там жили дед с бабушкой моего зятя, то есть мужа моей сестры. Свадьба они гуляли летом, когда я был в разъездах, поэтому на свадьбе не присутствовал и ни с кем не познакомился. Дед был отставным генерал-майором, героем Советского Союза. Это были хорошие люди, жили они во Львове в хорошем особняке, но мне почему-то было со старшими слишком церемонно и напряжно, а с молодыми (львовскими студентами), которые повели меня по каким-то барам, вместо того, чтобы показать город, я чувствовал себя вообще, как человек с другой планеты. Ничего общего, даже зацепиться не за что, говорить не о чем. Их совершенно не интересовали памятники древнего города, а меня в такой же степени не интересовали львовские кабаки. Я даже не остался у них ночевать. Взял билет в общий вагон, проходящего ночью поезда. От Львова до Луцка всего несколько часов.
На перроне, перед посадкой в поезд, я понял, что погорячился. Но отступать было уже некуда, с родственниками я уже распрощался. Я не учел одной мелочи. Вся Украина седьмого января колядует и справляет Рождество. Все едут к родственникам, а восьмого числа обратно. В свой вагон я смог забраться только на подножку. И так и висел, обдуваемый январским ветерком, до следующей станции. Там кто-то вышел, и я продвинулся сантиметров на пятьдесят в тамбур. Дверь уже смогли закрыть. Я смог присесть только минут за двадцать до выхода, а поезд оказался тяни-толкай, и пришел в Луцк уже по-светлому.
Весной, когда все практики уже закончились, и нужно было приступать к написанию дипломного проекта, я совсем перебрался в общежитие. Соседкой моей невесты по комнате была странная девушка с древней дворянской и даже княжеской фамилией. Я здесь буду называть её Княжной. Она была далеко не красавица, но, сколько я её знал, у неё отбоя от мужиков не было. Зимой к ней ходил Вовик. Хороший парень. Он мне всегда нравился, хотя он с первого курса был безнадежно влюблен в мою невесту. Странная улыбка судьбы – он был как две капли воды похож на еще одного Вовика, который примерно в то же время женился на Скво, моей первой любви.
У Вовика с Княжной были странные отношения. Вовик не очень любил Княжну, но ходил к ней постоянно, я подозреваю, что ему больше нравилась эта комната, чем сама Княжна. Она же совсем не любила Вовика, но ей хотелось за него замуж. При этом Вовик жутко ревновал и однажды, решив уличить Княжну, полез по водосточной трубе. Видимо хотел появиться неожиданно, через окно. Попытка оказалось неудачной, всё-таки пятый этаж! Но ему относительно повезло – труба обломилась где-то между вторым и третьим. Вовик упал вниз и сломал ногу. А могло быть и хуже!
На те три недели, которые Вовик провел в больнице у нас поселился Марк. Это произошло случайно, Марк пришел, собственно, ко мне, но мы засиделись допоздна, и он остался ночевать, в постели у Княжны. Вот его-то она любила! Но тем не менее вышла замуж за Вовика, уехала с ним в Сибирь и довольно скоро родила ему ребенка, черноволосенького, удивительно похожего на Марка.
Прожили мы это время до свадьбы вполне весело. Будущие теща с тестем присылали нам деньги на подготовку к свадьбе, мои тоже подкидывали. До сих пор ума не приложу, куда эти деньги девались? вместе с нашими стипендиями? Из всех необходимых покупок мы приобрели только обручальные кольца и что-то еще по мелочи.
Более того, когда изредка приезжал в Москву её брат, работавший тогда шеф-поваром в вагоне ресторане, мы съедали у него на кухне все, что могли съесть. Выглядело это так: утром на Казанский вокзал прибывал фирменный поезд Барнаул-Москва. Мы, в толпе встречающих, подходили к вагону-ресторану, трогательно целовались с Братом, махали ручкой бригаде, уходившей в город за покупками, и тут же садились есть. Поезд тащили в отстойник, в Миколаевку, как это место называли проводники. Это где рядом с Рижским вокзалом. Платить за еду никому было не нужно, это всё была усушка и утруска, а вином Брат нас угощал за свой счет. Часа в четыре поезд подавали обратно на Казанский. Мы выходили из ресторана сытые и довольные, и в толпе провожавших и отъезжающих отправлялись домой. И еще более того, я помню дни, когда по утрам приходилось выворачивать все карманы, чтобы насобирать мелочь на чай с бутербродом в буфете. Но золотые кольца мы всё же купили!
На свадьбу мы наняли редчайший автомобиль ЗиЛ-111, это была переходная модель правительственного лимузина между ЗиСом и ЗиЛ-114 Водитель обиделся на меня за то, что я запретил украшать машину лентами, а мне не хотелось портить вид редкого автомобиля мишурой. Вполне достаточно было золоченых колец на крыше. Я всегда не любил широких гулянок, и на свадьбе у нас были только ближайшие родственники и друзья по институту. Гуляли у нас дома, плясать выходили на крышу магазина, продолжавшую наш балкон.
После свадьбы мы с женой уже жили дома, в моей комнате. То, что называют медовым месяцем, у нас прошло до свадьбы, а сразу после наступила суровая реальность. До защиты диплома осталось меньше месяца, а в этом огороде еще конь не валялся. У жены еще было кое-что – она делала научную работу. Мы с ней ходили изредка на их кафедру и что-то там делали. Я, как опытный в прошлом лаборант, помогал ей проводить испытания. В общем, что-то у неё подшивалось, а у меня был полный ноль. Примерно за неделю мы с ней вдвоем начертили мне около десятка ватманских листов тушью, еще неделю я писал свою пояснительную записку, а она свою. Одним словом к защите мы успели. Законным образом получили свои корочки и нагрудные значки с молоточком и штангенциркулем.
Дальше нас ждало свадебное путешествие… поневоле. Конечно, интересно было прокатиться на родину жены, в Барнаул, но даже, если б не хотелось, ехать по любому было нужно. В те поры, после окончания института, каждый вновь испеченный специалист получал направление на работу. Это направление имело силу закона, и ослушаться его было нельзя. Если только с согласия принимающей стороны. А кто ж такое согласие даст? им скажут, что? специалисты не нужны? Больше не дадим! Тогда мы считали это распределение жутким насилием над личностью. Сейчас бы такое насилие! Конкурс в ВУЗы вырос бы в разы.
У нас на кафедре ритуал распределения проходил примерно за неделю до защиты. В аудитории сидели «покупатели», а мы по одному должны были заходить туда. На дверях висел список вакансий. Первым пунктом шел строящийся на Урале комбинат, туда требовался главный инженер.
Нужно было несколько МэНээСов в отраслевой НИИ в Серпухов, два аспиранта на кафедру (но эти уже были известны). Остальной список был однообразен: «сменный мастер, сменный мастер, сменный… и т. д.» Я почему-то совершенно не желал работать на производстве. Я считал, что получать верхнее образование нужно только для того, чтобы работать в веселом творческом коллективе какого-нибудь института, а салить руки в масле и орать на рабочих можно и без него. У меня тут, естественно, была фора – в аудитории меня ждали аж два внеплановых покупателя.
Первым был начальник отдела института стекловолокна из Крюкова, это рядом с Зеленоградом. Очень интересный институт. Очень интересные ребята. И работа меня очень интересовала, но туда было далеко и неудобно добираться.
Вторым, верней второй была начальница отдела кадров из Проектного института (в аббревиатуре ГПИ). Тут было гораздо ближе и удобней, но работа скучнее. Два варианта. Это была с одной стороны комфортная, с другой стороны очень неприятная ситуация. В такие ситуации я много раз и потом, и до того попадал в жизни. Казалось бы, что тут плохого? Каждый человек хочет подстраховаться, иметь пару вариантов в сложной жизненной ситуации. Но весь вопрос в том, как из неё выходить, из этой ситуации? Идеально, мне нужно было решить заранее и сообщить одному из двух, что я передумал, что не надо на меня рассчитывать. Но не мог я тогда этого сделать, потому что не мог ничего решить до последнего момента, потому что чувствовал, что эта ситуация разрешима только Роком, или, если хотите Судьбой, но умом этого понять был не в состоянии. Я, только там, на официальном распределении, неожиданно для самого себя согласился работать в ГПИ. Мне было очень неудобно перед милым и хорошим парнем из Крюковского института, но что произошло, то произошло.
Парень из Крюкова уехал, по-моему, ни с чем, а эта наглая подруга из ГПИ, оказывается, взяла не только меня, но еще и двух наших девчонок: Бусю и Кузю. Но об этом я расскажу уже в другой главе.
А сейчас положение было таково, что мы с молодой женой должны были работать в разных городах: я в Москве, она в Барнауле, потому что она была направлена в институт Барнаульским Меланжевым комбинатом и пять лет получала оттуда повышенную стипендию, как отличница. Именно поэтому нам совершенно необходимо было ехать в Барнаул, предъявлять свои права на нерушимость семьи и получать согласие Комбината на отъём у него квалифицированного специалиста.
В Барнауле мне очень понравилась река Обь. Мы раздевались на раскаленном, ослепительно белом, песке, бежали в холодную, совсем недавно сошедшую с гор, воду, и выбегали греться на теплый песок, постепенно становившийся невыносимо горячим, гнавшем в опять в воду. На рассвете мы ходили к реке на рыбалку, ловили маленьких щук и стерлядок. Но сам город мне не понравился. И когда главный инженер Комбината, сказал мне, что отпустит мою жену в Москву и не очень переживает по этому поводу, но предложил остаться мне, пообещав сразу должность своего зама, я отказался.
Можно задним числом кусать локти и говорить, что я поступил глупо. Тогда все мечтали жить в Москве, но начинать работать в провинции, было гораздо лучше. На Урал, на тот самый строящийся комбинат распределился Начальник. Приехал он туда, правда, не главным инженером, а замом, но через три года или чуть более, когда его Комбинат начал реально работать, он стал его директором, а потом стал начальником управления развития, фактически замминистра Легкой промышленности СССР. Если б я согласился остаться в Барнауле, перспектива у меня была бы примерно такая же. В провинциальных, пусть даже областных или краевых городах не так уж много Начальников. Это совсем не то, что в Москве, где их тьмы и тьмы. К тому же, шикарная зона отдыха и охотбаза в горном Алтае, квартиру бы, конечно, дали не сразу, но…
Но нужно понимать, что судьбоносные решения от нас не зависят. Я отказался, и мы с женой вернулись в Москву.
14. Проектный институт
С начала сентября я вышел на работу в ГПИ. В качестве рабочего места я получил стол с кульманом в общем зале. Что мы там делали непосредственно по работе, я помню плохо. Что входило в мои должностные обязанности? Ну, не помню, хоть убей. Зачем нужно было держать технологический отдел в количестве 25 человек, из которых единственным представителем мужского населения был я? мне чуть позже откровенно объяснил директор института. Женщины (все 24) всё время чем-то занимались, а мне делать было нечего с самого начала. Если бы задействовать всех по настоящему, можно бы было выпускать по проекту в месяц, но в ГПИ для такого раздутого штата просто не хватало работы.
Может показаться, что я брюзжу на несовершенство социалистической системы. Вовсе нет. Все эти НИИ, КБ, ГПИ и т. п. были волшебным миром для людей в них работавших. Конечно, всегда были дрязги, склоки и прочие пятна на солнце, но, главное, здесь был огромный творческий потенциал, который, к сожалению, использовался лишь на доли процента. Благодаря этому потенциалу мы первыми вышли в космос, имели лучшее в мире оружие, энергетическую систему и много еще чего могли бы иметь, но, видимо не судьба.
Большинство молодых специалистов, и я нисколько не был исключением, приходят на работу сразу после ВУЗа с большими амбициями. Их сразу приводит в замешательство тот факт, что порученную им работу мог бы выполнять школьник. И только с годами начинаешь понимать, что не так важно образование, как важен опыт.
Сначала мне было поручено изучить проекты института за прошлые годы. Я в какой-то степени изучил и попросил конкретной работы. Мне дали задание на месяц вперед. Я справился за неделю. Я помню ужас в глазах начальницы, когда оказалось, что в моей работе практически нечего исправлять. Опять мне пришлось изучать проекты минувших лет. Не сразу я начал понимать, что дело тут не в самой работе, а в некоем творческом процессе, включающем в себя всю жизнь института в целом. Я начал потихоньку знакомиться с другими отделами и службами. Сначала в курилке, в столовой, потом уже непосредственно. Я научился не надоедать начальству требованием работы, а делать вид, что занят целый день по самые уши.
Я приходил утром, раскладывал на столе «эффект присутствия» и уходил в курилку. Через полчаса примерно появлялся, брал какую-нибудь бумагу и шел согласовывать её со смежниками. Смежникам тоже делать было особенно нечего, и они рады были потрепаться на отвлеченные темы. Мы были в курсе всех происходящих событий не только в институте, но и в стране в целом. Обсуждались на серьёзном уровне все выходящие книги и толстые журналы, все спектакли и фильмы, я уж не говорю о футбольных и хоккейных матчах. Мы спорили до хрипоты на самые разные темы, иногда, конечно, и по рабочим вопросам, но гораздо реже. В целом было весело.
Я несколько раз ездил в командировки. Один раз на машиностроительный завод в Кузнецк, действительно по делу. Но в основном это были поездки на дурачка в параллельные институты с целью шпионажа. Мне понравилась тогда поездка в Пензу. Понравился и сам город и понравилась обратная поездка. Мне не хотелось ночевать в гостинице – дела я успел сделать за один день. Я пришел на вокзал, с расчетом уехать сегодня же, и за полчаса до отхода поезда мне повезло, мне дали билет в прицепной вагон. Это был фирменный поезд «Сура».
Я стоял и курил возле своего вагона не торопясь садиться. Вагон был пуст. И вдруг, на перроне появилась толпа очень хорошо, даже излишне хорошо одетых молодых, в основном, людей и направились к моему вагону. Как чуть позже выяснилось, это был хор Пятницкого. Тогда их крутили по радио и телевиденью постоянно, они надоели всем со своими как бы народными песнями и плясками, да и не модно это было. Я посмеивался над ними в курилке. Они всё понимали и не обижались, но дали мне контрамарку на концерт в Москве. Это было что-то. Слушать их в живую, действительно было здорово. Но как они напились в вагоне! Утром они уже смеялись друг над другом, не то, что петь, они говорили-то с трудом. Особенно, когда длинный и тощий «бас», слезая с верхней полки, пропищал что-то, не смеяться было нельзя, тем более, что из трусов у него в этот момент вывалилось всё его хозяйство в присутствии дам.
Со скуки я начал активно заниматься общественной работой. Я был в совете молодых специалистов, был председателем ОСВОДа, народным дружинником и еще много кем, но главная радость была в художественной самодеятельности. Меня чуть ли не силой привела туда кадровичка, но потом я втянулся. У нас был очень приличный зал. Надо оговориться, что в нашем здании было три института. Актовый зал и столовая были общие.
Кстати столовая была вполне приличная, иногда там устраивались дни или даже недели национальных кухонь. Однажды, помню, приехали индусы – я ел у них «тхумдульму во фритюре», название понравилось. Но я об актовом зале. Тут иногда устраивались профессиональные концерты. Мы были членами КСП. От них к нам приезжали с концертами Никитин с женой, Визбор и кто-то еще. Высоцкий концерт сорвал, но, говорят, это с ним часто бывало.
В остальное время зал отдавался под местную художественную самодеятельность. Мы что-то там играли, пели, ставили драматические и комедийные миниатюры из жизни института. И нас смотрели, что удивительно, с удовольствием! Под бурные и продолжительные аплодисменты. Обсуждали потом долго.
На одном из концертов я вышел на сцену вместе со всеми. Я должен был играть на гитаре, но когда я её взял в руки, у неё отвалился струнодержатель. Ребята совершенно спокойно могли бы сыграть и без меня, но уходить со сцены мне было неприлично, и я уселся за рояль. Приняв позу профессионального клавишника, я принялся долбить по аккордам, которые должен был брать на гитаре. Я думал, что в зале меня не слышно, и к концу совсем раздухарился. Оказалось, я был не прав, очень даже было слышно, но некоторым даже понравилось.
Все эти художественные вечера обычно были приурочены к праздникам, и параллельно сопровождались всеобщей пьянкой. Народ был разгоряченный и возбужденный, часто излишне. Из-за этого я однажды попал в дважды глупое положение. Я по привычке фривольно пошутил с активной общественницей Мулей. Она восприняла шутку слишком буквально, закрыла на ключ дверь в кабинет и начала раздеваться. Мне это было совершенно не нужно, все женщины мира тогда делились для меня на мою жену и всех остальных, причем, эти остальные в сексуальном плане меня не интересовали.
Я открыл Муле на это глаза и, в результате, в её лице заработал себе смертельного врага. Это была первая глупость, мог бы придумать что-нибудь менее обидное для женщины. Вторую глупость я совершил дома – взял и рассказал всё это жене. Я думал, что подчеркнул свою любовь и преданность ей, а получилось наоборот. Она со мной потом неделю не разговаривала.
Прямо за нашим зданием, во дворе размещалась очень приличная ведомственная поликлиника. Так что, если надо было сачкануть и взять больничный, далеко ходить не надо было.
С поликлиникой у меня связаны воспоминания о донорстве. Моя мать была почетным донором, пока позволяло здоровье. В институте многие студенты сдавали кровь, но я никогда в этом не участвовал, денег давали мало, а прогулять занятия я и так мог, Угол бы меня не отмечал отсутствующим. Однако когда в ГПИ назначили день донора, я задумался – два отгула это было кое-что – и решился.
День донора был назначен на понедельник, а в воскресенье мы с женой, Марком и его кузиной Майей гуляли на ВДНХ. День был промозглый, ветреный и, вместо гулянья по аллеям и павильонам, мы больше провели времени в кабаках. И ведь хоть пили бы что-нибудь одно, а то, как всегда водку с портвейном. Напоследок, между колоннами какого-то павильона допивали из горлышка шампанское, потому что к лошадям нас уже не допустили, катанья закончились.
Одним словом, я явился на День донора с жуткой головной болью и отвратительным настроением. В поликлинике всё было организовано по высшему разряду. Доноров принимали две симпатичные медсестры, мерили давление и выдавали чай с булочкой и стерильную спецодежду. Давление у меня, естественно, было выше нормы, да и запах не скроешь. Я был уже уверен, что меня выгонят с позором, но нет, сделали вид, что поверили в мою гипертонию, выдали чай с булочкой и тряпки с бахилами. Когда кровь начала выходить из моей вены, с каждой секундой мне становилось всё легче и легче настолько, что я даже пожалел об окончании сладостной процедуры. Я вышел на улицу свежий и бодрый, как заново родился. В столовой я съел приготовленный специально для доноров особый борщ с какими-то еще закусками, выпил стакан кагора и отправился на свое рабочее место, зарабатывать третий отгул, потому что донорам в этот день можно было и не работать.
Донорство мне настолько понравилось, что весной я записался опять. Но тут обстановка резко изменилась. В этот раз сдача крови происходила в городской поликлинике, я пришел туда с моим приятелем Яном, архитектором. Я был в совершенно нормальном состоянии, не могу же я специально напиваться ко Дню донора.
Здесь было много народу, в комнате ожидания было очень душно. Уже на первой сотне граммов вышедшей крови у меня начала кружиться голова. Я кое-как дотерпел до полных двухсот и вышел. Врач, дежуривший в коридоре, тут же взял меня под руку и повел к окну подышать. Я очень удивился, увидев за окном вместо улицы Королева зеленую поляну с противоестественно чистой изумрудной травой и пасущимися на ней белыми овечками. К тому же мы должны были быть на втором этаже, а трава начиналась прямо у моих ног. В полном диссонансе с этой картиной я услышал неприятный голос:
– Ноги, ноги!. – какие ноги мне было не понятно, – Ноги поднимайте выше!
И тут я увидел ноги. Это были мои ноги и лица медперсонала на фоне относительно белого потолка. Меня подняли и отнесли в комнату. На соседней кушетке лежал в такой же позе мой приятель Ян. Нам выдали с ним по медали «Почетный донор СССР» и посоветовали больше в таких мероприятиях не участвовать.
Отец в те поры скоропалительно купил машину. Он бы это сделал гораздо раньше, но ему не давали водительские права из-за дальтонизма. А тут новая родственница, работавшая врачом, заявила, что это вовсе не бином Ньютона и, действительно, быстренько сделала справку. Я тоже поступил в автошколу. Я уже говорил, что научился довольно прилично ездить еще в десять лет, но детские корочки не котировались. А с автошколами тогда была напряженка. Нужно было записаться и ждать очереди почти год. Школы, в основном, входили в систему ДОСААФ. Отец выправил мне рекомендательное письмо от самого председателя ДОСААФ СССР, маршала.
Я никогда не стучусь в кабинеты. Из принципа: ты пришел в кабинет работать – работай; человеку, занятому делом, нечего скрывать от посетителей. В кабинет начальника школы я зашел, когда этот начальник с пеной у рта распекал подчиненных. Он посмотрел на меня очень грозно и прокричал, не снижая тона:
– Подождите за дверью, я занят!
Чем меня нисколько не испугал. Я спокойно подошел и, молча, протянул ему письмо в раскрытом виде. Когда он увидел подпись, тон его сразу упал до самого ласкового.
– Что ж вы сразу-то не сказали, садитесь, пожалуйста, – Но это мне, а остальным рявкнул: – Вон отсюда!
Меня записали в группу уже месяц как начавшую занятия. Через два месяца у меня уже были права. Экзамены в ГАИ я сдавал совершенно честно, на общих основаниях.
Примерно тогда же я первый раз в жизни попал в автомобильную аварию. Началось всё вполне мирно – я с друзьями пошел в баню. С Марком и Углом мы замечательно отдохнули в высшем разряде Сандунов, вышли оттуда изрядно подогретые и собирались по домам. Но тут Марк каким-то способом узнал, что его другу Хоте срочно нужна помощь.
После бани, вроде бы, не с руки перебрасывать песок в гараже, но Хоте выставили ультиматум, что если до утра он не уберет песок, будут санкции. В качестве магарыча Хотя выставил ведро с бутылками пива и водки. Сам он тоже принимал участие, особенно в выпивании привезенного. Мы прикончили всё где-то около полуночи.
Хотя поставил в гараж свой новенький Москвич, а на тестевом Запорожце, с якобы ручным управлением повез нас к метро. Угол с Марком уселись сзади, а я спереди, рядом с Хотей. Здоровенный румяный Хотя, с трудом поместившийся за рулем маленькой машинки, сразу начал изображать из себя гонщика с Формулы-1. Гараж его располагался рядом с Донским монастырем. До метро Ленинский проспект рукой подать.
Хотя вырулил на улицу Орджоникидзе со свистом покрышек. Улица, по ночному времени, была совсем пустой. Хотя прижал газ до пола и на первом же повороте Запорожец не удержался на мокрой брусчатке и перевернулся. Мы еще некоторое время ехали на крыше, громко хрустевшей по каменному покрытию. Наконец остановились. Я на руках и коленках выбрался через лобовое отверстие (стекло рассыпалось) и уткнулся в чьи-то ноги.
Поднявшись врост, я уже стоял в толпе. Откуда столько народу собралось ночью на только что пустынной улице? Не понятно. Когда из перевернутой машины выбрались Угол и Хотя, добровольцы перевернули машину на колеса. И тут Хотя хватился, что пропал Марк. Он засуетился, сначала его искал в толпе, потом сбегал назад к месту переворота. Заглянули в машину – никого не видно. Ужас! Где он? А Марк спокойно спал на заднем сидении. Он был в коричневом кожаном плаще, того же цвета, что обивка. Хоте не сразу, но удалось завести машину и уехать до появления ГАИ.
А я приехал из бани домой ночью с головой полной песка и грязи и в лопнувших от ширинки до заднего пояса брюках. Получил скандал, само собой.
15. Олимпийский объект
В те времена, кроме основной работы, каждый был обязан принимать участие в общенародных проблемах: помогать уборке урожая, хранению картошки с капустой на овощных базах, участвовать в строительстве объектов общесоюзного значения.
Приближалась московская Олимпиада, и весь народ строил стадионы в Москве. Я, с группой товарищей, на два месяца был откомандирован на строительство Олимпийского спорткомплекса на Мещанской (ныне Олимпийский проспект). Группа собралась солидная. Почти все были инженеры строительных профессий. В соответствии с квалификацией, нас поставили разнорабочими на подхвате.
На этой всесоюзной стройке, действительно, работали люди со всей страны, много было кавказцев. Молдаване были, но таджики с узбеками тогда еще не строили ничего, видимо, собирали свой хлопок. Несчастные случаи, часто со смертельным исходом, случались каждый день. С верхнего кольца периодически падали монажники-высотники. Кому-то что-то падало на голову, кого-то давили бульдозеры. Бардак был страшный.
* * *
Всей группой с лопатами перебрасываем песок от блочной бетонной стены высотой метров пять и длиной около тридцати. Жарко, все разделись до пояса, побросав одежду и каски в сторонке. Я стою у самого края стены и вижу, что она медленно начинает наклоняться. Кричу бригаде, чтоб разбегались. Через несколько секунд, с тяжелым вздохом, стена падает, выбивая облако пыли. Когда пыль рассеялась вся бригада стоит рядом одетая и в касках.
Мы вдвоем с архитектором из нашего института отбиваем опалубки от нижней части несущих колонн. Переходим потихоньку от одной колонны к другой. Подходим к месту, где должна быть очередная колонна, а её нет! Чешем репу – не может быть! Смотрим вверх. На этих колоннах уже лежит тяжеленное сборное металлическое кольцо, венчающее конструкцию, а колонна пропущена. Вызываем мастера. Пришедший мастер, начинает с матерной брани, чуть позже интересуется, откуда такие умные. Мы представляемся. Он убегает. Мы садимся курить. Приходит комиссия из солидных дядей. Теперь они чешут репы.
Я зачем-то послан в старый, полуразобранный дом рядом со стройкой. Зачем то сдираем обои в комнатах. Я зависаю там до вечера – под обоями оказались старые газеты, 1904—1905 годов. Прочитал все стены.
Вдвоем с приятелем спускаемся по наружной металлической лестнице с поручнями. Вдруг ощущаю мягкую силу, похожую на морскую волну в шторм и на мгновенье теряю сознание. Прихожу в себя внизу на песке. Оказывается, какие-то козлы уронили сверху струбцину весом килограммов пятнадцать. Эта струбцина, падая примерно между нами, разбила моему приятелю козырек каски, срикошетила от поручня лестницы и слегка зацепила мне левую руку. Странно, что удара по руке я совсем не почувствовал, рука заболела немного позже.
Я еще только начал приходить в себя, а около меня уже стояли: прораб, начальник участка и комсомольский секретарь стройки. Они уговорили меня не обращаться ко врачу, выдали деньги за два полных месяца (зарплата в ГПИ шла сама по себе) и проставили в табель рабочие дни до конца срока. Последние две недели я отдыхал с чувством выполненного долга.
16. Грядут перемены
В один из последних дней старого 1978 года я стал отцом. Началось это становление часов в шесть утра. Жена меня разбудила осторожно и говорила почему-то шепотом, что, наверное, началось.
Скорая помощь приехала еще затемно. Фельдшером была женщина в возрасте, она сама никуда не спешила и нам дала возможность спокойно собраться. В Коптевском роддоме у меня жену забрали и не велели беспокоиться. Езжай, дескать, парень домой, не волнуйся, звони вот по такому-то номеру, всё сообщим.
Уже из дому мы с родителями регулярно звонили по указанному номеру по очереди, часов до девяти вечера. Я весь день понемногу пил водку, но она не помогала, я оставался трезвым и очень напряженным. Около девяти часов вечера, когда напряжение уже дошло до предела, хоть поезжай в роддом и выясняй всё лично, позвонил врач и сказал, что уже два часа как у нас родился мальчик, и что всё как бы в порядке. Какой же это порядок, когда справочная до сих пор не в курсе? но ругаться мы ни с кем не стали, выпили с родителями по рюмочке, тут же придумав имя ребенку. У меня было такое впечатление, что вся, выпитая за день водка начала действовать вот только сейчас и сразу.
На следующий день я проснулся от холода, непривычно один в постели, и сразу вспомнил все события предыдущего дня. И сразу понял, что никакой это не порядок, когда врач сам звонит домой, что наверняка были осложнения и засобирался в роддом. Правда, собрался не так быстро, как хотелось. Горячая вода в умывальнике была почти совсем холодной, газ на кухне еле теплился. За окном плавала морозная дымка, термометр показывал около сорока градусов мороза.
Хорошо, что у нас не вырубилось электричество – на видимой из окна Алтуфьевке, к тому времени, дома уже были обесточены. Выяснилось это вечером, когда мы увидели за железной дорогой длинные ряды домов без единого огонька. Народ из этих домов спасался, кто куда может. Отопление у них тоже было электрическим.
Мать завернула в марлечку штук пять яиц и опустила их в электрический самовар. После завтрака я влез в ватные штаны, валенки и овчинный полушубок, опустил у шапки уши и вышел на улицу. Мороз почувствовался не сразу, но поразила необыкновенная для Москвы тишина, я на всякий случай даже снял на минутку шапку – не помогло.
Звуки видимо приглушались висящей в воздухе похожей на туман снеговой взвесью, к тому же совсем почти не было машин. Голуби с воробьями теснились на канализационных люках еле видные за выходящим из щелей паром. На бульваре я сел в троллейбус. «Сел» в данном случае имело самое прямое значение. Людей в салоне троллейбуса было не так уж и много, но все они столпились в проходе – все сидения были пустыми. Тут я возблагодарил господа и своего отца за его пристрастие к зимней рыбалке, принесшее в этот день мне возможность надеть ватные штаны. Я демонстративно уселся на лучшее место и положил ногу на ногу. Остальные пассажиры только поёжились.
В роддоме я передал жене теплые вещи и гостинцы. Удалось даже помахаться ручками через окно. Осложнения при родах действительно были, но все живы, и слава богу. На работу в тот день и даже в тот год я уже не пошел, была уважительная причина.
Кстати, у жены в роддоме произошел соответствующий этому повествованию казус. Чтобы согреть рожениц, их собрали всех в одну палату, а дети тогда лежали отдельно. Когда детей принесли на первое кормление, медсестра пронесла моего сына мимо жены и хотела отдать другой женщине. Жена возмутилась, медсестра тоже. Стали разбираться – оказалось перепутали внешние бирки. Как жена смогла, не глядя определить, что это её ребенок? Почувствовала чем-то? А чем? Пока не ясно.
Сильный мороз под этот Новый год стоял несколько дней. Люди на улицах помогали друг другу не обморозиться. Если у кого-то из прохожих видели на лице белое пятно, его тут же останавливали и терли ему это пятно, пока оно не краснело.
В первых числах нового года привезли домой жену с ребенком. После этого всё изменилось.
И вообще, этот год оказался для меня перепутьем. Как в сказке, прямо пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь… и т. д. Начал эту бодягу я сам, прямо в начале года. С прибавлением в семействе, у меня появился повод потребовать повышения зарплаты. Я пришел к директору с этим вопросом, правда, без всякой надежды. Молодым специалистам тогда тяжело было качать права – уволиться-то я в принципе не мог. Но я пошел и держался довольно уверенно. Директор был сама любезность. Совершенно откровенно он объяснил мне, почему без необходимости раздуваются штаты – от этого, оказывается, повышается статус института и главное категория сетки окладов. Он еще наговорил мне каких-то тривиальных вещей, но, к моему великому удивлению, добавил мне двадцать рублей к моей сотне.
Эта моя прибавка к жалованью наделала шуму в институте. Было много обиженных, говорили, что я блатной, что работаю без году неделя, а уже… что заслуженным работникам не повышают, а этому… Впрочем, поговорили и перестали, но в карьерном плане через пару месяцев, я думаю, как следствие повышенного ко мне внимания, образовалась вакансия. Мне предложили стать комсомольским секретарем института. Кроме некоторых еще дополнительных денег, мое согласие влекло за собой автоматический прием в партию и скорый карьерный рост.
Однако давать такое согласие я не спешил, потому что, в то же время у меня появилась еще одна перспектива. Мне предложили работу в некоем научно-практическом учреждении КГБ СССР. Причем, что самое удивительное, по моей специальности – клеевым технологиям в текстиле. Очевидно, задача заключалась в том, чтобы вклеивать в одежду всякие приборы: микросхемы, микрофоны и проч. Условия мне нарисовали просто сказочные, и деньги, и отдых в изумительных местах, и коллектив единомышленников. Всё это было очень заманчиво, но не так просто. То, что я понравился будущему непосредственному начальнику, еще ничего не значило. С ним я встречался для знакомства и разговора у Покровских ворот.
Начало получилось, как сценка из шпионского фильма. Я должен был ходить возле угловой булочной с журналом «Огонек» в правой руке. Этот самый «Огонек» я добыл только в четвертом киоске союзпечати и совсем изнервничался, но встреча прошла хорошо, человек оказался свой и мы быстро нашли общий язык.
Дальше начиналась длинная цепь официальных оформлений. Я познакомился с одним из кадровиков, которых в Конторе было очень много, заполнил анкеты и рассказал о себе, что мог. Прошел медкомиссию в Варсонофьевском переулке. Ждать результатов проверок нужно было не один месяц. За это время, кто-то из Конторы побывал у меня на работе (простой характеристики было не достаточно); кроме того, я должен был получить направление в райкоме ВЛКСМ, и это меня тяготило из-за встречного предложения стать комсомольским секретарем. Но, к моему великому удивлению, райком легко утвердил меня и на то, и на другое. Теперь мне оставалось только ждать, куда вывезет кривая.
Последним испытанием для принятия меня в ряды работников тайного фронта было знакомство с семьей. Однажды вечером к нам домой пришли будущий непосредственный начальник и его зам. Посидели в семейном кругу, распили бутылочку, закусили. Расстались в хорошем настроении, тем более что мне сообщили об окончании проверок и назначили срок выхода на работу – ориентировочно пятнадцатого июня.
Но, как говорится, человек предполагает, а господь располагает. Кривая меня вывезла совсем в другую сторону. Когда я на следующий день, сидел у себя в отделе и раздумывал, как бы поделикатней сообщить начальству о моем отказе от дальнейшего сотрудничества, раздался судьбоносный телефонный звонок:
– Тимирязевский военкомат! Лейтенант Таран!
Фамилия лейтенанта вполне соответствовала его темпераменту. Он не просто ходил по коридорам военкомата, а пёр буром, как будто всё время таранил стены. Отловить для разговора его было нелегко. По таким же, как у меня повесткам здесь собралась группа человек в тридцать, может чуть меньше, офицеров запаса. Этому должна была быть какая-либо причина – это была только весна 79-го года и Афганская война тогда еще не началась.
Я познакомился тут с небольшого росточка скромным, но умным парнем – Юбой. Мы с ним всё-таки отловили Тарана на уличном перекуре. Лейтенант быстрыми затяжками выкурил не больше половины сигареты и убежал, но нам хватило времени выяснить у него, что создается спецчасть для обслуживания московской олимпиады восьмидесятого года. Я тут же позвонил отцу на работу и попросил выяснить, так ли это на самом деле.
Уже вечером отец мне подтвердил, что да мол, создается такая часть и есть решение для этого призвать около трехсот офицеров запаса. Я звоню в КГБ: так и так, дескать, в армию хотят замести. На это мне было отвечено, что с 15. 05 до 15. 06 министерство Обороны имеет преимущество – выкручивайся сам, как хочешь. Выкручиваться я не стал, армия меня привлекала больше, и уже 4-го июня я ехал в город Калинин (ныне снова Тверь) на формирование части.
17. Священный долг
Правда, за несколько дней перед этим был общий сбор на ГСП. Кто служил, знают, что это такое – городской сборный пункт. В актовом зале ГСП генерал от командования округом представил нам наше руководство, но это было еще пока мимо ушей, гораздо интересней было то, что многих ребят, из присутствующих здесь, я знал. Здесь был Вовик, конструктор из ГПИ, Набат, скоторым мы дружили в колхозе на втором курсе, Фаддей из сахалинского стройотряда, Ронсон, с параллельного потока и др. Кстати, из нашего военкомата сюда попали только мы с Юбой. Остальных тоже призвали, но они поехали куда-то в Забайкальский военный округ.
В Твери мы расположились в казармах одной из частей, отбывшей в летние лагеря. Солдаты нашего батальона обеспечения жили в палатках рядом с казармой. Для нас специально собрали раздолбаев-полугодичников из разных полков Кантемировской дивизии. Кто отдаст хорошего солдата на сторону? Справедливости ради, надо сказать, что среди них всё равно попадались хорошие ребята, особенно шофера.
В течение первой недели, мы, в основном валялись на койках, откуда периодически нас вызывали на склад получать ту или иную одежду. Подбор одежды происходил долго и мучительно, это солдатам можно впихнуть одежду не по размеру, мы же, если что-то не подходило, просто не брали – до следующего раза. Складским прапорщикам деваться было некуда – заказывали.
Был, правда, один исключительный случай.
Звали его Киса, переводчик. Рост его был – 162, полнота 62—64, в немецкой солдатской форме он выглядел бы типичным Швейком. Таких младших офицеров не бывает, не предусмотрены они уставами и наставлениями. Ему пришлось заказывать одежду в ателье. Отрезов для младших офицеров тоже не существовало, поэтому он получил ткань, чуть ли не генеральскую. Оделся Киса в форму и выходит из ателье, а там широкая лестница, ступенек 8-10. А снизу поднимался майор из местных. Ткань на Кисе была настолько хороша, что майор, перейдя на строевой шаг, мастерски отдал честь… ну и рожа у него была, когда он увидел лейтенантские погоны.
За эту неделю я сделал три важных дела. Во-первых, постригся в солдатской парикмахерской, после чего стал себя осознавать идиотом с оттопыренными ушами; во-вторых, получил должность; в-третьих, в соответствии с должностью, сам напечатал на себя представление к очередному воинскому званию – должность соответствовала званиям старший лейтенант – капитан, а два года с момента получения лейтенантских погон уже прошло.
В выходные пришлось ехать домой в Москву, отвозить полученное имущество. Это оказалось не просто. Мы получили казенного имущества на тысячу рублей по оптовым ценам, это по нынешнему на 100 000: две шинели, пальто, бушлат с ватными штанами, мундиры повседневные, парадные, два полевых, две пары сапог, три фуражки и т. д. Я смог упихать всё в два огромных мешка только после того, как гражданку запихнул в мешок, а на себя надел повседневный мундир с брюками в сапоги. Так и добирался до дому.
В конце второй недели командующий округом должен был принять парад нашей вновь сформированной части, поэтому всю неделю мы занимались строевой и физподготовкой. В основном с нами (офицерами) занимался начальник штаба, подполковник Ш, или уж совсем сокращенно ППШ, даже по внешнему виду крутой мужик, к тому же, с каким-то поясом по каратэ. Однажды ему не понравилась закрытая дверь, он со злости легонько махнул рукой, и дверь вылетела с петель. Дверь была обита железом! Это произвело впечатление.
Командир части выглядел решительно другим типажом: ему бы играть Хлестакова в ревизоре, худой, с какой-то дерганой выправкой, на голове реденькие рыжие волосы собраны пумпончатым зачесом на лбу, типичный чинуша, Акакий Акакиевич. Но однажды, когда мы по очереди сосисками висели на турнике, пытаясь сделать подъем переворотом или каким-нибудь другим способом, он подошел, посмотрел, скинул китель и показал нам, как это делается. Что он творил на перекладине? Уму не постижимо. Потом легко спрыгнул и молча удалился. После этого его акции, в наших глазах, безусловно пошли вверх.
Парад готовился серьезно. Последние дня три мы маршировали по плацу уже под музыку. Духовой оркестр располагался возле трибуны и играл некое маршевое попурри. Многие, вспоминая армию, ругают строевую подготовку, но в хождении под музыку есть своя прелесть, это сродни танцам, особенно когда уже втянулся и идешь не задумываясь. Всё было хорошо, но каждый раз, когда наше каре подходило к трибуне, оркестр менял мелодию, и делал это не совсем четко, в результате сбивал нам ногу. С оркестром провели работу и, вроде бы положение улучшилось, однако, на параде они сыграли еще хуже, чем обычно.
Командующий округом, здоровенный в прямом смысле красный генерал, очевидно, видал парады получше, и с самого начала морщился, глядя на наши стройные ряды. Поприветствовали мы его довольно бодро, потом пошли вокруг плаца. Наша коробочка была одной из последних, и мы уже почти прошли мимо трибуны, когда оркестр опять сбился, мы естественно тоже. Командующий в сердцах плюнул и ушел с трибуны.
С этого момента наша вновь сформированная часть влилась в состав Вооруженных сил Советского Союза.
Для чего, собственно создавалась эта часть? Для чего нужно было дергать офицеров из запаса, что кадровых было мало? Дело в том, что в процессе подготовки Олимпиады неожиданно возникло непредвиденное, но очень привлекательное имущество. Халява, плыз! Все крупные фирмы хотели в качестве рекламы иметь эмблемку «официальный поставщик Олимпиады», а за это надо было платить, но как выяснилось, фирмы могли вместо денег поставить свою продукцию, чем все и воспользовались. А куда, спрашивается девать всё это добро? японские зонтики и электронику, аппаратуру Кодак и кубинский ром, шотландское виски и спортивную одежду Адидас. В те времена всё это было жутчайшим дефицитом, некоторых вещей еще и не видели здесь никогда, например, женские затычки для менструации или голландское баночное пиво с английским газированным холодным чаем.
Советское руководство справедливо полагало, что, если это добро попадет в руки профессионалов, то всё будет разворовано еще до начала Олимпийских игр. Решили разместить на военных складах, но и им доверия тоже было мало, поэтому пошли дальше, выделили помещения в Москве (поближе к назначению) и призвали нас, еще не умеющих воровать.
Я попал в отдел медалей и сувениров. У нас были сейфы, где хранились награды будущих олимпийских чемпионов, которым они, безусловно, потом стали дороги, но выглядели они, даже «золотые», настолько не презентабельно, что воровать их вряд ли бы кто позарился. Их не брали многочисленные генералы, приезжавшие с проверками, даже сам Новиков не взял. Это был председатель Оргкомитета. Основная его должность была – заместитель Председателя правительства СССР.
Однажды он заявился к нам в отдел с большой свитой. Он поздоровался за руку только с Женькой, начальником отдела, остальным же только кивнул. Мы присоединились к свите. У меня не проходило впечатление, что это сам Брежнев. Он не был внешне похож на Генсека, хотя тоже старый, обрюзгший, но манера говорить, передвигаться и безмерная важность… даже голос. Женька показывал ему содержимое сейфов. Важный человек брезгливо трогал медали и возвращал обратно. Заинтересовался он факелами. Не знаю, как на чей вкус, мне они казалась тоже дешевкой, хотя стоили очень дорого. Когда Новиков услышал цену, сразу взял факел в руки и стал заинтересованно крутить во все стороны, изучая и оценивая.
– А это что за пимпочка?
Мы все знали, что это. Факел работал от газового баллончика. Но газ дает бесцветное пламя, а доставка олимпийского огня из Греции – это же важная церемония и огонь должен быть хорошо виден даже в солнечный день. Поэтому в верхней части факела размещена грубо сваренная металлическая банка с пробкой для заливки оливкового масла, окрашивающего пламя. Собственно эта пробка и заинтересовала высокое лицо. Знать то мы знали, но ответить мог только самый высокопоставленный из присутствующих, им оказался Романский наш куратор от Оргкомитета.
– При горении газа, – прогнувшись ближе, сказал он, – образуется конденсат, и чтобы его слить потом, имеется пробочка…
В целом умно и с терминологией!
– Да… замысловатая штучка… дорогая! – покачав головой, промолвил Новиков, отдал факел и удалился не оглядываясь.
Глупость и невежество чиновников тогда в первый раз с такой очевидностью проявилась для меня. В дальнейшем я привык. Они почти все такие.
Но всё это было потом, а сразу после формирования у нас еще ничего не было. Не было машин, никакого имущества, кроме личного и основное здание было еще не готово. Батальон обслуживания разместился в Олимпийской деревне, в одной из только что построенных школ, и нам всем приходилось крутиться там же. Ездить через весь город на Юго-западную мне не очень хотелось, и я напрашивался сам на разные работы в основное здание, лишь бы быть поближе к дому. Основное здание было от дома в трех минутах езды на электричке, возле станции Окружная.
Однажды я получил из батальона десяток солдат и отправился с ними на Окружную, на метро. До метро еще нужно было добраться, вокруг Олимпийской деревни была сплошная стройка, грязь, а пошел дождь. Я привел своё войско к метро в совершенно измызганном состоянии. А патруль? Скандал может быть. Памятуя историю с Кисой и майором, я принял соломоново решение, закрыл свой свинский вид и погоны плащ-накидкой, привел бойцов в подобие строя и, гордо подняв голову, двинулся вперед.
У самого входа в метро действительно стоял патруль, капитан комендатуры и два курсанта со штык-ножами. Я свысока посмотрел на капитана и тот первым отдал мне честь. Я, небрежно ответив, провел свое грязное воинство в метро.
В тот же вечер я убедился в справедливости поговорок, что солдат – это ходячее ЧП и, что куда солдата не целуй – у него везде жопа. Один полез через забор и пропорол насквозь ногу ржавой железякой, а другой мотанулся ночью в самоволку. Пришлось среди ночи проводить воспитательную работу.
Я не сдавал солдат для наказаний их непосредственным командирам – разбирался сам. Однажды, выделенные мне бойцы копали канаву. Традиционное занятие, для русского солдата. Давно доказано, что рабский труд не очень эффективен, но в армии это не учитывается. Меня всегда подводило то, что я легко вхожу в положение других людей. Мне было очень понятно нежелание солдат копать эту дурацкую канаву, но задание выполнять надо! Я взял лопату и стал им показывать, как надо копать.
И вдруг! Как это всегда бывает, не во время, совсем рядом появляется командир части. Скандал! Он отозвал меня в сторону, при солдатах не стал, но в стороне… он мне всё высказал, что обо мне думает. В несколько маргинальных выражениях он мне объяснил, что у офицера, главный инструмент – голова. Частью матерных выражений я, естественно поделился с солдатами, потом сел в сторонке, закурил и стал думать. И придумал!
Главной смутьянской силой в моем отряде был такой рядовой Бондарчук, рыжий-конопатый солдатик. Не понятно почему, но остальные слушали его, открыв рот, а он у себя в роте был постоянным штрафником, и как его привести к нормальному бою, никто не знал. Я встал, подошел к своим работникам и объявил, что ухожу на некоторое время по делам, а вместо себя назначаю старшим рядового Бондарчука. Вытащил этого старшего из канавы и по всей форме, по стойке смирно поставил боевую задачу. До вечера я несколько раз подходил проверять ход работ. Всё сделали как нужно!
Довольно быстро у нас появились новенькие бортовые машины ЗИЛ-130, посадили на них солдат-шоферов, но ездить по Москве они боялись. Помню сел я с одним, Коля его звали, здоровенный деревенский парень, а затрясся весь, как только за ворота выехали. Ехать нужно было в район ВДНХ. На Ботанической улице я ему приказал остановиться. Дорога узкая, сзади уже пробка, гудят. Говорю ему, чтоб открыл капот и проверил свечи и еще что-нибудь. Пробка уже с обеих сторон, а от моего Коли только задница в защитных штанах из-под капота торчит. Сел потом за руль поехали. Ну что? говорю, съели тебя за нерасторопность? Смотрю – страх у парня прошел, рассказал ему как по Москве ездить надо. Ожил парень. Я до конца службы заправками не пользовался – бензин мне мои ученики приносили.
А вообще, работы первое время было не много – по полдня в карты играли и в нарды. Самая сильная игра была на дежурстве. Один раз сутки играли почти без перерыва, пару раз только посты проверили. Дежурство в тот раз было с субботы на воскресенье, никого не было в расположении.
Дежурили одновременно четыре офицера и караульные солдаты. Я мог попасть дежурным, помощником дежурного или дежурным по КПП. Начальники караула были постоянные – только этим и занимались. В качестве кого заступать было все равно, лишь бы остальные, хотя бы двое, играли в преферанс.
Главное было – вписать себя в график дежурств у начальника штаба, в преферансную команду. Далее это выглядело так: в шесть часов вечера проводится развод караула, по полной форме.
– Для встречи справа на кра… ул! – и т. д. включая относительно дружное солдатское «Здрав… гав… гав!»
Доклад, опрос претензий и пожеланий, потом торжественным маршем, с оружием… караул удаляется к себе в караулку. Теперь главное дождаться, когда все лишние уйдут… и за стол… и до утра!
Я получил очередную звездочку осенью. Это было во всех отношениях примечательное событие. Звездочка на погоны, особенно третья, хороша уже тем, что ты перестаешь выглядеть салагой-лейтенантом. Недели две-три ты ходишь, чуть кося глазом на погон, отчего начинает побаливать шея, но удовольствие дороже. Десять рублей к денежному довольствию, тоже неплохо. Но сначала это дело надо обмыть. С незапамятных времен это делается одинаково, звездочка, прежде чем закрепиться на погоне, опускается в бокал с вином или водкой (по вкусу). Содержимое бокала выпивается, звездочку ловишь губами… ну и т. д.
Представление пришло сразу на несколько человек, в том числе на Юбу. Обмывали звезды мы рядом с Олимпийской деревней, в «Ракушке». Вообще-то это была пивная, пивной ресторан и водку мы приносили с собой, но закуска в тот день… в тот день подавали омаров по три рубля за штуку. Сейчас я, конечно, тоже могу себе позволить съесть омара, но его вкус ни разу еще в последнее время не превысил отвращения от хамской цены.
Домой мы с Юбой поехали в одной машине такси, поскольку жили рядом. Мы доехали до Савеловского вокзала, откуда на электричке мне было пятнадцать минут, а Юбе до Лианозова – двадцать. На удивление мы были не очень пьяными, но, выйдя из машины, я в этом на минуту усомнился. Мне показалось, что в лучах прожекторов Останкинской башни столкнулись три реактивных самолета. Я обратился к Юбе, дескать, Юба, посмотри туда… Юба открыл рот. Сочтя его пьяным, с тем же делом я обратился к таксисту – тот-то точно, как стекло. Рот открылся и у таксиста.
Тогдашние таксисты были шустрыми ребятами, им некогда было рот разевать. Наш поахал, поохал и уехал дальше деньги зарабатывать, а мы с Юбой еще долго смотрели в небо. Была полночь, а в это время электрички ходят редко. Выглядело это так, как если бы три самолета со следами инверсии столкнулись в одной точке чуть правее шпиля Останкинской башни, которую с площади вокзала ночью видно очень хорошо в голубоватом нимбе подсветки. В месте столкновения образовался тоже голубоватый и сильно светящийся шар. Но самолеты бы упали после столкновения, а эта конструкция продолжала висеть на одном месте.
Я тогда резко отрицательно относился к уфологии и мистике. Буквально за день или два до этого в электричке ко мне привязался один фанатик НЛО и стал мне пересказывать самиздатовские опусы Ожажи (есть такие люди, которых хлебом не корми, дай поговорить с человеком в военной форме). Я читал всё это и был в курсе, но нисколько не верил. От того парня я еле отвязался и потом долго доказывал себе, что все эти НЛО чушь собачья. И вдруг, я вижу это собственными глазами. Когда мы уже стояли у электрички, светящийся шар двинулся вокруг башни, потом, моментально набрав огромную скорость, улетел и исчез где-то в центре Москвы.
Зайдя домой, я зарисовал это явление в тетрадке и долго еще не мог уснуть, размышляя над произошедшим. Единственный вывод, который я смог сделать, это тот, что виденный мной сегодня объект не может быть материальным телом – такое ускорение не сможет дать ни один суперфотонный двигатель.
Еще одним умиляющим душу событием этой осени было принятие присяги.
Необходимость этого священнодействия возникла, в общем-то, случайно. Наш замполит, как и все наши подполковники осенью уже получил третью звездочку и папаху но тогда еще, по-моему, не закончил обмывку этого события. Он, как и все замполиты, был демократом с офицерским составом. Вдвоем со своим помощником, комсомольским секретарем, старлеем с умильной физиономией Олега Кошевого, оба с покрасневшими от выпивки оголенными частями кожи, вышли покурить с нами на улицу.
Разомлевший замполит завел отвлеченный разговор об армейских традициях, и вдруг выяснилось, что один из принимавших участие в разговоре офицеров не принимал военной присяги. Еще несколько человек, в том числе и я, подтвердили, что и мы тоже не принимали. Честно говоря, и ни к чему это нам было, мы и думать об этом не думали.
Получилось это как? Присягу выпускники военных кафедр обычно принимают в лагерях, а у нас видимо в целях экономии, лагеря отменили, просто разослали приказ о присвоении звания по военкоматам, там нам вручили военные билеты офицеров запаса, и всё, собственно.
Замполита чуть удар не хватил. Он сначала покраснел еще сильней, потом побелел и, забыв, что уже принял на грудь, побежал к командиру, докладывать.
Через несколько дней всех нас, выявленных непринимантов присяги, специально заказанным автобусом повезли в знакомую мне с детства Таманскую дивизию, исправлять упущение. Положение было щекотливым. С одной стороны нужно было провести принятие присяги в торжественной обстановке, а с другой – как же это солдаты увидят, что офицеры, даже не лейтенанты уже только еще принимают присягу. Жуть!
Поступили так: из казармы убрали всех солдат, включая дневальных. Дежурный офицер выдал нам из оружейки автоматы, и мы пошли с ними к бутафорской койке какого-то героя, погибшего в войну. Тот же дежурный офицер принес сюда же знамя. Наш замполит (как выяснилось служивший раньше в этом полку) стоял с развернутым знаменем возле койки, а мы по очереди зачитывали текст присяги, брякая оружием, становились на коленки и целовали знамя.
Не очень отчетливо помню, выпивали мы прямо здесь или уже в автобусе. Скорей всего и то и другое.
Кстати, о пьянке в армии. Конечно, мы пили и пили много. Выпивали во время работы и даже на дежурстве, но какие-либо меры применялись лишь к тем, кто совсем терял при этом голову. Мало ли чем от тебя пахнет. Пришел, скажем, утром с больной головой, зашел к Киве, в подвале у которого хранились все запасы спиртного, (мы с ним приятельствовали еще со второго курса института). Посредине его склада стоял огромный ящик с мятыми банками Липтона – газированного чая. Чай этот был в мягких банках, и отбраковывалось его много, его не надо было даже ронять с третьего уровня, как Хейникен, чтобы отбраковать часть. Открываешь чай, добавляешь туда какой-нибудь крепкий напиток, открытые бутылки с Мартелем или Джонни Уокером всегда у Кивы были. Я лично предпочитал сухой Гавана Клаб. Выпиваешь баночку – хорошо! пробирало, как будто под душ встал и топаешь на построение.
Выпивали почти все, за исключением некоторых ботаников из четвертого отдела и даже, почти все замечались здорово выпивши, включая полковников. Один раз напился даже особист. Это был одинокий, молчаливый седой капитан, почти единственный, кто не получил в это время очередного звания. Впрочем, вру, были еще двое.
Первым был, назовем его Рыжеус, потому что он носил рыжие буденовские усы, начальник отдела переводчиков. Культурнейший человек, дипломат. Он пришел из запаса старлеем и должен был скоро получить капитана, но вдруг исчез. Еще на формировании в Твери мы стали замечать за ним странности – к вечеру он начинал заговариваться. Казалось бы, казарма, через КПП ходить было нельзя, мы тогда еще не получили документы, а он пьяный? Немного погодя он сам рассказал про свою беду.
Перед армией он работал где-то в Африке и подхватил там тропическую лихорадку. В качестве лекарства он прятал фляжку со спиртом и, как только его начинало колотить, прикладывался к ней. Потом, уже в Москве его несколько раз увозили домой невменяемым, один раз даже бросился на командира выяснять отношения. Когда он пропал, совсем перестал ходить на службу, его искали около месяца. Нашел его особист у какой-то из его любовниц, попытались его забрать оттуда– толку из этого не получилось, он был вдребезги пьян и какие либо переговоры вести отказался. И что? его сочли дезертиром? Нет, но из армии уволили. Эта процедура заняла еще месяца два-три.
Вторым отчаянным залетчиком был некто Гена. Щупленький, остроносенький паренек, я его, честно говоря, ни разу пьяным не видел и не подумал бы никогда на него, но говорят он бузил здорово, а главное, тоже любил при этом выяснять отношения с начальством. Несколько раз ему прощали, потом командир объявил ему пять суток гауптвахты.
На следующий день с утра Гена в сапогах и портупее попрощался с нами в курилке и отбыл на Басманную, в гарнизонную гауптвахту. После обеда опять появился. Мы ему: «Гена, ты же должен быть на губе», а он и говорит, не взяли, дескать. Все места заняты и, чтобы сесть нужно дать, а без этого никаких разговоров. Назначили ему вместо губы какие-то штрафные работы, но через пару недель опять…
Тут замполит придумал и организовал офицерский суд чести и у нас в части появился младший лейтенант – разжаловали Гену.
И еще немного о спутнике пьянства – блядстве. У нас особенно этим отличались Набат и Горбунок. У обоих были прекрасные жены, но бес почему-то тянул их в самую грязь. Они часто лазили по общежитиям Трехгорки, приводили каких-то строительных лимитчиц, только по вокзалам не таскались. Как-то, я помню, спросил Набата, что он в очередной раз будет врать жене? А он ничтоже сумняшеся ответил, что едет в командировку, в Японию, и тут же позвонил домой с этой новостью. На следующий день рассказывал жене по телефону, что из самолета не дали выйти, поэтому подарков не везет.
Но, вообще-то, Набат был хороший добрый парень и мы с ним дружили, не смотря на расхождения во мнениях по женскому вопросу. Отец у него был интересный. Он был скульптором, членом союза. У него была большая мастерская в Хрущевском переулке. Я пару раз заезжал туда с Набатом, это было гораздо удобней, дешевле и интересней, чем, скажем, зайти в ресторан, там же в центре.
Тогда он лепил Ленина. Предвижу улыбку у читающего эти строки. Тогда этих Лениных было, как собак не резаных. Их гнали потоком на художественных комбинатах во всех видах. Но здесь был другой случай. Он хотел слепить Ленина таким, каким он был на самом деле. Он набрал огромное количество фотографий вождя в самых разных ракурсах, даже самых неподходящих. Где он их взял? – не знаю. Все материалы по вождям, чтобы стать доступными, тогда проходили тщательный отбор, а он где-то достал и уже у него стоял набросок в натуральную величину. Я ведь не удержался и, спьяну-то, изложил ему разницу между социалистическим реализмом и натурализмом.
Его просто-напросто губило стремление к подлинности. Самая известная его работа, которую, раньше во всяком случае, знали все москвичи – это бык на павильоне Мясной промышленности ВДНХ. Он подвергался шуткам по этому поводу от всех друзей и знакомых. Все ему говорили, что лучше всего и очень жизнеутверждающе получились у этого быка яйца. Он не смеялся при этом сам, а оправдывался, говорил, что яйца быку лепил соавтор из его учеников.
Он лепил яйца или не он, это не главное. Главное то, что бык самодостаточен, такой как есть в природе, а природный Ленин никому не нужен. Он должен быть символом революции, эпохи и бог его знает еще чего, но только не себя как реального человека. Естественно, после моих этих откровений, путь к нему в мастерскую мне был закрыт.
18. Приказ есть приказ
В начале следующего года службы я получил отпуск – 30 суток. В январе! Что было делать? Как в том анекдоте.
– Водку теплую любишь?
– Нет.
– А девок потных?
– Нет, конечно.
– Тогда пойдешь в отпуск зимой.
Нас выгоняли в отпуск, потому что летом, в Олимпиаду, намечалось слишком много работы. Перед этим четверо ребят весьма оригинально использовали необходимость зимнего отдыха – взяли билеты на поезд до Владивостока и обратно (время в пути в отпуск не входит, билеты оплачиваются). Взяли с собой несколько колод карт, ящик водки и всю дорогу до Владика не вылезали из купе. Вышли, прогулялись по городу, посмотрели на Тихий океан и обратно, тем же порядком. Что они делали еще тридцать суток? Не знаю.
Я с Юбой поехал в Питер. Юба через оргкомитет договорился, что нас там встретят и устроят. Для аборигенов мы были хоть и мелкое, но начальство. От торжественной встречи мы отказались. Выйдя из поезда на Московском вокзале, мы тут же позвонили председателю ленинградского Спартака, такому Кочубею. Нас спросили, какая гостиница для нас удобнее Астория, Европейская… Мы ответили, что приехали отдыхать за свой счет и платить по 25 рублей за день в крутой гостинице в наши планы не входит. Нам предложили вариант попроще – гребной клуб на Каменном острове.
Пока мы туда добирались, я сообразил, что это тот самый гребной клуб, который описан у А. Толстого в «Гиперболоиде инженера Гарина». Мы были заинтригованы, но после прибытия на место энтузиазм наш стал таять на глазах. Нас, конечно, встретили, прогнулись перед московскими гостями. Летом, в тени деревьев, на берегу Невки, клуб смотрелся бы очень мило, но в морозный зимний день, дощатое строеньице выглядело не очень уютно.
Директор клуба провел нас по всем помещениям, доложил об успехах воспитательной и спортивной работы по всем возрастным категориям гребцов, которых самих, слава богу, не было в связи с зимними каникулами. С каждым этажом вверх комнаты спортсменов становились всё хуже и хуже. У меня уже созрел текст телефонного разговора с Кочубеем, я шел и мысленно редактировал его, убирая наиболее сильные выражения. Наконец мы дошли до комнаты, предназначенной нам для недельного отдыха. Я не люблю обижать людей и, готовился после осмотра комнаты сухо попросить телефон для дальнейших переговоров, но уже золоченая ручка на двери обнадежила. Когда же директор распахнул дверь и пригласил нас зайти…
Я думаю, что в Астории номера хуже. Это была трехкомнатная квартира со всеми удобствами, отделанная по старой моде, очень добротно. В советские времена мы не были разбалованы хорошими условиями в гостиницах и мысли у нас обоих с Юбой потекли в другую сторону – сколько ж это великолепие может стоить за день проживания?
– Полтора рубля, – разрядил наши сомнения директор.
– С каждого?
– Нет, за весь номер.
В довесок к условиям проживания, на первом этаже имелась неплохая сауна с бассейном, соединенным с речкой и широкой комнатой отдыха с камином и огромным дубовым столом. А говорят, в советское время всё было плохо. В отдельных местах могли же?
Всё остальное в эту поездку было обычным. Походили по музеям, попили водки в каминном зале сауны, (опохмелялись шампанским в Эрмитаже). Ничего особенного.
Впрочем, вру, было одно.
В Питере тогда, в отличие от Москвы, было много маленьких кинотеатриков. В одном таком, на Невском проспекте, мы с Юбой посмотрели американский фильм, который стал для меня знаковым, не сам фильм, а один эпизод. Главный герой, в очень трудную для себя минуту, приходит к отцу просить денег взаймы. Отец, человек, безусловно богатый, отказывает сыну, сказав, что, если сейчас он ему поможет, то в дальнейшем цена этому сыну будет три копейки в базарный день, выкручивайся сам, дескать. Не сказать, чтобы после этого просмотра я совсем отказался от помощи родителей, но с тех пор стараюсь рассчитывать только на свои силы.
В те времена все военнослужащие должны были ходить на работу в форме, это сейчас стали переодеваться на службе, но весной, и на всё лето, нас переодели в гражданское, чтобы мы не бросались в глаза иностранным туристам. Нам выдали фирменные кроссовки, джинсы и куртки, но я не думаю, что у кого-нибудь возникали сомнения в нашей военной принадлежности, особенно во время утренних построений, хорошо видимых из окон гостиниц. Для нас же в такой форме одежды или в иной служба оставалась службой.
Не служивших обычно пугают армейские термины. Действительно, звучит грозно: гарнизон, рапорт, устав, приказ. На самом деле это всё понятия бытовые и вполне удобные для пользования. Особенно «приказ» удобен, для тех, кто понимает. После того, как получил приказ, ты становишься свободным человеком. Это кажется парадоксом, но так оно и есть. Невыполнимых приказов не отдают. В этом случае ты можешь потребовать уточнений, приказ должен быть не только дан, но и принят, а для этого общая задача должна быть разложена на ряд простых, понятных действий. Например: всех впускать, никого не выпускать, в случае сопротивления, открыть огонь на поражение. Всё ясно, понятно.
Однажды я сопровождал две французских фуры с комплектом покрытия для травяного хоккея на стадион Юных пионеров. Я по-французски говорю с трудом, французы по-русски совсем никак. Подъезд к стадиону со стороны нынешнего третьего кольца муторный, ну и начудил я, с точки зрения правил дорожного движения. Подъезжает гаишник – подать мне сюда водителей, я их сейчас… Я выбираюсь из машины, надеваю фуражку и строго так и громко:
– А у меня приказ! – причем, называю самую высокую инстанцию, какую только могу, – Ты что, лейтенант, под суд захотел (мать, мать, мать).
Гаишника как ветром сдуло. Когда я вернулся в машину, француз мне козырнул по-своему. Почему я сказал, что человек с приказом это свободный человек? Потому что он свободен от ответственности за свои действия. Как бы делаешь это всё не ты, а тот, кто тебе такой приказ дал. Особенно это актуально, когда действовать приходится за пределами части и вообще, военного ведомства.
Это рассуждение, кстати, распространяется не только на армию. Любой человек на самом деле постоянно находится в таком же положении, только не понимает этого. Мы всё время выполняем приказы своей Судьбы. Кто-то может называть судьбу Кармой или Роком, не имеет значения – дело вкуса. Это точно так же, как в армии, делает нас свободными, но мы, почему-то, не желаем этого понимать и упорно зовем судьбу злодейкой. Позже мы обязательно поговорим об этом поподробней, если не в этой книге, так в следующей.
Как то, я помню, получил приказ занять для нас отдельную комнату в Олимпийском дворце. В том самом, где я когда-то работал от ГПИ. Я обошел все возможные варианты, планировку я хорошо знал. За комнаты там уже шла драка, между заинтересованными организациями, но я нашел одну пустую, как раз в районе того места, где была пропущена колонна при монтаже. В комнате стоял стол, стул и был телефон. Я уселся, позвонил в часть, чтобы присылали людей и новый замок. Заходят двое и, не обращая на меня внимания, ругаются между собой. Один доказывает, что эта комната отдана какой-то спортивной федерации, а второй, что здесь уже расположилось центральное телевиденье. Я дал им время немного спустить пар друг на друга, а когда они стали уже выдыхаться, встал, сделал деревянную рожу и сообщил им, что комната занята нами. Я был не в военной форме, и пришлось показать удостоверение. Особого впечатления это не произвело. Они уже вдвоем попытались наброситься на меня. Я взял телефон, набрал номер нашего дежурного, представился по форме и дальше:
– Так, – говорю, – Лейтенант (такой-то) пришлите мне срочно наряд, тут нужно арестовать двух штатских.
– Ты что обалдел? Какой наряд? – это дежурный мне в трубку.
– Да, с оружием! Жду.
Я повесил трубку и ласково посмотрел на своих оппонентов. Они, конечно, высказали мне, что это произвол и хамство, после чего исчезли тут же. Может быть, это действительно солдафонское хамство, но у меня приказ. А приказ должен быть выполнен любой ценой (в пределах разумного). И потом, я же их не арестовал, хотя мог бы, если б имел пару солдат под рукой.
В саму Олимпиаду запомнилось немногое: пустая Москва, похороны Высоцкого и репетиция открытия Олимпиады.
О смерти Высоцкого все как-то узнали сразу, до того, как в газете появился крошечный некролог. Власти боялись, что похороны его омрачат благостное настроение спортивно-политического праздника. У нас был приказ по его поводу – офицерам было категорически запрещено идти на похороны. Запреты действуют чаще всего в обратном направлении, я, может быть, пошел бы, но тогда у меня еще не прошла обида за сорванный им год назад концерт.
Я тогда еще не знал, что на таких людей как он нельзя обижаться. Это не люди, это природные явления. Никто же не обижается на тучи за то, что они проливают дождь там, где уже идет наводнение, и не дают ни капли дождя на погибающее от засухи поле. Пожалел, что не пошел я уже на следующий день. Кто-то из ребят принес последнюю его пленку. До этого я не слышал, что «купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще господь замечал» и то, что «сколь веревочка не вейся, все равно совьешься в кнут». Последние песни Высоцкого были настолько пронзительны и поистине велики, что впечатление не проходит до сих пор. Я понимаю, что не все со мной согласятся, но с того момента и до сих пор, я считаю, что в России было всего три великих поэта, это Пушкин, Есенин и Высоцкий. Было много хороших поэтов, но все остальные это хорошие, очень хорошие и замечательнейшие поэты, но не великие.
Сейчас я гораздо больше жалею о том, что где-то линии легли не в ту сторону и не состоялся концерт в нашем институте, а то, что я не ходил на похороны – это мелочь.
У меня, как сотрудника оргкомитета, был свободный вход на все олимпийские объекты. Можно было прийти сесть на свободное место и посмотреть соревнования. Я иногда пользовался этим, но почти ничего не запомнилось, кроме репетиции открытия.
Дело в том, что, во время этой репетиции, шел осеннего типа дождь, но, не смотря на это, все сто тысяч возможных зрителей, может, чуть-чуть меньше, присутствовали на трибунах. Все эти люди получили пригласительные билеты и были счастливы посмотреть грандиозное действо. А у действующих лиц получалось надо сказать, не очень. Было скользко и на намокшей траве, и на специальных площадках. Особенный скандализ получился, когда бегун с факелом, подымавшийся по длинной лестнице, чтобы зажечь олимпийский огонь, поскользнулся и упал. Кстати, вражеские телекомпании на следующий день вмонтировали это падение в церемонию открытия.
Само открытие прошло спокойно и без дождя, тучи разогнали самолетами. Я проезжал тогда мимо Лужников, в машине было включено радио с трансляцией открытия. Солнышко вышло над стадионом как раз в тот момент, когда объявляли о прибытии Генерального секретаря, председателя… и прочая, и прочая, и прочая… Л. И. Брежнева.
Кстати, о машине. Во время олимпиады я получил в распоряжение персональный Рафик с гражданским водителем. Пустячок, а приятно. Перед тем как поступить в распоряжение оргкомитета, т. е. в мое лично, водитель получил большую коробку с красным крестом. Водитель был уже в возрасте и, не то чтобы ленивый, но очень неспешный и не любопытный. Эту коробку открывали мы с ним вместе. И чтобы там оказалось? Расширенная автоаптечка? Фига с два! Комплект средств защиты от венерических заболеваний на десять применений с подробнейшей инструкцией по использованию. В комплект входили далеко не только презервативы, а еще какая-то суперэффективная химия наружного и внутреннего употребления. Прилагалась и подробная инструкция, что нужно делать до того, во время того и после того. Организаторы Олимпиады видимо были уверены, что мы все сразу же набросимся на прибывших в Москву иностранных гражданок и, в качестве дома свиданий, будем использовать нашу довольно вместительную машину. Или эти гражданки должны были наброситься на нас? И все с венерическими болезнями, диверсантки!
Работы летом действительно было много, иногда даже ночевать приходилось на службе, но были и развлечения. Одним из главных был спорт по запаиванию родных и близких фантой. Тогда это был экзотический напиток, ближайший родственник пресловутой кока-колы. Нам её привозили бесплатно в огромных количествах, пей, сколько хочешь, но требовали моментального возврата бутылок. А бутылки тогда были дорогие.
Я с детства помню этот процесс сдачи пустой посуды в специальных пунктах по приему стеклотары. Нужно было отстоять очередь, а люди приходили с большими сумками, с рюкзаками и даже с чемоданами. Семь бед – один ответ, за все последние гулянки. Грязные приемщики в телогрейках и немыслимых фартуках тщательно исследовали каждую бутылку. С шампанского, например, обязательно нужно было снимать фольгу. Не дай бог, внутри что-нибудь окажется или выбоинка будет на горлышке – всё это молча отставлялось в сторону и не принималось никаких объяснений. После закрытия эти дефектные бутылки конечно забирались. И пункты эти работали крайне не регулярно. Табличка «НЕТ ТАРЫ» была тогда не менее популярна, чем «ПИВА НЕТ».
Впрочем, пустые бутылки можно было сдать и в магазине, в винном отделе, но там принимали одна на одну. Можно было, конечно, с просительной, униженной улыбочкой всучить продавщице одну-другую сверхнормы, но при этом велика была вероятность нарваться на грубость.
И вот однажды, я прихожу в винный отдел и прошу мне ПРОДАТЬ пять-шесть пустых бутылок 0, 33. Продавщица чуть в обморок не упала. А я всего лишь создавал личный обменный фонд для фанты.
Фанта нужна была не только для дома, для семьи. Это был хороший подарок, и даже взятка. Помню, возле аэровокзала я поставил машину в неположенном месте. Возвращаюсь, а меня уже караулит гаишник. Я ему говорю, брось, братан, я же в оргкомитете работаю, сейчас тебя фантой угощу. Он тут же вернул мне документы и пошел со мной к багажнику.
Открываю – а в ящике одни пустые бутылки. А документы то он мне уже вернул! Я пообещал, что уж следующий раз непременно и обязательно… и уехал.
Второй армейский отпуск получился грустным. В Барнауле умер мой тесть от саркомы легкого. Это было очень странно. Обычно два снаряда в одну воронку не бьют, а тут, у тестя только что умер родной брат от рака легких, и почти сразу он сам попал в больницу с тем же диагнозом. Странно.
После Олимпиады пришло время задуматься о дальнейшей службе. Из армии мне уходить не хотелось и я попросил отца составить мне протекцию. Он познакомил меня с начальником ЦСКА и с начальником Спорткомитета МО. У них тогда освобождалась должность, полностью соответствовавшая моей военно-учетной специальности. Шикарная должность! Капитан N, начальник вещевой службы ЦСКА готовился к отъезду в ЗГР т. е. в Западную группу войск, а еще проще в Германию. Капитана понять можно, на такой должности слишком долго засиживаться было нельзя, к тому же за границей платили валютой, что тоже было не хреново.
Но он так и не уехал. Что-то с анализами видно было не так. А больше интересных должностей не подворачивалось, поэтому чтобы остаться в кадрах, нужно было соглашаться служить в любой точке, что называется. Даже в пределах Московского военного округа разброс был слишком велик, примерно от Вятки до Гороховецких лагерей, а тут возникло еще одно обстоятельство. Отец на Олимпиаде судил соревнования по стрельбе из лука и, в качестве награды за хорошее судейство ему предложили на выбор: орден или ордер. /Ордер (устаревш.) – маленькая бумажка на получение квартиры. Сейчас можно сравнить с чеком на пять миллионов рублей. /
Отец естественно выбрал второе и предложил мне с женой и сыном переехать туда. И что мне было делать? Уехать неизвестно куда из новой квартиры в Тушино?
Я уволился из армии, а через полгода появилась должность. Та самая, которую занимал отец в пятидесятые годы – начальник хоккейной команды ЦСКА. Я попытался вернуться, но это оказалось слишком сложно. Видать – не судьба.
Еще один анекдот:
Из пункта А в пункт Б по одноколейке вышел поезд. Из пункта Б в пункт А по тому же пути вышел еще один. Оба вовремя пришли в пункты назначения, в пути не встретившись. Вопрос: почему?
Ответ: НЕ СУДЬБА!
19. Непонятки
Уже закончив писать вторую часть, я насчитал здесь не менее семи случаев необычных явлений. Это еще один пучок соломы на место падения в виде «резинового времени», встреча с вампиром на кладбище, ведьмина пляска в комнате, два совмещения яви со сном, обморок со странными видениями и встреча с НЛО. Мне кажется, что этого не так уж мало. Нужно еще учесть, что я сюда записываю не всё.
Из всех непонятных явлений, описанных мной в этой книге, единственное, чего я не понимаю до сих пор, это явление вампира на кладбище. Об остальных можно вкратце поговорить.
Что касается стены из облаков, увиденной мной в пятилетнем возрасте, то я недавно из опроса в интернете выяснил, что многие люди помнят в детстве нечто подобное. Судя по всему душа в этот момент окончательно отрывается от первоначальных, особых связей с Неведомым. Давайте договоримся, что вместо слова Бог, Космос, Ноосфера в дальнейшем я буду пока употреблять слово – Неведомое, или древнерусское слово Навь, это больше соответствует истине.
Последите немного за двух– или трехлетним ребенком, когда он предоставлен сам себе, особенно обратите внимание на выражение глаз и его связь с Неведомым станет очевидной. Это не взгляд – это бездонная пропасть. И вдруг эта связь рвётся. После такого отрыва, естественно возникает страх. Страх обреченности на жизнь.
В следующей книге я коснусь немного народной медицины и расскажу о своём общении с целителями. Мне кажется это интересно. Раньше мне казалось удивительным и почти чудесным, как это бабушки, пошептав над ухом, вылечивают, какую-либо болезнь, например, такую мучительную хворь, как «сучье вымя». Теперь это мне удивительным не кажется – гораздо удивительней, как вылечивают людей какой-то химической дрянью? Как одной таблеткой можно вылечить гонорею, которую когда-то мне лечили долго и мучительно?
Необычные явления все сразу стали вспоминаться мне после опытов ВТП 2008 года и как бы подтверждать сами себя, становясь в один ряд. Если б было что-нибудь одно, от этого можно было бы отмахнуться, а когда два-три разных явления рядом, то начинает проявляться закономерность. Но когда их столько, сколько у меня, сомнения в их подлинности и происхождении пропадают полностью.
Необходимо отметить, что ВТП совершается необязательно с полным выходом из тела и полным отключением от него. Примеров тому множество самых разнообразных. Самый доходчивый пример, это нечто происходящее в полусне, когда вы засыпаете или только еще проснулись, но не полностью. Я рассказывал о видении женской фигуры у своей постели. Это пример временного совмещения миров. Были и еще случаи подобные этому, но пересказывать их не интересно.
Иногда это происходит и совсем без каких-либо признаков сна. Такую практику, мне кажется, правильней называть – медитацией, хотя, я понимаю, что, многие люди подразумевают под этим словом несколько иное, но более подходящего слова подобрать не могу. К этому разряду событий относится карточный фокус, описанный мной в первой главе, заводской шум в московском дворе, кроме того, могу сказать, что художественное вдохновение, это тоже разновидность медитации. Именно медитация, пусть даже не осознанная, работающим художником, позволяет ему дойти до уровня пророчества.
Медитации могут возникать и под воздействием некоторых внешних факторов. В следующей книге я опишу случай на охоте, когда почти в меня несколько раз подряд ударила молния. После этого я встал с раздвоенным зрением и увидел сидящего в траве дупеля с двух разных позиций, обычным зрением и сильно приближенным, как бы с помощью трансфокатора. Я думаю, примерно так же, видят добычу орлы с высоты. У меня повторялось такое и потом, но гораздо в более глубокой медитации и даже полном ВТП.
Медитация это не фантазии и не игры мозга, медитация позволяет видеть другую реальность, не выходя из обычной. Но другая реальность иногда прорывается в этот мир без всякой медитации. Так называемые НЛО видят многие люди сразу. НЛО – это тоже объекты другой реальности. Этим словом, правда, называют крупные объекты, но существуют и гораздо более мелкие, простому не подготовленному взгляду они плохо поддаются. Когда я стал их искать и обращать на них специальное внимание, то научился их видеть, но их могут видеть и все остальные люди на фотографиях – они фиксируются пленкой (на цифровых снимках я их ни разу не видел, поэтому не знаю видны ли они там). Я расскажу об этом. Эти снимки у меня хранятся дома.
То, что можно медитировать под воздействием наркотиков и алкоголя, хорошо известно, и я не буду об этом говорить. Тем более что я наркотиками никогда не увлекался, пробовал пару раз – не понравилось, а под действием алкоголя несколько раз медитировал и рассказывал уже об этом.
Болезнь – в частности, шизофрения и белая горячка видимо вызывает нечто подобное. Когда человек вдруг начинает слышать голоса или видеть не то, что все, его упекают в сумасшедший дом и начинают лечить от этого. Может быть это и правильно. Если что-то мешает человеку нормально жить, его нужно от этого избавлять, единственный вопрос о методах. Наверное, можно было бы лечить поаккуратней, да и заняться изучением природы таких болезней по настоящему.
Болезненных состояний я сам никогда не испытывал и не могу поведать что-либо из опыта, но иногда задумывался, например, на такую тему. Если помните, я рассказывал о художнике из Ровно. Он показывал мне зарисовки своих видений в белой горячке. Потом неоднократно мне приходилось брать справки в наркологическом и психдиспансере, там на стенах часто попадаются плакаты с типичными видениями таких больных. И ведь почти то же самое! Объясните мне, почему разные люди, заболевая, видят одних и тех же зеленых чёртиков? Может они действительно существуют? только в нормальном состоянии мы их не видим?
Ну, что ж, я обещал, что попробую объяснить в конце книги непонятные явления описанные ранее. Насколько мог, объяснил. Хотя понимаю, что этого явно недостаточно. Но я еще не закончил разговор. Самое интересное, на мой взгляд, впереди, в следующей книге.





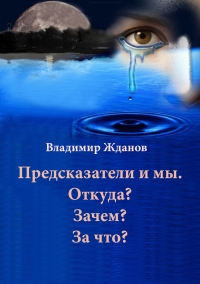



Комментарии к книге «Взгляд на жизнь с другой стороны», Дан Борисов
Всего 0 комментариев