Кристофер Прист Фуга для темнеющего острова
Посвящается моим друзьям
Предисловие
Я написал «Фугу для темнеющего острова» в 1971 году, годом позже она была опубликована отдельной книгой. Хотя она во многом посвящена политике и актуальным проблемам своего времени, политическим романом я бы ее не назвал. В первую очередь это художественное произведение.
Тогда я был молодым, начинающим писателем и нащупывал собственный стиль. Британская фантастика славилась своей традицией так называемого «романа-катастрофы». Особенной популярностью такие романы пользовались в 50-е годы. Джон Уиндем, Джон Кристофер, Чарлз Эрик Мейн, Джей Ти Макинтош и другие сочинили немало изобретательных сценариев конца света и считаются одними из основоположников жанра. К началу 70-х в жанре наблюдалось некоторое затишье, и я задумался, возможно ли сказать в нем нечто новое, что имело бы отношение к современности.
Не случайно, что пик популярности романов-катастроф пришелся на 50-е. В памяти людей еще свежи были ужасы Второй мировой. Европа – в том числе и Великобритания – переживала трудные времена: экономика в упадке, города разрушены, еды и энергоресурсов не хватает. Добавьте сюда еще отголоски развала империи. Писатели и критики неоднократно отмечали, что период написания, скажем, «Дня триффидов» Уиндема и «Долгой зимы» Кристофера отличался удивительной беспросветностью, причем как прошлого, так и будущего.
К началу 70-х все коренным образом изменилось. Великобритания вновь стала процветающей страной, где поощрялось творчество, и каждому открывались широкие возможности. От уныния не осталось и следа. В подобном контексте мой замысел вернуться к жанру катастроф казался чем-то из ряда абстрактных писательских упражнений.
Похоже, так думал не я один. В 1968 году июльский выпуск журнала «Нью Уолдз» вышел с обложкой американского режиссера Стивена Двоскина: черный фон и несколько простых слов: «В чем именно состоит природа катастрофы?». Понятия не имею, что Двоскин хотел этим сказать, но меня вопрос очень зацепил. Я обратился к романам-катастрофам, пытаясь понять, в чем же суть описываемых в них событий. Все подобные произведения посвящены тем или иным внешним факторам, которые приводят к упадку цивилизации, однако, на мой взгляд, главное в любой катастрофе – это то, как она отражается на самих людях.
Раскручивая эту мысль, я пришел к тому, что сосредотачивать внимание надо не на глобальном масштабе бедствий, а на переживаниях рядовой жертвы.
Впрочем, без глобального бедствия тоже не обойтись.
Для Великобритании 1971 год отличался относительной стабильностью, тем не менее общество переживало два весьма значительных потрясения.
Во-первых, это, конечно же, конфликт в Северной Ирландии между католиками и протестантами. Он освещался ежедневно по телевидению и в газетах, и не было британца, который бы про него не знал. С каждой неделей уровень насилия только рос, и казалось, что никакого выхода нет. Сами религиозные распри меня волновали мало; гораздо страшнее был тот разгул хаоса и беспорядка, которым они сопровождались. Многим пришлось покинуть свои дома, улицы перекрывали баррикадами, появлялись военизированные группировки, целые полицейские подразделения вместо того, чтобы поддерживать нейтралитет, становились на ту или иную сторону. В ход шли заминированные автомобили и огнестрельное оружие, случались избиения и массовые стычки. Список можно продолжать.
Я попытался представить, что было бы, если бы подобный конфликт охватил всю страну, и многие мои страхи нашли отражение в «Фуге для темнеющего острова». Однако мне по-прежнему не хватало вменяемого глобального повода, который мог бы повлечь за собой подобные последствия.
В 1971 году во главе Соединенного королевства стояло слабое консервативное правительство под руководством Эдварда Хита. Новым источником проблем становилась Африка. В поисках работы большое количество жителей Индостана хлынуло в страны на востоке континента. Гражданство этих мигрантов часто было спорным: по национальности они принадлежали к индийцам или пакистанцам, а вот паспорта имели британские. В начале 70-х в Кении и Уганде к власти пришли диктаторы, и многие мигранты были вынуждены переехать в Великобританию. Их счет шел на десятки тысяч, в связи с чем агитаторы из ультраправых стали активно раздувать расистские настроения в обществе. В частности, Энох Пауэлл, один из виднейших консерваторов, выступил с несколькими речами, разжигающими межнациональную рознь, предрекая, что страна утонет в «реках крови». К счастью, этот неприятный эпизод в истории Великобритании скоро прошел. Беженцы довольно быстро и безболезненно ассимилировались в нашем обществе.
Представив, что будет, если подобный кризис произойдет в масштабах всей Африки, я понял: именно такой глобальной катастрофе под силу породить хаос и насилие, которые я хотел описать в романе.
Данная версия «Фуги» заново вычитана и отредактирована. Я много лет искал возможности переработать этот текст. Тому был ряд причин.
Главная состоит в том, что со временем поменялось мое отношение к теме, поменялись настроения в обществе, даже язык поменялся. Если раньше я мог себе позволить говорить о глобальной катастрофе с иронией, порой вольно, сейчас велика вероятность, что мои слова будут неверно истолкованы.
Особенно ярко это выразилось в двух обзорах, напечатанных в журнале «Тайм Аут» (он характерен тем, что всегда идет в русле господствующего политического течения) с промежутком всего в несколько лет. В первом обзоре, сразу после выхода книги, «Фугу» хвалили, даже превозносили за яркую антирасистскую позицию и убедительное изображение того, в какой хаос ввергают страну радикалы. Позднее, когда роман перепечатывали, вышел новый обзор (критик другой, но общественные взгляды остались в целом те же). В нем меня разнесли за пропаганду расизма и поддакивание ультраправым.
Поскольку, повторюсь, роман не задумывался как политическое высказывание, я считаю, что оба критика неправы, однако меньше всего мне понравилось быть причисленным к расистам. Примерно тогда я и решил когда-нибудь переработать текст. И вот, наконец, это случилось. Я постарался убрать из повествования все, что можно трактовать в пользу той или иной позиции, хотя, должен признаться, чрезмерную политкорректность не поддерживаю.
Была и другая причина. «Фуга для темнеющего острова» – моя первая попытка написать серьезное произведение на серьезную тему. Задачу я поставил сложную, масштабную, и работалось над ней непросто. Кроме того, в то время у меня еще не было наработанного стиля, и я легко поддавался влиянию извне. Тогда в моду вошло сухое, отстраненное повествование. Увлеченный этим феноменом, я зачитывался не только фантастами «новой волны», но и американскими писателями, в частности, Ричардом Бротиганом, Куртом Воннегутом и Ежи Косинским. Мне нравился их стиль изложения, позволявший изображать напряженные или ужасные события без эмоциональных оценок. На мой взгляд, это только подчеркивало напряженность и ужас происходящего.
Однако теперь, сорок лет спустя, я не думаю, что такая степень отстраненности пошла роману на пользу. Определенная бесстрастность повествования сохранена, при этом новое издание все-таки получилось эмоциональнее, недостатки персонажей выписаны четче, боль и злость выражены более явно.
Сюжет не претерпел никаких изменений, я лишь постарался найти более убедительные средства для его передачи. В тексте нет никакого «осовременивания». Все описанные в романе ужасы происходили еще до того, как мир узнал, что такое глобальный терроризм. В реалиях дня сегодняшнего они оценивались бы иначе, поэтому считайте, что перед вами слепок прошлого. В этом прошлом также не было электронной почты, DVD, Интернета, камер видеонаблюдения, мобильных телефонов, продуктов с ГМО, лазерной хирургии, спутникового телевидения; Великобритания не была членом Евросоюза, у Европы не было единой валюты… и так далее, и тому подобное. Любое из этих «новшеств» повлияло бы на сюжет и повествование самым непредсказуемым образом.
Кристофер ПристФуга для темнеющего острова
У меня светлая кожа, русые волосы, голубые глаза. Я высокого роста, одежду предпочитаю сдержанную: блейзер, вельветовые брюки, шелковый галстук. Ношу очки для чтения, но скорее по привычке, чем по необходимости. Время от времени курю, иногда выпиваю. В бога не верю, в церковь не хожу, хотя другим не запрещаю. Женился по любви. Обожаю свою дочь, Салли. К политике равнодушен. Меня зовут Алан Уитмен.
* * *
Кожа у меня смуглая от грязи, волосы сухие, в соляном налете, голова чешется. Глаза голубые. Я высокого роста, одежду не менял уже полгода, давно не мылся. Очков у меня не осталось, привык обходиться без них. Курю много, но только когда попадаются сигареты; раз в месяц напиваюсь. В бога не верю, в церковь не хожу. Мой последний разговор с женой закончился ссорой, о чем теперь жалею. Обожаю свою дочь, Салли. К политике по-прежнему равнодушен. Меня зовут Алан Уитмен.
* * *
Впервые я увидел Рафика в деревушке, разрушенной в ходе артобстрела. Он мне сразу не понравился, как, впрочем, и я ему. Когда первая настороженность прошла, мы перестали обращать друг на друга внимание. Я искал еду, надеясь, что раз обстрел произошел совсем недавно, то деревню еще не полностью разграбили. В уцелевшие дома я не заходил, зная по опыту, что солдаты обносят их в первую очередь; гораздо выгоднее копаться среди обломков.
Планомерно обшаривая развалины, к полудню я набил консервами два рюкзака, а из брошенных автомобилей забрал три дорожных атласа – на обмен. За все это время с Рафиком мы больше не пересекались.
На границе деревушки я нашел поле, которое когда-то обрабатывали. В углу темнели свежие могилы; каждая отмечена доской с прибитым к ней солдатским жетоном. Судя по именам, здесь были похоронены африканцы.
Этот участок показался мне наиболее уединенным, поэтому я уселся между могил и вскрыл банку мясного рагу – отвратительного, с большими шматами жира. Я с жадностью его съел.
Перекусив, я направился к вертолету, который сбили неподалеку. Еды в нем, скорее всего, не найти, зато приборы могут сгодиться для обмена – если уцелели, конечно. Мне очень был нужен компас, хотя навряд ли его удалось бы легко извлечь, да и без внешнего питания он бы все равно работать не стал.
Когда я подошел, в кабине пилота уже возился тот мужчина, которого я видел утром, – длинным ножом пытался выковырять что-то из приборной панели. Заметив меня, он медленно выпрямился и потянулся к карману. Несколько минут мы недоверчиво изучали друг друга. Стало ясно, что мы с ним в одной лодке и мыслим примерно одинаково.
Так я попал в группу к Рафику.
* * *
Когда на выезде с нашей улицы в Саутгейте соорудили баррикаду, стало ясно, что из дома нам, скорее всего, придется уехать. Перспектива, конечно, пугала, но мы продолжали бездействовать, надеясь приспособиться к новым обстоятельствам.
Понятия не имею, кто построил эту баррикаду. Мы жили почти в самом тупике, рядом со спортивными полями, поэтому никакого шума ночью не слышали, однако утром Изобель не смогла выехать в город, чтобы отвезти Салли в школу. Она тут же вернулась домой и рассказала мне.
Впервые те необратимые перемены, которые происходили в стране, коснулись нас напрямую. Прежде баррикады в нашем районе практически не встречались.
Выслушав Изобель, я решил сходить посмотреть сам. Конструкция выглядела довольно хлипкой: деревянные балки, обмотанные колючей проволокой, – но ее предназначение не вызывало сомнений. Вокруг толклись несколько мужчин, среди них я узнал кое-кого из соседей.
На следующий день мы сидели дома, когда снаружи послышались крики и шум: выселяли семейство Мартинов, жившее напротив. Мы с ними и так почти не общались, а после нашествия африммов они стали совсем нелюдимыми. Винсент Мартин, высококлассный технический специалист, работал на авиационном заводе в Хатфилде. Его супруга сидела дома, воспитывала троих детей. Родом Мартины были с Карибских островов.
Выселением занималась уличная дружина, но на тот момент я в ней еще не состоял. Впрочем, в течение недели всех мужчин записали в дружинники, а их родственникам выдали пропуска, которые надлежало постоянно носить с собой. Эти пропуска быстро становились самым ценным имуществом. Притворяться, что происходящее нас не касается, больше не получалось.
Машинам разрешалось проезжать только в определенное время, и те, кто нес вахту на баррикаде, следили за графиком неукоснительно. Наша улица выходила на шоссе, парковаться на котором после шести вечера официально запрещалось. То есть, если вы не успели вернуться домой до закрытия баррикады, нужно было искать место для стоянки. По мере того как жители соседних улиц перенимали наш опыт и тоже перекрывали въезд на свою территорию, оставлять машину приходилось все дальше от дома, а идти пешком в темное время было небезопасно.
Обычно улицу патрулировали по двое, иногда по четверо, а вечером накануне нашего отъезда дружину нарастили до четырнадцати человек. Я ходил в патрули трижды с разными напарниками. Порядок простой: один берет ружье и становится на баррикаду, а второй четыре раза обходит улицу туда и обратно; потом меняются. И так всю ночь.
Когда наступала моя очередь стоять за баррикадой, больше всего меня беспокоило, что делать, если подъедут полицейские. Их автомобили мелькали на шоссе часто, правда, никогда не останавливались. Этот вопрос регулярно поднимался на совете дружинников, но ответа, который бы удовлетворил лично меня, никто не предложил. Предполагалось, что поводов для столкновений с полицией нет, хотя до всех нас доходили слухи о стычках между жителями забаррикадированных улиц и бойцами спецподразделений. По телевидению об этом не рассказывали, в газетах не писали, и отсутствие таких новостей само по себе говорило о многом.
Заряженное ружье служило для того, чтобы, во-первых, отгонять чужаков, которые хотели поселиться в опустевших домах, а во-вторых, продемонстрировать властям свой протест. Если правоохранительные органы и военные не могут или не желают защищать нас, тогда мы сами в состоянии за себя постоять. К этому, если вкратце, сводилась суть правил, написанных на обороте пропусков, и такого же принципа негласно придерживались дружинники. Мы в прямом смысле взяли закон и порядок в свои руки.
Лично мне от всего этого было не по себе. Выгоревший остов дома Мартинов постоянно напоминал о том, что дружинники не чураются насилия, а бесконечные процессии бездомных, тянувшиеся мимо баррикад, производили гнетущее впечатление.
Ночью, когда снесли баррикаду на соседней улице, я спал дома. Накануне, в связи с обострившейся обстановкой, патрули было решено увеличить, но так как я только-только закончил вахту, меня это не коснулось.
О сражении на соседней улице мы узнали, когда неподалеку от нас раздались выстрелы. Изобель с дочкой побежали прятаться под лестницей, а я оделся и поспешил к своим на баррикаду. Дружинники мрачно смотрели на армейские грузовики и полицейские фургоны, перегородившие шоссе. Там стояли порядка тридцати солдат с оружием. Выглядели они встревоженными то ли нашей возможной реакцией, то ли, что вероятнее, приказами, которые им предстояло выполнить.
Мимо прогрохотали три водометных автомобиля. Протиснувшись сквозь военный кордон, они направились к соседней улице. Оттуда то и дело доносились выстрелы и яростные крики. Прогремело несколько гулких взрывов, и дома, примыкающие к нашим дворам, осветились красным заревом. Подтянулись еще грузовики и фургоны с подмогой. Мы просто стояли и смотрели, отлично понимая, что любые активные действия будут расценены как провокация. К тому же с одним ружьем на всех особо не повоюешь. Оно было заряжено, но припрятано. Лично я ни за что не согласился бы взять его в руки.
Всю ночь мы простояли у баррикады, прислушиваясь к шуму сражения неподалеку. С рассветом стычка понемногу сошла на нет. Мимо нас пронесли тела нескольких убитых солдат и полицейских; многочисленных раненых увозили на «Скорых».
Когда наступило утро, полиция под конвоем провела почти пару сотен белых людей к группе автобусов, стоявших у входа в метро дальше по шоссе. Некоторые шли прямо в пижамах. Поравнявшись с нашей баррикадой, люди стали кричать, требуя или умоляя впустить их, но солдаты быстро пресекли эти попытки. Я поглядел на соседей. Неужели и на моем лице застыло такое же выражение сурового безразличия?…
Мы все ждали, когда переполох утихнет, однако стрельба не утихала еще несколько часов. Машины на шоссе не появлялись – видимо, их направляли в объезд. У одного из наших с собой был радиоприемник, и мы напряженно вслушивались в новостные сводки «Би-би-си», рассчитывая узнать что-нибудь обнадеживающее.
К десяти часам обстановка, наконец, стала более или менее спокойной. Почти все полицейские разъехались, хотя военные остались. Да каждые несколько минут раздавались выстрелы – где-то в отдалении. Некоторые дома на соседней улице продолжали гореть, но угрозы распространения пожара не было.
При первой же возможности я ускользнул с баррикады и пошел домой.
Жена с дочкой так и сидели под лестницей. Изобель была сама не своя от страха: лицо бледное, без кровинки, зрачки расширены, речь невнятная. Салли чувствовала себя немногим лучше. Они путано и сбивчиво рассказывали, что им пришлось пережить, хоть и опосредованно: взрывы, крики, стрельба, треск и запах горящего дерева. Приготовив им чаю и разогрев еды, я пошел смотреть, какой ущерб был нанесен дому.
К нам в сад залетел коктейль Молотова и спалил сарай. Все окна с этой стороны были разбиты или растрескались, в стенах обнаружились дыры от выстрелов. Пока я изучал их, в оконный проем влетела еще одна пуля и чуть не попала в меня.
Я опустился на четвереньки и подполз к окну.
Наш двор и сад примыкал к домам на соседней улице. Приподняв голову над подоконником, я увидел, что сгорели меньше половины из них. Внутри некоторых мелькали силуэты – какие-то люди обшаривали комнаты. В саду, пригнувшись за забором, стоял невысокий мужчина в замызганной одежде. Это он стрелял в меня. Пока я наблюдал за ним, он выстрелил снова – на этот раз в дом по соседству.
Когда Изобель и Салли оделись, мы взяли чемоданы, уже неделю как собранные, и я погрузил их в машину. Пока жена методично запирала все двери и шкафы в доме, я захватил документы и деньги.
Вскоре мы уже были у баррикады. Там нас остановили.
– Куда это вы собрались, а, Уитмен? – спросил один из дружинников – Джонсон, с которым я ходил в патруль три дня назад.
– Мы уезжаем, – ответил я. – Поедем к родителям Изобель.
Джонсон сунул руку в окно и, не успел я ее перехватить, выключил зажигание, а потом забрал ключ.
– Мы никого не выпустим, – сказал он. – Если все сбегут, они же полезут сюда, как тараканы.
Подошли еще несколько мужчин. Изобель сжалась. Салли сидела сзади, и я старался не думать о том, каково сейчас ей.
– Здесь оставаться больше нельзя. Наш дом выходит окнами на ту улицу. Времени нет: не сегодня-завтра они пойдут сюда через сады.
Соседи стали переглядываться.
– Нам нужно держаться вместе. Иначе никак, – упрямо твердил Джонсон, чей дом находился на противоположной стороне.
Изобель наклонилась к моему окну и умоляюще посмотрела на Джонсона.
– Прошу вас, – сказала она, – подумайте о женщинах и детях. Неужели ваша жена хочет тут оставаться?
– Времени нет, – повторил я. – Вы же знаете: стоит африммам занять какую-нибудь улицу, через несколько дней они захватывают весь район.
– За нас закон, – подал голос кто-то из соседей, указывая на солдат по ту сторону баррикады.
– Закон тут ни за кого. А баррикаду можете разбирать – толку от нее больше нет.
Джонсон отошел от машины и обратился к одному из собравшихся. Это был Николсон, из числа руководителей нашей дружины. Они перекинулись парой фраз, и Николсон сам подошел ко мне.
– Никуда вы не поедете, – сказал он непререкаемым тоном. – Никого не выпустим. Так что, Уитмен, отвози своих домой и становись дежурить на баррикаду. Другого выхода у нас нет.
Он бросил ключ, тот упал на колени к Изобель. Она передала его мне. Я взялся за ручку и поднял стекло до упора.
– Ну что, рискнем? – спросил я, заводя машину.
Она посмотрела на окружавших нас мужчин, на баррикаду, обмотанную колючей проволокой, на вооруженных солдат, стоявших на шоссе, и ничего не ответила.
Салли заплакала.
– Папа, я хочу домой!
Я развернулся и медленно поехал к дому. Где-то по пути мы услышали женский крик. Я взглянул на Изобель. Она зажмурилась.
У дома мы остановились. Он казался таким родным, таким уютным, но из машины никто не вышел. Я не стал глушить двигатель – это было бы все равно что признать поражение.
Мы молча посидели какое-то время, а потом я повел машину дальше по улице, к спортивному полю. Выезд на шоссе перегораживала баррикада, а здесь просто натянули два мотка проволоки, даже вахтенных не выставляли. Сейчас тут тоже никого не было. Как и в других местах, ограждение вокруг спортивной площадки казалось чем-то обыденным и диким одновременно. Я остановился, вышел из машины и снял проволоку. Дальше стоял деревянный забор, который подпирали несколько кольев. Я включил первую передачу и дал газу. Забор затрещал и, наконец, завалился. Впереди открывалось пустынное спортивное поле.
Проваливаясь в канавы и подпрыгивая на кочках, мы поехали напрямик через него.
* * *
Я выполз на берег, с трудом переводя дух. Плавание в ледяной реке совершенно меня вымотало. Все мышцы ныли и дрожали от озноба. Я замер, силой воли заставляя организм согреться.
Прошло пять минут. На противоположном берегу ждали Изобель и Салли. Я прошел вверх по течению, пока не оказался точно напротив них. В руках я держал конец веревки, которую протащил с собой. Изобель сидела на земле и смотрела куда-то в сторону, вдоль реки. Салли стояла рядом и внимательно наблюдала за мной.
Я прокричал им, что надо делать. Салли наклонилась к Изобель, та затрясла головой. Я нетерпеливо ждал; мышцы начинало сводить от холода. Наконец, после очередного моего окрика, Изобель встала. Они с дочерью обвязали свою часть веревки вокруг пояса, перетянули на груди, как я их научил, и настороженно подошли к воде.
От нетерпения я, пожалуй, потянул слишком сильно. Не удержавшись на ногах, они обе шлепнулись в воду и стали барахтаться на мелководье. Изобель плавать не умела и панически боялась захлебнуться. Салли всеми силами пыталась удержать мать, чтобы та не поползла обратно к берегу.
Не давая им опомниться, я налег на веревку и вытащил их на середину реки. Когда Изобель выныривала из воды, то начинала вопить от страха и злости.
Не прошло и минуты, как я перетянул жену с дочкой на свою сторону. Салли легла в грязь и молча глядела на меня. Я ждал, что она начнет жаловаться или ругаться, но она молчала. Изобель, свернувшись калачиком, кашляла и отхаркивала воду. Придя в себя, она первым делом разразилась потоком брани. Я не стал слушать.
Вода в реке была холодной, но с холмов дул теплый ветерок. Мы перебрали свой скарб. Хотя во время переправы ничего не потерялось, все вещи промокли. По моей задумке, Изобель должна была держать наш основной рюкзак над собой, а Салли – не давать ей уйти под воду. Не вышло. Сменная одежда и еда отсырели, спички безнадежно испортились. Решив, что лучше всего нам раздеться, мы сняли верхнюю одежду и развесили ее на ближайших деревьях и кустах в надежде, что к утру она хотя бы немного просохнет.
Ночевали прямо на земле, дрожа и прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Через полчаса Изобель уснула, а Салли все никак не могла сомкнуть глаз. Я тоже не спал, и так мы с ней пролежали почти до рассвета.
* * *
Я собирался провести ночь с женщиной по имени Луиза. Она забронировала нам номер в гостинице на Гудж-стрит, а я сказал Изобель, что пойду на полуночный митинг в колледже. Дома я мог не появляться до самого утра.
Мы с Луизой отужинали в греческом ресторанчике на Шарлотт-стрит, а оттуда, чтобы не сидеть весь вечер в номере, пошли в кинотеатр на Тоттенхэм-Корт-роуд. Название фильма не помню; помню только, что он был зарубежный и шел с английскими субтитрами. По сюжету чернокожий мужчина влюбляется в белую женщину, но их роман заканчивается плохо. Еще там было несколько откровенных сцен. Официально фильм, конечно, не запретили, однако показывали его мало где. В других заведениях, где крутили порнофильмы, регулярно проводились полицейские облавы. Этот фильм, однако, шел уже больше года, и власти вроде бы не препятствовали.
Тем не менее, нам не повезло: оказались не в том месте и не в то время. Мы сидели на последнем ряду, поэтому хорошо видели, как полиция проникает в зал через запасные выходы. Стратегия была продумана и отработана до мелочей: застигнутые врасплох зрители не имели возможности покинуть кинотеатр, пока их не допросят и не установят личность. У каждой двери стояло по вооруженному полицейскому, еще с десяток сотрудников держали оцепление.
Прошла минута, другая… ничего не происходило. Фильм продолжал идти. Затем зажегся свет, но даже после этого проектор не выключили; персонажи на экране едва различимо совокуплялись, от чего сцена казалась еще более пикантной. Вдруг все оборвалось, защелкали и зашумели громкоговорители.
Двадцать минут мы просидели, не зная, что будет дальше. Один из полицейских стоял неподалеку, и я спросил у него, что происходит. Он не ответил.
Наконец, зрителям, ряд за рядом, приказали подниматься и двигаться к выходу, где у каждого требовали назвать полное имя и адрес. По счастью, никаких документов у меня при себе не было, так что я рискнул сообщить вымышленные данные. Карманы мне все равно обшарили, пригрозили арестом за нарушение недавно введенного закона об удостоверении личности, но Лиз поручилась за меня, и нас отпустили.
Мы направились прямиком в гостиницу и сразу же перешли к постели. Однако я никак не мог оправиться от произошедшего. Во мне мешались злость и страх. Как Луиза ни старалась, ей так и не удалось меня возбудить. Я несколько дней провел в предвкушении этой ночи, – и ничего не вышло. Желание погасло, совсем как те кадры на экране.
Партия «Британских реформистов» во главе с Джоном Трегартом, отщепенцем из консерваторов, пребывала у власти уже четвертый месяц.
Позднее Луизу арестовали по обвинению в даче заведомо ложных показаний. Однако разыскать меня полицейские так и не смогли, поэтому в конце концов ее освободили.
* * *
Африммские группировки, по понятным причинам, были нам ненавистны. Постоянно ходили слухи о том, как они трусливы в бою и как кичатся каждой, даже самой завалящей победой.
Однажды мы наткнулись на летчика Королевских патриотических ВВС, пережившего плен у африммов. Он рассказал о жестоких пытках и прочих зверствах, которые чинились в их военных допросных центрах. Наши лишения по сравнению с этим казались обыденными, чуть ли не формальными. Летчик лишился одной ноги, а на другой ему перерезали сухожилия. При этом он считал, что еще легко отделался. Он попросил нас о помощи.
Нам не хотелось с ним связываться, и Рафику пришлось устроить голосование. В конце концов было решено донести калеку до ближайшей авиабазы, а дальше пусть добирается сам.
Вскоре после этого нас окружил африммский патруль и отвел в гражданский допросный центр.
Про летчика мы ничего не сказали, да и про поведение африммов тоже. Мы даже не пытались противиться аресту. После того, как похитили наших женщин, я пребывал в каком-то отупении и все не мог выкинуть из головы мысль, что на нас охотятся. От усталости и отчаяния у меня не было сил сопротивляться, даже для виду. Остальные, надо полагать, чувствовали себя так же. Потеряв женщин, все мы превратились в сомнамбул.
Под небольшим конвоем нас отвезли к зданию на окраине захваченного африммами городка. Во дворе стоял большой шатер; нас загнали туда, приказали раздеться и отправили за перегородку, где густым паром проводилась обработка от вшей. Через несколько минут нам велели выходить и одеваться. Наша одежда лежала нетронутой там же, где мы ее бросили.
Потом нас разделили: кого увели по одному, кого по двое или по трое. Я оказался один. Нас сажали в кабинеты в главном здании и коротко допрашивали. Со мной беседовал высокий выходец из Западной Африки, одетый в бурое пальто несмотря на работающее отопление. В коридоре стояли двое охранников в форме, в руках у них я заметил русские автоматы.
Сам допрос вышел поверхностным. Африканец просто взял у меня удостоверение личности, свидетельство о статусе, фотографию с африммским штампом и просмотрел их.
– Куда направляетесь, Уитмен?
– В Дорчестер, – сказал я: так мы все договорились отвечать в случае ареста.
– У вас там родственники?
– Да. – Я сообщил ему имена и адрес якобы своих родителей.
– Семья есть?
– Есть.
– Где она?
– Не знаю.
– Кто у вас главный?
– У нас нет главного.
Больше он ничего не спрашивал, только молча изучал мои документы. Наконец, меня вернули в шатер, где мы все ждали, пока закончатся допросы. Затем двое африммов в гражданском обыскали наши вещи. Особо не копались, поэтому нашли только вилку, которую один из наших зачем-то положил в самом верху рюкзака. Пару ножей, спрятанных у меня в сумке под подкладкой, никто не заметил.
После обыска нам снова пришлось ждать, пока к шатру не подъехал фургон с большим красным крестом на белом фоне. Какое-то время назад удалось договориться о гуманитарной помощи беженцам: полтора килограмма еды с повышенным содержанием белков на человека в неделю. Однако, поскольку правила на своей территории устанавливали африммы, это количество неуклонно снижалось. Мне досталась лишь пара баночек тушенки да две пачки сигарет.
Наконец, в трех фургонах нас вывезли за пределы города и оставили на дороге, очень далеко от того места, где произошел арест. Больше суток мы добирались до схрона с припасами, который устроили в спешке, когда стало ясно, что нас вот-вот накроют.
За все время вынужденного пребывания на африммской территории про похищенных женщин мы так ничего и не узнали. Ночь я провел без сна, отчаянно желая хотя бы еще раз увидеть Салли и Изобель.
* * *
В утренних новостях сообщили, что неопознанное судно, которое уже два дня плыло по Ла-Маншу, вошло в устье Темзы.
Я не пропускал ни одной сводки по радио. С тех пор как его заметили, судно не реагировало на требования остановиться и не отвечало на попытки связаться. Флагов на нем не было. Королевский ВМФ приставил к судну тральщик, но недавняя резолюция ООН запрещала прибегать к силовым мерам. Название судна было замалевано краской, однако прочитать его все же удалось. Это оказался грузовой трамп водоизмещением 10 000 тонн; зарегистрирован в Либерии и, по данным «Регистра Ллойда», недавно зафрахтован транспортной компанией в Лагосе. Впрочем, учитывая тот хаос, который сейчас царит в Западной Африке, «недавно» могло означать что угодно: от года до десяти лет назад.
В этот день занятия в колледже закончились у меня в половине первого. Ни лекций, ни семинаров в расписании больше не стояло, поэтому я решил съездить к реке. На автобусе я добрался до Кеннон-стрит, а оттуда пешком до Лондонского моста. Кроме меня, там собралось еще несколько сотен человек – скорее всего, сотрудники близлежащих учреждений. На восточной стороне моста, смотрящей по течению, было не протолкнуться.
Через некоторое время народа стало меньше – видимо, закончился обеденный перерыв, – и я смог протиснуться к парапету.
Судно показалось в половине третьего: оно шло вверх по реке, к Тауэр-бриджу. Его сопровождало множество мелких суденышек, в том числе и катера речной полиции. В толпе зашептались.
Судно приближалось к мосту, а его все не разводили. Рядом со мной стоял мужчина с небольшим биноклем; он сообщил нам, что пешеходов разгоняют, а дорогу перекрывают. Через несколько секунд половинки моста поползли вверх, прямо перед самым судном.
Совсем неподалеку завыли сирены. Я обернулся. На Лондонский мост въехало несколько полицейских автомобилей. Никто оттуда не выходил. Судно неуклонно двигалось на нас.
На катерах сопровождения включили мегафоны, пытаясь докричаться до людей на борту. Что именно кричали, мы не поняли, так как слова тонули в металлическом дребезжании. К этому моменту полицейские оцепили Лондонский мост с обеих сторон, и стало непривычно тихо. Начали разгонять толпу, но народ не слушался и снова смыкался у парапета смотреть, что будет дальше. Мимо нас проехал конный полицейский на крупной рыжей кобыле. Он приказал нам освободить мост; практически никто не подчинился.
Судно подошло уже так близко, что, казалось, можно дотянуться до надстройки. Теперь мы увидели, что на палубах полным-полно народа: кто стоит, кто лежит. Два патрульных катера доплыли до моста и развернулись навстречу приближающемуся судну. Полицейский с громкоговорителем кричал капитану, чтобы тот заглушил двигатели и приготовился принять на борт официальную делегацию.
Судно не останавливалось, продолжая медленно надвигаться на мост. Многие из пассажиров что-то орали полицейским в ответ, только нельзя было ничего разобрать.
Нос судна прошел под пролетом моста, чуть сбоку от того места, где стоял я. Я посмотрел вниз. Палуба была набита людьми до самых бортов. Многие глядели на нас, кто-то махал, остальные орали. А потом самая высокая часть надстройки посередине судна врезалась в парапет моста. Столкновение сопровождалось протяжным, жутким скрежетом металла о камень. Теперь было видно, что краска на судне грязная и отслаивается, а в иллюминаторах не хватает стекол.
Я перевел взгляд на реку. Патрульные катера и пара речных буксиров совместными усилиями стали разворачивать корму в сторону бетонной пристани Нью-Фреш-Уорф. Из трубы судна валил густой черный дым, а сзади шлейфом растекалась белая пена – значит, двигатели еще работали. Пока буксиры толкали судно в сторону пристани, металлическая надстройка с треском и скрежетом продолжала царапать мост.
На судне, снаружи и внутри, началось движение. Пассажиры хлынули к корме, многие спотыкались и падали. Когда корма врезалась в пирс, самые проворные начали спрыгивать на пристань.
Судно зажало между пристанью и мостом: нос под пролетом, надстройка у парапета, корма над пирсом. Один буксир подплыл под мост, чтобы до остановки двигателей судно вдруг не развернулось и не продолжило плыть по реке. Четыре патрульных катера подошли с левого борта, оттуда на палубу полетели крюки с канатами и веревочными лестницами. Бегущие пассажиры даже не думали скидывать их обратно. Зацепив первую лестницу, полицейские и таможенники начали подниматься на борт.
Все, кто стоял на Лондонском мосту, не сводили глаз с людей, покидавших судно. Африканские беженцы ступили на английскую землю.
Мы смотрели на них с ужасом и любопытством одновременно: мужчины, женщины, дети… Все или почти все – тощие, больные, голодные. Костлявые руки и ноги, распухшие животы, обтянутые кожей черепа с непропорционально большими глазами, груди у женщин – обвисшие и пустые, как будто из бумаги, взгляды – ожесточенные и обвиняющие. У детей подкашиваются ноги. Тех, кто не может идти сам, попросту бросают.
В боку судна открылась дверь, и оттуда на пирс выкинули трап. Еще одна толпа африканцев повалила с нижних палуб на пристань. Кто-то, не в силах идти дальше, упал на бетон, остальные двинулись к портовым складам, обтекая их или скрываясь внутри. Никто не поднимал глаза на нас, наблюдавших с моста, и не оглядывался на товарищей по несчастью.
Мы стояли и смотрели. Потоку людей, казалось, не будет конца.
Постепенно верхние палубы опустели, но беженцы все выходили и выходили откуда-то снизу. Я попробовал подсчитать, сколько человек осталось лежать – кто мертвый, кто без сознания, – но, дойдя до сотни, бросил эту затею.
Полицейские, наконец, сумели остановить двигатели, и судно пришвартовали к пирсу. На пристани собралось множество карет «Скорой помощи»; тех, кто пострадал сильнее всего, погрузили в машины и увезли. Однако многие сотни беженцев просто ушли – подальше от пристани и от реки, на улицы Сити, жители которого еще ничего не знали о произошедшем.
Позднее сообщили, что полиция и речная инспекция обнаружили на судне семьсот с лишним трупов, большинство из них – дети. Социальные службы насчитали четыре с половиной тысячи выживших, которых доставили в больницы и пункты неотложной помощи. Остальные, те, кто смог самостоятельно покинуть судно и начать выживать поодиночке, учету не поддавались, хотя где-то я услышал, что таких по меньшей мере тысячи три. Кого-то потом задержали, многие сумели скрыться от властей и растворились в каменных джунглях огромного города.
В конце концов полиция все же увела нас с моста под предлогом того, что после столкновения находиться на нем небезопасно. Впрочем, уже на следующий день движение снова открыли.
Так я стал свидетелем первой высадки африммов. Следом произошло еще три; затем устье Темзы перекрыли. Однако беженцы продолжали добираться до берега на лодчонках и шлюпках, которые спускались с крупных судов. Они причаливали по всему побережью – на песчаные и галечные пляжи, в крошечные гавани, на набережные приморских городов. Они выходили из воды и падали на землю, и так продолжалось круглые сутки, неделю за неделей, почти два года. Африка стала непригодной для жизни, и миллионы людей, ранее населявших ее, расползались по миру.
* * *
На дороге нас остановили полицейские. Их интересовало, куда мы направляемся, а в особенности – почему мы решили бросить дом. Изобель рассказала все: и про захват соседней улицы, и про неминуемую угрозу, нависшую над нашей семьей.
Ожидая, когда нас пропустят, Салли пыталась успокоить мать: после разговора с полицейским ее трясло от рыданий. Мне тоже хотелось плакать, но я крепился. Конечно, тяжело свыкнуться с мыслью, что мы, возможно, в самом деле лишились дома, однако за последние несколько месяцев я порядком натерпелся истерик от Изобель. Хотя с тех пор как я стал работать на текстильной фабрике – единственное место, куда меня взяли, – нам жилось довольно скверно, по сравнению с моими бывшими коллегами по колледжу мы еще неплохо устроились. Как я ни старался проявлять участие и сочувствие, все в итоге сводилось к ссорам и обидам по любому поводу.
Вскоре полицейский вернулся и сообщил, что отпускает нас, но мы должны ехать в лагерь для беженцев, который ООН обустроила в Хорсенден-Хилл, графство Мидлсекс, а не к родителям Изобель в Бристоль, как собирались. Полицейский предупредил, что гражданским не рекомендуется совершать длинные междугородние поездки в темное время суток. Мы как раз потратили весь день, кружа по пригородам Лондона в поисках заправки, где нам дали бы заполнить бензобак и еще три пятигаллонные канистры, которые я припас в багажнике. И вот начинало темнеть, а в сторону Бристоля мы почти и не продвинулись. К тому же, все проголодались.
Ехали по Западному шоссе в направлении Алпертона. Пришлось сделать большой крюк через Кенсингтон, Фулем и Хаммерсмит, чтобы не соваться в огороженные африммские анклавы в Ноттинг-Хилле и Северном Кенсингтоне. Сама автомагистраль была свободна, зато чуть ли не на каждом съезде стояли баррикады с вооруженными жителями. На пересечении с Хэнгер-лейн мы, как нам объясняли, свернули с шоссе и проехали через Алпертон. По пути то и дело попадались припаркованные на обочине патрульные автомобили, возле которых дежурили по несколько десятков полицейских и миротворцы ООН в голубых касках.
У въезда в лагерь нас вновь остановили и допросили. В частности, спрашивали о причинах, побудивших нас бросить дом, и мерах предосторожности, предпринятых на время нашего отсутствия.
Я рассказал, что въезд на улицу забаррикадирован, в районе много военных и полиции, все двери в доме мы заперли, а ключи взяли с собой. Один из допрашивающих в это время делал пометки в записной книжке. Затем у меня спросили точный адрес и имена мужчин на баррикаде. Пока эти сведения передавали кому-то по телефону, мы ждали в машине. Наконец нас впустили, велев припарковаться за воротами и с вещами идти в центр приема беженцев.
Сам комплекс оказался дальше, чем мы думали, и, к нашему удивлению, состоял в основном из готовых домиков. Перед одним из них был стенд с надписями на нескольких языках, подсвеченный прожектором. Здесь вновь прибывшим предстояло разделиться: мужчин отправляли в так называемый «Распределитель D», а женщин и детей – в домик за стендом.
– Ну что, увидимся позже? – сказал я Изобель.
Она, наклонившись, коснулась губами моей щеки. Я поцеловал Салли. Затем они вошли в домик, а я остался один на один с чемоданом.
Указатели привели меня к «Распределителю D». Там мне велели сдать чемодан на досмотр и раздеться. Я нехотя подчинился, и вещи унесли. Потом меня отправили под горячий душ и заставили начисто вымыться. Выйдя из душа, я получил полотенце и какую-то грубую одежду. На вопрос, нельзя ли переодеться в свое, мне ответили отказом; тем не менее, на ночь разрешили взять пижаму.
Когда я оделся, меня проводили в скромно обставленный зал, в котором было полно мужчин самых разных рас примерно в равных пропорциях. Они сидели на скамейках, ели, курили и разговаривали.
Мне показали окошко, где выдают еду. Я взял миску, перекусил, но не наелся. Впрочем, оказалось, что, если хочется, можно попросить добавки. Еще в том же окошке выдавали сигареты. Я взял одну пачку.
Интересно, как там Изобель и Салли, какой прием их ждал. Наверное, примерно такой же. Оставалось надеяться, что мы сможем повидаться перед сном.
Через пару часов нам велели расходиться. Всех развели по домикам, где стояли жесткие узкие койки с одним одеялом и без подушек. Изобель и Салли я так и не увидел.
Утром я разыскал домик, где они ночевали, и нам удалось провести вместе целый час. Они поведали, как плохо с ними обращались в женском общежитии, как не давали спать.
По радио в это время сообщили, что правительство пришло к соглашению с предводителями африммских боевиков, а значит, буквально на днях ситуация в стране нормализуется.
Услышав это, мы твердо решили возвращаться домой. Мы ведь только и желали, чтобы жизнь вернулась в прежнее русло, и Салли, поняв, что все взаправду, расплакалась от радости. Само сообщение, конечно, немного настораживало: дела наверняка обстоят не так радужно, как рассказывают. Впрочем, главное было попасть домой. Мы договорились: приедем, поглядим что да как, и, в случае чего, отправимся в Бристоль или даже вернемся сюда, в лагерь.
После множества препон и проволочек нам все-таки удалось встретиться с главным представителем ООН в лагере и потребовать у него разрешения уехать. Он не хотел нас отпускать: по его словам, слишком многие сейчас пытались вернуться домой. Не стоит верить всему, что говорит правительство, сказал он, и текущая обстановка куда запутаннее, чем кажется на первый взгляд. В общем, он советовал нам остаться, мы же убеждали его, что считаем свой дом безопасным местом. Наконец, чиновник предупредил нас: лагерь почти переполнен, и если мы сейчас уедем, то, вернувшись, уже не получим места.
Мы забрали машину, вещи и покинули лагерь. В наших чемоданах явно порылись, но все было на месте.
* * *
Во время второй высадки африммов я был на научной конференции в Харрогейте. Доклады в памяти практически не отложились, так как тема меня интересовала мало. Представлять наш факультет я вызвался для того, чтобы отвлечься от домашних неурядиц. В моих отношениях с Изобель наступила очередная черная полоса. В общем, помню только, что организована конференция была хорошо, и все шло точно по программе.
Дважды за обедом мне случалось сидеть за одним столиком с молодой преподавательницей гуманитарного факультета Университета Восточной Англии. Завязалось общение. Девушку звали Александра.
На второй день к нам подошел какой-то человек: как выяснилось, мой студенческий знакомец. Поздоровавшись, он подсел за наш столик. Я помнил его смутно, да и не особо-то мы дружили, так что встреча меня не сказать чтобы обрадовала. Впрочем, нашлось о чем поболтать. А вот Александра чуть ли не сразу забрала тарелку, поднос и пересела.
Остаток дня я то и дело думал о ней, гадая, не обиделась ли она на меня за что-то. Или, может, ей не хотелось общаться с тем мужчиной? Я попытался ее разыскать, но безуспешно. На ужине она тоже не появилась – видимо, решила уехать пораньше.
После ужина основная компания пошла в бар, а мне вдруг захотелось побыть одному. Я побродил по центру городка, а затем вернулся в гостиницу.
Позднее, когда я уже сидел на кровати, бесцельно глядя на экран телевизора, ко мне в номер постучали. Я открыл и увидел Александру. В руке она держала початую бутылку скотча. Мы выпили, и она рассказала мне кое-что об отношениях, связывавших ее с тем парнем, который подсел к нам за обедом. Общаться с ней было легко и приятно.
А затем мы занялись любовью. Александра провела у меня в номере всю ночь.
На следующий день конференция завершилась. Кроме небольшого пленарного закрытия, никаких официальных мероприятий не планировалось. Мы с Александрой завтракали вместе. Я понимал, что, скорее всего, больше ее не увижу, поскольку никаких планов на будущее никто из нас не предлагал. На среднем пальце левой руки у нее было золотое кольцо. Я уже стыдился всей этой истории, но ничего не мог с собой поделать: Александра мне правда очень понравилась. Именно тогда, за завтраком, по радио рассказали про вторую высадку африммов в устье Темзы, у Грейвзенда. Несколько минут мы обсуждали, какие неизбежные потрясения нас всех ждут.
Мы провели наедине еще полчаса, гуляя по скверу вокруг гостиницы. Это было чем-то вроде антракта, после которого мы попрощались, и каждый вернулся к своей жизни.
* * *
Совещание с Рафиком вышло сумбурным, и в итоге за припасами я отправился в одиночку. Решение послать нас на поиски чего-нибудь полезного для группы было импульсивным, нелогичным и еще раз подтверждало, что никакого четкого плана у Рафика нет. Моя задача звучала столь же абстрактно, как и его указания. Когда Рафик выходил из себя, речь у него становилась путаной и непоследовательной. Насколько я понял, он считал, что нам следует обзавестись каким-нибудь оружием для самообороны, но у меня не было ни малейшего представления, с чего начать поиски. Кроме того, брошенный городок, в который он меня направил, находился на оккупированной африммами части побережья, и от этого я чувствовал себя тревожно. Партизанская армия быстро разрасталась, и хотя в дневное время бойцы почти не высовывались, меня все равно преследовало ощущение, будто за мной кто-то незримо следит.
Я вышел к магазинчикам, выстроившимся в ряд вдоль дороги, примыкающей к галечному пляжу. Все они были неоднократно разграблены и представляли собой жалкие развалины с пустыми стеллажами. Только в одном я обнаружил бытовой стеклорез, по какой-то случайности не доставшийся мародерам. В отсутствие чего-то еще сколько-нибудь ценного пришлось взять его.
Потом я спустился к воде.
На берегу, обустроив лагерь из ветхих домиков и палаток, обитала группа белых беженцев. Я попытался подойти ближе и даже приветливо помахал им, но они закричали, чтобы я убирался. Пришлось уходить на запад по заброшенной набережной, пока лагерь не скрылся из виду.
Я вышел к длинной веренице бунгало, которые, судя по роскошному внешнему убранству, раньше снимали зажиточные пенсионеры. Интересно, почему беженцы не поселились здесь? Может, эти дома зачем-то нужны африканцам? Почти все бунгало стояли открытыми – заходи кто хочет. Я шел мимо и заглядывал внутрь. Еды там не было, мебель по большей части стояла на месте, хотя прочие предметы обстановки, вроде простыней и одеял, давно растащили.
Обойдя больше половины домов, я наткнулся на пустое, наглухо запертое бунгало. Любопытство толкнуло меня разбить окно и влезть в дом. В дальней комнате я заметил, что одна половица отличается от остальных. Я поддел ее ножом.
Под полом стоял ящик, доверху набитый пустыми бутылками. Каждая была подточена напильником, что делало их более хрупкими. Там же лежала стопка белья, аккуратно разрезанного на квадратные куски. В соседней комнате, тоже под полом, обнаружились десять пятигаллонных металлических канистр с бензином.
Я подумал, нужны ли нам коктейли Молотова и стоит ли рассказывать про них Рафику. В одиночку мне все это не перетащить, нужно собирать бригаду.
За то время, что я провел в группе Рафика, мы бессчетное число раз спорили о том, какое оружие нам бы больше пригодилось. Винтовки и ружья, безусловно, были идеальным вариантом, но раздобыть их невозможно – только если случайно найти или забрать у убитого военного. К тому же неясно, откуда брать патроны. У каждого из нас имелись ножи, правда, очень разного качества. Свой, например, я выточил из обычного кухонного.
Коктейли Молотова лучше всего подходят в ситуациях, когда противник находится в замкнутом помещении или на тесной улочке. Мы же постоянно перемещаемся по открытой местности: по полям, лесам и дорогам. Какой нам толк от зажигательной смеси?
С другой стороны, я искал оружие – и вот, пожалуйста. Нельзя допустить, чтобы оно попало в чужие руки. Еще хуже было бы не сказать Рафику. Если он потом найдет этот тайник, то поймет, что я либо невнимательно искал, либо решил скрыть находку. В конце концов я вернул бутылки, белье и бензин на место. Если Рафик решит, что зажигательная смесь нам пригодится, мы сюда придем и все заберем.
Туалет работал, и я им воспользовался. Краем глаза я заметил, что на стене висит шкафчик с нетронутой зеркальной дверцей, и мне в голову пришла идея. Я снял зеркало и с помощью стеклореза наделал семь толстых треугольных лезвий, концы которых потом заточил до остроты, дважды при этом порезавшись. Наконец, обернул широкую часть зеркальных ножей полосками замши, завалявшимися в сумке – получились рукоятки.
Я взял один нож и несколько раз на пробу рассек им воздух. Оружие вышло опасное, однако сложное в обращении. Таким можно не только ранить противника, но и пораниться самому, если неудачно упадешь, или стекло разобьется в драке. Нужно сообразить какие-нибудь ножны.
Я сложил самодельные ножи в стопку, чтобы завернуть их в мешковину и отнести к своим. И тут заметил, что у одного из осколков прямо возле рукоятки небольшая трещина. Такой нож быстро сломается и рассечет кому-нибудь руку, решил я и выбросил его.
Пора было возвращаться к Рафику и остальным. Вечерело, из-за низкой облачности и дымки сумерки были короче обычного. Убедившись, что вокруг тихо, я собрал добычу и направился к нашему лагерю.
Прогулка по пляжу подействовала на меня неожиданно умиротворяюще. Хотелось вернуться туда еще раз. Надо будет обязательно подать идею Рафику. Может, займем пустующие бунгало или даже объединимся с той другой группой беженцев.
По дороге назад я придумывал, как все это преподнести.
* * *
Я прятался под крышей амбара, потому что мой брат Клайв сказал, что за мной охотится чудище. Мне не было еще семи. Будь я немного постарше, я бы, конечно, сумел перебороть безотчетный страх. Тогда же мне всюду мерещилось нечто жуткое, бесформенное и непременно с черной шкурой.
В общем, я затаился в укрытии, о котором никто не знал: в небольшом просвете между стопками соломенных тюков и крышей амбара. Лежа на теплой соломе, уверенный в своей недосягаемости, я успокоился и вскоре забыл про чудище, а вместо этого думал о чем-то другом, может, представлял себя летчиком или солдатом. Однако когда внизу зашуршало, я в панике решил, что это чудище, и что оно нашло меня. Шуршание продолжалось, а я лежал, застыв от ужаса. Наконец, я набрался смелости и тихонько выглянул из укрытия.
За тюками солома валялась россыпью, и на ней, обнявшись, лежали парень с девушкой. Парень был сверху, а девушка – под ним, с закрытыми глазами. Я не понимал, чем они занимаются.
Прошло несколько минут. Парень подвинулся и стал раздевать девушку. Мне показалось, что ей не очень этого хочется, но она почти не сопротивлялась. Когда они снова легли, она быстро помогла раздеться ему. Я замер и затаил дыхание. Парень опять забрался сверху, и они оба стали издавать какие-то хриплые вздохи. Девушка так и не открывала глаз, хотя ее веки время от времени подрагивали. Не помню уже, о чем я тогда думал, – помню лишь, как удивился, что девушки умеют так широко раздвигать ноги. Все женщины, которых я до этого видел – мама, тетки, соседки, – казалось, не могли развести колени больше, чем на пару миллиметров. Я по-прежнему не понимал, что происходит, но наблюдал за ними с восторгом и любопытством. Прошло еще несколько минут; они сипло застонали, тяжело задышали, потом замерли и просто лежали молча. Только тогда девушка открыла глаза и посмотрела прямо на меня.
Пройдет много лет, и мой брат Клайв будет в числе первых, кто погибнет в столкновении между британской армией и африммами.
* * *
Слова ооновского чиновника снова вспомнились мне, когда мы ехали по Северной кольцевой автодороге. По радио подтвердили, что чрезвычайное правительство Трегарта действительно пообещало предводителям африммских боевиков амнистию; впрочем, соглашаться те не торопятся. Далее, в Ирландском море задержано судно с грузом оружия, однако в итоге ВМФ пришлось его пропустить, поскольку, согласно документам, оно направлялось в Ирландию, порт Дун-Лэаре. Позднее это же судно было замечено у побережья Пембрукшира, где от него отшвартовалось несколько шлюпок с ящиками.
Африммы, ясное дело, не доверяли обещаниям правительства – с чего вдруг? Трегарт и члены его кабинета неоднократно вводили меры, притесняющие нелегальных иммигрантов. К тому же, учитывая нынешний перевес сил в пользу африммов, едва ли правительство пойдет на уступки. В вооруженных силах и без того наблюдался раскол, еще немного – и то же самое случится в рядах полиции, так что любые попытки умиротворения только бы усугубили ситуацию.
По некоторым оценкам, в распоряжение предводителей африммов, базирующихся в Йоркшире, переметнулось более четверти армейского личного состава, в том числе три бомбардировочные эскадрильи Королевских ВВС.
В следующем выпуске новостей приглашенные эксперты-политологи рассуждали о падении сочувствия к африммам среди народа и намерениях правительства перейти к более серьезным силовым действиям.
Догадаться, что что-то происходит, можно было лишь по тому, как непривычно мало машин на дорогах. Несколько раз нас останавливали полицейские патрули, но за последние месяцы мы настолько к этому привыкли, что больше не переживали. Мы заранее знали, какие будут вопросы, и научились отвечать на них четко и без запинки.
Меня, правда, тревожило, что в составе патрульных подразделений много гражданских из запаса. Ходили слухи о разного рода злоупотреблениях, например, будто бы чернокожих просто так задерживали, сажали в «обезьянник» и выпускали только через несколько суток. То и дело поступали жалобы на побои и бесчеловечное обращение. С другой стороны, преследованию также подвергались и белые, которых подозревали или уличали в антиафриммской деятельности. Вообще, поведение полицейских было настолько непредсказуемым и непоследовательным, что мне порой казалось: пускай бы их официально разделили на тех, кто за и кто против иммигрантов. Не самый хороший выход, зато всем все сразу станет понятно.
К западу от Финчли мы сделали остановку: надо было пополнить бак. Я рассчитывал, что моего запаса бензина хватит надолго, но за ночь в ооновском лагере две канистры, как выяснилось, слили. Пришлось опорожнить последнюю. Изобель и Салли я ничего про это не сказал, поскольку надеялся приобрести еще бензина по дороге, вот только в тот день ни одной работающей заправки мы так и не встретили.
Пока я переливал топливо в бак, из здания неподалеку вышел мужчина и, размахивая пистолетом, обвинил меня в сочувствии африммам. Я спросил, чем вызваны подобные подозрения, а он ответил, что в сложившейся обстановке так спокойно разъезжать на автомобиле могут лишь те, кто заручился поддержкой той или иной политической группировки.
Я сообщил об этом происшествии на ближайшем полицейском блокпосту, но мне посоветовали не обращать внимания.
По мере приближения к дому на всех нас начала сказываться тревога. Салли ерзала на сиденье и просилась в туалет. Изобель курила сигарету за сигаретой и раздраженно огрызалась. Я же то и дело замечал, что почему-то гоню быстрее положенного.
Чтобы разрядить напряжение, я завернул к торговому центру недалеко от дома, где можно было воспользоваться общественным туалетом. Пока Изобель водила Салли, я включил приемник и прослушал очередной выпуск новостей.
– А если мы не сможем заехать на улицу, что тогда? – спросила Изобель, вернувшись в машину.
До сих пор мы предпочитали это опасение не озвучивать.
– Николсон нас послушает, я уверен.
– А если нет?
– По радио только что сказали, что африммы согласны на условия амнистии, но освобождать брошенные дома отказываются.
– Что значит «брошенные»?
– Боюсь, ничего хорошего.
– Папа, мы уже приехали? – спросила Салли с заднего сиденья.
– Почти, доченька, – ответила Изобель.
Я завел двигатель, и мы тронулись. Через несколько минут доехали до своей улицы. Полицейских фургонов и армейских грузовиков не было, но обвитая колючей проволокой баррикада осталась. Напротив нее на обочине стоял темно-синий фургон с телевизионной камерой на крыше. Рядом сидели двое: один смотрел в камеру, другой держал длинную штангу с микрофоном, – оба в бронежилетах. Перед камерой и по бокам стояли толстые плексигласовые щиты.
Не глуша двигатель, я остановился неподалеку от баррикады, нажал на клаксон – и в следующее же мгновение пожалел об этом. Из ближайшего дома вышли пятеро чернокожих мужчин с винтовками и направились к нам. Африммы.
– Дьявол… – прошептал я.
– Алан, иди, поговори с ними. Может, наш дом они не занимали?
Изобель была на грани истерики, ее голос дрожал. Я продолжал сидеть, не сводя глаз с африммов. Они выстроились за баррикадой и равнодушно смотрели на нас.
Изобель снова меня подтолкнула. Я вышел из машины.
– Мы живем в доме номер сорок семь. Пропустите нас, пожалуйста, – сказал я. Они молчали. – Моя дочь больна, ей нужно в постель.
И снова тишина.
Повернувшись к съемочной группе, я крикнул:
– Скажите, сегодня кто-нибудь здесь проезжал?
Никто не ответил. Звукооператор направил микрофон в нашу сторону и, взглянув на записывающую аппаратуру, слегка покрутил ручку.
Я снова обратился к африканцам.
– Вы меня понимаете? Мы хотим попасть домой.
После долгой паузы один из мужчин сказал с сильным акцентом:
– Уходите!
Он вскинул винтовку.
Я побежал к машине, почти прыгнул в нее и тут же дал газу, делая широкий разворот на пустынном шоссе. Когда мы проезжали мимо кинокамеры, афримм выстрелил. Лобовое стекло пошло мелкими трещинами, из-за которых ничего не было видно. Я с размаху ударил по стеклу рукой, и нас с Изобель осыпало осколками. Она закричала и, закрывая голову руками, сжалась в комок. Салли сзади обхватила меня за шею и стала что-то вопить прямо мне в ухо.
На углу я немного притормозил и, наклонившись вперед, оторвал от себя дочку. Посмотрев в зеркало, я увидел, что репортеры повернули камеру нам вслед и продолжают снимать.
* * *
На пляже в Брайтоне собралось много народа. Мы наблюдали за старым судном, которое дрейфовало по Ла-Маншу, накренившись на один борт. В газетах сообщалось, что крен составляет двадцать градусов. Судно стояло далеко от берега, опасно покачиваясь на волнах. Неподалеку дежурили спасательные катера из Хоува, Брайтона и Шорема, ожидая разрешения взять его на буксир. Мы же на берегу ждали, когда оно начнет тонуть. Многие приехали издалека специально ради этого зрелища.
* * *
Я добрался до лагеря, не попавшись по дороге ни одному патрулю. Выгадав момент, подошел к Рафику и отдал ему стеклянные ножи.
Критически осмотрев результат моих трудов, он с неохотой похвалил меня за изобретательность. Затем взял нож в правую руку, взвесил, взмахнул, проверил, как тот заходит за пояс. Лицо Рафика стало еще более хмурым, чем обычно. Я хотел было извиниться за грубость выделки, мол, не нашлось подходящих материалов и инструментов, но поскольку он и так все это понимал, я промолчал.
Его критика носила скорее политический, нежели практический характер.
Чуть позже я увидел, как Рафик выбрасывает ножи, поэтому про тайник с коктейлями Молотова решил не рассказывать.
* * *
Подростком я, как и многие мои сверстники, прошел через немало загадочных стадий, из которых состоял процесс полового созревания.
Рядом с домом, где я жил тогда с родителями и братьями, был большой пустырь, заваленный стройматериалами и разрытый бульдозерами. Местные говорили, что там собирались построить новый жилой квартал, однако по какой-то причине работа застопорилась, и мы с друзьями облюбовали это место для своих игр. Официально, конечно, детям лазить туда запрещалось, но с таким количеством укромных уголков нам без труда удавалось скрываться от взрослых, будь то родители, соседи или участковый.
Меня неоднократно посещали мысли, а не бросить ли это ребячество и взяться за ум. Клайв, мой старший брат, поступил в хороший университет и уже семестр там отучился. Эдвард, мой младший брат, ходил в одну школу со мной, был отличником и вообще умным пареньком. Я понимал, что если хочу пойти по стопам Клайва, то должен посвящать больше времени учебе, вот только душа и тело не желали сидеть на месте. Ноги то и дело несли меня на стройку, где я и пропадал с мальчишками на год-два младше, но из другой школы.
При этом всегда оказывалось, что во многих вопросах те ребята куда продвинутее меня. Почему-то именно они предлагали, чем заняться, а я лишь соглашался. Новые игры и увлечения постоянно придумывал кто-то другой, а я если и вливался, то самым последним. Неудивительно, что все тут же становилось для меня скучным и неинтересным.
Разрываясь между тем, кем я был и кем хотел стать, я не преуспевал ни в том, ни в другом.
И точно так же, когда по вечерам с нами стали гулять соседские девчонки, я очень поздно заметил, как их присутствие изменило компанию вообще и каждого из нас в отдельности.
Так случилось, что одну из девчонок я уже знал. Ее звали Тамсин. Наши родители общались, и мы иногда ходили друг к другу в гости. Впрочем, даже если между нами и были какие-то отношения, то лишь платонические, не всерьез. Знакомиться с девушкой через родителей – так себе вариант, и я не испытывал к Тамсин никакого влечения. Когда она с подругами в первый раз появилась на стройке, я даже не подумал воспользоваться своим преимуществом перед другими ребятами. Напротив, при виде ее мне стало стыдно, будто она каким-то таинственным образом разболтает моим родителям, чем мы здесь занимаемся. Я даже притворился, что не узнал ее.
Первый вечер прошел как-то неуклюже и по-дурацки, за бессмысленной и глупой болтовней. Девчонки делали скучающие лица, а мы с ребятами как будто бы не замечали их. Такое повторилось еще несколько раз.
Потом родители забрали меня куда-то на выходные, а по возвращении я заметил, что общение с девчонками перешло в более физическую стадию. Ребята стали приносить из дома пневматические винтовки, чтобы впечатлить девчонок меткостью. То и дело вспыхивали шутливые ссоры, которые порой заканчивались борьбой или дракой.
И даже тогда до меня не дошло, что все это – часть первого сексуального опыта.
Однажды кто-то из мальчишек принес колоду карт. Мы немного поиграли в разные детские игры, но вскоре нам наскучило. Тогда одна из девчонок сказала, что знает вариант фантов с картами. Она забрала колоду и стала раздавать всем по карте, на ходу объясняя правила. Принцип очень простой: первые мальчик и девочка, которым достанутся одинаковые карты – допустим, дама и дама или семерка и семерка – должны выполнить совместное задание.
Я не очень понял, но карту взял. Тройка. После первого круга пары не получилось, поскольку вторую тройку вытянул другой мальчик. Остальные начали отпускать по этому поводу скабрезные шуточки. Я смеялся вместе со всеми, хотя юмора не оценил. На следующем круге еще одна тройка досталась Тамсин.
После небольшого спора все сошлись на том, что победил я, раз первым вытянул тройку. Я был горд, но вместе с тем почему-то напуган. Не понимая, что именно от меня требуется, я попытался отправить вместо себя второго мальчика. Однако девочка, которая предложила эту игру, сказала, что правила есть правила: мы с Тамсин должны пойти за какой-нибудь соседний отвал и провести там десять минут наедине.
Под общее улюлюканье мы поднялись и пошли. Оказавшись за отвалом, я по-прежнему не знал, что мне делать. И вот стою я в первый раз в жизни наедине с девушкой и молчу, как истукан.
– Ну, чем займемся? – спросила Тамсин.
– Не знаю, – ответил я.
Она села на землю, а я так и остался стоять, то и дело поглядывая на часы.
Я задал Тамсин несколько вопросов, совершенно банальных. Я бы все это знал, если бы не избегал общения с ней: например, сколько ей лет и какое у нее второе имя. Мы поговорили про школу, в которой она учится, и что она собирается делать после выпуска. На мой вопрос, сколько у нее было парней, Тамсин ответила: много. Потом она спросила, сколько у меня было подружек; я сказал: несколько.
Наконец, десять минут истекли, и мы вернулись к остальным.
Была моя очередь сдавать. Я перетасовал колоду и раздал всем по карте. На этот раз победители определились без споров: две десятки вышли в первом же круге. Мальчик с девочкой поднялись и ушли за отвал. В ожидании их возвращения мы стали рассказывать похабные анекдоты. Хоть я и смеялся вместе с остальными, чувствовалось в компании какое-то напряжение. Я не переставая гадал, что же происходит сейчас там, за холмом земли.
Десять минут прошли, а те двое так и не возвращались. Ушла, кстати, девчонка, которая и затеяла эту игру. Мы думали, уж она-то будет играть по правилам. Кто-то из ребят предложил пойти за ними, и все с криками и свистом побежали к отвалу. Тут, однако, парочка объявилась, и мы снова сели тасовать колоду. Я заметил, что ни на нас, ни на друг друга те двое стараются не смотреть.
На третьей раздаче одинаковые карты достались Тамсин и еще какому-то парню. Они встали и пошли за отвал. Так меня вдруг взбесила эта игра!.. Сказав остальным, что мне надоело, я пошел в сторону дома.
Отойдя на достаточное расстояние, я сделал круг по пустырю и подобрался к отвалу с другой стороны. Оттуда, из-за груды некрашеных оконных рам, я мог незаметно наблюдать за парочкой.
Они стояли друг напротив друга. Поверх платья на Тамсин, как и до этого, был надет школьный пиджак. Парень спиной перекрывал мне обзор. О чем они разговаривали, я не слышал.
Вдруг парень обхватил Тамсин руками и повалил на землю. Какое-то время они поборолись, как у нас частенько бывало. Поначалу Тамсин отбивалась, но через минуту откатилась на спину и замерла. Парень лег рядом и осторожно положил руку ей на живот. Тамсин отвернула голову в мою сторону; глаза у нее были зажмурены. Парень распахнул ее пиджак и провел рукой по мягкому изгибу грудей. Поскольку Тамсин лежала на спине, они выглядели не такими объемными, как обычно. Парень застыл, не сводя с них глаз, и я почувствовал, как у меня твердеет в штанах. Я сунул руку в карман и поправил пенис, чтобы не так жало, а парень в это время схватил Тамсин за сиську и принялся жать ее, все сильнее и быстрее. Наконец, девушка вскрикнула, как будто от боли, и повернулась к нему. Теперь она лежала спиной ко мне, но я видел, как она положила ладонь парню между бедер и стала наглаживать.
Я чувствовал нарастающее возбуждение и хотел досмотреть, что будет дальше, но все-таки происходящее мне не нравилось. Осторожно покинув укрытие, я пошел в обратном направлении. Пенис я по-прежнему сжимал в руке, и вдруг из него брызнуло. Я вытерся платком, а потом вернулся к остальным. На расспросы я ответил, что дошел до дома, но родителей не было.
Через несколько минут вернулись Тамсин с тем парнем. Как и парочка до них, они старательно отводили глаза.
Ребята настроились на очередную раздачу, однако девчонки сказали, что им наскучило, и засобирались домой. Мы уговаривали их остаться, но они все-таки ушли. До нас доносилось хихиканье. Убедившись, что они точно ушли, парень, который был с Тамсин, расстегнул ширинку и показал свой пенис – напряженный и густо-красный. Он стал надрачивать его рукой, а мы с завистью смотрели.
На следующий вечер девчонки снова пришли к нам на стройку. К тому времени я уже наловчился тасовать карты так, чтобы постоянно сдавать себе нужные. В итоге я потрогал всех трех девчонок за грудь, а одна даже позволила мне запустить руку ей под лифчик и пощупать соски. А потом карты как-то стали не нужны, и мы просто по очереди уединялись за отвалом. Не прошло и двух недель, как я занялся с Тамсин сексом. Отдельным поводом для гордости было то, что, кроме меня, она больше никому не дала.
Вскоре в школе начались экзамены, и я их завалил. Чтобы все пересдать, пришлось как следует взяться за учебу. Общение с компанией само собой сошло на нет. Через два года я поступил в университет и уехал из дома. За все это время мы с Тамсин виделись только дважды, оба раза в семейном кругу. Стоило мне посмотреть на нее, как она отворачивалась.
* * *
За то время, что я простоял на пляже, ветер заметно окреп. Волны, разбиваясь о галечный берег, окатывали собравшихся брызгами. Я был в очках, и уже через несколько минут стекла покрылись соляной пленкой. Я снял очки, убрал их в футляр и сунул в карман.
Море было подернуто белыми бурунами вплоть до самого горизонта. При этом светило солнце, хотя с юго-запада надвигалась черная туча. Я и еще куча народа наблюдали за дрейфующим судном.
У кого-то в толпе был транзисторный приемник. По радио сообщали, что спасателям приказано не подходить к судну и возвращаться к пристани. Мы видели, как их шлюпки нарезают круги; спасатели явно не могли решить: подчиниться приказу с берега или исполнить свой долг и помочь терпящим бедствие. В это время поодаль от дрейфующего судна возник фрегат Королевского ВМФ. Он не совершал никаких активных действий, просто шел на сближение.
Пляж вокруг был запружен народом. Обернувшись, я попытался прикинуть, сколько человек собралось. Подсчету это количество не поддавалось, к тому же я слишком низко стоял. Народ толпился вдоль Кингс-роуд и на набережной, еще несколько сотен собрались на Дворцовом пирсе и, навалившись на ограждение, смотрели на кренящееся судно.
В четыре минуты третьего спасательные шлюпки направились к пристани. По моим оценкам, меньше, чем через пятнадцать минут судно зайдет за пирс, где его уже не будет видно. Я поразмыслил, не выбрать ли мне другую точку обзора, но решил остаться.
Не прошло и десяти минут, как судно затонуло. Сначала оно еще сильнее накренилось, пассажиры толпой стали прыгать за борт. А потом оно исчезло, быстро и незрелищно. Меня ужаснул звук: глухой и низкий рокот выталкиваемого изнутри воздуха.
Как только судно скрылось под водой, подняв большую волну, зрители начали расходиться. Через пятнадцать минут пляж и набережная практически опустели. Я задержался, отчего-то завороженный ветром, шумом прибоя, волнами и воспоминаниями о том, чему мне довелось стать свидетелем. Впервые в жизни я своими глазами наблюдал кораблекрушение.
Ушел я с пляжа только через час или около того, испугавшись вида африканцев, которым все-таки удалось доплыть до берега. «Скорая» и гуманитарные работники были готовы их принять, но лезть в воду и помогать никто не стал. Живыми на пляж выбрались меньше пятидесяти человек. Знакомые из Брайтона мне потом рассказывали, что потом еще несколько дней приливами выносило сотни тел. Они покачивались на воде с раздутыми от трупных газов животами.
* * *
Стемнело. Я свернул на обочину и остановился. Без лобового стекла в машине стало слишком холодно, к тому же снова кончался бензин. Мне не хотелось обсуждать эту ситуацию с женой в присутствии Салли.
На всякий случай мы выехали из Лондона на север и оказались в окрестностях Каффли. Я обдумывал вариант возвращения в ооновский лагерь, но за последние сутки мы уже совершили две долгие и крайне утомительные поездки, и если была хоть какая-то альтернатива, то следовало ею воспользоваться. Прощальные слова чиновника не обнадеживали, бензин заканчивался… в общем, требовалось что-то придумать.
Мы достали из чемоданов самые теплые вещи и надели на себя. Салли легла на заднее сиденье, мы с Изобель укрыли ее всем, чем только можно, а затем молча ждали, докуривая оставшиеся сигареты, пока дочка уснет. За весь день мы так нормально и не поели, если не считать шоколадок, найденных в автомате у какого-то закрытого магазина. Заморосило, пошел дождь, а через несколько минут вода стала попадать внутрь салона, стекая по приборной панели на пол.
– Нужно ехать в Бристоль, – сказал я.
– А как же наш дом?
Я вздохнул.
– Его уже не вернуть.
– Нет, в Бристоль не поедем.
– Куда тогда?
– Назад, в ооновский лагерь. Побудем там хотя бы пару дней.
– А потом?
– Не знаю. Так не может продолжаться долго. Нельзя ведь просто взять и вышвырнуть людей из дома. Должен быть закон…
– Закон не поможет, – возразил я. – Все зашло слишком далеко. Жилья и так не хватало, а из-за африммов проблема стала еще острее. Я не представляю себе условий, на каких они бы согласились оставить дома, которые успели занять.
– Ясно, – сказала Изобель.
Говорить дальше смысла не было. Последние недели жена вела себя так, словно проблемы с африканскими беженцами вовсе не существовало, и это еще больше отдаляло нас друг от друга. В отличие от нее, я появлялся на улице, ходил на работу, а потому постоянно наблюдал, как распадается наше общество. Изобель же решила отгородиться от реальности, мол, если делать вид, будто происходящее тебя не касается, то все пройдет стороной. Даже теперь, когда стало ясно, что дома у нас больше нет, она предпочла, чтобы решения принимал я, без ее вмешательства.
Перед тем как мы стали думать о ночлеге, я решил сходить к ближайшему дому. Окна в нем горели теплым янтарным светом. Стоило мне зайти за калитку, как меня вдруг охватил безотчетный страх, и я, развернувшись, ушел. Дом выглядел солидно и респектабельно, при моем появлении тут же зажегся прожектор. Я отчетливо представил, как выгляжу со стороны: небритый, в засаленной одежде. Даже не берусь угадывать реакцию обитателей дома, если бы я постучал в дверь. Хаос, творящийся в Лондоне, был чужд этим местам: здесь еще никто не сталкивался ни с бездомными, ни с воинственными африканцами.
Я вернулся в машину.
– Поедем ночевать в гостиницу.
Изобель не ответила, молча глядя в темноту за окном.
– Тебе все равно?
– Не знаю.
– Твои предложения?
– Останемся тут.
Дождь по-прежнему заливал в проем на месте лобового стекла. За несколько минут, проведенные снаружи, я успел насквозь промокнуть. Я надеялся, что Изобель разделит пережитую мной тревогу… но одна мысль о том, что ее рука коснется моей, заставила меня внутренне содрогнуться.
– А как же Салли? – спросил я.
– Она спит. Ладно, хочешь в гостиницу – я не против. Денег хватит?
– Хватит.
Я еще раз обдумал варианты. Оставаться здесь или ехать дальше? Я взглянул на часы: только-только перевалило за восемь. Если спать в машине, то в каком состоянии мы будем наутро?
Я завел двигатель и медленно поехал в центр Каффли. В первой гостинице, которую мы нашли, мест не оказалось; во второй – тоже. Нам подсказали адрес еще одной, но по дороге кончился бензин. Я свернул на обочину и заглушил двигатель.
Вот все и решено, подумал я с некоторым облегчением. Мне, честно говоря, и не верилось, что нас примут хоть где-нибудь: в обеих гостиницах меня не покидало ощущение, будто нас оценивают. Наверняка у них были свободные номера, просто нам не хотели их сдавать. Изобель закрыла глаза; на ее лице и одежде блестели капли дождя, которые задувало с улицы.
Какое-то время мы посидели со включенной печкой, пока двигатель совсем не остыл. Изобель сказала, что устала и хочет спать. Поджав ноги, она устроилась поперек сиденья и положила голову мне на колени. Я обнял ее, чтобы согреть, а сам стал искать положение поудобнее.
Через несколько минут Изобель вроде бы забылась сном. Я провел ночь ужасно: мне было холодно, сыро и неудобно. Спина и шея затекли. Жена с дочкой спали или делали вид, что спят. Салли время от времени ворочалась на заднем сиденье. Из нас троих этой ночью выспалась, пожалуй, только она.
* * *
Рафик протянул мне найденную им листовку. В ней Королевские сецессионистские ВВС уведомляли мирное население, что за десять минут до каждой бомбежки будут производиться три предупредительных бреющих пролета.
* * *
Я ехал по дороге через заповедник Нью-Форест. Вечерело, сгустившиеся сумерки намекали, что я слишком задержался. Признаться, поступок мой был опрометчивым, а учитывая нынешнюю обстановку, и вовсе глупым.
Рядом сидела девушка по имени Патти. Мы с ней провели день в гостинице в Лимингтоне и теперь спешили вернуться в Лондон до девяти. Патти спала, легко касаясь головой моего плеча.
На въезде в Саутгемптон я резко затормозил. Девушка проснулась. Путь нам преграждала самодельная баррикада из двух старых автомобилей и груды строительного мусора. Тогда до меня дошло, почему последние полчаса я не видел ни одной попутной машины. Наверное, местные были в курсе, что дорога перекрыта, и знали, как объехать. Пришлось разворачиваться и делать большой крюк по проселку сначала в Винчестер, а оттуда – на лондонское шоссе. В гостинице нас предупреждали, что проезд через Бейзингстоук и Кемберли также затруднен, а значит, надо было объезжать и их тоже.
Юго-западный въезд в Лондон оказался свободен; зато там стояло множество полицейских, которые останавливали машины для досмотра. Я уже несколько месяцев не выезжал из города и потому не представлял, что свободу передвижения ограничили до такой степени.
Высадив Патти в Баронс-Корт у дома, где она снимала квартиру, я поехал к себе в Саутгейт. В Кингс-Кросс меня остановили и обыскали.
Домой я добрался только в первом часу ночи. Изобель легла спать, не дождавшись меня.
* * *
Утром я пошел в первый попавшийся дом, где уговорил хозяина слить мне немного топлива из бака. Я щедро заплатил. Он подсказал, что неподалеку есть заправка, на которой продают бензин, – вчера, по крайней мере, продавали, – и показал, куда ехать.
Я вернулся к машине и сообщил своим, что, если повезет, мы доедем до Бристоля еще засветло.
Я знал, что Изобель не хочет к родителям, однако на мой взгляд, это был наш единственный выход. Дом уже не вернуть, а Бристоль одновременно и далеко от Лондона, и знаком нам по многочисленным поездкам. В общем, попытаться стоило.
Я перелил бензин из канистры в бак и завел двигатель. По пути на заправку мы слушали новости по радио. Сообщалось, что несколько подразделений полиции Западной Мерсии перешли на сторону африммов – впервые о таком стало известно официально. В общей сложности ушло около четверти сотрудников. Сегодня должна была состояться встреча главных констеблей с командованием африммов и чиновниками из министерства внутренних дел, после которой будет сделано правительственное заявление.
Владелец заправки предложил, по его словам, стандартную расценку: пять фунтов за галлон. Нам хватило, чтобы запасти достаточно бензина до Бристоля – при условии, что поедем напрямик.
Когда я сказал об этом жене и дочке, они обрадовались. Договорились ехать сразу же, как только чего-нибудь поедим.
В городке Поттерс-Бар мы нашли кафешку, где нам подали хороший завтрак и по нормальной цене. Про африммов там не говорили, а по радио передавали только веселую музыку. По просьбе Изобель нам налили полный термос горячего кофе. Умывшись в туалете, мы тронулись в путь.
День выдался прохладным, зато без дождя. Отсутствие лобового стекла создавало неудобства, но ехать не мешало. Радио я решил не включать: стремление Изобель не думать о том, что творится вокруг, передалось и мне. Я в какой-то мере проникся ее пассивностью, хотя и понимал, как важно сейчас следить за развитием событий.
Появился новый повод для беспокойства: непрекращающееся дребезжание в двигателе. В последнее время у меня просто не получалось обслуживать машину должным образом. Остальным я ничего говорить не стал, тихо надеясь дотянуть до Бристоля.
Самое сложное, как мне казалось, – это покинуть пригороды Лондона, минуя баррикады. Поэтому я не стал соваться на северо-западные окраины, а поехал сначала через Уотфорд, где баррикад не было, затем через Рикмансворт, где баррикады были, но проезжающих насквозь пропускали, и, наконец, через Амершем и Хай-Уиком на юг, к Хенли-на-Темзе. Чем дальше от Лондона, тем более мирным и спокойным выглядело все вокруг. Мне даже удалось приобрести еще бензина и наполнить запасные канистры.
Пообедали мы в очередной кафешке на въезде в Рединг, после чего выехали на шоссе, рассчитывая добраться до Бристоля задолго до темноты.
Едва мы покинули пределы Рединга, как дребезжание вдруг усилилось, и двигатель стал терять обороты. На первом же подъеме машина заглохла. Я, как мог, осмотрел зажигание и систему подачи топлива, но они были в порядке. Значит, все-таки не выдержал клапан.
Я уже собирался рассказать обо всем жене и дочке, когда к нам подъехал патрульный автомобиль.
* * *
Несколько месяцев я подрабатывал барменом в пабе в Ист-Энде: нужны были деньги. Я тогда готовился к выпускным экзаменам, а от гранта уже ничего не осталось.
Помнится, меня удивило, сколько в Ист-Энде разнообразных общин, почти каждой мыслимой расы и вероисповедания. До того как устроиться в паб, я полагал, что в этой части Лондона живут сплошь англичане, ну или по крайней мере белые. Посетители паба в какой-то степени отражали космополитичность округи, хотя хозяину это явно не нравилось. У барной стойки часто возникали ссоры. Если доходило до драки, бармену надлежало убрать со стойки бутылки и стаканы. Также в мои обязанности входило разнимать дерущихся.
Так я проработал три месяца. Затем хозяин нанял поп-группу выступать по выходным, и все распри вдруг сошли на нет. Публика тоже заметно преобразилась.
Пожилых завсегдатаев с закоснелыми взглядами и вечными поучениями сменила молодежь, перестали появляться представители меньшинств. Не прошло и двух месяцев, как подавляющее большинство посетителей стали составлять люди не старше тридцати.
В моде тогда были наряды цветастые, броские, однако наша публика так практически не одевалась. Молодые люди приходили в основном в костюмах или пиджаках, без галстуков, а девушки – в традиционных платьях. До меня быстро дошло, что таким образом они демонстрируют врожденный консерватизм, который присущ жителям этой части Лондона.
Хозяина паба звали Гарри. В молодости он был профессиональным борцом, на стене за баром висело несколько фотографий: Гарри в атласных халатах и с длинной косичкой. При мне о своей карьере на ринге он ни разу не рассказывал, хотя его супруга как-то упомянула, что этот паб он купил целиком на заработанные с боев деньги, без кредита.
Иногда по выходным после закрытия паба заходили друзья Гарри, в основном его возраста. Они садились у бара и выпивали. Хозяин тогда просил меня задержаться и обслужить их за дополнительную плату. Вслушиваясь в разговоры, я узнал, что их предрассудки и взгляды на расовые и политические вопросы отличаются тем же консерватизмом, которого придерживается, судя по внешнему виду, и остальная публика.
Несколько лет спустя основными сторонниками партии Джона Трегарта станут как раз жители районов, отличающихся большим расовым разнообразием.
* * *
После того как увели женщин, мы еще на несколько дней задержались в лагере. Никак не могли решить, что делать дальше. Многие лишились жены или спутницы. Мы понимали: если просто взять и пойти за африммами, ничем хорошим это не кончится. Какой-то общий инстинкт заставлял нас оставаться на месте, где мы потеряли женщин. У меня все валилось из рук, а в голову постоянно лезли тревожные мысли о Салли. Судьба Изобель, признаюсь, волновала куда меньше. Ни о чем дельном я думать не мог; силы целиком уходили на то, чтобы пережить очередной день, полный горя, чувства вины, тревоги и отчаяния. Поэтому, когда начались разговоры о том, что мы сворачиваем лагерь, я испытал нечто вроде облегчения. Прошел слух, будто Рафик решил отвести нас к Августину.
Все сразу засуетились, начали паковать вещи и складывать их на тачки. Во время сборов Рафик подошел ко мне и подтвердил: да, мы и правда идем к Августину – полезно, мол, для общего самочувствия.
Он не ошибся: буквально через пару часов мы воспрянули духом и первые несколько миль прошли в приподнятом настроении, несмотря на резко упавшую температуру.
* * *
– Имя-то у тебя есть? – спросил я.
– Есть.
– Так, может, скажешь?
– Не скажу.
– Ну давай…
– Не буду. Тебя как зовут?
– Алан. Теперь твоя очередь.
– Нет.
– Есть какая-нибудь объективная причина, запрещающая тебе говорить свое имя?
– Да. То есть, нет.
– Тогда в чем дело?
– Отстань.
Это был мой первый разговор с будущей супругой, задавший тон всем нашим последующим беседам. Ее звали Изобель. Нам тогда было по девятнадцать.
* * *
Новости о событиях в Африке никого не удивляли: трения по поводу территории, пищи, воды и природных ископаемых нарастали уже много лет. Однако трагедии мирового масштаба, последствия которой потрясут остальное человечество до глубины души, предугадать не мог никто.
Очень скоро стало ясно, что африканская катастрофа затронет все уголки мира. По мере того как среди жителей Великобритании крепло понимание, что с наплывом беженцев их жизнь коренным образом изменится, страну охватывало беспокойство. Мне вспоминались рассказы родителей о первых месяцах Второй мировой войны.
Внешне все как будто бы шло своим чередом: магазины работали, аэропорты тоже, поезда и автобусы курсировали по расписанию, на заправках всегда был бензин, народ ходил на работу и отдыхал за границей. Разговоры, однако, постоянно сводились к тем ужасным жертвам и разрушениям, которые несла за собой бушующая в Африке война, а также к неизбежности гуманитарного кризиса. Затем – увы, слишком поздно – стали говорить о том, к чему приведет появление в стране сотен тысяч беженцев.
Серьезность ситуации я осознал только благодаря своим студентам в колледже. На потоке у нас училось много иностранцев, большей частью как раз из Африки. Естественно, их очень беспокоило то, что происходит на родине, но проблема нашла отклик и у остальных учащихся. Наш колледж не был исключением: студенческие забастовки с требованиями, чтобы власти оказывали помощь беженцам, проходили в университетах по всей стране.
Очень скоро мои занятия почти целиком стали уходить на споры и обсуждения. Дома же мы притворялись, будто ровным счетом ничего не происходит. Изобель упорно зарывалась головой в песок. События настолько потрясли ее, что она не желала даже слушать про международную обстановку.
По мере того как кризис набирал обороты, через газеты, радио и телевидение потоком шли сообщения об официальных рекомендациях, предупреждениях и чрезвычайных декретах. Страну захлестнула волна социальных, экономических и политических пертурбаций. Все чаще звучали призывы к спокойствию и объявления о наборе добровольцев на гуманитарную работу. В экстренном порядке вводились запреты на выезд за границу, а также на приобретение валюты и иностранных активов. Ходили слухи о возвращении срочной службы и даже талонов на некоторые товары. Продукты питания еще не нормировали, но ассортимент в магазинах стремительно сокращался. Ограничивалось время работы пабов и ресторанов. Жителей районов призывали организовывать дружины и патрули. Полиции разрешили носить огнестрельное оружие. Выросли налоги: поначалу незначительно, затем – не прошло и нескольких месяцев – сразу вдвое.
Мы старались жить по-прежнему, как и все вокруг. Повседневная рутина никуда не делась. В чем-то моя жизнь совсем не изменилась: в самый разгар африканского кризиса у меня закрутился страстный роман с третьекурсницей по имени Лусилла. Вспоминаю и кажется невероятным, как такое возможно, когда в стране все идет кувырком. С другой стороны, тогда каждый стремился делать вид, будто ничего не случилось. Для меня олицетворением этого стремления была Лусилла. Впрочем, она довольно скоро охладела ко мне и весьма грубо бросила, причем в тот самый момент, когда Изобель уговаривала меня продать дом и уехать из Лондона. В обеих ситуациях я повел себя по-скотски.
После того как в территориальные воды Великобритании вошло третье судно с беженцами, острый жилищный кризис перечеркнул любые планы о переезде. Согласно очередному чрезвычайному декрету, покупка и продажа жилья в черте крупных городов без ведома органов власти была строго запрещена.
Все вдруг живо заинтересовались побережьем. О появлении больших судов говорили в новостях, но круглые сутки к берегам Великобритании приставали и маленькие лодчонки. Тех беженцев, которых удавалось поймать, распределяли по брошенным муниципальным зданиям: закрытым военным базам, аэродромам, госпиталям, тренировочным лагерям, даже тюрьмам. Многие, однако, скрывались от миграционных работников, из-за чего официальной помощи не получали. Таких беженцев тянуло в крупные города, и местным властям приходилось ломать голову, где их разместить.
Естественно, часть населения относилась к этим отчаявшимся и несчастным с ненавистью, даже злобой. Здания, где укрывались иммигранты, порой поджигали, молодежные банды устраивали по ночам охоту на приезжих. Большинство британцев, впрочем, выступали против подобного, продолжая исповедовать традиционные принципы толерантности. Однако закрывать глаза на вспышки насилия во всех уголках страны было нельзя.
С кем бы я тогда ни общался, почти каждый размышлял в том же духе. Людей ужасало положение беженцев, те обстоятельства, которые заставили их бросить свою страну, и те условия, в которых им приходилось жить теперь. Простые англичане оказывали любую посильную помощь добровольческим и правительственным организациям, расселявшим африканцев, но вместе с тем не могли отделаться от опасений, как появление без малого двух миллионов бездомных иммигрантов скажется на жилье, рабочих местах и повседневной жизни. Они с трудом представляли, что произойдет в школах, где учатся их дети, в больницах и так далее. Воспитанным в толерантности британцам не оставалось ничего иного, кроме как закрывать глаза на происходящее, надеясь, что проблема разрешится сама собой. С этой точки зрения, поведение Изобель теперь казалось мне понятнее.
Окруженный такими же людьми в колледже и на кафедре, постепенно я стал одним из них.
Вслед за другими высшими образовательными учреждениями страны у нас тоже создали благотворительное общество содействия африканским беженцам. Его цели были сугубо гуманитарными, и туда принимали всех. Поэтому к нам затесались люди совсем не либерального толка; они посещали собрания, пользовались нашими связями, всюду продвигая свои взгляды. Так, они передавали собранные нами сведения о благотворительных организациях – в частности, адреса – праворадикальным группам, противникам амнистии нелегалов. Таким образом, ничего путного из нашего общества не вышло, и оно очень быстро распалось. Тогда я понял, что мы совершенно упустили из виду, насколько изменились народные настроения.
Жестокие нападения с обеих сторон продолжались, и их стало так много, что отмахиваться от них было невозможно. В основной массе стычки происходили где-то далеко, в других городах, но, когда двух парней зарезали буквально в квартале от нашего дома, сомнений в серьезности происходящего больше не осталось. Как-то на выходных мы ездили в Бристоль, к родителям Изобель, и всю дорогу туда и обратно натыкались на полицейские патрули и военные кордоны. Сельская Британия, издавна считавшаяся символом спокойствия и гармонии, теперь превратилась в место, полное ловушек и опасностей.
Начали расползаться слухи, объяснявшие ряд происшествий, которые власти упорно замалчивали. В частности, говорили, что африканские иммигранты сбиваются в вооруженные формирования, что кто-то из-за границы снабжает их оружием, что формирования эти захватывают дома в городах и выгоняют оттуда жильцов.
В последние дни учебного семестра я и другие преподаватели отчаянно пытались донести свои убеждения до студентов. Они тоже хотели немало нам рассказать. А потом наступила сессия – и все.
По стране прокатилась волна забастовок трудящихся, а уличные демонстрации протеста стали регулярным явлением. Только тогда, в перерыве между семестрами, я осознал, насколько мы заблуждались. Попытки пробудить сочувствие к африммам не помогут. Да, в обществе была горстка влиятельных активистов либерального толка, но чем больше простых людей становились жертвами вооруженных африммских боевиков, тем меньше поддержки она находила.
На одной из самых массовых демонстраций в Лондоне я заметил кое-кого из своих студентов. Ребята несли большой плакат с названием нашего общества. Вообще я не собирался участвовать в шествии, однако сошел с тротуара и влился в толпу.
А в начале очередного семестра двери колледжа уже не открылись.
* * *
К нам подошли двое полицейских и сообщили, что мы находимся на закрытой территории и должны немедленно покинуть ее. Воинская часть неподалеку подняла мятеж, и скоро весь район будет оцеплен правительственными войсками.
Я сказал, что у нас сломалась машина и что никаких официальных предупреждений мы почему-то не получали.
Полицейские даже слушать меня не стали. Они еще раз повторили, чтобы мы немедленно убрались отсюда. Вскрикнула Салли: один из полицейских открыл заднюю дверь и вытащил девочку из машины. Я попытался вмешаться и получил в лицо кулаком.
Меня прижали к автомобилю и обшарили карманы. Обнаружив в бумажнике преподавательскую карточку, полицейские конфисковали мое удостоверение личности. Я было запротестовал, но без толку.
Изобель и Салли тоже подверглись обыску.
После этого полицейские выкинули наши вещи на дорогу, а запасные канистры с бензином перенесли к себе в багажник. Тут мне вспомнился один репортаж по радио, и я потребовал ордер. И снова никакой реакции от них не последовало.
Нам всучили какую-то бумажку, вроде квитанции. На одной стороне сообщалось, что мое имущество изымается как запрещенное к хранению и перевозке, но по завершении процедуры, описанной на обороте, я могу получить его назад.
На обороте был напечатан только номер телефона и три слова: «Полиция – отдел расследований».
Наконец те двое предупредили: через полчаса они вернутся. Если к тому времени мы никуда не уберемся, то за последствия они не отвечают.
Полицейские направились к своей машине, а я догнал того, кто ударил меня, и что было силы наподдал ему пониже спины. Он споткнулся и упал. Никогда такого со мной еще не было. Внутри все клокотало от страха и адреналина. Напарник того полицейского обернулся и накинулся на меня. Я попытался ударить его кулаком в лицо, но промахнулся. Мельком я разглядел, что на нем минимум трехдневная щетина. Он захватил меня за шею, повалил и, впечатав лицом в землю, стал заламывать мне руку за спиной. Первый тем временем поднялся, подошел к нам и трижды пнул меня под ребра.
На третьем ударе я сумел свободной рукой схватить его за ногу и подержать пару секунд, но он все-таки вывернулся. Я успел заметить, что он обут в обычные белые кроссовки.
У второго на куртке не было ни знаков отличия, ни личного номера. Он отпустил меня, и я упал ничком на дорогу.
После того как они уехали, Изобель помогла мне подняться и усадила на пассажирское сиденье. Потом достала салфетку и утерла у меня кровь.
Когда я, наконец, немного оправился, мы пошли через поле в направлении, противоположном тому, куда примерно указывали полицейские, сообщая нам про военный мятеж.
Бок болел страшно. Шел я, конечно, сам, но тяжести тащить не мог. Дышалось тоже через силу, и я боялся, как бы мне не переломали ребра. В итоге большие чемоданы несла Изобель, а маленький – Салли. Мне достался приемник. Я включил его, но поймал только одну волну «Би-би-си», на которой не передавали ничего, кроме музыки.
Ни жена, ни дочка не спрашивали у меня, что нам делать дальше. Мы в полной мере осознали, насколько бессильны повлиять на происходящее. Начался дождь, и мы спрятались под деревом на краю поля, испуганные и потерянные. Волна непредсказуемых событий захлестнула нас, и сопротивляться ей мы не могли.
* * *
Из «Гардиан» я узнал, что среди населения страны начинают образовываться три большие группы. Поскольку газеты так или иначе формируют мнение своих читателей, общественные перемены, описанные в статье, мне были знакомы.
К первой группе относились люди, которые уже имели неприятный опыт общения с африммами, а также убежденные расисты. Все они безоговорочно поддерживали политику правительства: вылавливать беженцев и массово выдворять их из страны.
Во вторую группу входили те, кто считал, что Великобритания служит всему миру примером толерантности и социальной интеграции, что благодаря развитой промышленности и экономике страна в состоянии приютить многочисленных беженцев, а также что в конечном счете волнения улягутся, иммигранты вольются в британское общество и всем это пойдет только на пользу. Такой точки зрения придерживались ведущие авторы «Гардиан», ее же в течение того вялотекущего периода, когда кризис только начинался, активно продвигала и редакция газеты, хотя основные события освещались вполне объективно.
И, наконец, была третья группа, считавшая, мол, пускай африканцы продолжают прибывать, вооружаются, сбиваются в ополченческие группировки и занимают чужие дома, лишь бы нас это не касалось.
Мое нежелание вмешиваться в происходящее, отчасти подкрепленное поведением жены, игнорировавшей ситуацию, автоматически причисляло меня к третьей группе.
Тем не менее я пытался разобраться, какой позиции придерживаюсь. Внутренне мне хотелось оставаться в стороне, к тому же в тот момент все мои мысли и свободное время занимал бурный роман с девушкой по имени Элоиза, но отчего-то ощущение непричастности стало меня угнетать и в конце концов заставило вступить в проафриммское общество, организованное студентами и моими коллегами по колледжу.
Однако политический и социальный климат в стране не поощрял подобных моральных соображений.
Вскоре после переизбрания кабинет Трегарта ввел массу новых законов, о которых говорилось в его предвыборной программе. В целях эффективной борьбы с так называемыми «ненадежными элементами» полиции разрешили задерживать людей и проводить обыски без объяснения причин. Демонстрации и митинги по политическим вопросам жестко контролировались, а следить за порядком помогали военные.
Тем временем к берегам Великобритании продолжали подплывать суда и лодки с африканцами. Кризис быстро набирал обороты.
После первой волны высадок правительство заявило, что нелегальных иммигрантов будут выдворять из страны, в том числе силой. Это стало причиной Пульского инцидента в Дорсете, где беженцев встречал армейский кордон. Новости о прибытии очередных двух судов просочились в СМИ, из-за чего в Пуле собралось несколько тысяч человек со всей страны. Противостояние закончилось жестоким столкновением военных с гражданскими, но африканцам все-таки дали высадиться.
Впоследствии правительство немного смягчило свою позицию: пойманных нелегалов будут доставлять в больницы, где им окажут необходимую помощь, после чего депортируют.
Радикализации общества способствовало и то, что посредством контрабанды африммы стали получать оружие. По официальной версии, иностранные державы таким образом пытались дестабилизировать обстановку. На самом же деле, внутри страны было немало группировок, стремившихся помогать беженцам. Однако появление вооруженных формирований лишь усиливало раскол.
Все это оказало непосредственное влияние на жизнь простых людей, причем не только в регионах, где орудовали подобные банды. Вскоре последовало разделение в рядах полиции, затем – в войсках и ВВС. Флот сохранил верность действующему правительству. Военный характер разгоравшегося конфликта окончательно закрепился, когда на подмогу к так называемой патриотической армии в качестве консультантов прибыло подразделение американских морпехов, а ООН объявила мобилизацию миротворческих сил.
Теперь уже никто не мог сказать, что происходящее его не касается.
* * *
– Говорят, мы идем к Августину?
– Давно пора, – проворчал мужчина, шагавший рядом со мной.
– Затосковал, что ли?
– Пошел на хрен.
Я молчал, вполуха слушая словесную перепалку. За прошедшую неделю похожие разговоры звучали по десятку раз на дню.
– Это Рафик решил. Остальные хотели ждать.
– Знаю. Молодец Раф.
– Он тоже затосковал.
– А он-то с чего? У него разве кого-то увели?
– Ага. Вроде бы он втихаря потрахивал жену Олдертона.
– Брехня.
– Правду говорю.
– А Олдертон что?
– Даже не догадывался.
– Да, ты прав, – гоготнул второй. – Что-то я в самом деле истосковался.
– Не ты один.
И они оба визгливо, по-старушечьи засмеялись, нарушая жуткую, ледяную тишину, висевшую вокруг.
* * *
Ночь мы провели под открытым небом; спали плохо. Утром нам посчастливилось найти магазинчик и приобрести почти все необходимое походное снаряжение – по обычным ценам. Как быть дальше, мы до сих пор и не решили, кроме того, что нужно побыстрее попасть в Бристоль.
Мы шли целый день и наконец разбили палатку в рощице рядом с полем. Ночью пошел дождь, но на этот раз нам было где спрятаться. По сравнению с неприятностями последних дней даже казалось, будто жизнь налаживается. Несмотря на очевидные трудности, мы не унывали. Однако, когда Изобель укладывала Салли, я услышал в их разговоре нотки напускного оптимизма, как будто они специально старались не разочаровать меня.
Должен сказать, в какие-то минуты я чувствовал себя искренне счастливым. В конце концов, мы наслаждались относительной свободой, тогда как в городах из-за строгого военного положения большинство людей и шагу не могли ступить. На время забылось и то, что у нас почти не осталось вещей, и то, что мы лишились крова, и то, что Бристоль так же недосягаем, как и раньше. Впрочем, об этом мы старались не говорить.
К вечеру следующего дня мы добрались до леса, где высокие деревья перемежались с густыми зарослями кустарника, давая укрытие от дождя и посторонних глаз. Несколько дней мы скрывались там. Именно тогда начали проявляться первые признаки отчаяния.
Еду и все необходимое мы покупали в деревне в получасе ходьбы от лагеря. Вопросов никто не задавал. Однако к концу недели деревня подверглась африммскому налету, и после этого жители отгородились баррикадами. Приобретать там припасы стало невозможно.
Пришлось двигаться дальше, по сельской местности на юг. Я все отчетливее чувствовал недовольство Изобель; мне она ничего не говорила, тем не менее, стала бороться со мной за поддержку Салли.
На следующий день после того, как мы пересекли реку, наш конфликт достиг наивысшей точки.
Мы были полностью отрезаны от внешнего мира. Аккумулятор в радио и так уже садился, а после попадания в воду оно и вовсе перестало включаться. Пока Изобель и Салли сушили на солнце одежду и вещи, я отошел в сторону, чтобы сосредоточиться и принять решение относительно дальнейших наших действий.
О происходящем в стране мы ничего не знали, поэтому оставалось думать только о своих проблемах. Ясно было, что положение безрадостное. Мы часто видели, как по дороге проносятся армейские грузовики, а над головой денно и нощно кружат вертолеты, – и старались укрыться.
Гораздо позже я узнал, что как раз в эти дни по инициативе Красного Креста и ООН проводилась широкомасштабная гуманитарная операция, целью которой было собрать беженцев, вроде нас, лишившихся в ходе конфликта крова и средств к существованию, и вернуть их к нормальной жизни. Не знаю, удалось ли им кому-нибудь помочь, поскольку ни с чем подобным мы так и не столкнулись. Со временем стало ясно, что данное предприятие было обречено на провал изначально. Конфликт продолжал набирать обороты, дома теперь не только захватывали, но и обстреливали, и это лишь усугубляло социальную деградацию. Неудивительно, что доверия к гуманитарным организациям не было никакого. Не надо забывать и о том, что каждая противоборствующая сторона использовала их деятельность в качестве рычага тактического, политического или социального давления. Несколько конвоев Красного Креста даже подверглись обстрелу, многие погибли. Ввиду этого всякие гуманитарные операции постепенно свернули, а центры помощи стали обеспечивать скорее формальное присутствие, нежели на самом деле оказывать поддержку жертвам боевых действий.
Я уже долгое время не испытывал к Изобель никаких чувств. Наш брак превратился в общественную условность, а лишения стали последней каплей. Пока мы жили обычной, размеренной жизнью в своем доме в пригороде, на нелюбовь можно было закрывать глаза. Мы оба считали семью не более чем удобством, хотя едва ли бы в этом сознались. Теперь же, когда нас всюду преследовала опасность, когда главным стало просто выжить, смысла притворяться больше не было. Я с пронзительной ясностью осознал, что брак наш исчерпал себя и что с ним пора покончить. Соображения практичности я сознательно игнорировал. Изобель придется выживать самостоятельно или сдаться в руки полиции. Салли останется со мной. Мы с ней вернемся в Лондон, а дальше будет видно.
Вот еще один редкий случай, когда я смог самостоятельно принять решение. Оно было жестким и совсем мне не нравилось. Все-таки нас с Изобель связывали воспоминания, в том числе немало хороших. Однако синяки от пинков полицейского еще не сошли и служили напоминанием о том, во что превратился окружающий мир. Те минуты, когда мы с Изобель думали, что совместную жизнь еще можно наладить, оказались самообманом.
Сожалений я не испытывал.
* * *
Мы должны были прийти к Августину на следующий день, но по ряду причин нам пришлось заночевать в поле. Спать на открытой местности никому не нравилось, все предпочитали заброшенные дома или хозяйственные постройки. Жесткая земля и холод не давали заснуть. Кроме того, около полуночи выяснилось, что мы остановились недалеко от батареи ПВО. Несколько раз включались прожектора, следом грохотали орудия и свистели ракеты. В кого стреляли, так и осталось неясным.
Выдвинулись с рассветом, замерзшие, сонные и раздраженные. В паре часов ходьбы от места назначения нас остановил патруль американских морпехов – ненадолго, всего на десять минут. Обыск произвели спустя рукава, для галочки.
Событие это, впрочем, заставило нас собраться, так что дальше мы шли осторожнее и к полудню уже были в нужной округе.
Рафик выслал меня и еще двоих на разведку – узнать, на месте ли лагерь. Ориентировались мы только по схемам картографо-геодезической службы, а координаты передавались беженцами от группы к группе. В достоверности указаний сомневаться не приходилось, однако из-за военных действий лагерь мог переехать. Кроме того, существовало негласное правило сообщать о своем приходе заранее.
Рафик остался руководить устройством лагеря и приготовлением еды, а мы отправились вперед.
Координаты привели нас в поле, на котором когда-то выращивали урожай. Уже больше года оно было заброшено и сплошь поросло травой и сорняками, но кое-где проглядывали сухие стебли злаков. Тут и там виднелись следы человеческого пребывания: выгребная яма, груда мусора, вытоптанные или выжженные участки земли, – но сам лагерь пропал. Мы молча прочесывали поле, пока кто-то не нашел придавленную камнями картонку в полиэтиленовом пакете. На ней было написано «Августин» и даны координаты. Сверившись с картой, мы обнаружили, что надо пройти еще немного дальше.
Новый лагерь обосновался в лесу. Он состоял из нескольких разномастных палаток: от полотняных навесов максимум на одного-двух человек до шатров вроде шапито. Весь лагерь был обнесен забором, и, чтобы попасть внутрь, посетителям надо было пройти через главную палатку, установленную на входе.
Над ней висел кусок скатерти или простыни, где было грубо намалевано «АВГУСТИН» и, чуть ниже, «ТРАХ ПО БАРТЕРУ». Мы вошли.
Внутри стоял стол на козлах, за которым сидел мальчишка.
– Августин здесь? – спросил я у него.
– Он занят.
– Поговорить-то с ним можно?
– Сколько вас?
Я ответил. Мальчишка вышел из палатки в лагерь. Через несколько минут появился Августин собственной персоной – явно не британец.
– Приведете мужчин? – спросил он, обращаясь ко мне.
– Да.
– Когда?
– Примерно через час.
Августин сверился с часами.
– Идет. До шести закончите?
Мы кивнули.
– Хорошо, – сказал он и добавил: – Вечером будут еще.
Мы снова кивнули и направились к временной стоянке, где нас ждали Рафик и остальные. Я понимал, что, если рассказать всем, как найти бордель Августина, кто-нибудь наверняка захочет улизнуть, чтобы пробраться туда первым. Отчего-то возможность выбрать себе женщину из всего ассортимента казалась чрезвычайно важной. Поэтому я не стал сообщать местоположение борделя никому, даже Рафику; сказал лишь, что с прошлого раза он переехал. Когда стало ясно, что мы пойдем туда только вместе, все успокоились и сели обедать. После еды я повел нашу группу к Августину.
Мы с Рафиком в сопровождении еще двух товарищей вошли в главную палатку. Остальные столпились кто у входа, кто снаружи. Я обратил внимание, что за время нашего отсутствия Августин привел себя в порядок и поставил деревянный барьер у выхода внутрь лагеря, чтобы мы не вломились туда все разом.
Теперь он сидел за столом, а рядом с ним – высокая белая женщина с длинными черными волосами и выразительными голубыми глазами. В них читалось нечто вроде презрения.
– Сколько предлагаете? – спросил Августин.
– А сколько нужно? – спросил Рафик.
– Что у вас есть?
– Еда.
– Еды не надо.
– Больше нам предложить нечего.
– Еды не надо. Надо оружие. Или женщин.
– Есть свежее мясо, шоколад и консервированные фрукты.
Хотя Августин недовольно сморщился, было видно, что отказываться он не собирается.
– Ладно. Оружие?
– Нет.
– Женщины?
Не касаясь темы похищения, Рафик объяснил что женщин у нас нет. Августин сплюнул на стол.
– А рабов сколько?
– Рабов тоже нет.
Я думал, нам не поверят. Рафик рассказывал, как в прошлый раз Августин, будучи в более благосклонном расположении духа, по секрету поделился, что в каждой группе белых людей есть африканцы: рабы или заложники. Даже если закрыть глаза на моральную сторону вопроса, ввиду бесконечных задержаний, допросов и обысков со стороны полиции и других группировок такое было просто немыслимо. Августин явно фантазировал. Впрочем, развивать тему он не стал.
– Ладно. Какая еда?
Рафик протянул ему перечень продуктов, которые мы были готовы обменять. Августин передал бумагу женщине, чтобы та зачитала вслух.
– Мяса не надо. У нас много. Быстро тухнет. Беру шоколад и консервы.
После непродолжительных торгов сумму обмена согласовали. По сравнению с тем, сколько мы платили раньше, Рафик выбил просто отличную сделку. Либо же дела у Августина идут совсем неважно. В любом случае, я думал, что выйдет дороже. Кстати, интересно, отчего он так зациклился на оружии?
Мы вернулись к тачкам и выгрузили оттуда оговоренное количество продуктов. Когда с формальностями было покончено, нас провели внутрь лагеря.
Августин уже стоял там с тремя шлюхами. Опережая товарищей, я шагнул к ближайшей. Она была высокая, полногрудая, с широкими бедрами, на вид лет двадцать пять. Когда я заговорил с ней, она обнажила зубы, как будто для того, чтобы я осмотрел и их тоже.
Девушка отвела меня к крошечной палатке на самом краю лагеря. Места внутри совсем не было, поэтому она стала раздеваться снаружи. Я в это время огляделся по сторонам, остальные шлюхи возле своих палаток поступали так же.
Раздевшись, девушка заползла внутрь. Я снял штаны, сложил их рядом с ее одеждой и залез следом.
Она лежала на грубой подстилке, сшитой из нескольких старых одеял. Палатка просматривалась насквозь. Будь девушка еще немного повыше, ее голова и ступни торчали бы на улице. Она раздвинула ноги, а я навалился сверху и вошел. Почувствовать соприкосновение плоти с плотью я не успел, упершись рукой во что-то холодное и металлическое, с острыми углами. Я хотел было откинуть предмет в сторону, чтобы не мешался, но, коснувшись, нащупал спусковой крючок и предохранитель. Винтовка.
Двигаясь внутри девушки, я стал подталкивать винтовку к краю палатки. Шлюха лежала с закрытыми глазами, шевеля бедрами в такт со мной и никак не реагируя на посторонние движения. Наконец я отодвинул винтовку достаточно далеко от нас, но она по-прежнему оставалась под одеялами.
Отвлекшись на оружие, я потерял возбуждение и почувствовал, как член слабеет, хотя и находится внутри девушки. Я попробовал снова сосредоточиться на ней, на ее теле, исходящем от нее аромате, и это подействовало. Заминка, однако, дала о себе знать, и кончил я куда медленнее обычного. За время соития мы оба сильно вспотели.
Наконец мы оделись и вернулись к главной палатке. Товарищи встретили мое появление непристойными комментариями, мол, слишком долго. Девушка, с которой я был, вновь встала в строй, и ее тут же выбрал другой мужчина.
Я протиснулся в палатку, где Августин и его женщина сидели за столом в окружении выменянной еды, а оттуда – наружу, к оставленным тачкам. Я обошел их и направился к деревьям.
Оглянувшись, я увидел, что Августин подозрительно смотрит мне вслед. Я почесал в паху, мол, надо отлить. Он махнул рукой, и я пошел дальше.
Отойдя на почтительное расстояние, я сделал широкий крюк, держа лагерь по левую руку. Потом осторожно приблизился к палаткам. Никого рядом не было.
Прячась за каждым деревом и кустом, я подобрался к палатке, где лежала винтовка. Еще раз убедившись, что никто меня не видит, я на четвереньках подполз к пологу и прижался к земле, под тросом, соединявшим части забора.
В палатке мужчина оскорблял шлюху, покрывая самыми мерзкими ругательствами ее расу. От перевозбуждения голос у него срывался и хрипел. Она в ответ страстно стонала.
Я просунул руку под полог и нащупал винтовку. Медленно, чувствуя, как заходится сердце, я вытащил оружие из-под подстилки и кинулся к деревьям. Спрятав винтовку в густых зарослях боярышника, я направился обратно ко входу в лагерь.
Завидев меня, Августин отпустил похабный комментарий. Вокруг рта у него были коричневые разводы от шоколада.
* * *
Закрытие колледжа привело ко второму крупному финансовому кризису в моей жизни. Какое-то время мы с Изобель жили на сбережения, но уже через месяц стало ясно, что надо искать работу. До этого я не торопился, так как ходили слухи, мол, колледж вот-вот откроют. Я периодически звонил в администрацию. Там даже трубку не брали. Поэтому я все-таки искал себе другое место, хотя и без особого энтузиазма.
Великобритания переживала глубокую рецессию. Сколько бы правительство ни хвасталось своей налоговой политикой, от череды неудачных решений это не спасало. Именно экономическая программа принесла Джону Трегарту и его свите победу на выборах, однако на деле бюджет месяц за месяцем уходил в минус, государственный долг достиг рекордных отметок, резко подскочили цены, начались массовые увольнения.
Первым делом я пошел по издательствам, убежденный в том, что магистерская степень по истории Англии обеспечит мне должность редактора или консультанта, хотя бы временную. Очень скоро мне пришлось отказаться от этого заблуждения: моя степень не стоила и гроша. Кроме того, в книгопечатной отрасли, как и в остальных, всеми способами стремились сократить расходы, в первую очередь на сотрудников. Такие же сочувственные взгляды я встречал, обращаясь в разные учреждения – работа в конторе тоже исключалась. Туда, где требовался ручной труд, можно было не соваться. С середины семидесятых распределением рабочих мест в промышленности ведали профсоюзы. На серьезных предприятиях действовал принцип «закрытого цеха», на всех прочих низкоквалифицированный труд либо почти не оплачивался, либо им занимались сплошь иммигранты.
Окончательно отчаявшись, я обратился за помощью к отцу. До выхода на пенсию он занимал должность управляющего директора небольшой сети предприятий и по-прежнему имел там кое-какое влияние. Только крайняя нужда заставила меня пойти к нему. Мы практически не общались вот уже несколько лет, так что от этой встречи удовольствия никто не получил. Нехотя и в виде большого одолжения отец все-таки выбил для меня местечко на текстильной фабрике. Увы, я не смог выразить ему свою благодарность и раскаяние за то, что мы столь долго пробыли в ссоре. Он умер через пару месяцев, так и не узнав, насколько изменилось отношение сына к нему.
Когда насущный вопрос с деньгами был решен, я стал следить за ситуацией в стране. Улучшений не наблюдалось; напротив, во многом становилось только хуже. Испортилось даже то, что всегда казалось мне незыблемым. Проблемы возникали в каждом аспекте жизни, взять хоть поездки, хоть просмотр телевизора (особенно если учесть, что смотреть было практически нечего), хоть поход за продуктами. Преступность росла, школьники учились в переполненных классах, в больницах очереди на операции растягивались на годы, свет и газ отключали все чаще.
Существовали и более масштабные проблемы. Оказалось, наш колледж закрыли в соответствии с тайным замыслом министерства образования, нацеленным на сокращение числа заведений, дающих высшее образование. Крупным университетам пока ничего не грозило, но центры профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации и техникумы повсеместно закрывались. Прошло всего полгода, и корпуса колледжа перевели в коммерческое пользование, а землю продали под застройку. Не сказать чтобы народ возмущался: многие считали университеты рассадниками либеральных взглядов, которые и привели к нынешнему бардаку. Поначалу ситуация с вузами вызвала кое-какие протесты, но очень скоро внимание общественности переключилось на другие темы.
Работа на текстильной фабрике была однообразной и несложной. Я разрезал материю на куски определенной длины, складывал по цвету и типу ткани, проверял упаковку и правильность этикеток, а затем сопровождал партию до пункта выдачи. Эта процедура повторялась раз по десять за день, а если заказов много, то чаще. За неделю я довел работу до автоматизма, и она превратилась в монотонную рутину. Ради денег приходилось терпеть.
* * *
– Изобель, – позвал я, – подойди на минутку. Нам нужно поговорить.
– Я как раз тоже хотела с тобой побеседовать.
Оставив Салли у палаток, мы отошли в сторону. Нам обоим было неловко оказаться наедине. Даже не помню, когда мы в последний раз вот так вот разговаривали – может, несколько дней назад, а может, несколько недель. Отчего-то вспомнилось, что уже три месяца мы не спали вместе.
Я старался не смотреть на жену.
– Нужно что-то делать, Алан, – сказала она. – Так больше жить нельзя. Мне страшно за нас. Мне жалко Салли. Давай вернемся в Лондон.
– Боюсь, тут ничего не поделаешь. Ни до Лондона, ни до Бристоля нам не добраться. Остается ждать.
– Ждать чего?
– Откуда я знаю?… Пока все уляжется. Мы с тобой в одинаковом неведении.
– А о дочери ты подумал? Ты хоть внимание на нее обращаешь? – спросила она с нажимом. – До меня тебе дела тоже нет?
– Изобель, мы все в одной лодке.
– Да, и ты сидишь сложа руки!
– Если у тебя есть здравые предложения…
– Угони машину, застрели кого-нибудь – в общем, делай что хочешь, но чтобы мы жили как люди, а не как полевые мыши! Куда-то же можно податься. Наверняка у моих родителей все хорошо. Или давай вернемся в лагерь. Уверена, увидев Салли, они нас впустят.
– А что с ней?
– Ты все равно не поймешь.
– То есть?
Она не ответила, но я, кажется, понял. Никаких проблем у Салли не было, кроме очевидных. Изобель просто снова решила наступить мне на больную мозоль.
– Не дави на меня так. Я не могу волшебным образом все решить. Да и ты тоже. Если бы выход был, мы бы его нашли.
– Нужно искать. Нельзя вечно жить в палатке посреди поля.
– Ты разве не видишь, что в стране творится? Полный раздрай, и в Лондоне, думаю, не лучше. Все дороги перекрыты полицией, в города стянуты войска. Газет не печатают, радио глушат. Поэтому я предлагаю ждать – столько, сколько нужно, пока ситуация хотя бы немного стабилизируется. Даже будь у нас машина, сомневаюсь, чтобы нам дали далеко уехать. Когда ты в последний раз видела водителей на дороге?
Изобель не выдержала и расплакалась. Я попытался утешить ее, но она меня оттолкнула. Пришлось стоять и ждать, пока она успокоится. Разговор складывался не так, как я ожидал. Салли все это время наблюдала за нами с противоположного края поля.
Наконец, Изобель немного успокоилась.
– Послушай, – сказал я, – чего тебе больше всего хочется?
– Тебе-то какая разница?
– И все-таки скажи.
Она тяжело вздохнула.
– Мне хочется, чтобы все снова было как раньше.
– Как дома в Саутгейте? Со всеми нашими скандалами?
– И со всеми женщинами, с которыми ты пропадал по ночам.
Изобель знала о моих похождениях на стороне, но ее обвинения давно меня не задевали.
– И это, по-твоему, лучше? – спросил я. – Ты правда так думаешь?
– Да, я так думаю.
– То есть, наша семейная жизнь тебя полностью устраивала, и ты правда хочешь все вернуть?
Я тоже задавался этим вопросом. Свой ответ у меня был: наш брак закончился, даже не начавшись.
– Все что угодно… лишь бы не так, как сейчас.
– Изобель, это не ответ.
Я уже приготовился сообщить ей свое решение. Да, понимаю, жестоко ставить человека перед фактом, особенно когда он в таком состоянии, но по крайней мере это выход из положения, которое ненавистно нам обоим. Только я хотел идти вперед, тогда как она хотела повернуть время вспять. С другой стороны, а какая, собственно, разница?
– Хорошо, тогда предлагаю разделиться, – сказала Изобель. – Ты вернешься в Лондон и попробуешь найти нам жилье. Я заберу Салли, мы доберемся до Бристоля и будем ждать от тебя вестей. Что скажешь?
– Нет, ни в коем случае, – не раздумывая ответил я. – Салли я тебе не отдам. Ты не сможешь ее защитить.
– Что значит не смогу защитить? Я ее мать!
– Быть матерью не значит быть способной на все.
Прежде чем отвести взгляд, я увидел в глазах жены неподдельную ненависть. На самом деле, я изменял ей не потому, что искал кого-то получше, а потому, что это создавало между нами дистанцию. Не потому, что мне чего-то не хватало в нашем браке, а потому, что у меня не было сил жить в нем. Да, началось все с неудовлетворенности в постели – виной тому какие-то личные проблемы Изобель, – но со временем это перестало быть главной причиной. Семейные трудности накапливались снежным комом, и в итоге я уже не знал, как с ними справиться. Свою вину я, конечно, не отрицаю. Именно поэтому ее гнев и вызвал у меня одновременно и обиду, и раскаяние.
– В общем, я все сказала. От тебя вариантов явно не дождешься.
– Почему же? Как раз наоборот.
– Да? И что же ты предлагаешь?
Вот теперь я все ей сказал: Салли остается со мной, а она пусть отправляется в Бристоль в одиночку. С собой она может взять большую часть денег и столько еды и снаряжения, сколько нужно. Почему я так решил, спросила Изобель. Я ответил без обиняков, мол, брак наш окончательно распался, и в нынешней общественной обстановке сохранять его незачем. Верить, будто прошлое можно вернуть, значит обманывать себя, а это только навредит будущему дочери. Кроме того, со мной Салли в безопасности. Когда же все закончится, мы оформим развод официально, и я стану опекуном Салли.
– Так, с меня хватит, – ответила Изобель и ушла.
* * *
Когда у меня наконец появилась возможность рассмотреть украденную винтовку, я вспомнил, что у нас есть патроны как раз для этой модели. Они хранились у Рафика, поэтому про оружие пришлось рассказать.
Если не ошибаюсь, патроны были у него все время, сколько я в группе, хотя откуда – неизвестно.
Мы беседовали наедине. Рафик сказал, что патронов всего двенадцать, а также посоветовал немедленно избавиться от винтовки – ради общего блага. На мой вопрос «почему» он просто напомнил, что недавно в качестве наказания за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия снова ввели смертную казнь.
– Да где сейчас соблюдаются законы? – возразил я, хотя, признаться, эта новость меня порядком встревожила.
– Что ж, тогда тем более: каждый сам за себя.
– В таком случае иметь винтовку лучше, чем не иметь.
– Как посмотреть, Уитмен, – произнес Рафик, глядя мне в глаза, что было для него нехарактерно.
Про себя я пришел к выводу, что он просто завидует. Вооружись мы раньше, стал доказывать я ему, смогли бы защитить женщин. Зверства по отношению к беженцам усиливаются, надеяться нам не на кого, только на самих себя.
Рафик парировал: да, нас часто задерживают и допрашивают, зато, в отличие от других групп, не избивают, не кидают в тюрьму, не пытают и не насилуют – потому, что считают нас безвредными. Ни на одном обыске у нас не нашли ничего опасного.
Я сказал, что беру всю ответственность на себя. При угрозе поимки или ареста я тут же спрячу винтовку, а если не получится, то сознаюсь, мол, никто, кроме меня, про нее не знал.
В конце концов Рафик уступил, хотя патроны решил придержать. Отдал он их мне только через день.
Я разобрал винтовку, прочистил и смазал ее, потом потренировался в прицеливании. Стрелять не пробовал, чтобы не тратить патроны и не привлекать внимание шумом. Один наш товарищ немного разбирался в оружии. Он сказал мне, что винтовка дальнобойная и мощная, а также спросил, не проходил ли я стрелковую подготовку.
Постепенно я стал замечать, что иерархия внутри нашей группы немного изменилась.
* * *
Я приехал в город до обеда, когда подготовка к празднику подходила к концу. С центральной площади убрали все автомобили, и теперь там гуляли люди. Трудно было даже представить, что в обычные дни здесь не протолкнуться от машин, направляющихся к побережью.
Перед магазинами, чьи фасады выходят на площадь, устанавливали деревянные прилавки с товаром. Тут и там рабочие на лестницах развешивали гирлянды. Чуть ли не каждое окно было украшено цветами. В самой широкой части площади, напротив муниципалитета, разбили небольшой парк аттракционов: детскую карусель, горку, качели-лодки и призовые киоски.
В соседнем с гостиницей переулке остановился большой автобус, из него вышли пятьдесят-шестьдесят пассажиров и направились в ресторан, отделанный под эпоху Тюдоров. Я дождался, пока все войдут внутрь, и зашагал в противоположную сторону, подальше от центра, бродить по улочкам между домами.
Когда я вернулся на площадь, праздник был в самом разгаре.
В первый раз я увидел ее у витрины с кожаными сумочками. В те годы девушки носили платьица из очень тонкого материала с подолом сильно выше колена. На ней было как раз такое, бледно-голубого цвета. Мне девушка показалась очень красивой. Я направился к ней через площадь, но она уже отошла и затерялась в толпе. Я постоял немного у магазина с кожей, надеясь разглядеть ее среди народа, затем переместился в проход между тиром и киоском, где метали шары.
Примерно через час я заскочил в гостиницу выпить кофе, а после этого вернулся на площадь. Рядом с одним из грузовиков, на которых привезли аттракционы, я снова увидел ту девушку. Она шла наперерез мне, задумчиво опустив глаза, потом поднялась по лестнице, ведущей к муниципалитету. Там она обернулась, и наши взгляды встретились. Я двинулся к ней.
Однако когда я дошел до ступенек, она уже вошла в здание. У меня за спиной раздался какой-то треск, затем вопль, крики. Оборачиваться я не стал. Еще пару минут из громкоговорителей гремела музыка, перекрывая собой шум, пока наконец кто-то не сообразил ее отключить. В наступившей тишине отчетливо слышалось женское рыдание.
Только когда появилась «Скорая», я решил посмотреть, что случилось. Оказалось, маленький мальчик застрял ногами между платформой карусели и ее движущейся частью.
Я наблюдал за спасением ребенка. Санитары никак не могли к нему подступиться, пока наконец не подъехала пожарная бригада. С помощью электропилы они вырезали кусок платформы и извлекли мальчика. Он был без сознания. Его увезли в больницу, музыка заиграла снова, и вдруг я заметил, что со мной рядом стоит та самая девушка. Я взял ее за руку и увел с площади на боковые улочки, по которым гулял днем.
От ее красоты я почти утратил дар речи. Мне хотелось покрасоваться, но нужные слова никак не лезли в голову.
Вечером мы пришли ко мне в гостиницу, и я угостил девушку ужином. После еды она вдруг засуетилась и сказала, что ей пора. Я проводил ее до выхода, однако идти за ней дальше она мне запретила. Поэтому я вернулся в гостиничное фойе и до ночи смотрел там телевизор.
На следующее утро я прочитал, что мальчик умер, не доехав до больницы, и тут же выбросил газету в мусорное ведро.
Мы с Изобель договорились встретиться после обеда, так что у меня было свободное время. От нечего делать я наблюдал, как рабочие разбирают аттракционы и складывают детали на грузовики. К полудню на площади ничего не осталось, и полиция открыла проезд для автомобилей.
Перекусив в гостинице, я взял у друга мотоцикл и выехал на шоссе. Через полчаса я добрался до Изобель. Настроение у меня было приподнятое. Как я и просил, она надела то же бледно-голубое платьице. Мы снова пошли гулять, на этот раз по тихим загородным тропкам.
По дороге к городу мы попали под внезапный летний ливень. Пришлось ловить машину и отвозить Изобель домой. На порог она меня не пустила. Зато я пообещал, что приеду снова на следующей неделе, и мы условились о встрече.
Когда я вернулся в гостиницу, портье рассказал мне, что мать того ребенка покончила с собой. По его словам, именно она попросила мальчика встать на движущуюся карусель. Мы немного обсудили этот трагический случай, после чего я пошел в ресторан ужинать, а затем – в местную киношку, где показывали сдвоенный сеанс с фильмами ужасов. В перерыве я увидел Изобель: она сидела через несколько рядов впереди и целовалась с каким-то мужчиной явно старше ее. Меня она не заметила. Я не стал досиживать до конца сеанса и ушел, а наутро уже был в Лондоне.
* * *
В одной деревеньке я нашел радиоприемник с севшими батарейками. Я вынул их и позже при первой возможности подогрел на огне. Пока они не остыли, я вставил их обратно и включил приемник.
Полоса вещания «Би-би-си» к тому времени сузилась до одной волны. Крутили сплошную музыку, изредка прерывая ее новостными выпусками. Подогретых батареек хватило еще на два часа, и за это время не прозвучало ни слова о боевых действиях, беженцах или политической обстановке. В новостях говорили только о крушении самолета в Южной Америке.
Когда мне в следующий раз удалось раздобыть батарейки, «Би-би-си» уже не ловилась. Я нашел только радиостанцию «Мир вам», которая вещала с переоборудованного балкера, стоявшего на приколе у острова Уайт. Ее эфир заполняли молитвы, библейские чтения и церковные песнопения.
* * *
Продукты снова были на исходе, и Рафик решил пойти в ближайшую деревню, чтобы чего-нибудь выменять. Мы стали изучать карту.
Любые населенные пункты, в которых больше тысячи жителей или которые находились рядом с основными дорогами, лучше было обходить стороной. Как правило, эти деревни и города занимала та или иная группировка, а значит, они либо на военном положении, либо там содержится укрепленный гарнизон. Нам приходилось закупаться в уединенных поселках, усадьбах или на отдельно стоящих фермах. Попадая в места, где жители расположены к торговле и обмену, мы обустраивали лагерь неподалеку.
Изучив карту, Рафик принял решение идти к селу в часе пути к западу. Кто-то возразил, типа слышал раньше, еще до того как прибиться к нашей группе, что за селом находится штаб патриотических сил, и предложил пойти в обход через деревни либо на севере, либо на юге.
Начали обсуждать, но последнее слово все равно оставалось за Рафиком. Нам необходима еда, сказал он, а поскольку рядом с селом есть несколько ферм, то лучше всего направиться туда. Действительно, дойдя до села, мы увидели две-три огороженные и укрепленные фермы.
По неписаному закону беженцы имели право пересекать брошенные поля или разбивать там лагерь – с условием, что они не крадут еду и не вторгаются в хозяйственные постройки.
Несколько недель назад к нам прибились беженцы из Восточной Англии. Они вели себя слишком самостоятельно, мол, делаю что хочу, и Рафик приказал им убираться.
Мы прошли мимо ферм к селу. Колонну по обыкновению возглавлял Рафик и еще трое, затем следовали тачки с пожитками, походным снаряжением и товарами на обмен. Остальные тянулись в хвосте.
Винтовку мы спрятали под фальшивой панелью на дне главной тачки, где также хранили разные запрещенные вещи на случай ареста или обыска, поэтому Рафик велел мне держаться возле нее.
Я понял, что отношение нашего лидера к винтовке изменилось. Раньше он твердо выступал за то, что лучшая защита – это быть безоружными, теперь же признавал, что средства самообороны нужны, особенно если потенциальные враги не знают об их существовании.
Мы шли по проселочной дороге, которая вела от близлежащего городка на восток, где соединялась с шоссе. Опыт подсказывал нам, что к незнакомым населенным пунктам лучше подходить по дороге, нежели через поля. Да, так мы слишком открывались; с другой стороны, это способствовало доверию, что полезно для торговли.
Судя по карте, у села не было четко выраженного центра, и состояло оно из двух улочек с хаотично разбросанными домами. Первый дом миновали в тишине – заброшенный, с выбитыми окнами. Такой же второй дом, и третий, и вообще все дома по пути.
Только мы вышли на перекресток, как спереди раздался выстрел, и одного из нас, шедшего рядом с Рафиком, отшвырнуло назад.
Мы остановились. Кто был возле тачек, пригнулись, остальные укрылись где попало на обочине. Я посмотрел на упавшего, он лежал в шаге от меня. Пуля попала в шею и вырвала приличный кусок мяса. Кровь била фонтаном во все стороны, и хотя глаза уже остекленели и бессмысленно смотрели в небо, в горле еще тихо булькало. Через пару секунд все стихло.
Я был потрясен произошедшим. Скитаясь по разоренной войной стране, я видел немало мертвых тел, но впервые человека, к тому же знакомого, убили на моих глазах.
Я отполз в сторону и укрылся с другого бока тачки.
Дорогу впереди перегораживала баррикада, причем не типичное нагромождение камней, старых автомобилей и досок, а капитальное сооружение из кирпичей и цемента. Посередине были вделаны узкие пешеходные ворота, а по бокам от них – два высоких ограждения, за которыми виднелись люди. Прозвучал очередной выстрел; пуля расщепила деревянный борт тачки совсем рядом со мной. Я пригнулся еще ниже.
– Уитмен, у тебя винтовка! Стреляй!
Я оглянулся на Рафика. Он и еще двое распластались в придорожной канаве.
– Бесполезно, они в укрытии, – сказал я.
По обе стороны от баррикады тянулись бетонные стены, из-за которых торчали крыши домов. Интересно, можно ли как-нибудь попасть в село через поля… Впрочем, местные настроены крайне враждебно, так что лучше и не пытаться.
Сунув руку под фальшивое дно тачки, я вытащил винтовку и зарядил ее. Все наши смотрели на меня. Стараясь не высовываться, я направил оружие в сторону баррикады в поисках удобной мишени и стал ждать, пока кто-нибудь подставится.
За следующие несколько мгновений у меня в голове пронеслось множество мыслей. Не в первый раз я держал в руках серьезное оружие, хотя никогда не целился в кого-то с намерением причинить вред или убить.
– Чего ты ждешь? – тихо спросил Рафик.
– Не вижу, в кого стрелять.
– Так выстрели в воздух… Хотя нет, погоди. Сейчас что-нибудь придумаю.
Я с готовностью опустил ствол, а когда Рафик велел мне спрятать винтовку, я выдохнул от облегчения. Не знаю, как я поступил бы, если бы он приказал мне стрелять.
– Ничего не выйдет, – сказал Рафик, обращаясь не столько ко мне, сколько к остальным. – Мы не пробьемся. Надо отходить.
Думаю, я догадывался об этом с самого начала. А еще я понял, что такими словами Рафик серьезно подрывает свой авторитет. Мужчина, который предупреждал нас о штабе патриотистов, молча лежал рядом.
Наша тачка была накрыта куском белой ткани. Мы время от времени поднимали его, чтобы продемонстрировать свой нейтралитет. Рафик попросил меня передать ему ткань, поднялся и развернул ее. Никто не стрелял. Я невольно восхитился его храбростью. На его месте я точно не стал бы рисковать жизнью. Вообще, я заметил, что в минуту опасности наиболее честен с самим собой.
Затем Рафик приказал нам отступать к дороге и медленно уходить. Не покидая укрытия за тачкой, я покатил ее следом, и весь отряд потянулся прочь от села.
Рафик остался, держа белый флаг в вытянутой руке, будто прикрывал нас. Очень медленно и осторожно он шел за нами, при этом не сводя глаз с баррикады. Кто знает, что было бы, если бы он, как и остальные, подставил спину.
Мы едва скрылись за поворотом, где стрелок бы нас не увидел, как прозвучал очередной одинокий выстрел. Те, кто не катил тачки, кинулись врассыпную, остальные побежали вперед, пока село не скрылось из виду. Только тогда мы почувствовали себя в безопасности и остановились.
Через несколько секунд Рафик, отчаянно матерясь, догнал нас. Пуля прошила белый флаг и разорвала ему рукав. Возле локтя зияла дыра размером с блюдце. Возьми стрелок хотя бы чуть выше, Рафику раздробило бы кость.
Этой ночью перед сном я понял, что сегодняшние события прибавили нашему лидеру авторитета. Естественно, я не стал ни с кем делиться – из боязни показаться еще большим трусом, чем на самом деле. Впервые с того дня, когда африммы увели у нас женщин, я испытал сильнейшее желание заняться сексом с Изобель. Я тосковал по ней, хотел ее, мучимый обманчивыми воспоминаниями о счастливом прошлом.
* * *
После обеда я остался с дочкой, а Изобель пошла в ближайшую деревню выпрашивать еду. Деньги у нас были на исходе: из всех средств, которые мы забрали из дома, осталось не более нескольких фунтов.
Впервые мне удалось поговорить с дочкой, как со взрослой. Ни я, ни Изобель не сообщали ей сути нашего разговора, однако Салли, видимо, сумела сделать выводы самостоятельно. Теперь она говорила и вела себя, как зрелый и ответственный человек. Я несказанно гордился ею.
Вечером мы молчали; наше общение с Изобель ограничивалось лишь насущными вопросами. Ночью мы как обычно разошлись по палаткам: Изобель и Салли в свою, я в свою. Меня раздражало, что в той беседе мы так и не пришли ни к какому решению. Как будто и не говорили вовсе.
Я целый час лежал, пытаясь уснуть. Только я задремал, как меня вдруг разбудила Изобель.
Я коснулся ее в темноте. На ней ничего не было.
– Что та…
– Тс-с. Салли разбудишь.
Расстегнув мой спальный мешок, она забралась внутрь и прижалась ко мне. Не думая о том, что было между нами днем, я сквозь сон обнял ее и начал ласкать.
Секс получился странным. В полусне я совершенно не соображал, в чем дело, поэтому долго не мог сосредоточиться и кончить. Все было так неожиданно. Изобель, однако, оглушительно стонала и как будто не могла насытиться. Никогда не замечал за ней такого. Она испытала оргазм дважды, причем в первый раз настолько бурно, что я даже встревожился.
Мы несколько минут лежали обнявшись, а затем Изобель что-то прошептала – я не расслышал – и стала выбираться из-под меня. Я перевернулся на бок, и она вывернулась. Я попытался удержать ее за плечо, но она молча поднялась и вышла из палатки. Согретый оставшимся теплом, я снова заснул.
Наутро мы с дочкой обнаружили, что остались одни. Изобель ушла.
* * *
На следующий день, поскольку продуктов мы так и не раздобыли, собрали общий совет. Составив список всех имевшихся припасов, мы рассчитали, что их хватит максимум на два дня. Потом придется сидеть на сухом пайке – печенье, шоколад и прочее, – но тоже недолго, да и что это за питание.
Мы впервые столь явно столкнулись с угрозой голода.
Рафик изложил варианты наших дальнейших действий.
Самый простой, начал он, – ничего не менять, а продолжать ходить по деревням и селам, выменивать еду да собирать вещи на обмен в брошенных домах и автомобилях. Однако военные действия в округе продолжают усиливаться, и хотя нас как бродяг они напрямую не касаются, игнорировать их тоже нельзя. Населенные пункты становятся все более укрепленными, а жители в них – все более подозрительными к чужакам.
Рафик рассказал нам историю, которую мы прежде не слышали. Однажды деревню на севере Англии занял отряд африканских беженцев, утверждавших, что они – регулярные бойцы африммских вооруженных сил. Все были в полном обмундировании, но никто так и не смог определить, действительно ли они те, за кого себя выдают. Сомнения подкреплялись тем, что африканцы не соблюдали дисциплину и не организовывали оборону. Прошла неделя, и в округе появились слухи о приближении частей патриотической армии. Африммы будто взбесились и начали убивать всех подряд, и к прибытию военных перестреляли десятки мирных жителей.
И это не единичный случай. Подобные зверства творились по всей стране, причем со стороны каждой противоборствующей группировки. Поэтому с точки зрения простого обывателя лучше воспринимать любого чужака как врага. Такие настроения набирали популярность, из-за чего вступать в обмен с гражданскими и задерживаться где-то становилось все опаснее.
Другой вариант – присоединиться к какой-нибудь группировке и, соответственно, начать воевать. Наша жизнь получит четкую цель, а кроме того, мы перестанем быть пассивными наблюдателями и примем активное участие в происходящем.
Можно вступить в ряды патриотистов, своего рода «законную» армию, защищающую правительство Трегарта. Правда, их действия больше направлены на геноцид африканцев. Можно примкнуть к Королевским сецессионистам – белым, сражающимся на стороне африммов. Да, они на нелегальном положении, всем им по нынешним законам грозит смертная казнь, однако определенной поддержкой среди населения они пользуются. Если действующее правительство будет свергнуто – в результате военного переворота или по дипломатическому требованию ООН, – вполне вероятно, именно сецессионисты возглавят страну. Можно стать членами миротворческого контингента, который официально в боевых действиях не участвует, но вынужден регулярно проводить силовые операции. Или можно прибиться к каким-нибудь иностранным подразделениям вроде американских морпехов, которые, по сути, взяли на себя функции полицейских, или бойцов стран Содружества, чья роль в конфликте неясна и всех запутывает.
Наконец, можно обратиться в организацию помощи беженцам, получить от них официальный статус и какую-никакую правовую защиту. На первый взгляд мысль здравая, хотя едва ли практичная. Пока в стране идут военные действия, а общество еще не смирилось с нашествием африммов, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть нам придется подчиняться правительству Трегарта, а значит, волей-неволей мы будем втянуты в конфликт, поскольку кризис в городах и проблемы с жильем никуда не делись.
Учитывая наш нейтралитет, подытожил Рафик, лучше всего продолжать жить по-старому. В конце концов, первоочередной задачей для нас было вернуть своих женщин, а сделать это, вступив в ряды какой-либо группировки, невозможно.
За это решение в итоге и проголосовали, после чего выдвинулись на север – там, примерно в паре часов ходьбы, должно было быть еще одно село.
И снова я заметил, как выросло уважение к Рафику в группе: все из-за его вчерашнего поведения у баррикады и сегодняшней рассудительности. Я лично нисколько не оспаривал его лидерства, однако наличие у меня винтовки по-своему влияло на расстановку сил, и он не мог этого не замечать.
Теперь я всегда ходил бок о бок с Рафиком.
* * *
Я наконец купил себе мотоцикл и по выходным ездил на нем в гости к Изобель.
Первая эйфория прошла довольно быстро. Мне все еще нравилось ощущение скорости, но ограничений я практически не нарушал. Сам я очень редко выжимал газ до упора, однако Изобель, когда сидела у меня за спиной, часто просила гнать побыстрее.
А вот наши отношения, напротив, развивались куда медленнее, чем мне бы хотелось.
До нашего знакомства я уже занимался сексом с девушками, однако Изобель в этом вопросе была неприступна, хоть и не могла объяснить, из каких соображений – моральных, религиозных или физиологических – отказывается со мной спать.
Однажды мы отъехали довольно далеко от ее дома, на холм, где располагался летный клуб, и какое-то время наблюдали, как над нами проплывают планеры. По дороге назад в город Изобель подтолкнула меня и, прокричав на ухо, попросила свернуть в рощицу у дороги. Мы довольно долго петляли среди деревьев, пока шоссе не пропало из виду. Нас окружали зелень и тишина. Мы слезли с мотоцикла, сели на траву, держась за руки, и стали целоваться. В этот раз инициативу проявляла Изобель с какой-то неожиданной страстью и энергией. Я расстегнул ей блузку и провел рукой по груди. Она не сопротивлялась, однако стоило мне залезть ей в лифчик и коснуться соска, как она оттолкнула меня. Я уже завелся и, не желая останавливаться, накинулся на Изобель. Она отбивалась, но я все-таки был сильнее, поэтому стащил с нее блузку и лифчик, порвал юбку и наполовину стянул трусики.
Вдруг я понял, что она в самом деле умоляет меня остановиться, и замер. Изобель все всхлипывала, а я пытался прийти в себя. Меня переполняло желание, такого возбуждения я никогда прежде не испытывал, а еще мне было ужасно обидно: она вроде бы хочет одного, а ведет себя по-другому.
Долгое время мы молча лежали на земле. Потом, кое-как прикрыв ноги рваной юбкой, Изобель уселась на заднее сиденье мотоцикла. Я отвез ее к родителям, и она, не сказав ни слова, ушла в дом. К вечеру я приехал в общежитие. После этого случая мы не виделись почти месяц.
* * *
События в Африке стали все более массово освещаться в газетах и на телевидении, и все же людям по-прежнему казалось, что война идет где-то далеко и их не касается. Журналисты без конца вещали о том, как конфликт отразится на странах Запада, однако рядового обывателя волновало разве что сокращение поставок нефти из Нигерии.
Причины африканского конфликта были запутанными и масштабными. На первом месте стояла нехватка продовольствия. Страны Сахеля уже который год страдали от засухи, сельское хозяйство в районе Верхнего Нила стало невозможным из-за загрязнения, в тропических регионах разразился массовый голод. Во многих странах власть захватили военные, завязались междоусобицы. Поводом для вражды служили полезные ископаемые: нигерийская нефть, уран и медь из Конго, золото и алмазы из ЮАР. Страны ругались за права на пресную воду, обвиняли друг друга в изменении русел и запруживании рек. Снова вспыхнула межплеменная ненависть, которая усугублялась радикализацией христианских и мусульманских общин. Стали поступать сообщения о геноциде. Наконец, масла в огонь подливала торговля оружием: продавали все, лишь бы покупалось. Пять богатейших стран континента в кратчайшие сроки обзавелись ядерными арсеналами, остальные заручились поддержкой сторонних ядерных держав.
На тот момент я еще преподавал в колледже на севере Лондона. Все чаще мои занятия неумолимо скатывались в обсуждение международных проблем. Студенты буквально заваливали меня вопросами по истории, политике и экологии.
Я старался держаться в курсе событий, но узнать достоверные факты было практически невозможно. В какие-то районы иностранных журналистов и дипломатов не пускали, в другие никто просто не ехал – слишком опасно. СМИ подвергались жесткой цензуре и государственному давлению. К тому же конфликт развивался молниеносно: союзы заключались и распадались, страны мирились и ссорились, вводили войска. Гражданское население тем временем неизбежно страдало от лишений, голода и болезней.
Я вырос в самый разгар холодной войны между блоком НАТО и СССР, а потому с детства впитал страх того, что мир в любой момент может погрузиться в ядерный ад. Такой же страх испытывали и мои студенты, а поскольку многие происходили из Африки, то их опасения были более чем обоснованны. В итоге ад все-таки развергся, только по их сценарию, а не по моему. Ядерная война между африканскими странами длилась меньше недели: от первого нападения до ответного удара прошло всего четыре дня. И тишина. Такие войны, как выяснилось, заканчиваются быстро.
Связь с большей частью континента пропала. Гуманитарную помощь просто нельзя было доставить и распределить. Какие-то районы пострадали меньше других, и это вселяло оптимизм, однако проникнуть внутрь континента не представлялось возможным. Дороги, аэродромы и прочая инфраструктура не пережили бомбардировок, путь преграждали огромные радиоактивные пустоши. В лесах Центральной Африки бушевали неутихающие пожары. Облака дыма и радиоактивных материалов разносило по всей планете. Никто не знал, сколько человек погибло. Никто не знал, сколько выжило и что происходит. Оказание помощи стало первоочередной задачей мирового сообщества.
Британцы, к счастью, находились далеко от эпицентра событий, но всеми силами старались проявить участие: щедро сдавали пожертвования в благотворительные фонды, вызывались добровольцами участвовать в гуманитарных операциях. Снаряжались целые экспедиции с припасами для пострадавших. Катастрофа затронула многих: у кого в Африке сгинули друзья, у кого родственники, у кого коллеги или просто знакомые. Однако страшнее всего было осознавать, что именно наше поколение стало свидетелем самой ужасной трагедии в истории человечества.
Тем временем, как водится в демократических обществах, в Великобритании прошли парламентские выборы. Экономика была в упадке, росло число безработных. Инфляция зашкаливала, банки остановили выдачу кредитов, и многим предприятиям пришлось закрыться. На фоне этих проблем неожиданно хорошо выступила новая партия правых, недавно отколовшаяся от консерваторов. «Британские реформисты» под руководством Джона Трегарта обещали преобразовать экономику, а также бороться с безработицей путем протекционизма. В итоге их избрали с небольшим перевесом. Через четыре месяца произошла война в Африке. Когда стал ясен масштаб катастрофы и как она может повлиять на Великобританию, Трегарт объявил внеочередные выборы. Теперь «реформисты» выступали за изоляцию и жесткий пограничный контроль в качестве защиты от эпидемий и иммигрантов, балансируя на грани открытого расизма. На этих выборах Трегарт набрал подавляющее большинство голосов.
Тем временем гуманитарным организациям все же удалось пробиться в регионы, наиболее пострадавшие от ядерных ударов. Крупные города были разрушены, сельские районы – полностью выжжены, погибших – не счесть. Репортеры без конца вещали о ядерном хаосе и опустошении, убивая всякую надежду на лучшее.
За умопомрачительным количеством смертей и разрушений никто не замечал, что назревает нечто куда более страшное. Как ни странно, предчувствия Трегарта оправдались: выжившие все-таки были. Не везде падали ядерные боеголовки, не все погибли в боевых действиях. Кое-кто уцелел. Конечно, немало впоследствии скончалось от ожогов и радиоактивного облучения, однако многие избежали и этого. Да, они страдали от болезней, голода и жажды, зато были живы. Африка большая, в ней полно труднодоступных уголков. Постепенно люди стали выбираться в нетронутые районы в поисках помощи. Счет их вскоре пошел на тысячи, потом на сотни тысяч и наконец на миллионы. Все поголовно нуждались в крове, еде, питье и медицинском уходе.
Наступил черед второй самой ужасной катастрофы после войны.
Гуманитарные организации совершенно не справлялись с ситуацией. Сколько бы денег и ресурсов ни вливало международное сообщество, бесчисленное множество пострадавших не могло получить даже элементарной помощи. Люди продолжали умирать. К голоду, жажде, облучению прибавились традиционные болезни, вызванные антисанитарией: холера, дизентерия, тиф, туберкулез.
Шло время, а обстановка не улучшалась. И пострадавшие, и спасатели понимали, что для жизни континентальная Африка более не пригодна. Лагери беженцев не могли вместить такого количества народа, поэтому люди устремились к побережью и дальше – прочь с материка.
Исход постепенно набирал обороты, и через три месяца бегство стало массовым. Не прошло и года с начала войны, как Африка практически обезлюдела. Использовали все, что могло двигаться, от кораблей до самолетов, лишь бы убраться как можно дальше.
Со временем африканцы расползлись по всему миру: в Индию, во Францию, на Ближний Восток, в США, в Грецию, в Австралию и СССР. По разным оценкам, материк в поисках спасения покинули от семнадцати до двадцати миллионов человек. В течение года свыше двух миллионов достигли берегов Великобритании.
Иммигрантам из Африки, то есть «африммам», не обрадовались нигде, однако остановить их поток было невозможно. Медленно и натужно, страны запускали затяжной процесс ассимиляции беженцев. Сопровождалось это, естественно, серьезными социальными потрясениями, однако в Великобритании, где к власти пришло правительство с неорасистскими взглядами, последствия были гораздо серьезнее.
* * *
Я явился на вербовочный пункт, как было назначено, в половине второго пополудни.
Вот уже несколько дней телевидение и газеты без конца сообщали о том, что в вооруженные силы по-прежнему набирают добровольцев, но в ближайшее время будет возобновлен призыв. Между строк явно читалось: те, кто пойдет служить добровольно, окажутся в более выгодном положении, чем остальные.
От друзей я также узнал, какие категории людей в первую очередь попадут под призыв. В их число входили рабочие фабрик и заводов, тогда как сотрудники образовательных учреждений от воинской повинности освобождались.
Работа на фабрике меня не устраивала, а в армии обещали неплохое довольствие. Вот еще одна причина, по которой я пришел на медосмотр.
Узнав из объявлений, что наличие степени дает право поступить в офицерскую школу, я записался в курсанты. Меня отправили в кабинет, где сидел старший сержант в парадной форме. Вставляя через слово «сэр», он объяснил мне дальнейшие действия.
Для начала я прошел тест на умственные способности. Мои ответы тут же проверили, подробно объясняя ошибки. Затем задали несколько вопросов о биографии и политических взглядах, после чего приказали раздеться и проводили в коридор.
Там ярко горели лампы. У стены стояла деревянная скамейка. Меня оставили ждать врача. Больше в коридоре никого не было. Я не мерз, но кожа у меня все равно покрылась мурашками оттого, что я сидел совершенно голый в незнакомом месте.
Через пятнадцать минут появилась молоденькая медсестра и села за стол прямо напротив меня. Мне было неловко сидеть вот так вот напоказ перед ней. Руки я держал скрещенными на груди, поэтому, чтобы не привлекать к себе внимания, позы менять не стал, только положил ногу на ногу.
В те дни я испытывал сильнейшую сексуальную неудовлетворенность. Хоть медсестра и не смотрела в мою сторону, более того, по работе наверняка нагляделась на голых мужчин, я все никак не мог выбросить ее из головы. Она была смуглая и миловидная, а еще я заметил, как она улыбнулась, перебирая папки, – значит, все-таки обратила на меня внимание. От этой мысли кровь прилила к паху, и я с ужасом почувствовал, как твердеет член.
Дальше было только хуже. Я постарался сильнее сжать бедра, чтобы не выпускать его. Стало больно. Тут медсестра, отвлекшись от документов, подняла глаза на меня – и как раз в эту секунду мой пенис принял вертикальное положение. Я быстро закрыл его руками. Медсестра снова вернулась к работе.
– Ожидайте, вас скоро примут, – сказала она.
Я сидел неподвижно, прикрывая пенис ладонями. Стрелки настенных часов медленно отсчитали три минуты. Наконец, из двери вышел мужчина в белом халате и пригласил войти. Член по-прежнему стоял. Представив, насколько нелепо буду выглядеть, если пойду держась за пах, я заставил себя опустить руки. Проходя мимо медсестры, я чувствовал, как она провожает меня взглядом.
Когда я зашел в кабинет, эрекция начала спадать и меньше чем через минуту прошла совсем.
Врач быстро провел осмотр, сделал флюорографию, взял анализы крови и мочи. Затем вручил мне бланк, в котором указывалось, что если меня признают годным, то зачислят курсантом в Патриотическую армию Великобритании в звании младшего лейтенанта, и мне надлежит явиться на место прохождения службы строго в день и час, указанный в военном билете. Я подписался и получил разрешение одеться.
Далее было собеседование с мужчиной в гражданском. Он долго расспрашивал меня на темы, связанные с личностью и характером. Я еле вытерпел до конца и очень обрадовался, когда все закончилось. В ходе беседы я случайно проговорился, что какое-то время состоял в проафриммском обществе в колледже, после чего был вынужден отвечать на вопросы о политических убеждениях.
Неделю спустя мне прислали извещение: у меня выявили патологию печени, ввиду чего к военной службе я не годен.
За день до этого министерство внутренней безопасности объявило о возобновлении призыва. Тогда же появились сообщения о наступлении африммских боевиков. В течение месяца в ходе нападения на воинскую часть в Колчестере перебили целый батальон патриотических войск, а в воды Ирландского моря вошел американский авианосец. Тогда я понял, что военная обстановка куда серьезнее, чем мне казалось. С одной стороны, хорошо, что я не участвовал в сражениях, с другой – гражданская жизнь едва ли была намного проще, к тому же ухудшалась с каждым днем.
Получив извещение, я записался на прием к участковому врачу. Он изучил выписку и направил меня к гепатологу, а тот назначил ряд неприятных и болезненных анализов. Через несколько дней пришли результаты: с печенью у меня все было в порядке.
* * *
По дороге нам встретилась крупная группа африканцев. Мы не сразу сообразили, как себя вести: убежать, попытаться отпугнуть винтовкой или пойти навстречу. Сбивало с толку, что одеты они не в африммское обмундирование, а в такие же обноски, как и мы. В принципе, это вполне могли быть беженцы, однако до нас доходили слухи, насколько жестоко обращаются с подобными группами патриотические войска. Именно поэтому африканцы, не сражавшиеся на стороне боевиков, как правило, добровольно селились в лагерях беженцев или прибивались к сочувствующим белым, если встречали, но таких было меньшинство.
Эти африканцы вели себя приветливо, выглядели сытыми и как будто безобидными. С собой они везли три большие тачки; мы с Рафиком заключили, что там, скорее всего, спрятано оружие.
Мы пообщались несколько минут, обменялись свежими известиями – единственной валютой среди беженцев. Африканцы не выказывали тревоги и на нашу настороженность тоже не реагировали.
И все-таки была в их поведении какая-то нервозность. В конце концов мы попрощались: они остались у леса, а мы перешли поле и скрылись из виду.
Рафик подозвал меня к себе.
– Африммские партизаны, – сказал он. – Заметил у них браслеты с номерами?
* * *
В течение нескольких часов мы надеялись, что Изобель вернется. Я не знал, как объяснить дочери, почему мама ушла. Мне самому с трудом в это верилось. Кто же виноват? – спрашивал я себя снова и снова. По поведению Салли я понял: она чувствовала, что у родителей назревает нечто ужасное, и теперь наверняка винила себя. Я всячески ее успокаивал (отчего мне и самому стало легче), но обсудить случившееся по-взрослому был не в состоянии. К счастью, Салли вроде бы приняла новую ситуацию как данность и вопросов не задавала.
Изобель забрала с собой ровно половину наших денег, чемодан со своими вещами и немного еды. Все походное снаряжение досталось нам.
К полудню стало понятно: она ушла насовсем. Я начал собирать продукты для обеда, когда Салли вдруг заявила, что займется готовкой сама. Тогда я стал упаковывать вещи. Я еще не решил, куда мы пойдем, но оставаться на этом месте больше не было смысла.
После обеда я, как мог, изложил дочери возможные варианты наших дальнейших действий.
Я чувствовал себя совершенно опустошенным и разбитым. Как бы сильно мы ни поссорились с Изобель, я не ожидал, что она возьмет и бросит меня. Стараясь держать себя в руках, я сказал дочери, мол, мы с мамой договорились: она идет в Бристоль, а я забираю тебя назад в Лондон. К себе домой мы вернуться не сможем, постараемся найти какое-нибудь жилье. Салли понимающе кивнула, лишь спросив, как там ее друзья, и в какую школу ей придется теперь ходить.
Я продолжал объяснения. Ситуация в стране тяжелая, обратиться за помощью не к кому. Денег осталось мало, на машине ехать больше нельзя, поэтому идти придется в основном пешком.
– Пап, а почему мы не можем поехать на поезде? – спросила Салли.
У детей есть удивительный талант находить очевидный выход из затруднительного положения, который почему-то не приходит в голову взрослым. За все время наших скитаний я совершенно позабыл о существовании железных дорог. Интересно, Изобель тоже про них не думала или как раз догадалась, что так можно добраться до Бристоля?
– Давай попробуем. Только с деньгами беда, нам может просто не хватить на билет.
– Давай узнаем. Я больше не хочу спать в палатке.
Хотя планировать что-либо надолго вперед было бесполезно, я не мог отделаться от опасений по поводу обстановки в Лондоне. Вдруг там все так же плохо, как раньше? Если африммы по-прежнему захватывают дома и силовые структуры враждуют между собой, как и за пределами столицы, тогда счет людей в поисках жилья может идти на тысячи. А значит, вероятно, придется снова покинуть столицу. Тогда единственный вариант – отправиться к моему младшему брату, который живет в Карлайле. Впрочем, даже если нам чудом удастся попасть к нему, совершенно неясно, как он нас примет: мы с Эдвардом в свое время крупно повздорили. К сожалению, иного выхода все равно не было. Других родственников у меня не осталось: родители умерли, а Клайв, мой старший брат, погиб в столкновении под Бредфордом. Да уж, отношения с семьей у меня не сложились.
Собрав свои скромные пожитки, мы отправились в путь. Я нес чемодан и рюкзак, а дочка – сумку с одеждой. Мы двигались на восток – не потому, что именно там находилась ближайшая станция, а просто потому, что дорога шла под горку.
Через час с небольшим мы увидели телефонную будку. По привычке я снял трубку проверить, есть ли гудок. До сих пор нам не попадалось ни одного работающего телефона, хоть на вид они были в целости и сохранности.
На этот раз в трубке послышались щелчки, а затем женский голос:
– Говорит оператор АТС. Кого вызываете?
От неожиданности я не сразу нашелся, что ответить.
– Соедините… с Карлайлом, пожалуйста.
– Прошу прощения, абонент. Все линии заняты.
Судя по тону, она уже была готова положить трубку.
– Подождите… Разрешите тогда сделать звонок в Лондон?
– Прошу прощения, абонент. Все лондонские линии заняты.
– А можете перезвонить, когда какая-нибудь освободится?
– Эта АТС обслуживает только местные вызовы.
– Минуточку, – быстро вставил я. – Не подскажете, как попасть на ближайшую железнодорожную станцию?
– Откуда вы звоните?
Я продиктовал ей адрес телефонной будки, напечатанный на табличке рядом с аппаратом.
– Ожидайте.
Она положила трубку, а я остался стоять. Через три минуты в динамике послышался шорох.
– Ближайшая к вам станция находится в Уорнеме. Спасибо за звонок. До свидания.
Салли все это время ждала снаружи. Я пересказал ей суть разговора. Вдруг до нас донесся приближающийся рокот двигателей. Через несколько секунд мимо проехали семь грузовиков с военными. На подножке последнего стоял офицер. Он что-то нам прокричал, но из-за шума мы не расслышали. Появление людей на дороге немного обнадеживало, хотя такое открытое перемещение войск я наблюдал впервые.
Грузовики скрылись за горизонтом, и в округе снова стало тихо. Кроме нас, людей поблизости не было.
Я отыскал на карте Уорнем, и мы двинулись в нужном направлении. По дороге нам чаще попадались следы военной деятельности, нежели гражданской, и это тревожило.
Через полчаса мы дошли до деревни. На улице никого не было, только в окне последнего дома мелькнула фигура человека. Я крикнул ему и помахал, но он спрятался: то ли не заметил меня, то ли решил сделать вид, что его нет.
За деревней стояла целая артиллерийская батарея и лагерь на несколько сотен солдат. Вдоль дороги тянулась колючая проволока, возле которой стояли охранники. Стоило нам приблизиться, они стали отгонять нас. Я попытался заговорить с кем-то из рядовых, но он тут же вызвал старшего по званию. Тот повторил, чтобы мы убирались отсюда, причем до темноты, иначе будет худо. Я спросил, представляют ли они Патриотическую армию, однако офицер не ответил.
– Папа, я боюсь. У них оружие, – сказала Салли.
Мы пошли дальше. Несколько раз над самыми верхушками деревьев проносились реактивные самолеты. Гул звучал отовсюду, иногда – прямо над головой. От внезапности и оглушительной громкости мы то и дело сжимались в страхе. По дороге я нашел старую газету и решил почитать, чтобы узнать немного о происходящем.
Газета была отпечатана кустарным способом – скорее всего, подпольно. Две недели назад я как раз слышал по радио, что выпуск периодических изданий временно приостановлен. Качество печати было ужасное, стиль отвратительный, причем с явным душком расизма и ксенофобии. Буквально через слово речь шла о резне и проказе, о перестрелках и венерических заболеваниях, об изнасилованиях, людоедстве и чуме. Подробно описывалось, как в домашних условиях изготовить коктейль Молотова, дубинку с шипами и гарроту. Попадались и «новости», например, о массовых изнасилованиях, которые творили африммские боевики, или об успешных операциях правительственных войск по разгрому вражеских укрепленных точек. Внизу последней страницы приводились выходные данные: газета печаталась раз в неделю и предназначалась для гражданского населения, а публиковала ее Патриотическая армия Великобритании (внутренние войска).
Я сжег ее.
На подходе к уорнемской станции стоял еще один заслон. Увидев солдат, Салли крепко сжала мне руку.
– Не бойся, дочка, – сказал я. – Они здесь для того, чтобы никто не мешал движению поездов.
Она промолчала, вероятно, почувствовав, что мне тоже не по себе. Ладно, хотя бы поезда ходят, пусть и под присмотром военных. Мы подошли к заграждению, и я обратился к лейтенанту с повязкой «Королевские сецессионисты» на рукаве. Я не стал интересоваться, кто это.
– Можно ли отсюда попасть в Лондон?
– Поезда ходят нечасто, – ответил лейтенант. – Вам лучше узнать на вокзале.
– Разрешите пройти?
– Конечно.
Он кивнул подчиненным, и те отодвинули шлагбаум. Поблагодарив лейтенанта, мы направились к билетной кассе.
За окошком сидел кассир в привычной форме Британских железных дорог.
– Нам нужно попасть в Лондон, – сказал я. – Не подскажете, когда ближайший поезд?
Кассир нагнулся вперед, прижался лицом к стеклу и внимательно рассмотрел нас.
– Придется ждать до завтра. Мы должны заранее оповещать перевозчика о наличии пассажиров.
– То есть, просто так поезда тут не останавливаются?
– Не останавливаются. Только с разрешения перевозчика.
– А если надо срочно?
– Только с разрешения перевозчика.
– Хорошо, сегодня оповещать его уже поздно?
Кассир кивнул.
– Последний поезд прошел час назад. Если хотите, можете купить билет, и я свяжусь с перевозчиком насчет завтра.
– Минуточку, – сказал я и обратился к Салли: – Милая, сегодня нам придется снова спать в палатке, ничего?
– Да, папа. Но завтра мы ведь поедем домой?
– Конечно. – Я обратился к кассиру: – Почем билеты?
– Пять фунтов с пассажира.
Я вытащил из кармана все оставшиеся деньги и пересчитал. Даже двух фунтов не набиралось.
– А можно оплатить завтра? – спросил я.
Он мотнул головой.
– Билет приобретается заранее. Впрочем, если у вас с собой нет достаточной суммы, можете внести предоплату, а остальное заплатить завтра.
– Этого хватит?
– Думаю, да.
Он сгреб купюры и монеты в ящик, затем пробил что-то на кассовом аппарате.
– Поезд будет в одиннадцать утра. При себе нужно иметь эту бумагу и оставшуюся сумму.
Увы, это был не билет, а всего лишь расписка. Поблагодарив кассира, мы вышли на улицу. Начинало моросить. Я понятия не имел, где достать еще денег; в крайнем случае, думаю, я решился бы и на воровство.
Когда мы проходили через шлагбаум, молодой лейтенант нас окликнул:
– Что, сегодня не успели? Ничего не поделаешь, бывает. Издалека шли?
– Да, – ответил я.
– Тут, кстати, еще много беженцев, – сочувственно сообщил он.
Я хотел было кивнуть, но вдруг понял, что он включил в это число и нас. До сих пор мне и в голову не приходило считать себя беженцем.
– Главное доберитесь до Лондона, а там можете связаться с нашими, – утешил лейтенант.
Он сообщил мне название и адрес организации, которая занималась поиском жилья для бездомных. Я все записал и поблагодарил офицера, однако тот не успокаивался: теперь его заботило, что мы будем делать до утра.
– Я бы пустил вас на постой к нам, не впервой, – сказал он. – Вот только сегодня нашу часть, вероятно, передислоцируют. Найдете, где переночевать?
– У нас с собой палатка, – ответил я.
– А, вот и славно. Правда, советую все-таки устроиться подальше отсюда. Пришел сигнал о приведении в боевую готовность: в округе объявились патриотисты.
Я поблагодарил его еще раз, и мы наконец ушли. Такое участие и искреннее желание помочь обнадеживало. С другой стороны, последние слова прозвучали тревожно, и мы решили внять предупреждению. Пройдя довольно далеко на юг, мы достигли небольшого холма, окруженного с трех сторон лесом. Там и поставили палатку.
Ночью, лежа в темноте, мы слушали, как грохочут орудия и проносятся в воздухе самолеты. Небо на севере озаряли вспышки взрывов. По дороге с другой стороны холма маршировали солдаты, в лесу то и дело бухали шальные снаряды. Было очень страшно. Салли прижималась ко мне, а я пытался ее успокоить. Взрывы звучали то совсем рядом, то где-то в отдалении. Время от времени раздавались крики и стрекотали автоматы.
К утру все стихло, снова зарядил дождик. Боясь, как бы ненароком не вызвать стрельбу, мы до последнего не вылезали из палатки. Только в десять часов, наскоро собравшись, мы поспешили на станцию и к одиннадцати туда добрались. Ни заслона, ни военных не было. От вокзала остались одни развалины, рельсы в некоторых местах были разворочены снарядами. Зрелище наполнило нас отчаянием и ужасом. Расписку я порвал и выбросил.
Вечером того же дня мы попали в плен к африммам и пережили свой первый допрос.
* * *
Мы с Изобель лежали в темноте на ковре у нее дома. В комнате над нами спали ее родители. Они не знали, что я здесь. Хоть я им, кажется, нравился, и они даже уговаривали дочь видеться со мной почаще, едва ли они обрадовались бы, узнав, чем мы занимаемся на полу в гостиной.
Шел четвертый час ночи, поэтому очень важно было не шуметь.
Мои куртка и рубашка валялись рядом.
Изобель была без платья, майки и лифчика. Мы уже помирились после того случая в лесу и вновь стали встречаться всерьез. В отношении физической близости тоже наметился прогресс: теперь она позволяла раздевать себя и трогать за грудь во время поцелуев, хотя опускаться ниже все еще было нельзя. Большинство девушек, с которыми мне доводилось встречаться, стремились перейти к сексу как можно быстрее, поэтому строгость Изобель изрядно озадачивала. Поначалу такое ее поведение таило в себе изюминку, теперь же я начал понимать, что она в самом деле боится близости. Признаюсь, в первое время я просто хотел ее, но по мере общения стал испытывать настоящие чувства, и приставания отошли на второй план. Сочетание красоты и неприступности заставляло меня постоянно думать о ней.
После долгих поцелуев и ласк я откинулся на ковер, увлекая Изобель за собой. Пока она водила ладонью мне по груди и по животу, я все ждал, что она сунет руку мне в штаны и начнет гладить член.
Постепенно ее пальцы опускались ниже, касаясь пояса, затем проникли под него и тут же нащупали головку пениса. Явно не ожидав, что у меня уже встал, Изобель отдернула руку и, вся дрожа, отвернулась.
Выждав пару минут, я прошептал:
– Что такое? Что случилось?
Впрочем, я прекрасно знал, что случилось и что она не ответит.
Изобель молчала. Я осторожно положил руку ей на плечо. Кожа у нее была холодная.
– Что случилось? – снова спросил я.
Она опять не ответила. Несмотря на это странное поведение, у меня по-прежнему стоял.
Наконец она перевернулась на спину, взяла мою руку и положила себе на грудь. Как и плечо, она была холодная, а сосок – мягкий и скукоженный.
– Давай, – сказала она.
– Что давай?
– Сам знаешь. Ты ведь хочешь.
Я не шевелился. Делать, как она говорит мне, не хотелось, но и грудь ее я тоже не отпускал.
Видя мою нерешительность, она снова взяла меня за руку и резко сунула себе между ног, сама при этом снимая трусики. Я почувствовал прикосновение теплых мягких волосков. Изобель снова затряслась.
Я тут же вошел в нее. Нам обоим было больно и неприятно. Еще я боялся, что мы слишком шумим, и родители вот-вот прибегут разбираться, в чем дело. Когда я кончал, мой пенис выскользнул у нее из влагалища. Часть спермы попала внутрь, а часть – на ковер.
Я откинулся в сторону. Где-то глубоко я чувствовал разочарование от того, что, несмотря на свой сексуальный опыт, я вел себя как подросток, лишающийся девственности с невинной девочкой. Но больше всего мне хотелось свернуться калачиком и не двигаться.
В итоге Изобель пришла в себя первой. Она поднялась и включила настольную лампу. Я впервые увидел ее стройное юное тело без одежды, лишенное сексуального ореола загадочности. Ногой она подтолкнула ко мне мои вещи. Мы молча оделись, не глядя друг на друга.
На ковре, где мы лежали, темнело влажное пятно. Салфетками оттереть на удалось – въелось.
Я собрался уходить. Изобель прошептала мне на ухо, чтобы я не заводил мотоцикл, пока не дотолкаю его до шоссе, а потом поцеловала. Мы договорились увидеться в следующие выходные. И вышли в коридор.
Ее отец в пижаме сидел на лестнице. Лицо у него было заспанное. Мне он ничего не сказал, а Изобель схватил за руку и не отпускал. Я выскочил на улицу и сразу завел мотоцикл.
Хоть мы и не предохранялись, Изобель не забеременела. Впрочем, во время нашей свадьбы она уже была на первом месяце. Впоследствии мы редко занимались любовью. Секс не приносил Изобель удовольствия, и настоящего оргазма, насколько я мог понять, она почти не достигала. После рождения Салли мы и вовсе перестали испытывать друг к другу влечение, так что в итоге я стал искать удовлетворения на стороне.
Бывали, конечно, хорошие времена, когда я смотрел на Изобель, вспоминая ее девичью красоту и бледно-голубое платье, свои надежды и желания, и мне становилось горько.
* * *
Дни шли. Складывалось впечатление, что я один еще хочу отыскать похищенных женщин. Остальные как будто не думали ни о чем, кроме очередного дневного перехода, где бы безопасно заночевать и где бы раздобыть еды. О женщинах вспоминали реже и реже, а после похода в бордель Августина все вели себя так, словно их никогда и не было.
Мы дошли до деревушки под названием Стоуфилд (если верить карте). На первый взгляд она ничем не отличалась от сотни других поселков, которые попадались нам по пути. Приближались с привычной настороженностью, заранее решив, что если заметим баррикады, то немедленно удалимся.
Скоро стало видно, что когда-то здесь и правда были баррикады. Рядом со слепой кирпичной стеной, выходящей на дорогу, лежали две груды обломков, между которыми мог протиснуться грузовик.
Вместе с Рафиком мы заглянули за развороченную баррикаду и увидели на земле десятки винтовочных гильз.
Мы обошли деревушку, заглядывая в каждый дом. Двери стояли нараспашку, залезть внутрь не составляло труда. В домах ничего не осталось, хотя их явно покидали в спешке. Кое-где нам посчастливилось найти консервы и тем самым пополнить запасы продовольствия.
Мы размышляли, кто напал на деревню. Трудно сказать, что случилось с местными жителями. Всюду были сломанные и разбитые вещи, но это уже могли мародеры постараться. Кое-где на столе стояла недоеденная пища, но, опять же, однозначных выводов отсюда не сделаешь. Только когда мы заканчивали обходить деревню, один из наших закричал, мол, нашел что-то.
Мы с Рафиком пошли смотреть. Заглянув в дом, Рафик гаркнул, чтобы все остались снаружи, а меня жестом позвал за собой.
В комнате на втором этаже лежали четыре мертвые белые женщины – обнаженные и со следами сексуального насилия. При первом взгляде на них у меня перехватило дыхание, я снова представил те ужасы, которые могли случиться с Изобель и Салли. Хватило, однако нескольких секунд, чтобы понять: их тут нет. Смерть исказила тела, но разлагаться они еще не начали. Виднелись следы борьбы, пол был выпачкан засохшей кровью. У одной женщины на груди зияла рана, как будто от ножа. Зрелище выглядело жутко, и мы с Рафиком поспешили ретироваться. Я потом еще долго не мог успокоиться.
Стали решать, что делать. Я предложил похоронить трупы, но никому не улыбалось спускать их вниз. Рафик предложил сжечь дом. Он стоял обособленно; пламя перекинуться не должно.
Мы вынесли оба варианта на общий суд. Двоих наших в это время рвало в кустах, остальных мутило. Неприятный осадок остался у всех. Так что приняли предложение Рафика. Проверив дом еще раз на предмет чего-нибудь полезного, мы его запалили.
А на ночлег устроились в другом конце деревни.
* * *
Кроме меня, мужчин в раскройном цеху почти не было. Несмотря на законы о равном распределении труда, принятые предыдущим правительством накануне выборов, по-прежнему оставалось множество задач, которые преимущественно или исключительно выполняли женщины. В массовой текстильной промышленности к таковым как раз относилась раскройка.
Итого нас было трое: я, Дейв Хармэн, пенсионер, который подметал в цеху по утрам и готовил чай, да парень по имени Тони. Девушки обращались с ним, как с озорным бродяжкой, а он всячески им подыгрывал – это в его понимании, видимо, называлось флиртом. Я так и не узнал, сколько Тони лет на самом деле – явно не меньше двадцати, – и тем более не понимал, в чем смысл строить из себя мальчишку-подростка. Друзьями нас назвать было нельзя, поскольку вне работы я ни с кем не общался, но в ответ на постоянные подтрунивания и похабные намеки со стороны женщин между нами сформировалось что-то наподобие мужского братства.
Мои отношения с коллегами противоположного пола поначалу строились проблематично, потом вроде бы наладились.
Например, почти все думали, будто меня взяли в качестве надсмотрщика и контролера, поэтому на любые попытки заговорить отвечали вежливой прохладцей. Интеллигентский выговор также не способствовал взаимопониманию. Поняв, наконец, причину, я всячески старался показать, что на самом деле занимаюсь тем же, чем и все. Естественно, о своем отце я умалчивал. Когда ситуация прояснилась, атмосфера в цеху стала менее напряженной, хотя кое-кто продолжал держать дистанцию. Прошло еще несколько недель, и женщины постепенно стали принимать меня за своего.
Вместе с этим их поведение становилось более развязным. С самого первого дня я наблюдал, как женщины обращаются с Тони, однако со мной до поры до времени они так вести себя побаивались.
До сих пор я вел достаточно закрытую жизнь – в том смысле, что общался преимущественно с представителями своего класса, – и поэтому считал женщин застенчивыми и скромными. Однако социальный кризис в стране провоцировал падение морали. Так люди реагировали на драконовские законы, которые вводило правительство Трегарта. Строго ограничивалось время работы пабов, курение в общественных местах и пользование автомобилем, нормировалось потребление электроэнергии и газа, был введен запрет на вывоз больших сумм денег за границу, появлялись или увеличивались налоги на различные категории товаров. Ходили слухи, что скоро продукты будут отпускать по карточкам. Старшее поколение еще помнило чрезвычайное экономическое положение в годы Второй мировой, но и тогда все было не так сурово, а сейчас к тому же даже война не шла. Огрубление нравов в этом свете воспринималось почти как акт гражданского протеста: каждый вечер на улицах вспыхивали пьяные драки, в кино и на телевидение хлынул поток дешевой порнографии, отовсюду слышалась ругань, резко возросла уличная преступность, особенно в отношении представителей национальных меньшинств. Мои коллеги по раскройному цеху вели себя грубо и агрессивно. И дня не проходило, чтобы кто-нибудь не отпустил скабрезность или похабную шуточку, прямо или косвенно намекая на наши с Тони гениталии. Как-то парень рассказал мне: однажды, еще до моего прихода, одна из женщин ради смеха расстегнула ему ширинку и попыталась залезть в трусы. Он рассказывал это как будто походя, но я понял, что его сильно зацепило.
С ухудшением экономической обстановки компания стала получать все меньше заказов, а значит, наш объем работы тоже сокращался. Правительство Трегарта внесло поправки в трудовое законодательство, которые значительно усложняли сокращение штатов. Увольнение сотрудников выливалось в крупную сумму: нужно было выплатить не только выходное пособие, но и штраф в налоговую. Таким образом, беспокоиться по поводу рабочего места никому из нас не приходилось.
На обед отводился час. Когда взяли меня, перерыв увеличили до полутора часов, а затем и до двух. Руководство поощряло больничные отпуска, однако, поскольку правительство временно отменило медицинские льготы, этим мало кто пользовался. Вскоре, когда началось брожение в рядах вооруженных сил и армия перекрыла основные морские порты, работы у нас и вовсе не стало. То есть на бумаге у нас было только два часа перерыва, на деле же мы весь день просто сидели, не зная, чем себя занять. Как-то мы с Тони решили полностью вымыть цех и перекрасить стены. На это ушла ровно неделя, после чего делать стало совсем нечего, и мы принялись убивать время вместе с остальными.
Постепенно наш небольшой коллектив стал напоминать мне нынешнее британское общество в миниатюре. Большая часть женщин – белые, из рабочего класса, были среди нас и несколько азиаток, пара-тройка девушек родом с Карибских островов и две мавританки, приплывшие на судне вместе с африканскими беженцами. Они совершенно не знали английского, но быстро схватывали.
Женщины приносили из дома карты и настольные игры, передавали по рукам журналы и бульварные романы. Поначалу я думал, что в свободное время тоже возьмусь за литературу, однако вот в чем подвох: они-то читали истории из жизни поп-звезд и телезнаменитостей, а меня за мои книги дразнили «умником». К тому же от чтения при плохом освещении у меня болят глаза. Радио мы с общего согласия не включали: не хотелось слушать скучную музыку и официальные объявления. Когда кто-то достал черно-белый переносной телевизор, управляющий тут же его конфисковал. Впрочем, смотреть там тоже было нечего. Тогда женщины стали приносить вышивку и вязание, некоторые упражнялись в чистописании. На улицу в обед старались не выходить – этот район Лондона считался чересчур неблагополучным.
Потом женщины стали собираться за верстаком вокруг самодельной доски для гаданий. Мне никто об этом не говорил. Я случайно увидел их, когда от нечего делать забрел в прилегающий склад. Женщины толпились в углу: семь сидели у верстака, а десять стояли рядом и смотрели. На столе лежали обрывки картона с буквами, а указкой служил пластиковый стаканчик.
Женщина, что постарше, задавала вопросы в пустоту, а остальные участницы держали стаканчик и читали ответы. Какое-то время я увлеченно наблюдал за процессом, гадая, специально ли они двигают указку или нет. Некоторые «ответы» вызывали визг восторга и удивления, и вообще весь процесс был очень шумным. В конце концов мне надоело, и я ушел.
В дальнем углу склада, за стеллажами с тканью, я вдруг заметил Тони с мавританкой – той, которая младше. Они оба были одеты, но девушка лежала на спине, раздвинув ноги, а Тони сверху. Рукой он водил под платьем, сжимая ей грудь. Меня они не видели.
Уходя, я услышал шум за столом, где гадали по доске. Кто-то – а именно, вторая мавританка – вскочил и побежал в цех. Ее подруга, вероятно, заметила это, и, выскочив из угла, где уединялась с Тони, побежала следом. Они стали ругаться на своем языке, перекрикивая друг друга, пока одна не заплакала. Затем обе перестали общаться с остальными и к концу следующей недели уволились.
* * *
Наступила ночь, а дом еще горел, окрашивая соседние постройки в темно-оранжевый и окутывая деревню едким, сладковатым дымом.
Настрой в группе немного изменился. В том, что стало с теми четырьмя девушками, я, как и остальные, увидел реальное подтверждение самых худших опасений по поводу наших женщин.
Если брать по отдельности, полагаю, каждый из нас оторопел от ужаса, и вместе мы лишь укрепились в своем нежелании вмешиваться в ход гражданской войны. О продолжении поисков даже не заговаривали. Однако моя решимость только усилилась. Салли – маленькая девочка, у нее еще вся жизнь впереди. Именно о ней, а не о жене я беспокоился больше всего.
Когда стемнело, я отделился от группы и пошел в дом неподалеку от того, который мы запалили. Хотя пожар утих, дерево продолжало тлеть и светиться. Потухнет, скорее всего, только к утру. Запах дыма напоминал мне об осени.
Я сидел в одиночестве в старом кресле на первом этаже и думал, что буду делать завтра.
Время шло. Откуда-то доносился гул двигателей, но я не обращал внимания. Только когда шум стал мешать мне думать, я вскочил с кресла и выбежал на участок за домом.
Небо было ясное, месяц немного подсвечивал землю. Я сидел в темноте, так что глаза у меня привыкли сразу. Через пару мгновений я понял, откуда идет звук: с юга к деревне приближалась группа вертолетов. Они шли низко и не быстро. Я кинулся на землю, сжимая в руках винтовку. Когда вертолеты пролетали надо мной, я пересчитал их: ровно двенадцать. Они еще сильнее замедлили ход и опустились на поле за деревней. Меня окатывало то вибрацией от двигателей, то порывами ветра от пропеллеров.
Между мной и местом посадки был пригорок, поэтому я больше ничего не видел. Поднявшись на ноги, я подошел к изгороди и выглянул за нее. Двигатели продолжали работать вхолостую, навигационные огни не горели.
Прошло десять минут. Я стоял, размышляя, не вернуться ли к остальным. Однако непонятно было, что здесь делают вертолеты. Не нас ли ищут? Может, они увидели дым от горящего дома или тлеющие угли? Хотя вряд ли: на такие пустяки дюжину дорогих аппаратов не пошлют.
Вдруг неподалеку, заставив меня подскочить, грянула стрельба, а следом два или три взрыва. Я упал на землю, сердце колотилось от страха. По вспышкам я понял, что перестрелка идет по ту сторону лесного массива, тянувшегося вдоль шоссе неподалеку от деревушки. Выстрелы продолжались, им вторили взрывы. В небо взвился белый всполох и распустился алым цветком.
Вертолеты тут же вновь поднялись в воздух и, перестроившись, пошли к лесу. Скоро они скрылись из виду, но по рокоту двигателей было ясно, что они где-то поблизости.
За спиной у меня хлопнула дверь.
– Уитмен, ты?
Я разглядел в темноте чей-то силуэт. Человек подошел ближе, и я узнал Олдертона.
– Да, я. Что происходит?
– Никто не понимает. Рафик послал за тобой. Какого хрена ты тут делаешь?
Я сказал, что ходил искать еду и что через несколько минут вернусь к остальным.
– Лучше иди сейчас. Рафик предлагает сниматься, а то мы слишком близко к дороге. Что-то неладное творится, и он не хочет, чтобы мы подставлялись.
– Может, сначала разберемся, что именно творится?
– Рафик у нас, вообще-то, главный. Раз он сказал – надо слушаться.
– Да ну?
Ни с того ни с сего во мне взыграло бунтарство. Я не хотел слушать ничьих указаний, тем более от Олдертона, которого находил непроходимо тупым и упрямым. За все время в группе мое отношение к нему так и не поменялось.
Вертолеты загудели как-то иначе, и мы вернулись к изгороди, откуда я смотрел на поля и лес за ними.
– Где они? – спросил Олдертон.
– Не вижу.
Снова затрещали выстрелы, следом – пронзительный свист и четыре взрыва, почти накладывающиеся друг на друга. Лес озарился изнутри ослепительной вспышкой, которая затем погасла. Опять стрельба. Один вертолет пророкотал над деревней, второй завис неподалеку. Вдруг он издал оглушительный рев, и несколько ракет, оставляя за собой пламенный след, устремились к деревьям. Мы с Олдертоном рефлекторно пригнулись, но огонь вели не по нам. Через мгновение из леса снова донеслось четыре взрыва – может, больше. Затем опять жуткий свист, и еще четыре взрыва. Очередной вертолет проплыл над нами и занял позицию для обстрела.
– Бой идет в районе шоссе, – сказал Олдертон.
– Кто это?
– Рафик думает, что африммы. А вертолеты по виду советские. Впрочем, я их не различаю.
– Откуда у них авиация?
Воздушный обстрел продолжался. Вертолеты открывали огонь строго друг за другом, как на учениях. Стоило грохоту от одного залпа стихнуть, как следовал другой. И все это сопровождалось автоматной стрельбой на земле.
Вдруг меня осенило:
– Скорее всего, это те партизаны, которых мы встретили вчера. Они устроили засаду на шоссе.
Олдертон промолчал. Чем больше я думал, тем вернее казалась мне моя догадка. Африканцы явно что-то скрывали, все это заметили. Если, как предполагает Рафик, вертолеты и правда советские, а управляют ими африммы, то гражданская война вышла на новый, еще более ужасный уровень.
Неравный бой длился еще несколько минут. Мы с Олдертоном видели только отсветы взрывов и пролетающие над головой вертолеты. Незаметно для себя я начал считать число залпов. После двенадцатого наступило небольшое затишье. Вертолеты улетели перестраиваться. Вдруг один аппарат возник у нас за спинами. Он не стрелял, просто пронесся над лесом, а затем вернулся к своим. Мы снова затаились. Лес полыхал оранжевым пламенем, время от времени что-то в нем взрывалось. Стрельба вроде бы прекратилась.
– Похоже, все, – сказал я.
– Еще один где-то рядом, – отозвался Олдертон.
Я повертел головой.
– Вот он! – сказал Олдертон, указывая вправо.
Черный силуэт был едва различим на фоне ночного неба. Он двигался медленно, почти над самой землей. Навигационные огни не горели. Вертолет шел прямо на нас. У меня от страха заколотилось в груди.
Аппарат пролетел над полем, затем развернулся и, слегка набрав высоту, вновь направился к нам. Оказавшись над догорающими развалинами, он завис.
Мы с Олдертоном вернулись в дом и поднялись на второй этаж. Вертолет по-прежнему висел прямо над выгоревшим остовом. Порывы ветра от пропеллера разбрасывали золу во все стороны. Тлеющие угли вдруг вспыхнули, занялось пламя, и к нам поплыл дым.
В отсвете пожара отчетливо была видна кабина вертолета. Я вскинул винтовку, прицелился и выстрелил.
Олдертон кинулся на меня и выбил оружие из рук.
– Ты чего творишь, кретин?! Они же поймут, что мы здесь!
– Да плевать.
Я смотрел на вертолет. Сначала мне показалось, что я промахнулся. Потом двигатель резко ускорил обороты, и вертолет начал подниматься. Хвостовой пропеллер вращался с перебоями. Вертолет продолжал набирать высоту, но его вело куда-то вбок. Двигатель надсадно визжал. Затем аппарат ухнул в темноту, и через две секунды до нас донесся раскатистый грохот. Земля задрожала, в отдалении полыхнуло ослепительно желтое зарево, обломки вертолета взметнулись в воздух и разлетелись в разные стороны.
– Мудак! Кретин долбаный! – снова взвился Олдертон. – Теперь остальные придут сюда разбираться!
Я не стал отвечать.
* * *
После ухода Изобель мы с дочкой пребывали в постоянном страхе и замешательстве. Беда наконец стала осязаемой. Мы лишились последнего, что хоть как-то связывало нас с прежней жизнью.
Работа, деньги, дом, а теперь и семья. Не осталось ничего. Я не хотел, чтобы Салли так воспринимала ситуацию, и делал вид, что еще чуть-чуть, и все образуется.
Исчезновение Изобель, надо признаться, произвело на меня неожиданный эффект. Во-первых, я испытывал неподдельную ревность. Пока мы жили вместе, у Изобель была возможность – да и мотив – завести любовника, но уверен, она ею не воспользовалась. Теперь, однако, я заметил, что часто думаю, где она, что делает и, главное, с кем.
Во-вторых, я скучал по ней, невзирая на ту злость, которую она испытывала ко мне.
Мы оба прекрасно знали, что ждет нас в будущем, хотя и не обсуждали этого напрямую. Да, наверное, мы сумели бы продержаться, пока Салли не вырастет и не начнет жить самостоятельно, но потом точно разошлись бы. Наш брак, по сути, был фикцией.
И вдруг все перевернулось с ног на голову, стало непредсказуемым. То будущее кануло в небытие, а нового попросту не было.
* * *
Прошел час. Рафик и остальные прибежали узнать, что случилось. Вертолет упал за пригорком, в поле, поэтому обломков мы не видели. Сначала прогремел оглушительный взрыв, потом был пожар, сопровождавшийся какими-то хлопками. Наконец все прекратилось. Никакого движения, остальные вертолеты тоже не возвращались. Стояла тихая ночь, и, если бы не огонь в лесу, нипочем не подумаешь, что совсем недавно здесь шло настоящее сражение.
Я угодил в неоднозначное положение. С одной стороны, за сбитый вертолет меня, хоть и нехотя, зауважали; с другой стороны, Рафик, а с ним еще несколько человек, прямо заявили, что я совершил большую глупость. Я, в общем, и не спорил. Мы всегда избегали действий, которые какая-нибудь группировка могла истолковать как угрозу. Если бы экипажи других вертолетов увидели, что стрелял я, в нас бы уже летели ракеты. То, что меня не заметили – чистое везение.
Теперь, когда всплеск адреналина прошел и основная опасность миновала, я мог спокойно обдумать произошедшее.
Наверняка вертолетами управляли либо африммы, либо им сочувствующие, а африканские беженцы, даже если отбросить расовые и националистические предрассудки, – все-таки наш общий враг. И все же мой выстрел был местью за похищение женщин. Никто из моих товарищей, думаю, этого не понимал. Впрочем, оружие было только у меня, и только я мог совершить подобный поступок.
Вообще, вся эта история вызывала во мне неожиданное, пьянящее чувство удовлетворения. Я в жизни почти ни разу не стрелял из винтовки, тем более с намерением причинить кому-нибудь вред, а тут я либо серьезно ранил, либо убил экипаж целого вертолета. В тот момент в моей жизни произошел крутой поворот. Я понял, что готов пойти на все.
Группа тем временем обсуждала, как поступить дальше. Я устал и хотел спать, остальные же спорили: идти обыскивать вертолет или обшарить лес в поисках того, что так привлекло африммов.
– Нет, давайте ляжем спать. А с утра пораньше выдвинемся, – сказал я.
– Тут спать нельзя: слишком опасно, – возразил Рафик. – Обчищаем вертолет и уходим куда подальше.
Коллинз предложил осмотреть лес, кое-кто его поддержал. Если военные посчитали нужным нанести удар, вполне возможно, там есть что-то ценное на продажу. В итоге договорились разделиться, хоть это и шло вразрез с нашими принципами. Я, Рафик и еще двое пойдут к разбившемуся вертолету, а Коллинз с Олдертоном поведут остальных в лес. Кто первый закончит, идет навстречу другой группе.
Мы вернулись в лагерь, собрали вещи и разошлись.
Вертолет лежал посреди поля за сожженным домом. Взрывы и всполохи пламени уже полчаса как утихли, так что можно было безопасно туда подойти. Меня больше волновал экипаж. Если все погибли при падении, то хорошо. Если же, наоборот, кто-то выжил, последствия могут быть самые неприятные.
Мы шли молча. Издали разбившийся вертолет казался огромным раздавленным жуком. Никакого движения мы не увидели, но на всякий случай выждали еще несколько минут.
– Пошли, – прошептал Рафик.
Оставшееся расстояние мы проползли по-пластунски, готовые ко всему. Однако, приблизившись к обломкам, поняли, что даже если внутри кто-то и выжил, опасаться нам нечего. Вертолет представлял собой искореженную груду металла, из кабины торчала лопасть пропеллера.
Никого не встретив, мы поднялись, осторожно обошли аппарат кругом в поисках чего-нибудь полезного. Правда, в темноте рассмотреть что-либо было трудно.
– Так мы ничего не найдем, – сказал я Рафику. – Если придем сюда с утра…
Из обломков донесся шорох. Мы отскочили и укрылись в траве. Следом послышался мужской голос, сбивчивый и задыхающийся.
– Что он говорит? – спросил кто-то.
Мы прислушались, но не смогли разобрать ни слова. Тогда до меня дошло, что это какой-то африканский язык – я вроде бы такой уже слышал. В последнее время новости на «Би-би-си» дублировались сводками на суахили. Понять афримма это все равно не помогало.
Впрочем, суть его слов была ясна и без перевода: он застрял, и ему больно.
Рафик достал фонарь и, стараясь держать его пониже, чтобы никто нас не заметил, посветил на обломки.
Сначала мы видели только развороченные куски металла, потом блеснула уцелевшая табличка. На ней были напечатаны инструкции на кириллице. Мы подошли ближе, и Рафик посветил внутрь. Через мгновение среди обломков мы разглядели человека. Он лежал лицом к нам, вся голова в крови. Он прошептал еще что-то, и Рафик выключил фонарь.
– Внутрь не подлезешь. Пойдемте.
– А как же пилот? – спросил я.
– Не знаю. Ему не помочь.
– Может, хотя бы попробуем вытащить его?
Рафик снова включил фонарь. Пилот был прочно зажат между обломками кабины и фюзеляжа. Без тяжелого оборудования его не вызволить.
– Бесполезно, – сказал Рафик.
– Нельзя же вот так его бросить.
– Придется. – Рафик убрал фонарь в карман. – Все, пора уходить. Тут слишком опасно.
– Рафик, ну должны же мы сделать хоть что-то!
Он подошел вплотную ко мне.
– Слушай, Уитмен, ты же видишь: дохлый номер. Боишься крови, тогда нечего было сбивать эту хреновину. Ясно?
Мне не понравился его тон, но, чтобы не разводить спор, я кивнул.
– У тебя есть винтовка, – продолжил он. – Если хочешь, воспользуйся.
Все трое моих товарищей пошли обратно к деревне.
– Я еще посмотрю, что можно сделать. Я догоню.
Мне никто не ответил.
Понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, что Рафик прав. Раненого афримма не вытащить. Тот продолжал стонать, жадно глотая воздух. Будь у меня фонарь, я бы, наверное, еще раз заглянул внутрь посмотреть на его лицо. Вместо этого я сунул винтовку в проем, примерно в том месте, где была голова пилота.
Потом извлек винтовку, выпрямился и сделал пару шагов назад. Поднял ствол вверх и дважды выстрелил в воздух.
Стоны внутри вертолета стихли.
* * *
Салли еще не исполнилось и двух, а наши с Изобель отношения практически сошли на нет. Мы стали ненавидеть голос друг друга, лицо друг друга и прикосновение спинами в постели. Конечно, старались терпеть.
* * *
Войдя в паб, мужчина направился прямиком ко мне. Он сказал, что его зовут Джо и что он мой друг. Я сразу же насторожился. Когда тебе вот так вот ни с того ни с сего навязываются, ничего хорошего не жди. Вместе с Джо в паб вошли еще несколько незнакомых мне мужчин и женщин. Они стали подсаживаться к завсегдатаям и набиваться на разговор. Я сделал вид, что не замечаю своего собеседника, но его это не останавливало. Уйти тоже не получалось: я сидел у самой стенки, и мне пришлось бы протискиваться мимо него. Впрочем, я все равно проводил вечер в одиночестве, так почему бы не поболтать?… Лучше бы я этого не делал.
Джо спросил, как я отношусь к текущей обстановке, не беспокоит ли меня, что африканские беженцы силой выживают людей из домов. Я отвечал уклончиво. С одной стороны, истории, которые я видел по телевизору и слышал от друзей, заставляли бояться, вдруг подобное грозит и моей семье; с другой стороны, я не мог не понимать подоплеки происходящего.
На это мой «друг» бойко объяснил: новый закон не ущемляет права иммигрантов, а, напротив, защищает их. Правительство отчетливо видит, в каком положении находятся африканцы и что их надо воспринимать не как непрошеных гостей, а как временных иждивенцев. Нельзя, чтобы один-два беженца, разгуливающих с оружием, наводили ужас на всю страну. Поскольку легального статуса у них нет, полиция просто обязана как можно быстрее задержать нарушителей порядка. В этом-то и состоит суть нового закона.
Я возразил, что в последнее время участились случаи похищений, побоев и убийств. Взять, к примеру, нашумевшее дело в Гортонском районе Манчестера, где были найдены десять мертвых изувеченных африканок со следами издевательств, пыток и изнасилования.
Джо не спорил, только сказал, что как раз таких зверств новый закон и призван не допускать. Ведь если беженцам ограничить права и свободу перемещения, то их легче будет защищать. От африканцев требуется лишь придерживаться определенных правил – и то, что большинство противится этому, только еще раз доказывает, насколько они чужды британскому обществу.
Дальше последовал рассказ об истоках политической карьеры Джона Трегарта: мол, еще тогда, будучи никому не известным тори, он придерживался прогрессивных идей патриотизма, национализма и расовой чистоты. Более того, он не отказался от своих взглядов даже в скоротечный период неолиберальной ксенофилии, который предшествовал нынешней катастрофе. Народ поступил дальновидно, избрав его партию в качестве правящей, и теперь все пойдет на лад.
На Джо был аккуратный деловой костюм, чистая белая рубашка и стильный темно-синий галстук. Сам он, однако, такой одежде не соответствовал: широкоплечий, непричесанный, с двухдневной щетиной, пропахший по́том. Во время разговора он наклонялся близко ко мне, и я разглядел желтые зубы и бледный застарелый шрам от левого глаза до уха. Все политические разглагольствования напоминали заранее написанные реплики, которые его заставили зазубрить.
Я окинул взглядом паб, ища способ улизнуть. Джо спросил, что я думаю обо всем услышанном.
Мне кажется, сухо ответил я, что Трегарт пришел к власти только благодаря дельцам, согласившимся профинансировать его предвыборную кампанию.
И снова Джо не стал спорить, заметив лишь, что создать политическую партию с нуля – недешевая затея. А то, что она победила уже на вторых парламентских выборах, доказывает ее огромную популярность. И кстати, не соглашусь ли я сделать пожертвование в фонд партии?
Я перевел тему, возразив, что обзавестись хоть какими-то сторонниками Трегарту помог раскол внутри оппозиции, а также серьезная поддержка среди деловых кругов.
Разговор зашел в тупик. Я стал гадать, что будет дальше. Трегарт и его радикальная политика вызывали во мне глубокое отторжение; в то же время меня не устраивала и нынешняя ситуация.
Джо, однако, не унимался. Бардак с африммами, напомнил он, начался через несколько месяцев после выборов, так что Трегарт ни при чем – ему приходится реагировать на происходящее. И вообще, никакой расовой дискриминацией тут не пахнет. Просто серьезные проблемы требуют жестких решений, а африммы, что бы там ни заявляли всякие гуманитарные активисты, – это бездушные, опасные чужаки, и обращаться с ними нужно соответственно.
Я допил бокал, но угощать меня еще раз Джо не стал.
* * *
Я догнал Рафика и остальных уже в деревне, и мы вчетвером зашагали к лесу. Про пилота Рафик даже не спросил. Видимо, я сильно преувеличил значимость этого происшествия.
Как только мы оказались на шоссе, которое шло через лес, нам навстречу выбежал один из тех, кого отправили с Коллинзом.
– Сюда, сюда! – закричал он с воодушевлением.
– Что такое? – спросил Рафик.
– Коллинз отправил меня за вами. Мы нашли их!
Ни слова не говоря, Рафик быстрым шагом направился в сторону пламени. Я пошел следом и, улучив момент, посмотрел на часы. В лунном свете как раз можно было разглядеть циферблат: половина четвертого. С каждой минутой меня выматывало все сильнее, а отдыха скоро не предвиделось. Мы знали, что днем спать опасно, если только не найти укромного места.
Опушку леса окутывал густой дым. Он был едкий и стелился низко, от малейшего вдоха становилось дурно. Подобного я еще никогда не чуял; все потому, что горело сразу много разных материалов. На фоне прочих особенно выделялась вонь от кордита и стреляных патронов – запах войны.
Мы вышли на место, где была засада. Дорогу перегораживал сельскохозяйственный самосвал. Неподалеку стоял раскуроченный остов ведущего грузовика конвоя. В него прямиком угодила как минимум одна ракета с вертолета. В том, что осталось, опознать автомобиль можно было с большим трудом. За ним следовали еще взорванные грузовики. Я насчитал только семь, Рафик же потом говорил, что двенадцать. Как он это определил, не знаю. Четыре грузовика продолжали гореть. Кусты по обочинам дорог тоже воспламенились, и дым от них примешивался к прочим источникам. При отсутствии ветра дышать здесь было практически нечем.
Интересно, кому принадлежали грузовики. В необъявленной трехсторонней гражданской войне флагами и опознавательными знаками обычно не пользовались. В основном, грузовые конвои снабжали войска патриотистов или сецессионистов, а на вертолетах, как выяснилось, летали африммы, но не обязательно. На мой взгляд, автомобили были американского производства, однако сказать наверняка никто из нас не брался.
Из дыма нам навстречу вышел человек. В пляшущем свете пламени я разглядел, что это Коллинз. Вокруг носа и рта у него была повязана тряпка. Он глубоко вдыхал свежий воздух.
– Раф, похоже, тут шел грузовой конвой патриотистов! – крикнул он нам, затем отвернулся и шумно закашлялся.
– Что-нибудь ценное?
– Еды нет, остального тоже по мелочи. – Говорить ему было трудно. – Зато попалось кое-что покруче.
Рафик достал из кармана тряпку и закрыл ею лицо. Я последовал его примеру, и Коллинз провел нас мимо остовов первых двух грузовиков к третьему, не охваченному огнем.
Водительскую кабину разорвало, но кузов не задело. По инерции грузовик врезался в тот, что ехал впереди. Он уже обуглился. Следующий по ходу грузовик еще тлел; ракета попала точно в него. Рядом стояли восемь или девять наших, выжидающе глядя на Рафика.
Коллинз указал на ящик, лежащий на земле.
– Вот, нашли в грузовике.
Рафик склонился над ящиком, вытащил из него винтовку и положил рядом.
– Еще есть?
– Полный кузов.
В это мгновение грузовик в дальнем конце колонны взорвался, и все пригнулись, закрывая голову руками. Я вскинул винтовку и машинально отошел к ближайшим деревьям, наблюдая за реакцией Рафика.
– Патроны есть? – спросил он, оглядываясь по сторонам.
– Да.
– Собирайте все, и поживее. Сколько унесем. Эй, Келк! – Один из наших подбежал к Рафику. – Тащи сюда тачку. Вываливай из нее все, погрузим винтовки.
Мне подумалось, что если грузовик взорвется, то мы все либо погибнем, либо серьезно пострадаем. Трава и кусты возле автомобиля почернели от жара, искры от соседних пожарищ падали совсем рядом. Много ли горючего в баке? Остались ли неподалеку неразорвавшиеся снаряды? Не исключено, что, помимо винтовок и патронов, в грузовиках перевозили взрывчатку. Она вполне может сдетонировать, стоит ее тряхнуть… Мои опасения основывались на логике, однако было в них и некое суеверное чувство, будто если я двинусь на помощь остальным, то обязательно произойдет что-то ужасное.
Я стоял среди деревьев, все еще держа винтовку, совершенно бесполезную в данной ситуации.
Рафик один раз отвлекся от погрузки, повернулся в мою сторону и выкрикнул мое имя.
Я дождался, пока закончат погрузку. Затем четверо наших покатили набитую под завязку тачку, а я двинулся следом на почтительном расстоянии. Так мы шли, пока достаточно не удалились от места засады, после чего наконец решили разбить лагерь.
Я сказал Рафику, мол, мне показалось, что в лесу кто-то есть, и надо сходить в разведку. Он был явно недоволен, и, чтобы умилостивить его, я вызвался первым стоять в дозоре и охранять захваченное оружие. В пару мне назначили Пардоу. Наша смена длилась два часа.
Наутро каждый член группы получил винтовку и комплект патронов. Оставшуюся добычу погрузили на тачку и накрыли чем придется: запасной одеждой, сумками, канистрами и так далее.
* * *
Следующие несколько недель я и Салли скитались вдвоем. Какое-то время приходилось жить в палатке, затем мы наткнулись на ферму. Повезло: хозяева разрешили нам поселиться в постройке для рабочих, при этом не брали плату и даже кормили, а мы взамен помогали им по хозяйству.
Хотя военная обстановка в округе постоянно напоминала о себе, нам ненадолго удалось испытать чувство защищенности.
Район находился под контролем патриотических сил, и ферма считалась стратегическим объектом. Время от времени военные приходили помочь с полевыми работами, а неподалеку даже установили батарею ПВО. Насколько мне известно, в деле она так и не побывала.
Поначалу я испытывал живой интерес к ходу гражданской войны, но скоро понял, что бесполезно. О политической обстановке я мог говорить только с хозяином фермы, а он либо не хотел обсуждать эти вопросы, либо тоже ничего не знал. Он сказал, что когда-то у них были телевизор и радио, однако военные все забрали. Телефон отключен. Единственный источник информации – газета Патриотических войск, бесплатно распространяемая среди гражданского населения. Обитатели соседних ферм, с которыми наш хозяин иногда пересекался, находились в таком же положении.
Несколько раз я заговаривал с военными, приходившими работать на ферму, но и от них ничего особенного не узнал. Им, очевидно, запрещалось обсуждать ход войны с гражданскими. К тому же большинство знали только то, что им в виде пропаганды внушали политработники.
Однажды ночью в начале октября на ферму был совершен вражеский налет. Когда в воздухе появился самолет-разведчик, я повел Салли в укрытие, которое обустроил почти сразу после того, как мы здесь поселились. Для этой цели я выбрал пустой свинарник – прежде всего, потому, что он добротно сложен из кирпича. Я вычистил его и перенес туда кое-какие припасы: свечи, одеяла и прочее. Там мы переждали нападение.
Наш дом не пострадал, а вот хозяйский был полностью разрушен. Сами хозяева пропали.
Утром на ферму прибыл командир патриотических войск и приказал забрать всю оставленную технику. Батарею ПВО бросили.
Уходить нам было некуда, да и не хотелось, поэтому мы остались в домике. Вечером того же дня ферму заняло объединенное подразделение африммов и сецессионистов. Старший офицер-африканец подверг нас тщательному допросу.
Мы с интересом наблюдали за солдатами: белые мужчины, воюющие заодно с чернокожими, были для нас в новинку. Всего отряд насчитывал сорок человек, из них около пятнадцати – белые. Оба офицера – африканцы, сержант – британец. Все соблюдали дисциплину и хорошо с нами обращались.
На следующий день на ферму заехал высокопоставленный командир сецессионистов. Я сразу же узнал его по снимкам, которые печатали в газетах патриотистов. Его звали Лайонел Коулзден, армейский полковник в отставке. Перед войной он был известен как активный защитник гражданских свобод. Когда африммы стали захватывать жилье в городах, он восстановился на службе и с началом серьезных боевых действий вместе с подчиненными подразделениями перешел на сторону африканцев. Теперь он был полковником повстанческой армии. Правительство Трегарта заочно приговорило его к расстрелу.
В личной беседе со мной и Салли он сказал, что нам придется уйти. Скоро должно начаться контрнаступление патриотистов, и нам может угрожать опасность. Еще он предложил мне немедленно вступить в ряды сецессионистов, но я отказался, сославшись на то, что должен заботиться о дочери.
Когда мы собрались, он передал мне листовку, где были доходчиво расписаны конечные цели сецессионистов. Они обещали: восстановить правопорядок; не преследовать никого, кто сражался на стороне патриотистов; вернуть парламентскую монархию, как до войны; восстановить судебную систему; в кратчайшие сроки обеспечить жильем всех бездомных гражданских; а также предоставить полное британское гражданство всем африканским беженцам, которые в настоящий момент находятся на территории Соединенного Королевства. Внутренне я был полностью согласен со всеми пунктами, однако опыт последних событий говорил мне, что разрешить нынешний конфликт миром невозможно.
Нас посадили в грузовик и отвезли в деревню примерно в часе пути от фермы. Она находилась на так называемой «освобожденной» территории. Рядом мы заметили небольшой африммский военный лагерь и обратились туда за помощью в размещении. Никакой благожелательности, которую демонстрировал полковник, мы не встретили. Более того, нам пригрозили арестом. Мы немедленно ушли.
Местные жители тоже оказались в высшей степени недружелюбными. Все относились к нам с недоверием и враждебностью. Спать пришлось в палатке на склоне холма к западу от деревни. Салли всю ночь плакала.
Через неделю мы наткнулись на отдельно стоящий дом с собственным участком. Он располагался недалеко от шоссе, за лесополосой. Хозяева – молодая супружеская пара – хотя и встретили нас с опаской, все же не прогнали и разрешили остаться на какое-то время, пока не отыщется более подходящее жилье. Их звали Кен и Рейчел. Мы пробыли у них три недели.
* * *
Ни разу до этого я не видел Рафика напуганным и ни разу до этого я сам его так не боялся.
После ночи все устали и были на взводе. Даже Рафик не мог скрыть своего нервного перенапряжения. Не в силах решить, остаться нам или уходить, он бродил туда-сюда, крепко сжимая в руках винтовку, как будто от нее зависел его авторитет. Остальные с опаской за ним следили. Далеко не всем понравилось это новое проявление характера нашего лидера.
Меня тоже терзали сомнения. То, что мы добыли себе оружие, ничего хорошего не предвещало. Уже кто-то заговорил о создании партизанской группы для борьбы с африммами. Некоторые предложили выйти на единомышленников и объединиться с ними. «Вместе мы сила…», «Теперь-то они у нас попляшут…», «Наконец с нами будут считаться…» – и все в таком духе. «Черномазых подонков» поминали даже чаще, чем в те первые часы после похищения женщин, когда каждый горел жаждой мщения.
Однако сильнее, чем весь этот воинственный настрой, меня пугало поведение Рафика. Я отчетливо видел, что он больше не в состоянии единолично принимать решения. Уже сейчас он явно не мог определиться с тем, что делать дальше. Сидеть во временном лагере, который мы разбили неподалеку от перехваченного конвоя, бормотал он, опасно. В то же время стоило кому-то даже заговорить о том, чтобы выдвигаться, Рафик криком приказывал всем оставаться на местах.
Его опасения были понятны. Если кто-то захочет узнать, что тут стряслось, нас немедленно раскроют. Идти куда-то, таща с собой кучу оружия, значило стать лакомой добычей для любой из воюющих группировок. Поскольку до сих пор Рафик занимал пост лидера, мы по привычке ждали от него указаний. Теперь все, включая его, понимали: еще немного промедления, и группа либо распадется, либо выберет себе более деятельного главаря.
Впрочем, пока мы продолжали сидеть сложа руки, делая вид, что принимаем серьезное решение.
Я с еще тремя товарищами составили опись всего оружия в нашем распоряжении. На каждого приходилось по винтовке, а сверх того была еще дюжина контейнеров, по три винтовки в каждом, и несколько ящиков с патронами. Даже не представляю, как мы собирались управиться со всем этим. Большую часть удалось погрузить на тачки, но сразу стало ясно, что нужно искать другой способ. Катить их приходилось втроем: двое тянут спереди, а третий направляет сзади.
Вся наша группа расселась где попало под деревьями, держа винтовки рядом с собой. Рафик стоял в стороне, погруженный в размышления.
* * *
Кажется, в последние недели из нашей группы я ближе прочих сошелся с Рафиком. Выждав немного, я решил переговорить с ним. Однако он совсем был не рад меня видеть – особенно меня. Я понял, что совершил глупость, что мне следовало остаться со всеми.
– Куда тебя понесло ночью? – спросил он.
– Я уже рассказывал. Мне показалось, в чаще кто-то есть.
– Надо было сказать мне. Будь это африммы, тебя бы подстрелили.
– Я решил, что мы в опасности. У меня винтовка, значит, я обязан всех нас защищать.
Говорить правду я не хотел.
– Теперь винтовки есть у всех, и тебе больше не надо рисковать жизнью ради остальных. Каждый сам в состоянии постоять за себя. Отдыхай, Уитмен.
Его голос сочился ядом, тем не менее рассеянный и раздраженный Рафик думал совсем о другом. Если бы я не подошел, он, наверное, вовсе не вспомнил бы о вчерашнем происшествии.
– Ну вот, теперь все вооружены, – сказал я. – Что дальше?
– А ты что предлагаешь?
– Предлагаю как можно скорее избавиться от оружия. Оно больше вредит, чем помогает. У нас будут серьезные проблемы. К тому же, никто не умеет стрелять.
– И это ты вчера доказал, – вставил Рафик. – Нет, выбрасывать винтовки мы не станем. У меня другой план.
– Какой же?
Он наклонил голову и оскалился.
– Скажи мне, как бы ты поступил, будь у тебя оружие, которым можно пользоваться безнаказанно?
– Я уже говорил.
– И все-таки: ты продал бы его другим беженцам или попытался бы сбить еще вертолеты?
Я понял, к чему он клонит.
– Дело не в самом оружии. Дело в том, что если оно есть у всех, а не только у одного-двух, вся эффективность теряется.
– То есть, пока ты самый главный с винтовкой, все в порядке? А теперь, когда ты один из многих, все наоборот – так, что ли?
– Я уже объяснял, зачем нам винтовка, когда только добыл ее. Одна винтовка – это самозащита, а много – уже агрессия. Мы превращаемся в ополчение, и у каждого из нас есть личные поводы для мести. Ты ведь не сможешь всех контролировать.
Рафик задумчиво посмотрел на меня.
– Похоже, ход мыслей у нас схожий… Однако ты никак не ответишь на вопрос, что бы ты сделал с оружием.
Я поразмыслил. Цель у меня по-прежнему оставалась одна, пускай и труднодостижимая.
– Я бы попытался разыскать свою дочь.
– Так и думал. Бессмысленная затея, знаешь ли.
– А как по мне, это лучше, чем все, что мы делали до сих пор.
– Ты что, не понимаешь? – спросил Рафик. – В этой ситуации мы совершенно бессильны. В лучшем случае женщины попали в концлагерь, и, может быть, однажды мы их найдем. Хотя, если честно, я в это не верю. Скорее всего, их изнасиловали, а потом убили. Ты сам видел, как они поступают с женщинами.
– И ты смирился? – спросил я. – Тебе просто все равно, Рафик, а у меня увели жену и дочь. Дочь!
– Не только у тебя. Забрали семнадцать женщин.
– Среди них не было ни одной твоей.
– Почему ты не смиришься, как остальные? Мы не в состоянии их спасти. Мы вне закона. Стоит обратиться к полиции или военным, как нас немедленно бросят в тюрьму. К африммам идти бесполезно: во-первых, неизвестно, где они, а во-вторых, неужели ты думаешь, что они сознаются в похищении? Ооновцы нам тоже не помогут. Остается только выживать, как раньше.
Я начинал злиться.
– Ты называешь это жизнью? Мы спим на траве и питаемся падалью, как звери.
– Готов поднять руки? – Рафик решил сменить тон на более дипломатичный. – Вот ты, например, знаешь, сколько всего в стране беженцев вроде нас?
– Никто не знает.
– Потому что их слишком много: тысячи, возможно, миллионы. Мы видим лишь крошечную часть страны, а такие группы, как наша, разбросаны по всей Великобритании. Ты вот утверждаешь, что нам нельзя позволять себе агрессию. А собственно, почему? У каждого беженца есть весомый повод взять ситуацию в свои руки. Мешают обстоятельства. Беженцы слабы, у них почти нет еды и снаряжения. Нет законного положения. Шаг влево – и они становятся угрозой для военных, потому что много передвигаются и видят, что предпринимает каждая из сторон. Шаг вправо – и они создают неудобства для политиков. Ты в курсе, что правительство приказало считать всех беженцев пособниками сецессионистов? А кому, спрашивается, охота попасть в концлагерь? Беженцы вынуждены скитаться, спать на голой земле, сбиваться в группки, выменивать или воровать продукты, при этом держась подальше от всех остальных.
– А еще лишаясь женщин.
– Увы, такова жизнь. Звучит безрадостно, но других вариантов нет.
Мне нечего было возразить. Более того, Рафик, скорее всего, прав. Я давно осознал, что будь хоть какая-то альтернатива бродяжничеству, мы бы ее нашли. Однако, повидав во время допросов немало самых разных организованных объединений, мы убедились, что бездомному гражданскому деваться некуда. В крупных городах военное положение, а деревни и села либо под контролем боевиков, либо обзавелись собственным ополчением. Нам оставались только поля, леса и холмы.
Помолчав пару минут, я сказал:
– Так не может продолжаться вечно. Все поменяется.
– Теперь – да, – снова ухмыльнулся Рафик.
– Что значит «теперь»?
– Мы вооружены – вот в чем суть. Это значит, всех беженцев можно объединить и с оружием отвоевать то, что у нас отобрали. Теперь мы можем вернуть себе свободу!
– Бред. Стоит только выйти из леса, и первый попавшийся регулярный отряд вас перебьет.
– А теперь представь себе партизанскую армию: тысячи бойцов по всей стране. Мы сможем занимать деревни, перехватывать конвои с припасами. Надо только соблюдать осторожность и вовремя прятаться.
– И в чем разница?
– Разница в том, что мы будем организованы и вооружены. А еще мы будем воевать по-настоящему.
– Нельзя нам включаться в боевые действия! И так вся страна воюет. Чего ты хочешь добиться? Только людей положишь.
– Мы будем принимать решения сообща. Будем устраивать голосование и нападать, только если все за.
Мы пошли на поляну, где нас ждали остальные. Я уселся на землю поодаль от Рафика, разглядывая тачки с оружейными ящиками. Рафик произносил речь, а в моем воображении рисовались разношерстные банды, кишевшие по всей стране, – у каждой свои счеты с вооруженными силами и гражданскими организациями.
Вообще, беженцы представляли собой значительную, но в основе своей нейтральную сторону конфликта. Если же их собрать в единую партизанскую армию – при условии, что эта титаническая задача вообще кому-то под силу, – кошмар, терзающий страну, только усугубится.
Я встал и, продираясь сквозь заросли, пошел прочь. Хотелось одного: оказаться от них подальше. До меня донесся общий крик одобрения. Наконец я вышел на опушку, посмотрел налево, направо и перед собой. Впервые в жизни я чувствовал себя свободным, сильным и ничего не боялся.
Я направился на юг.
* * *
За столиком неподалеку я заметил молодую женщину. Она сидела вполоборота ко мне, склонившись над книгой, поэтому я поначалу сомневался, она это или нет. Когда стало ясно, что глаза меня не подводят, я встал и подошел к ней.
– Привет, Лора, – сказал я.
Она удивленно вскинула голову и тут же узнала меня.
– Алан!
Обычно я не переживаю в памяти прошлые романы, но вот сегодня, идя по Гайд-парку, мне вспомнилась Лора. Ей нравилось обедать в ресторане в центре парка; я несколько раз бывал там с ней. Одно воспоминание повлекло за собой другие. Почему же мы разошлись? Все шло так хорошо… Заходя в ресторан, я вдруг подумал, вдруг и правда встречу ее там. Но ее не было. Я занял столик у окна и заказал салат. Постепенно Лора вылетела у меня из головы. В конце концов, не рассчитывал же я, что мы и в самом деле увидимся. Как раз в это время, наверное, она и пришла.
Я стоял рядом с ней, мы смеялись и болтали, как старые друзья. Она немного изменилась: носила очки, да и стриглась покороче. Через несколько минут мы пересели за мой столик.
– Что ты здесь делаешь?
– А ты не догадываешься?
– Зашел пообедать?
– Ну да, и это тоже.
Мы посмотрели друг другу в глаза.
– И это тоже.
Мы заказали вина, чтобы выпить за встречу. Принесли что-то приторно сладкое, но нам не хотелось ругаться. Мы просто чокнулись бокалами, а остальное уже было не важно. За едой я пытался понять, как же я все-таки оказался здесь. Я был рад увидеть Лору, она, по-видимому, тоже. Может, нас обоих сюда привела надежда на воссоединение? Не просто же так на меня нахлынули воспоминания о прошлом. О чем я думал утром?… Увы, в памяти не вовремя образовался пробел.
– Как жена?
До сих пор про Изобель в разговоре не было ни слова. Я не ожидал, что Лора спросит.
– Да по-прежнему.
– И ты, я смотрю, тоже.
– За два года никто не меняется.
– Как знать.
– А ты как? На той съемной квартире?
– Нет, переехала. Один сосед стал совсем невыносим. Связался с наркотиками, к нам дважды приходила полиция с обыском… Теперь у меня своя собственная квартира. Пришлось влезть в долги, зато это надежно.
– Относительно надежно, – поправил я.
В северных городах тогда как раз начинался захват жилья.
– Лондон большой. Кому понадобится выселять меня из моей крохотной квартирки?
– Мы думаем так же.
– Ну, у вас-то милый домик в пригороде.
– Лора, я живу там, чтобы удобнее было добираться до колледжа.
– Ты говорил, что это единственная причина и что ты в любой момент готов все бросить.
Мы доели обед и заказали кофе. В разговоре стали возникать неловкие паузы. Я начинал жалеть, что встретил Лору; с другой стороны, она была по-прежнему красива. Я уже отвык от ее проницательного и понимающего взгляда, который одновременно манил и отталкивал. Сколько бы раз Лора ни вгоняла меня в отчаяние, мне ее постоянно не хватало. Из всех моих женщин Лора Маккин – самая незабываемая.
– Почему ты не уйдешь?
– Сама знаешь, почему. Дело в Салли.
– Ты все время так говорил.
– Потому что это правда.
Снова молчание.
– Ты совсем не изменился. Я ведь прекрасно знаю, что Салли – просто отговорка. На самом деле, тебе не хватает духу бросить Изобель.
– Ты не понимаешь.
Увы, она все понимала.
– Алан, – сказала Лора, – ты опять делаешь мне больно. И все-таки я хочу тебя.
– До сих пор?
– До сих пор.
Мы заказали еще кофе. Я порывался прекратить разговор и уйти, но это было не так-то просто. Как ни крути, все, что она говорила обо мне – правда. А в голове назойливо вертелось: вот бы еще разок с ней… Я начал представлять ее тело и как нам бывало хорошо вдвоем.
Лора, наверное, поняла, о чем я думаю.
– Не надо, Алан. Забудь.
– Снова читаешь мои мысли?
– Да. И все равно не могу придумать, как заставить тебя измениться.
– Увы.
– Я потратила на это слишком много сил. Вот почему я стала избегать встреч с тобой, ты понимаешь?
– Да.
– Ничего не изменилось.
И тогда я сказал, предельно просто и прямо, хотя еще час назад эти слова даже не пришли бы мне в голову:
– Я все еще люблю тебя, Лора.
– Я знаю. Отсюда и все неприятности. А я люблю тебя за твою трусость.
– Мне не нравится, когда ты так говоришь.
– Я говорю правду.
И опять Лора била по самому больному. Я уже и забыл, как остро она умеет жалить. С другой стороны, я вел себя так же. Я знал, что мучаю ее, она знала, что мучает меня. Пожалуй, именно это и привлекало нас друг в друге больше всего. Мы никогда не знали, что будет дальше. Несмотря ни на что, я продолжал любить Лору, пускай и не осознавал этого, пока не увидел ее здесь. Ни к какой другой любовнице я не испытывал таких глубоких чувств. Дело в том, что Лора видела и принимала меня таким, какой я есть. Моя неспособность расстаться с Изобель вечно служила ей поводом для язвительных замечаний, но я находил это привлекательным. Лора всегда говорила, что любит меня, хоть я и не понимаю, за что. Я так и не смог разгадать ее до конца. Она жила в каком-то вакууме, полностью отделенная от общества. Родственников у нее не было. Мать – ирландка, иммигрировавшая в Ливерпуль – умерла при родах. Отца – моряка с Карибских островов – Лора никогда не видела и даже не знала, жив ли он. Кожа у нее была цвета золотистой бронзы. Ее красота вместе с личными качествами доводили меня до страстного исступления, я же в итоге не мог дать ей ничего. Лора стала одной из первых жертв африммского кризиса. Она погибла, когда полицию бросили разгонять вторую лондонскую демонстрацию. После этой встречи в ресторане мы больше и не виделись.
* * *
Лидера группы я узнал: мы с ним пересеклись у разбившегося вертолета, когда я искал еду. Он представился Рафиком, хотя о его происхождении все равно можно было только гадать. В его группе насчитывалось порядка сорока человек, в том числе несколько детей.
Я наблюдал за ними с верхнего этажа пустого дома, надеясь, что они не будут шуметь и не разбудят Салли. День выдался долгим и тяжелым, а еще мы не ели. Люди явно искали, где разбить лагерь. Пару раз они поглядывали в сторону нашего дома, но он, видимо, им не подошел. Места там хватало только для меня и Салли. Зима приближалось, и нам следовало искать более надежное жилье. Я начал задумываться о том, чтобы перестать скитаться и осесть в каком-нибудь городке. Признаться, в успех замысла я не очень верил, поскольку уже понял, что пройти за баррикады практически невозможно. Единственный выход – попасть в город по полям и затем через дворы или чей-нибудь неохраняемый огород.
Пока я взвешивал варианты, двое мужчин высадили дверь дома напротив и стали обшаривать его. Возник вопрос: сообщать пришельцам о своем присутствии или нет. Мы с дочкой неплохо выживали сами по себе. Нам пришлось покинуть Кена и Рейчел только из-за слухов о том, что незарегистрированных гражданских и тех, кто их укрывает, будут ссылать в концентрационные лагеря. Хозяева показали нам написанную от руки листовку, которую им подсунули под дверь. За три недели мы успели обжиться. Я помогал Кену добывать пропитание; думаю, он это ценил. Рейчел привязалась к Салли. Недоверие прошло, и мы стали напоминать сплоченную семью. Наказание за укрывательство, конечно, отменили почти сразу же после того, как ввели, но нам с неохотой пришлось признать, что надо двигаться дальше. Два дня мы с дочкой шли под открытым небом и ночевали в палатке. Наконец наткнулись на этот свободный дом – в нем хотя бы были кровати.
Я настороженно наблюдал за пришельцами.
Путешествуя в одиночку, легче избегать поимки, однако в составе группы почти всегда можно рассчитывать на нормальное питание. К тому же, не надо постоянно решать, куда идти, где останавливаться и так далее. Какая-никакая, а цивилизация. Хотя свободы, конечно, поубавится.
И одиночество, и присоединение к группе меня ра́вно не прельщали, однако, живя у Кена с Рейчел, мы слушали континентальные радиостанции и наконец узнали, какого размаха достигла гражданская война у нас в стране. Всего за несколько дней после первых перестрелок наступил хаос: воюющие армии распались на группировки разных размеров, причем каждая учреждала свои собственные законы. Территории переходили из рук в руки. Во всех уголках страны народ сбивался в ополчение. Тем временем приток африканских беженцев не прекращался. Без содействия гуманитарных организаций иммигранты рано или поздно прибивались к повстанческим отрядам. Мы на собственном опыте испытали всю неразбериху и суматоху, но только регулярное прослушивание новостей в течение трех недель помогло мне представить общую картину. Стало понятно, что мы с дочкой не одиноки, что таких же гражданских, которые лишились и дома, и работы и были вынуждены скитаться по стране, тысячи, если не сотни тысяч. На мой взгляд, главные жертвы этой войны – именно мы.
Считалось, что бо́льшая часть беженцев сосредоточена в центре и на севере страны, следовательно, условия там более жесткие. На юге беженцев меньше, а значит, выживать легче. Не знаю, откуда у людей такая информация.
Через какое-то время группа занялась обустройством. Появились несколько палаток. Кто-то зашел на первый этаж и набрал два ведра воды. Во дворе разожгли костер и разложили еду.
Наконец я смог нормально разглядеть женщину, которая возилась с двумя мальчишками. До этого она мелькала пару раз, но я не успевал присмотреться. Она пыталась заставить мальчишек помыться, но без особого успеха. Выглядела она неважно: в нестираной одежде, уставшая, волосы плохо собраны в пучок. Я узнал Изобель.
Вопреки ожиданиям, это не отпугнуло. Наоборот, я сразу же спустился и попросил Рафика, чтобы он принял меня и Салли в группу.
* * *
Я шел на юг. В одиночку я чувствовал себя более защищенным, чем в толпе, потому что теперь принимал все решения сам. Винтовка осталась у Рафика, другого оружия у меня не было. С собой я нес только сумку с кое-какими вещами, запасом продуктов и спальным мешком. Так стало легче избегать нежелательных встреч с военными, да и в укрепленных домах и деревнях мне одному оказывали лучший прием, чем когда мы приходили все скопом. Было тепло и без осадков, поэтому первую ночь я провел в зарослях кустарника, вторую – в амбаре. Третий раз я ночевал в комнате.
На четвертый день пути я встретился с группой беженцев. Когда стало ясно, что мы друг другу не угрожаем, я пообщался с лидером. Он назвался Смитом, хотя навряд ли это его настоящее имя; я сам представился Терри. Нам обоим было что скрывать.
Смит спросил, почему я ушел от Рафика и остальных. Я рассказал про винтовки и планы, которые строили на них. Смит согласился: ничего хорошего из этого не выйдет. Также я сказал, что разыскиваю жену и дочь.
Мы беседовали на парковке заброшенного паба. Остальные члены группы в это время готовили обед и по очереди мылись на кухне.
– Большая у вас была группа?
– Сначала – большая, – ответил я. – До налета у нас было тридцать девять мужчин и семнадцать женщин.
– Все – чьи-то жены?
– В основном. Три были незамужние.
– А нас всего сорок пять, женщин больше, чем мужчин.
Смит рассказал, как недавно их захватило в плен подразделение патриотистов. Тех, кто помоложе, поставили перед выбором: либо они идут в армию, либо их отправляют в концлагерь. К счастью, пока шло время на раздумье, в расположение части с проверкой прибыла бригада ООН. Беженцев отпустили в полном составе, лишь несколько парней остались воевать за патриотистов.
Я заметил, что, похоже, одна сторона охотится за женщинами, а другая – за мужчинами.
– А ты уверен, что женщин у вас увели именно африканцы? – спросил Смит.
– Уверен.
– Тогда, возможно, я знаю, куда их могли забрать. – Он помолчал, как будто ожидая моей реакции. – По слухам.
– По-моему, только им и можно верить.
– Ну ладно. Говорят, африммское командование организовало бордели, где их солдат обслуживают белые женщины.
Несколько секунд я смотрел на него с выражением немого ужаса.
– Салли еще ребенок… – выдавил я наконец.
– Моя жена здесь, со мной, и мы не хотим попасть в такую же ситуацию. Поэтому до конца войны придется скрываться.
За обедом мы обменялись всеми сведениями о передвижениях войск, которыми располагали. Меня расспрашивали про группу Рафика, и я примерно объяснил, где мы с ними разошлись. Смит сказал, что, возможно, стоит объединить две группы: так будет легче защищаться. Чем дальше, однако, тем чаще он поднимал вопрос о конвое с оружием. Я уже пожалел, что рассказал про него.
Чтобы сменить тему, я решил разузнать про африммские бордели. Во мне поселилась жуткая уверенность: именно туда угодили Салли и Изобель. От одной мысли меня переполняли страх и отвращение. Обнадеживало только, что если все это правда, то они, по крайней мере, живы. И если у меня не получится найти их самому, то можно будет обратиться за помощью в какую-нибудь гуманитарную организацию.
– Больше ничего не знаю, – сказал Смит.
– Ну хоть где эти бордели?
– Мне не рассказывали.
– Хотя бы примерно?
– Как будто бы к востоку от Богнора… Говорю же: это только слухи.
– То есть, где-то на побережье?
– Возможно.
Я попытался вспомнить, как располагаются города на побережье к востоку от Богнор-Региса. Что дальше? Брайтон? Или Уэртинг?… В Уэртинге я бывал. Как раз там мне попался схрон с коктейлями Молотова.
Несколько минут мы со Смитом изучали карты тех мест. Уэртинг действительно казался подходящим ориентиром. До него был примерно день пути на юго-запад. Группа Рафика осталась в дне пути на север.
Перед уходом я поблагодарил Смита и его подопечных за еду и информацию. Привал закончился, и они готовились двигаться дальше. Их целью был – снова по слухам – некий большой свободный дом в окрестностях, где можно пересидеть несколько дней.
Темнело, поэтому я решил остановиться на ночлег. Место выбрал на церковном кладбище, среди надгробий. Мертвых в последнее время не тревожили, так что вандалов я не опасался.
Я кое-как представлял себе ту часть побережья, куда направлялся: цепочка городков, теснящихся на равнине между холмами Саут-Даунс и морем. На западе – Богнор-Регис, на востоке – Брайтон. Они плавно перетекают один в другой, образуя длинную полосу курортов с виллами и бунгало, как две капли воды похожих друг на друга. Трудно определить, скажем, где кончается Литлхэмптон и начинается Лэнсинг. В последние годы эти городки стали прибежищем пенсионеров, а прежде, когда я был ребенком, служили отличным местом для семейного отдыха. Родители как-то вывозили меня с братьями в Уэртинг, – давным-давно.
Наутро я бодро преодолел продуваемые ветром холмы. Впереди замаячили окраины городского поселения. Я пересек несколько дорог, все чаще стали попадаться дома. Большинство выглядели пустыми, но внутрь я заходить не стал. Я порядком насмотрелся брошенных домов и знал, как опасны они порой бывают.
На табличке, прибитой к ставням на окне почтового отделения, я прочел, что нахожусь на окраине Уэртинга.
Я уже видел на горизонте солнечные блики, играющие на воде, и тут дорогу мне преградила крепко сложенная баррикада. На ней никого не было. Я старался идти так, чтобы держаться на виду, при этом готовый в случае чего кинуться в укрытие.
Выстрел прозвучал неожиданно. Стреляли либо холостыми, либо в воздух, потому что мимо меня пуля не пролетала.
Пригнувшись, я побежал к обочине. Вторая пуля чиркнула по асфальту где-то рядом. Я инстинктивно кинулся на землю и очень неудачно подвернул ступню. Ногу тут же пронзила дикая боль. Я лег и замер.
* * *
Мой новый «друг» отошел к барной стойке, переговорил с кем-то из тех, кто пришел с ним, и сделал заказ. Затем вернулся ко мне, но принес он только один бокал пива для себя. Сел, отпил и посмотрел на меня сквозь пену.
– Ну как, надумал? – спросил он.
– Надумал что?
– Пожертвуешь деньги в фонд партии?
Я не выдержал и, протиснувшись мимо приставалы, вышел из-за столика. Заказав у бармена выпить, я оглянулся: Джо тоже куда-то исчез. Хорошо. Однако стоило мне взять в руки бокал, как «друг» вновь возник рядом со мной.
– Мы знаем, где ты живешь, Уитмен, и в какую школу ходит Салли.
– Да отстаньте вы от меня, – сказал я, чувствуя, как от страха замирает сердце.
Он махнул рукой, мол, пустяки, и начал рассказывать анекдот, а за ним еще и еще. Все как один были неприкрыто расистскими. После каждого Джо сам первым начинал ржать в голос, даже глаза закрывал от смеха.
Я заметил, что со стороны некоторых других столиков, по которым распределились товарищи-приставалы, тоже начал доноситься хохот. В углу возле двери веселье было таким шумным, что к нему подключились и другие завсегдатаи со своими анекдотами.
– Значит, ты у нас любитель африммов, да? – спросил Джо наконец. – Либерал хренов?
– Идите к черту.
– Дружище, ты в меньшинстве. Никто больше не хочет видеть их в нашей стране.
– Мне все равно.
– А что ты будешь делать, когда захватят твой дом? Не думай, будто тебя это не коснется. Половина лестерцев уже лишилась жилья. В Илинге давно в последний раз был? Теперь там настоящий рассадник туберкулеза. Хочешь подхватить? Сходи. А если твою Салли изобьют или ограбят?
Джо наводил на меня настоящий ужас, однако я не хотел покидать паб. Каждый вечер здесь устраивали стриптиз, и я старался его не пропускать. В глубине помещения двое подсобных рабочих как раз заканчивали монтировать подиум.
В итоге я не выдержал:
– Не дам я тебе денег! Оставь меня в покое!
– Чего напугался-то так, Уитмен?
– Катись на хрен, расист чертов!
– Полегче, приятель, а то дождешься.
Основной свет погас, включились два прожектора, направленных на подиум. Первая стриптизерша протиснулась сквозь толпу и смело вскочила на крошечную платформу. Загремела музыка, и девушка начала умело трясти бедрами. Она была молодая, высокая, чернокожая, с аппетитной фигурой. Усыпанный блестками костюм едва прикрывал интимные места. Посетители засвистели и заулюлюкали. Если бы Джо не зажал меня возле дверей, я стоял бы сейчас в толпе зрителей, пытаясь пробиться вплотную к подиуму.
Приставала угрюмо покосился на меня и одним мощным глотком допил пиво. Прикрыв рот рукой, рыгнул, затем отставил бокал на соседний столик. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, я выскользнул на улицу. Снаружи было темно и прохладно. Пока я пересекал стоянку, за спиной у меня открылась и закрылась дверь. Послышались быстрые шаги. Джо шел следом.
Я с испугом представил, что он может со мной сделать на безлюдной темной улице, поэтому не стал притворяться спокойным и пустился наутек. Я бежал по тротуару вдоль шоссе, навстречу мне, ослепляя фарами, неслись автомобили. На первом перекрестке я притормозил и оглянулся: мужчина бежал за мной. Однако я был моложе и в лучшей форме, и мне удалось оторваться.
Чтобы попасть домой, следовало идти влево, я же кинулся вправо, где стояла группка таунхаусов. Я свернул в проход между изгородями, стараясь скрыться, пока Джо не добежал до перекрестка. На всякий случай я перепрыгнул через забор на чью-то лужайку и затаился под кустами.
Я выждал десять минут, но он не появился. Наконец я рискнул выглянуть, все еще вне себя от страха: никого. Держась возле забора, я осторожно вернулся к перекрестку. Окажись мужчина там, я тут же бросился бы наутек.
На перекрестке все было спокойно: машины и автобусы останавливались перед светофором, затем ехали дальше. На углу стояли киоски, где готовили еду навынос. Несколько человек ожидали свои заказы.
Пройдя мимо киосков, я направился вдоль шоссе к дому. Можно было выдохнуть и забыть про случившееся, но после разговора с Джо я уже не мог не обращать внимания на те перемены, которые происходили в нашем районе.
Например, я заметил, что на двух съездах с шоссе врыли бордюры, чтобы тормозить поворачивающий транспорт. На еще одной улице я увидел ворота, полностью перекрывавшие дорогу, правда, в этот момент они были открыты.
Когда я остановился осмотреться, из ближайшего сада вдруг возникли двое. Один из них посветил на меня мощным фонариком. Я закрыл глаза руками и отступил. Свет тут же погас.
В начале нашего разговора, когда еще не дошло до угроз, Джо рассказывал про лагерь для африммов, который разместили в парке по соседству с муниципалитетом. Предполагалось, что этот лагерь временный, что днем его будут охранять, а на ночь запирать. Однако вскоре в округе стали говорить, что вечером и ночью лучше в тот район не соваться. Я не видел причин не верить, поэтому сознательно выбрал дорогу до паба и теперь обратно домой на несколько кварталов в обход.
Мне не нравилось, к чему все идет. Я-то надеялся, что жизнь останется прежней, наплыв беженцев не приведет к серьезным переменам в жизни страны, а расисты из паба – радикальное меньшинство. При этом я понимал, что закрываю глаза на реальное положение дел.
Проходя неподалеку от муниципалитета, я заметил, как на улице толкутся группки мужчин и парней. Многие были пьяными, рядом валялись пустые бутылки и выброшенные пакеты от фаст-фуда. Я чувствовал на себе выжидающие взгляды, но сам опускал глаза и старался не останавливаться. Они как будто искали повода ввязаться в драку, если не с беженцами, то хотя бы с теми, кого можно причислить к сочувствующим.
До своей улицы я добрался без приключений и, чувствуя, что уже почти пришел, ускорил шаг. На полпути мне попался полицейский фургон, припаркованный у большого особняка на противоположной стороне от нашего дома. Фары были выключены, но двигатель работал и внутри салона горел свет. Там сидели шестеро полицейских в защитном обмундировании: шлемах с металлическими забралами, бронежилетах и перчатках.
Наконец до меня дошло, что события принимают опасный оборот, и разрешить проблему беженцев миром больше не получится.
* * *
Салли была счастлива воссоединиться с матерью, я же держался с Изобель настороженно. Это, впрочем, не отменяло того, что мы опять стали семьей – чем не повод для радости. Какое-то время мне казалось, будто мы снова молодожены, и появление ребенка положит конец всем нашим ссорам. Мое общение с Изобель сводилось к практическим вопросам. Также я рассказал ей, как мы с Салли пытались вернуться в Лондон и что произошло потом. Она рассказала, как познакомилась с Рафиком и влилась к нему в группу. И каждый раз мы поражались тому, как случай свел нас вместе.
В ту ночь мы спали втроем. Я думал, что стоит попытаться возобновить супружескую близость, однако предложить это первым не решался. Изобель лежала возле меня, молча глядя куда-то в пустоту. Мы обнимали друг друга, но до секса так и не дошло. Салли крепко спала неподалеку, в другой палатке. Тогда я убедил себя, что именно ее присутствие сковывало меня, хотя потом понял, что это лишь отговорка.
К счастью для нас, как и для остальных беженцев, зима выдалась теплой. Было ветрено и дождливо, отчего в полях и на проселках постоянно стояла слякоть, зато практически без заморозков. Мы довольно удобно обосновались в старой церкви. Несколько раз нас посещали сотрудники Красного Креста, обе воюющие стороны также знали о нашем местоположении. Мы были неплохо защищены от холодов и непогоды, пропитания хватало. В общем, зима прошла без потрясений. Беспокоило лишь полное отсутствие какой-либо информации о ходе гражданской войны.
Именно в этот спокойный период я разглядел в Рафике социального философа. Он разумно доказывал необходимость расширить группу и создать самодостаточное общество, способное пережить период смуты. Вообще, в нем чувствовался незаурядный интеллект. Рафик говорил, что получил высшее образование, правда, не уточнял, где. Почти все мы к тому времени оставили надежду вернуться домой, понимая, что наша дальнейшая жизнь будет зависеть от того, кто сумеет взять власть в стране. А до тех пор, убеждал Рафик, следует сидеть и ждать развития событий.
За зиму я заметно расслабился. Я полностью попал под влияние Рафика и вел с ним долгие беседы. Хотя я уважал его и считал ровней, он, кажется, презирал меня – наверное, за то, что я не мог определиться с политическими взглядами. По его рассказам, до того, как лишиться дома, он боролся за права рабочих. Действительно, в его речи порой проскакивал левацкий жаргон, но я все равно не мог понять, из какой он среды. А еще Рафик часто бывал непоследовательным. То он сетовал на то, как гнусно с ним обходились иммигранты, чьи права он защищал, то ругался на нетолерантность и закоснелый консерватизм реформистского правительства, а также последствия его расистской политики.
Зимой церковь посещали еще несколько групп беженцев. Погостив у нас недолго, они уходили. Можно сказать, мы стали ядром притяжения других скитальцев. Оседлость придавала нам ощущение постоянства, а люди со стороны говорили, что много слышали о наших достижениях. Хотя единственным нашим достижением было выживание, мы не пытались никого переубедить.
Как выяснилось с приходом весны, не мы одни воспользовались затишьем в боях, чтобы закрепиться на месте. В конце марта – начале апреля в небе стали часто проноситься военные самолеты. Пара человек из наших, кто разбирался в технике, сказали, что это иностранные. Снова начались перемещения войск, и мы часто просыпались под рычание проезжавших мимо церкви грузовиков. Однажды вдалеке слышался грохот артиллерии.
Нам удалось раздобыть радио и даже починить его. Увы, к нашему разочарованию, вещание «Би-би-си» приостановили, работала только одна частота, которую занимал «Голос нации». Содержание эфира напоминало мне газеты патриотистов: та же политическая и общественная пропаганда, а в перерывах – музыка. Все зарубежные радиостанции глушились.
Как мы узнали, в конце апреля патриотические войска провели масштабную операцию против повстанческих и африммских группировок на юге. Сообщалось, что через район, где мы обосновались, должны пройти подразделения, сохраняющие верность короне. Примерно раз в неделю по дороге неторопливо грохотал грузовой конвой, но боевых действий как будто не происходило. Впрочем, беспокойство оставалось: если в сообщениях содержалась хоть крупица правды, очень скоро ситуация могла измениться.
Как-то раз нас посетила крупная делегация инспекторов из ООН и контролеров по предоставлению гуманитарной помощи. Они продемонстрировали нам правительственные директивы, согласно которым ряд участников конфликта признавался противниками действующего режима. В их число входили и белые гражданские беженцы.
Ооновцы объяснили, что эти директивы вышли около месяца назад. Впрочем, как уже неоднократно случалось, вскоре их отменили. В общем, наше положение так и осталось невыясненным. Нам порекомендовали либо добровольно пойти в реабилитационные центры ООН, либо уходить. Мол, в районе наблюдается сосредоточение патриотических войск, а значит, возможна очередная наступательная операция.
Вечером состоялся общий совет. Рафик предложил жить как жили – практически вне закона. В итоге, большинство согласилось с его утверждением, что многочисленные беженцы, скитающиеся по стране, представляют собой значительную, хотя и пассивную, группу давления. Правительство не может вечно закрывать глаза. Когда-нибудь конфликт закончится, и всем будут обязаны дать жилье. Если же мы поддадимся на уговоры ооновцев, то утратим остатки влияния. К тому же, судя по слухам, реабилитационные центры переполнены, персонала не хватает, и в целом там живется куда хуже, чем на воле.
Некоторые – в основном семьи с детьми, – впрочем, все-таки решили пойти в лагерь для беженцев.
Перед тем как отправиться в путь, мы согласовали тактику поведения. Передвигаться будем по широкому кольцу, каждые полтора месяца возвращаясь к церкви. Останавливаться на ночлег будем только в тех местах, которые гарантированно безопасны – либо по нашим собственным наблюдениям, либо по рассказам других беженцев. С собой везем только необходимое походное снаряжение на нескольких тачках. Подобным образом был также определен порядок добычи припасов и торговли.
Четыре с половиной недели все шло по заведенному распорядку. Потом мы вышли в район сельскохозяйственных угодий, который находился под контролем африммов. Мы нередко бывали на их территории, так что поведения своего не меняли.
В первую ночь никто нас не тронул.
* * *
Днем, в колледже, на меня навалилась апатия. Не в силах сосредоточиться, я кое-как провел три семинара. Мысли снова и снова возвращались к Изобель. Мне было стыдно.
Недавно, точнее, пару недель назад, у меня завершился роман. Разошлись мирно, по обоюдному согласию, никто ни на кого не в обиде. Вообще, началось все из-за отношения Изобель к сексу – по крайней мере, к сексу со мной. Несколько месяцев мы препирались, тщетно пытаясь найти решение. А накопившаяся неудовлетворенность требовала выхода. В качестве объекта подвернулась молодая преподавательница из колледжа по имени Маргит. Несколько раз мы встречались у нее в квартире, однажды я даже заночевал там. По правде говоря, я не чувствовал к ней никакой привязанности, но с ней было легко и весело, к тому же ей нравился секс и, возможно, даже я.
Тогда я еще пытался врать жене. Если Изобель меня и раскусила, то виду не подавала.
К четырем часам я принял решение и позвонил нашей общей подруге Хелен, которая порой присматривала за Салли, когда нам с Изобель хотелось развеяться вдвоем. Я спросил Хелен, нет ли у нее планов на вечер, и мы договорились, что к семи она придет.
В пять часов я вышел из колледжа и направился прямиком домой. Изобель гладила одежду, а Салли – ей уже исполнилось шесть – пила чай.
– Все, заканчивай дела и собирайся, – сказал я жене. – Мы идем в ресторан.
Изобель ходила по дому в ветхой блузке и старой юбке, без чулок и в шлепанцах. Волосы у нее были стянуты на затылке резинкой, выбившиеся пряди падали на лицо.
– В какой ресторан? – спросила она. – У меня еще куча дел, да и Салли не с кем оставить.
– Завтра доделаешь. А насчет Салли я уже договорился с Хелен.
– У нас какой-то праздник?
– Нет. Просто настроение такое.
Она странно покосилась на меня и отвернулась к гладильной доске.
– Очень смешно.
– Я не шучу. – Наклонившись, я выдернул утюг из розетки. – Все, собирайся, я пока уложу Салли.
– А как же ужин? Я столько всего накупила…
– Положи в холодильник, завтра поедим. Никуда не денется.
– Как и твое настроение? – тихо спросила она.
– То есть?
– Неважно. – Изобель вновь склонилась над доской.
– Ну чего ты начинаешь? Я приглашаю тебя в ресторан. Не хочешь идти, так и скажи. Я думал, ты обрадуешься.
– Я рада, Алан, правда, – сказала она, подняв голову. – Извини, просто неожиданно как-то.
– Так значит, пойдем?
– Конечно.
– Сколько тебе собираться?
– Недолго. Надо принять ванну и помыть голову.
– Договорились.
Она догладила вещи, убрала доску и утюг, потом несколько минут возилась в кухне.
Я включил телевизор посмотреть новости. Главной темой были приближающиеся парламентские выборы. Некий депутат от правой независимой партии «реформистов» по имени Джон Трегарт вызвал много шума заявлением о том, что казначейство подделывает финансовую отчетность. Он утверждал, что располагает неопровержимыми доказательствами, но, опасаясь ареста, поделится ими только с парламентом. В это же время, видимо, по указке действующего правительства, стали появляться сообщения, в которых всю вину за подлоги сваливали на самого Трегарта и оппозицию.
Я вымыл посуду, затем сказал Салли, что придет Хелен и посидит с ней, поэтому пусть ведет себя хорошо. Она торжественно поклялась не безобразничать. Хелен ей нравилась. Я зашел в ванную за электрической бритвой. Изобель уже залезла в воду. Я наклонился к ней и поцеловал, она ответила, как-то странно улыбнувшись. Чему, я так и не понял. Потом я помог Салли переодеться в пижаму, спустился с ней в гостиную и сел читать.
Я созвонился с рестораном в Вест-Энде и забронировал столик на двоих на восемь часов. Пока я разговаривал, Изобель, уже в вечернем платье, вышла в гостиную в поисках фена. Хелен приехала ровно в семь, и мы повели Салли в спальню.
Изобель расчесала и распустила волосы, а бледное платье подчеркивало ее фигуру. Она нанесла тени и тушь и надела ожерелье, которое я подарил ей на первую годовщину. Я уже давно не видел ее такой красивой, о чем не преминул сказать, когда мы отъехали от дома.
– И все-таки, Алан, что за повод?
– Я же сказал: настроение такое.
– А если бы я не захотела пойти?
– Так ты же захотела.
Когда мы остановились на светофоре, я посмотрел на Изобель. Вместо скучного, практически бесполого существа, которое я наблюдал каждый день, рядом со мной, как мне казалось, сидела та самая девушка, на которой я женился. Изобель достала из сумочки сигарету и закурила.
– Ну что, нравлюсь я тебе в таком виде?
– Конечно, нравишься, – ответил я.
– А в остальное время?
Я пожал плечами.
Вдыхая дым, Изобель стала покусывать ногти.
– Просто не верится, мы едем в дорогой ресторан: я с вымытой головой и в чистом платье, а ты в новом галстуке.
– Да ладно тебе, как будто в первый раз.
– А сколько мы уже женаты? С каких пор это стало чем-то особенным? Когда ты в следующий раз вспомнишь про меня?
– Если хочешь, будем устраивать такие вечера чаще.
– Договорились. Может, раз в неделю? Выделим какой-нибудь день.
– Сама знаешь, что мы не потянем финансово. К тому же, на кого оставлять Салли?
Она подняла руки и туго стянула волосы за головой. Я отвлекся от дороги. Уголки рта у Изобель были опущены, сигарета зажата в губах.
– Опять ты за свою шарманку.
Какое-то время мы ехали в тишине. Изобель докурила и выбросила сигарету в окно.
– Необязательно ждать, пока я тебя куда-нибудь приглашу. Ты можешь выглядеть красиво и в обычные дни, – сказал я.
– Могу. Только ты почему-то этого не замечаешь.
– А вот и замечаю.
Я не врал. После свадьбы Изобель довольно долго старалась следить за своей внешностью, даже во время беременности. И я всегда ценил это, несмотря на растущую между нами стену.
– Уж и не знаю, как тебе угодить.
– Достаточно и этого, – сказал я. – Ты воспитываешь ребенка, меня часто не бывает дома. И я не требую, чтобы ты постоянно так одевалась.
– Нет, Алан, требуешь. В том-то и беда.
Мы оба понимали, что ходим вокруг да около, что внешний вид Изобель не имеет никакого отношения к сути нашей проблемы. У меня в голове она запечатлелась именно такой, как в тот день, когда мы познакомились, и я не хотел отказываться от этого образа. Однако причина моей отстраненности была совершенно в другом, просто я не мог выразить ее словами и тем более открыто обсуждать.
Мы приехали в ресторан и поужинали. Удовольствия не испытал никто, беседа получилась натянутой и состояла в основном из тягостного молчания. По дороге назад Изобель ничего не говорила.
Только возле дома, выйдя из машины, она посмотрела на меня все с тем же непонятным выражением. Правда, теперь она не улыбалась.
– Вот, значит, как ты ухаживаешь за своими женщинами, – сказала она.
* * *
Двое мужчин доволокли меня до баррикады. Опираясь им на плечи, я даже старался идти, а не скакать, но вывихнутая лодыжка болела нестерпимо.
Ворота открылись.
За баррикадой ожидали еще несколько человек с винтовками. Я представился и объяснил, зачем пришел к ним в город. Они спросили, есть ли у меня в Уэртинге родственники или знакомые. Нет, ответил я. Про африммов и про то, что жену и дочь похитили, я умолчал. Пояснил лишь, что обстоятельства заставили нас разделиться, но у меня есть основания искать их здесь.
Все названные мной имена записали, потом обыскали меня и мой рюкзак.
– По мне, так ты стремный бродяга, – бросил один из парней. Остальные взглянули на него, как мне показалось, с молчаливым предупреждением.
– Я лишился дома и всего имущества, – спокойно сказал я. – Пока африканцы не выселили нас, я жил и работал в Лондоне. Идти некуда, вот уже почти год приходится скитаться по стране. Если бы у меня была возможность принять ванну и найти чистую одежду, я бы ей воспользовался.
– Ничего страшного, – пробормотал кто-то из дружинников и дернул головой. Парень, не сводя с меня презрительного взгляда, отошел. – А чем ты занимался до вторжения?
– В смысле, кем работал? Преподавал в колледже. Правда, потом меня сократили, пришлось пойти на фабрику.
– В Лондоне жил, значит?
– Да, я же сказал.
– Где именно?
– В Саутгейте. Вам знакомо это место?
– Слышал. Рядом с Барнетом, кажется? Ты еще легко отделался. Знаешь, что случилось на севере, когда туда ломанули африканцы?
– Только обрывочно. Когда скитаешься, единственный источник информации – это слухи. Так вы впустите меня или нет?
– Посмотрим. Сначала нужно побольше про тебя узнать.
Последовал короткий допрос. Не всегда я отвечал честно. Вопросы в основном касались участия в войне: переживал ли я нападение какой-нибудь группировки, устраивал ли диверсии, чью сторону поддерживал и так далее.
– Я ведь на патриотической территории? – спросил я.
– Мы сохраняем верность короне, если ты об этом.
– А в чем разница?
– Здесь нет военных. Мы сами обеспечиваем оборону.
– А что насчет африммов?
– Были, но затем ушли, – холодно ответил главный. От его тона мне стало не по себе. – Зря их вообще сюда пустили.
– Ты так и не сказал, кого поддерживаешь, – вмешался другой дружинник.
– А вы как думаете? Африканцы отобрали у меня дом, вышвырнули на улицу. Почти год я живу, как зверь. А еще эти твари отобрали у меня жену и дочку. Так что я за вас. Такой ответ устраивает?
– Вполне. Вот только ты говорил, что разыскиваешь родных здесь. А африканцев тут нет.
– Я полагал, что на побережье они повсюду.
– Здесь нет.
– Я уже понял. Одного раза было достаточно.
– И не только в Уэртинге, но и по всему побережью – до самого Брайтона точно. После того как мы прогнали последних, больше африканцы здесь не появлялись. Если тебе нужны они, тут ты их не найдешь. Понятно?
– Еще раз говорю: понятно. Я ошибся. Прошу прощения.
Дружинники отошли в сторону и стали о чем-то совещаться, а я пока изучал карту, висевшую на бетонной плите – части баррикады. На карте был крупно изображен данный район побережья. Населенные пункты располагались плотно. Пригороды перетекали один в другой, и каждый имел свое название. Шорем, куда я шел, находился примерно в полутора часах пути отсюда.
Довольно крупная область на карте была обведена зеленым. На севере она граничила с подножием Саут-Даунс, недалеко от баррикады, и тянулась вдоль побережья с запада на восток. Моя цель лежала, видимо, за пределами этого периметра.
Стопа совершенно распухла; я начал беспокоиться, не перелом ли у меня. Ботинок давил, а если его снять, то обратно уже не наденешь. Хорошо бы травму осмотрел врач и при необходимости наложил повязку.
Вернулись дружинники.
– Идти можешь? – спросил один.
– Навряд ли. У вас есть врач?
– В городе есть.
– Значит, вы меня впускаете?
– Да. Только запомни несколько правил. Переоденься и приведи себя в порядок. У нас город приличный. Не выходи на улицу, когда стемнеет, найди себе жилье. Будешь бродяжничать, тебя вышвырнут. Пляж и набережную патрулируют каждую ночь, так что туда тоже не суйся. И ни слова про черных – это наше главное условие. Все ясно?
Я кивнул.
– А если я соберусь уйти?
– Куда и зачем?
Я повторил, что разыскиваю жену и дочь, а значит, мне надо будет выйти с восточной стороны в направлении Шорема. Дружинник рассказал, как попасть на дорогу, ведущую вдоль побережья.
Наконец меня отпустили. С огромным трудом я поднялся на ноги. Не припомню, чтобы когда-нибудь испытывал такую боль. Один дружинник сходил в дом за тростью, наказав мне потом ее вернуть. Я пообещал, что верну, хотя и не собирался.
Медленно, превозмогая чудовищную боль, я заковылял к центру города. Каждый шаг давался через силу, поэтому дорога от баррикады заняла целых полчаса. Меня трясло. Хотелось упасть на землю, закрыть глаза и провалиться в беспамятство. Удерживало только то, что если меня увидят в таком виде, то точно вышвырнут. Я упрямо шел дальше.
* * *
Шум раздался совсем рядом. Полог палатки распахнулся. Снаружи стояли двое. Один светил фонариком мне в лицо, у второго был автомат. Тот, что с фонариком, схватил Изобель за руку и вытащил из палатки прямо в лифчике и трусиках. Она позвала на помощь, но между нами встал автоматчик. Африканец с фонариком ушел, а снаружи продолжали доноситься крики и ругань. Я лежал, прижав Салли к себе. Девочка проснулась, я пытался ее успокоить. Автоматчик по-прежнему неподвижно стоял на входе, наставив на меня оружие. Раздалось три выстрела, и я замер от ужаса. Какое-то время было тихо, затем опять донеслись крики, среди которых я различил приказы на непонятном африканском наречии. Салли дрожала. Дуло автомата почти упиралось мне в голову. Снаружи прозвучало еще два выстрела, и через несколько секунд в палатке появился другой солдат с фонариком. Протиснувшись мимо автоматчика, он дважды пнул меня, отпихивая от Салли. Я еще крепче прижал девочку к себе. Она завизжала. Меня ударили по голове кулаком, потом снова. Солдат вцепился в Салли и силой потянул на себя. Мы продолжали держаться друг за друга. Дочка молила о помощи, но я ничего не мог поделать. Солдат врезал мне ногой в лицо. Я машинально попытался закрыться правой рукой, и он наконец выхватил Салли. Я стал кричать, чтобы нас оставили в покое, что она еще ребенок, и хотел было схватиться за ствол автомата, однако солдат упер его мне в горло. Я отполз, а Салли, не обращая внимания на ее попытки вырваться, вытащили наружу. Африканец шагнул внутрь и, присев, приставил автомат мне ко лбу. Щелкнул боек, я зажмурился. Ничего не произошло.
Африканец с автоматом десять минут сидел надо мной, пока я вслушивался в шум. Много кричали, угрожали, ругались, но больше не стреляли. Загудел двигатель, отъехала машина. Мой охранник не шевелился. Над лагерем нависла нездоровая тишина.
Снаружи прозвучал приказ. Африканец убрал автомат и вышел из палатки.
Я заплакал.
* * *
Начала кружиться голова. Перед глазами плыло, накатывала тошнота. После каждого шага приходилось останавливаться, чтобы собраться с силами. Такими темпами засветло мне до набережной не дойти. Чем дальше, тем дольше длились мои перерывы.
Пригородные улицы выглядели так обыденно и нормально, что казались нереальными. Похоже, я слишком долго скитался по лесам, канавам и фермам. Дома были красивые и в хорошем состоянии, возле многих припаркованы автомобили. Более того, они даже ездили. Фраза «гражданский автотранспорт» звучала дико. За прошедший год я наблюдал на дорогах только военные конвои, поэтому не сразу осознал, что где-то люди могут ездить на своих машинах по своим делам. В саду перед одним из домов на раскладных стульях сидела пожилая пара. Они смотрели на меня с любопытством. Зрелище то еще: немытый, нечесаный, небритый, увешанный сумками и пакетами, с какой-то палкой… Они молча отвели взгляд, словно им было неприятно. Я постарался ускорить шаг, хотя от острой боли сводило зубы и шею.
На перекрестке с проспектом машин было больше, даже проехал городской автобус. Солнце зашло за тучу, потом снова выглянуло. На другой стороне дороги стоял щит с рекламой средства для похудения. Я стал ждать, пока появится возможность перейти, и еле достиг середины проспекта, где был островок безопасности. Там я с трудом отдышался. Когда я преодолел проезжую часть, тошнота накатила с новой силой, и меня вырвало прямо на тротуар. Прохожие косились в мою сторону; дети, игравшие в соседнем дворе, замерли, разинув рты, а один побежал в дом.
Придя в себя, я заковылял дальше, уже совершенно не понимая, где нахожусь и куда иду. Я насквозь пропотел, меня снова вырвало. К счастью, поблизости оказалась скамейка. Я присел на нее и несколько минут отдохнул. Сил практически не осталось.
Я прошел мимо ряда магазинов, между которыми сновали покупатели. Вот уже много месяцев я не видел ни одного магазина, куда можно было бы просто зайти и чего-нибудь купить. Почти все они были разграблены и сожжены или находились под контролем военных.
С момента, как меня отпустили, прошло примерно полтора часа, то есть сейчас было пять или шесть вечера. В дополнение к недомоганию я чувствовал себя полностью измотанным. От меня несло рвотой, спереди на куртке темнели грязные разводы. Прохожие шарахались в стороны; если бы я задержался, кто-нибудь наверняка набросился бы на меня. Трясясь и обливаясь по́том, я свернул в переулок, однако сумел пройти совсем немного. Второй раз за день я свалился на дорогу. Прошло какое-то время, послышались голоса, вокруг стали собираться люди. Я хотел заговорить с ними, но не смог. Меня осторожно подняли и куда-то понесли.
* * *
Мягкая постель. Прохладные простыни. Горячая ванна. Боль в ноге и ступне. На стене картина: деревенский дом с соломенной крышей. На комоде аккуратно расставленные фотографии улыбающихся людей. На полках серийные издания книжного клуба. Расстройство в животе. Чужая пижама. Врач накладывает повязку на лодыжку и прописывает болеутоляющие. Стакан воды на прикроватном столике. Успокаивающие слова. Сон.
* * *
Меня приютила чета Джеффри, оба пенсионеры. Чарлз когда-то работал управляющим в банке, а Инид – флористом. Их возрастом я не интересовался, но подозревал, что им под восемьдесят. Как ни странно, меня они ни о чем не спрашивали, даже когда я сказал им, откуда пришел. Про Изобель и Салли я при них не упоминал.
Джеффри разрешили мне оставаться сколько угодно, хотя бы до тех пор, пока не заживет нога.
Миссис Джеффри кормила меня досыта: свежее мясо, яйца, овощи, хлеб, фрукты, шоколад, листовой чай, молотый кофе… яблоки! В первый раз я не смог сдержать удивления. Я-то думал, что таких продуктов уже не достать, а Инид сказала, мол, ничего подобного, в местных магазинах всегда свежий привоз.
– Цены, правда, высокие. Мы едва сводим концы с концами.
Я спросил, с чем, по ее мнению, связано повышение.
– Времена такие. В годы моей молодости все было по-другому. Сейчас жизнь сложнее: увеличиваются тарифы, стало много приезжих. Помню, мама покупала батон хлеба за пенни. Но что поделаешь, просто плач у, сколько надо, и не задумываюсь.
– Ты ведь наверняка слышал, что творится, – сказал Чарлз. – Народ стал драться за еду и все такое. Поэтому цены и растут.
Инид доставала все, что бы я ни попросил. Например, она приносила мне газеты и журналы, а мистер Джеффри делился сигаретами и виски. Я читал прессу взахлеб, надеясь узнать хоть что-нибудь о текущей политической обстановке и ходе гражданской войны.
Газеты оказались подшивкой «Дейли мейл» – единственного, по словам Инид, издания, которое еще публикуется. Основной материал составляли новости из-за рубежа и фотографии. Несколько страниц были отведены под колонки со слухами из жизни знаменитых певцов, футболистов и кинозвезд. Немного рекламы потребительских товаров. И нигде ни слова о войне. Сами газеты были тонкие – всего двенадцать страниц – и печатались дважды в неделю в типографии где-то на севере Франции.
Отдых и комфортная обстановка дали мне возможность всесторонне оценить свое положение. С тех пор, как мы лишились дома, весь круг моих забот составляли выживание и эпизодические мысли о личной жизни. В такой обстановке не до планов на будущее. Теперь же мне нечего было делать, кроме как лежать в гостевой спальне или сидеть за столом с Джеффри. Поэтому я стал думать. Главной моей целью по-прежнему было отыскать дочь и спасти ее из ада, в котором она оказалась. Однако чем дольше я находился в этом милом доме на тихой улочке в Уэртинге – теплом, сухом, чистом, где всегда накормят и можно отдохнуть, – тем больше мне казалось, что я преодолел какой-то барьер, и многие эмоции остались в прошлом.
Спокойствие и размеренность моего существования расхолаживали. Я очень быстро привык к семейному уюту и приятному обществу Джеффри с их нежеланием обсуждать трудные вопросы. Однако по мере того как ко мне возвращались силы, я все чаще стал напоминать себе: у тебя есть дела, прекрати отсиживаться и начинай действовать. Слишком долго я избегал жизни – что до войны, что сейчас.
Главное отыскать Изобель и Салли, а потом… Обстоятельства вынудили меня стать беженцем, жертвой, пассивным участником событий. Дальше так продолжаться не может. Пора наконец выбирать сторону.
Наиболее гуманной мне представлялась позиция сецессионистов. Нельзя отказывать африканским иммигрантам в праве на самостоятельность, голос и место для проживания. Они не виноваты, что были вынуждены оставить дом и переехать в Британию, к тому же, деваться им больше некуда. Нужно положить конец протестам и стычкам, направить все усилия на интеграцию беженцев. Придется изменить законы и менталитет, искоренить экстремистские взгляды. Потребуются годы, но в результате у нас снова будет здоровое общество, способное ассимилировать различные культуры.
С другой стороны…
Во всем есть оборотная сторона. На каком-то низменном уровне я одобрял радикальные действия патриотических сил, основанные на консервативной и репрессивной политике правительства реформистов. В конце концов, именно африканские беженцы своим вторжением в города лишили меня всего. Во мне по-прежнему кипел гнев, и оттого я постоянно боялся, что будет, если я не сумею его унять. Жажда мести бурлила. Какой бы неправильной она ни была, я не мог полностью ее подавить.
В который раз все сводилось к тому, найду ли я Изобель. Если она и Салли живы и здоровы, то я смогу успокоиться.
Что произойдет в противном случае, я не мог даже представить.
Я понимал, что сам виноват в сложившейся ситуации. Если бы я начал решать свои проблемы раньше, задолго до кризиса, то, наверное, ничего этого не произошло бы. Всю сознательную жизнь меня сопровождали нерешительность, эгоизм, мелкие заботы и нежелание называть вещи своими именами – почти все то же, что я наблюдал сейчас у Инид и Чарлза Джеффри. Ни к чему хорошему такой образ жизни не приводит. Так или иначе, я понимал, что ни о каком спокойном будущем для моей семьи не может быть и речи, пока обстановка в стране не утрясется.
* * *
На четвертый день я уже сам вставал и ходил по дому. Я подстриг бороду, а Инид постирала и заштопала мою одежду. Можно было снова взяться за поиски Изобель и Салли. Повязку с ноги сняли, опухоль понемногу сходила. Ступню повторно зафиксировали бинтами из домашней аптечки, уже не так туго. Я стал помогать Чарлзу в саду.
Меня удивляла их полная неосведомленность о происходящем в стране. Чарлз вел себя так, словно гражданская война шла на другом краю света. Вспомнив наказ дружинников не упоминать про африммов, я обходил вопросы политики стороной. Впрочем, Чарлз ими все равно не интересовался, довольствуясь таким описанием текущей ситуации: правительство столкнулось с какой-то трудной общественной проблемой и ищет решение, которое непременно будет найдено.
В течение дня над домом несколько раз пролетали военные самолеты, по вечерам в отдалении раздавались взрывы. В разговорах эти события не обсуждали. После ужина мы с Джеффри смотрели телевизор. Наличие эфира повергло меня в изумление. Стиль вещания напоминал манеру «Би-би-си». На самом деле, канал даже назывался «Би-би-си Патриот – Юг». Передачи, правда, в основном были американского производства. В середине вечернего эфира давали короткий выпуск новостей – только темы, касающиеся побережья, и ни слова о гражданской войне. Остальные передачи – в основном игровые шоу, полицейские сериалы и ситкомы – шли в записи или транслировались из-за рубежа.
Я спросил у Джеффри, откуда сигнал. Мне ответили, что телевидение у них кабельное, а центр находится в Брайтоне. К нему подключены почти все прибрежные города от Дувра до Портсмута; скоро запустят вторую такую сеть в Лондоне.
На пятый день я почувствовал, что нога достаточно зажила, и собрался уходить. Джеффри умоляли меня остаться, раз уж все равно гостевая спальня свободна. Признаться, за эти несколько дней я порядком привязался к этим милым, простым людям, так что соблазн принять приглашение был велик.
Однако я знал, что не смогу осесть на одном месте, пока не закончу свое дело.
Я ушел после обеда. Инид плакала, Чарлз держался подчеркнуто холодно, чтобы не выдавать чувств. Я обнял их, пожал на прощание руку. Они в странной, пафосной манере пожелали мне удачи. Я долго смотрел на этих милых добрых людей, не находя слов и чувствуя, что никакие мои речи или поступки не будут иметь значения за пределами их безмятежного мирка.
Покинув дом, я пошел, как мне указали, через центр города по дороге, выходящей на побережье.
* * *
Баррикаду я миновал без проблем. Дружинники, стоявшие на вахте, не могли понять, с какой стати мне покидать замечательный Уэртинг. Ведь тут тебе и автобусы, и почта, и кабельное, и магазины, и кинотеатр на главной улице. Спятил, явно решили они. Пришлось объяснять, что мне действительно надо уйти. Дружинники пожали плечами, но пропустили меня.
* * *
Два часа я шел мимо загородных вилл и коттеджей. Почти все были заброшены или превратились в развалины. Беженцы там не прятались. Магазины сгорели.
Несколько раз я натыкался на небольшие отряды африммских боевиков. Я сходил с дороги, чтобы не мозолить глаза, но они не обращали на меня внимания.
Зайдя в пустой дом, я съел салат и сэндвичи с говядиной, которые дала мне в дорогу Инид Джеффри, запил все чаем. Бутылку сполоснул – возможно, еще пригодится. Наконец я почистил зубы, расчесался и расправил одежду.
Я шел по пляжу, пока не увидел то самое бунгало, где были спрятаны материалы для коктейлей Молотова. Ради любопытства я заглянул туда. Схрон уже кто-то обчистил. Впрочем, неудивительно.
Я подошел к воде и сел на гальку.
Полчаса спустя объявился какой-то парень. Некоторое время мы настороженно глядели друг на друга, потом он направился ко мне. Не дойдя нескольких шагов, остановился. В ближайшем городе к востоку отсюда, рассказал он, группа британцев захватила судно, чтобы уплыть на нем во Францию, и пригласил меня присоединиться. Я спросил, есть ли у них оружие. Он ответил, что есть.
Мы немного поговорили про африммов и сколько их может быть в округе. Парень рассказал, что тот город раньше был укрепленной базой, однако организация оставляла желать лучшего. Недавно патриотические войска провели штурм и разогнали боевиков. Сейчас, правда, они вернулись и вновь заполонили побережье.
Да, сказал я, мне попалось несколько отрядов по дороге.
– Я бы больше опасался патриотистов, – пожал плечами парень. – Для них все, кто не с ними, – враги. А во врагов они стреляют.
Остатки умиротворения, которое мне дало пребывание у четы Джеффри, улетучились. Слова парня, его усталый цинизм и мрачный взгляд на мир разбудили в памяти долгие месяцы скитаний. Вернулись и смешанные чувства по отношению к африканцам – жалость пополам с ненавистью, – страх перед патриотистами и их жестокостью, презрение к никчемным сецессионистам, а также злость на гуманитарные организации. Я посмотрел на море. В это время дня оно приняло тусклый серебристый оттенок с темными росчерками. Многие столетия Великобритания, наш остров, сопротивлялся вторжению извне, формируя тесное, толерантное, немного чудаковатое сообщество с богатыми традициями и легким отношением к истории. Приветливые с чужаками, британцы все же сторонились их с ироничной, но беззлобной насмешкой. В этот раз, однако, массовый наплыв беженцев не прошел бесследно. Толерантность и чудаковатость канули в прошлое, а других способов справиться с коренными переменами наш народ не знал.
Море, спокойное и серебристое, всегда было символом изоляции Великобритании, ее непохожести на другие страны. Оно служило границей между островами и находящимся неподалеку крупнейшим материком на планете. Оно же сделало Великобританию морской державой, распространившей свое влияние, как плохое, так и хорошее, на весь мир. Когда-то ей подчинялась половина Африки. Владения короны, захваченные деньгами или оружием, простирались с севера на юг сплошным красным пятном – так эти территории обозначались на глобусах, стоявших в каждом школьном классе. Когда Великобритания, измотанная двумя европейскими войнами и утратившая статус империи, снова замкнулась в пределах своего острова, мир ненадолго стал лучше, справедливее. Это тем более иронично, что сами-то имперские колонисты искренне преследовали цель насадить во всех отсталых уголках планеты справедливость, честность и предприимчивость по британскому образцу. А потом история совершила очередной виток, и вот уже африканцы в поисках спасения покинули свой материк. Они расселились по всему свету, добрались до каждой страны, но только на спокойном островке с богатыми традициями и легким отношением к истории их появление повлекло за собой хаос.
Отступившее во время отлива море обнажило острые камни, оставив мелкие лужицы, в которых отражалось холодное небо. Скоро начнется прилив, и море вернется. Изменится ли что-нибудь?…
Погруженный в раздумья, я отошел достаточно далеко, туда, где галька уступала место тяжелому песку. Он мокро блестел и был покрыт пеной от медленно накатывавших волн. Вдруг я осознал, что мои вещи остались там, где мы разговаривали с парнем, и поспешил назад. Я же совсем его не знаю, а кроме тех сумок, у меня ничего не осталось.
Парень по-прежнему сидел рядом с моими вещами, даже не притрагиваясь к ним. Когда я подошел, он встал.
– Ну что, решили?
– Решил что?
– Поплывете с нами во Францию?
– Навряд ли, – ответил я. – Не знаю.
– Отплываем завтра из Шорема, с вечерним приливом. Назад не вернемся.
– Хорошо, постараюсь. Всегда хотел побывать во Франции.
– Ни разу не ездили?
– Нет, даже когда была возможность.
Парень махнул рукой на прощание и побрел по каменистому берегу в направлении Уэртинга.
Я окликнул его. Он обернулся.
– Ты слышал что-нибудь про бордель для африммских солдат? – спросил я. – Мне рассказывали, работал где-то неподалеку.
– Ну да, был тут такой.
– Где? Что с ним случилось?
– Его закрыли, когда африммы отступали. Всего несколько дней назад. Не исключено, что вернутся и вновь его откроют.
– Где он? – опять спросил я.
– Недалеко отсюда, минутах в десяти ходьбы. Старая гостиница.
Парень говорил что-то еще, но, охваченный жутким предчувствием, я практически ничего не слышал. Вроде бы в основном там работали белые. Женщины и подростки. При попытках бегства в них стреляли, а тела выбрасывали на пляж, прямо у гостиницы. Отштукатуренное белое здание на сваях, стоит на мысе. Выделяется, такое не пропустишь. Да и смрад разложения, тянущийся от трупов…
Я попятился от парня, чуть не зажимая уши от заполнявшего их оглушительного звона. Ноги сами несли меня в направлении той гостиницы.
Галька уступила место тяжелому мокрому песку, обнажившемуся из-за отлива. Оказавшись возле воды, я заметил, что она вовсе не такая чистая; напротив, она была очень грязная, вся в темных разводах – видно, в нее пролилась нефть или что похуже. От моря тянуло резким запахом дизельного топлива. Песок тоже был покрыт маслянистым осадком, который радугой переливался на свету.
Через пять минут я увидел эту гостиницу, узнал ее по описанию. Когда-то она была типичным курортным отелем в викторианском стиле, теперь на крыше развевались африммские флаги, а на белых стенах чернели лозунги. Я начал подниматься с пляжа в сторону мыса, но скоро заметил, что вокруг ошивается много африканцев.
До меня дошла вонь, про которую рассказывал парень.
Вечерело. С моря дул ветер. Он слегка разгонял трупный смрад, зато приносил резкий запах разлившейся нефти.
Я вернулся на пляж, сел на гальку и стал смотреть на море.
Здесь нефти было больше, на воде плавало множество пятен. Вязкая черная жижа покрывала пляж.
Тишина давила.
Маслянистые волны вяло накатывали на берег, не оставляя пены. Вода медленно прибывала. На рейде стоял крупный военный корабль; с такого расстояния я не мог различить его тип и принадлежность. Интересно, зачем он здесь, посреди моря? Караулит берег? Одна орудийная башня и правда была обращена в сторону суши.
На пляже появился взвод африммских боевиков. Каждый волок что-то громоздкое, вроде большого мешка. Бесцеремонно сбросив мешки на берег у самой кромки воды, они пошли назад в гостиницу.
Я поднялся и, увязая в густом слое нефти, подошел к свалке. Тела угадывались с трудом. Если бы я не знал, что они здесь, я бы принял их за большие маслянистые сгустки грязи. Всего трупов было двадцать два: все женщины, обнаженные и черные. Чернота была неестественной, но не из-за нефти, а из-за того, что кожу вымазали краской или дегтем.
Я пробирался между телами, закрывая нос и рот рукавом, чтобы не вдыхать отвратительный запах разлагающейся плоти. Наконец я наткнулся на два трупа, прижавшихся друг к другу. По волосам я опознал Изобель, а по лицу – Салли.
Я заметил, что не ощущаю ни горя, ни потрясения – ничего. Я лишился остатков чувств, стал пустой оболочкой, тенью себя самого. Оставаться рядом с трупами было невозможно, смрад стоял невыносимый. Я отошел к самой воде, потом вернулся, долго глядел на тела, затем вновь спустился к морю, посмотрел на военный корабль и опять пошел назад, разбрасывая ногами песок, сел на гальку, снова вернулся… Так и метался кругами, не в силах собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Позднее накатила усталость, а после – жуткая смесь тоски, страха и безотчетной ненависти.
Ночь я провел на пляже, с наветренной стороны, чтобы не чуять вони. Лежать на гальке было зябко. Волны накатывали на тела и, слегка окатив их водой, отступали. Морю был нипочем весь мусор, что в него попадал; оно продолжало свое вечное движение. Ночь выдалась промозглая и безлунная. Я ни о чем не думал, в голове царила совершенная пустота.
Рано утром я направился в город. Там убил молодого африканца, забрал его винтовку и к вечеру уже снова был в пути.



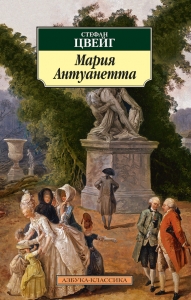





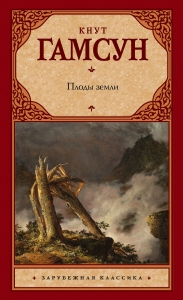



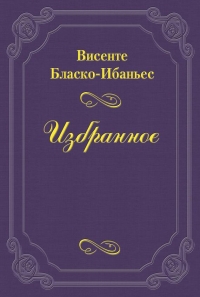
Комментарии к книге «Фуга для темнеющего острова», Кристофер Прист
Всего 0 комментариев